Читать онлайн Мертвый невод Егора Лисицы
- Автор: Лиза Лосева
- Жанр: Исторические детективы, Полицейские детективы
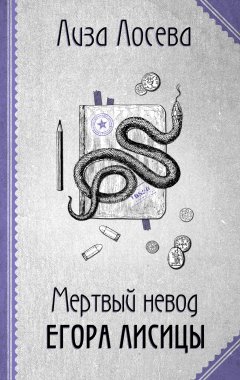
© Лосева Л., 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
Колесо, что ли, попало в яму на дороге? Автомобиль тряхнуло, и плечо дернуло, заныло. Разве может так не отпускать простой вывих? Я же врач, должен понимать, что нет. С болью снова пришел крик парохода, разворачивающегося от берега. Желтое пятно портфеля – протягиваю руку, но не успеть. И все летит куда-то: в воду, в воздух, к черту – кубарем. Все тот же сон. Когда я уснул? Так устал за тяжелый, как пудовая гиря, длинный день накануне, что даже назойливая вонь бензина и тряска стали снотворным… Спросонья показалось, что на автомобиль натянули белую простыню, – такой густой туман. Машина ползет еле-еле. Мой попутчик спорит с шофером. Требует ехать скорее, но в таком «молоке» это, конечно, невозможно.
Туман вдруг распался на обрывки – и с дороги в стороны, крича, шарахнулись чайки. «Дагерротипы проявляются под действием йодистого серебра, их изображение сравнимо с отражением в зеркале», – вспомнилось мне из статьи о фотографическом искусстве. Силуэты деревьев словно на негативе – проявившись из дымки, отразились в воде. И тут же пошли рябью, ветер приналег, дорога очистилась. Затопленные поля, бледная вода сливается с небом. В каналах мокнут грязно-рыжие камыши – ветер приминает их, низко окунает в воду.
– Развиднелось, дорога наладилась, теперь и поедем. – Шофер суетится, дергает ручку мотора.
Мой попутчик молчит, демонстративно глядит в окно, внезапно увлекшись супрематистским пейзажем: желтые прямоугольники и черные точки – поля и коровы.
– Где это мы? – Замерз я за ночь изрядно. Руки и ноги онемели.
Шофер явно рад, что я заговорил.
– На Костиной яме, – отозвался с готовностью. – Ночью ехали, и – дожь (так и произносит) как из ведра. Теперь вот туманище. Товарищ прав: езда медленная, но если пассажир повредится, то спросят с меня.
Он оправдывался, но не передо мной, а, свернув шею назад, перед моим молчащим попутчиком. Пожалуй, пассажиры и правда могут «повредиться»: дорога идет ямами, вода переполняет канавы, плещется как в ванне. Автомобиль скользит шинами, вязнет в лужах. Я вытащил карту, тряска мешала смотреть, однако нашел Костину яму между хуторами Дугино и Ряженое. В Ряженое нам как раз и надо. Шофер, держа руль, скосил в карту глаза.
– Тут вот, – не глядя ткнул и точно попал, – смотрите: лиман, а от него уже ерики идут. – Он показал на тонкие излучины каналов и добавил: – А вот тут хутора.
Я посмотрел. По карте выходило, что хутора разделяют поля. А на деле вокруг была только вода.
– Не ко времени выехали: вода идет, ее ветер гонит. Поганой силы на эту весну! Боюсь, и лодки не подойдут вас встретить – унесет. Да что лодка, утку сдувает, – шофер сунулся, показал пальцем. Стаю чирков, поднявшихся на крыло, ветер разметал по дальнему берегу ерика, как неосторожно рассыпанный табак.
От резкого рывка мы подались вперед, шофер ругнулся.
– Стоп машина! Дальше не пройдем – низовая дала. Если только на телеге…
Впереди виднелась дорожная станция, затопленная едва ли не по ступени крыльца. За ней мост, уходящий под воду. Я вышел размяться – ботинок тут же увяз в разбухшей земле. Ветер шуршал сухими водорослями, уцепившимися за ветки с прошлогоднего половодья. Шофер ушел и вернулся с местным мужиком в высоких сапогах.
– Дальше ходу нет, мостки унесло. – Мужик почесал за ухом, закурил. – У Семена два быка на острове остались, сунулся туда на лодке – без толку! Подойти не смог.
– Переждать надо, – снова сказал шофер.
Но мой попутчик настаивает. Холодно, резко. Шофер злится, курит в отдалении. Я подошел к нему:
– В тот день, когда девушка пропала, она из города возвращалась на вашей машине? Вас опрашивали, я смотрел записи. Но вы мне коротко расскажите.
– Да уж опросили. От и до. – При этих словах он почему-то попилил себе ладонью по горлу. – Но я, голубчик, вот те крест, ничего не видал! Ничего не знаю! Колесо свернулось. Народу набилось полный кузов, – тосковал он, поглядывая на двухосный грузовичок с низкими бортами. – У меня ж «АМО»[1], – шофер ударил голосом на «о». – На заграничной основе сделан. По здешним дорогам… не жилец.
Мой попутчик махнул мне, привлекая внимание. После длинных споров мужик согласился пригнать телегу. Она медленно – впряжен смоляной бык – движется, плывет. Мужик посвистывает, но ветер забивает звук обратно, и он, сплюнув, замолкает.
У самого берега нас ждала лодка. Мы погрузились и, оставив позади простор лимана, вошли в лабиринты каналов. Лодка закачалась на мелких частых волнах, попутчик схватился за фуражку, чтобы не унесло. Узкий ерик, впереди и позади одно и то же: бурые стены лохматого рогоза – непонятно, как ориентируется лодочник. Кажется, что стебли обвиты мотками веревок. Я присмотрелся: со стебля соскользнула змея и быстро поплыла в сторону лодки. Я отшатнулся.
– Гадюки. В этом годе их страсть как много, но в воде оне не жалют. – Лодочник шевельнул веслом в воде привычно, равнодушно.
Мой попутчик взглядом проводил гадюку.
– В Ряженом вас разместят. Нужно будет сразу разыскать местного фельдшера, – говорит он резко, отрывисто, откусывая куски слов. – Он должен вас встретить, но… человек ненадежный.
– Что же так?
– Мечтательный.
Он отвернулся, спрятав лицо от ветра. Попутчик мой, товарищ Турщ, откомандирован в этот район от ОГПУ. Встретил я его всего день назад в нашей ростовской милиции.
Что это был за день? Теплый. Если за городом весна была нерешительная, неверная, отраженная в воде, дробящей деревья и небо, то в городе, напротив, она готовилась вступить в полную силу. Тротуар чистый, сухой, твердый. Выставлены зимние рамы. Вечерами – трамвайные огни и гудки в порту. В подворотнях высвистывал свежий ветер, трепал афиши кинотеатров, где давали «Падение династии Романовых». В музыкальных классах открыли окна, и в шум улицы врывались обрывки арий из опер и оперетт. После мартовских мокрых метелей кирпичные стены отдавали теплую влагу…
По бывшей Скобелевской улице (теперь, конечно, Красноармейской) прошел строгим шагом человек в фуражке и с портфелем. Попетлял вокруг корпуса краснокирпичных казарм и остановился у невысокого здания. А потом вдруг шагнул и – пропал. Но советская милиция мистики не любит и запросто так исчезнуть никому не даст – человек ступил из круга фонарного света в темноту крыльца, потянул на себя дверь с табличкой, на которой значилось: «Доноблугро».
Я хотел его окликнуть, попросить придержать дверь – мешали горячие пирожки в насквозь промасленной бумаге, – но не успел.
У барьера при входе меня остановил дежурный.
– «Вечерка» извещает: за один день зарегистрирована тысяча случаев заболевания гриппом!
Я кинул взгляд на стенд с передовицей. Из-под старого «Ведется подготовка к юбилею 10 лет Февральской революции» торчит новое: «Мартовский субботник». Прицеплено вырезанное объявление: «Каждый подписчик газеты «Трудовой Дон» получит художественный фотоснимок Ленина в гробу». И ниже – Берлин сообщает, что англичане готовят очередную провокацию против советских дипломатов.
– Антисоветские планы Англии теперь неопровержимый факт, а вот Германия не поддается гипнозу британцев! – Дежурный, подняв указательный палец, резюмировал передовицу. И уже другим тоном добавил: – Товарищ Лисица, тебя к начальству вызывают.
Кабинет начальства был старый. А само начальство – новое. Только на моей короткой памяти в Доноблугро – третье. Но разговоры велись обычно одни и те же. Песочили за небрежно заполненные отчеты и низкую скорость работы. И правда, мы успевали до обидного мало. Я, как «судмедэксперт, приписанный к розыску», имел право изучать материалы дела, осматривать вещественные доказательства и опрашивать свидетелей – в общем, почти карт-бланш, равен по полномочиям уголовному следователю. Учитывая наличие краевой лаборатории судебно-медицинской экспертизы, можно было сказать, что значимость работы криминалиста наконец-то оценили! Моя мечта сбывалась прямо в эти дни. Понимая, как чудовищно дорого обходятся ошибки в работе, я набирал практику всюду, где было можно. Всем нам приходилось быть специалистами самого широкого профиля. А среди рутины – грабежей и бандитских налетов – попадались интереснейшие для судебного врача случаи. Рук же в милиции по-прежнему не хватало. Под моим «шефством» было всего двое сотрудников да неуловимый Цырыпкин – фотограф. Один из «моих», то есть приписанных к судмедкабинету, товарищей – младший милиционер Вася Репин, прозванный Репой, – уже маялся в кабинете начальства.
За шкафом с картотекой я разглядел силуэт гражданина с портфелем. Он напомнил мне нигилистов, какими их изображали в романах, – широкое пальто, косоворотка, волосы неровно острижены. Из этой картины выбивалась фуражка с прицепленной красной звездой, которую он держал на коленях. Гражданин молча кивнул мне. Хозяин кабинета – начальник уголовно-розыскного подотдела – поздоровался, потер переносицу, подцепил бумаги желтыми от махорки пальцами и заговорил ровным тоном:
– Большое внимание сейчас уделяется уголовщине в сельских местностях. Есть верные сведения, что на Дону и Кубани остаются несколько сотен бандитов. В их числе бывшие царские офицеры. Умело конспирируясь…
Я устал стоять и сел, не спрашивая разрешения. Начугро не отреагировал – не признавал церемоний. Взглянув на меня, Репа тоже пристроился на клеенчатый диван.
Я никак не мог взять в толк: к чему эта политинформация? Какое отношение бандиты в станицах – хоть уголовные, хоть политические – имеют к Ростову? Начальник продолжил, уже читая по бумаге:
– Стоит задача укрепить низовой аппарат в станицах путем помощи от окружного угрозыска, то есть нас.
Начальник обвел меня и Репина взглядом, кивнул в угол:
– Вот товарищ прибыл к нам в связи с этим. Командирован из района, чтобы получить от нас содействие.
«Нигилист», несколько высунувшись, качнул головой. Протянул руку, коротко представился: Турщ. Начальник пояснил, что товарищ Турщ из ОГПУ.
– А ведомству, как вы знаете, – продолжил начугро, – доверена работа по подавлению любых контрреволюционных явлений, в том числе бандитизма и уголовщины.
Я рассмотрел тонкие, как нарисованные, брови товарища Турща и женский рот, неестественно красный в кудрявой бородке. Комиссар с лицом отрока.
Он заговорил отрывисто, будто телеграфируя, помогая себе жестами:
– В рыбачьем поселке Ряженое пропала местная активистка. Любовь Рудина. Некоторое время назад уехала в город за покупками для ячейки станичного ревкома. Но домой, то есть в общежитие, так и не вернулась. Рано утром ее товарки забили тревогу. Тело вскоре нашли. На Гадючьем куте – это мыс у заводи недалеко от поселка.
Репа скучал: случай с гражданкой в станице был ему неинтересен. Для Репы настоящие дела – это бандиты или, на худой конец, валютчики, связанные с биржей и недавно со стрельбой ликвидированные в Ростове.
Я выдержал паузу, прежде чем задать логичный вопрос:
– Смерть насильственная?
Казалось, Турщ ждал этого вопроса, однако уточнил, почему я так думаю.
– Рискнул предположить, раз вызвали нас с коллегой, – я показал на Репу.
Турщ покачал головой:
– В том-то и дело, что местный фельдшер не обнаружил следов насильственного преступления. Не утонула, и ранений тоже никаких. Учитывая обстоятельства и обстановку, в которой нашли Рудину, местные заговорили о смерти сверхъестественной.
Я вскинул брови.
– Тело якобы находилось у берега, завернутое в материю, нечто вроде савана, – пояснил Турщ. – Но главное, что вызвало пересуды, – вода вокруг была красного цвета.
Репа присвистнул.
– Почему «якобы»? – уточнил я. Слово не показалось мне оговоркой.
– Теперь точно не узнать, как было на самом деле. Только со слов местного, который ее нашел, – выдохнул Турщ. – Австрияк – это его прозвище, он из немцев. На самом-то деле он Якоб Мозер. Травмирован боями в германскую. Зачем-то перевез тело в сельскую церковь на острове. Ворвался туда, нес ее на руках, выкрикивал строчки из религиозных текстов.
– Что конкретно?
– Насчет красных вод и в целом, так сказать, о конце света. Вредный бред. Утверждал, что случай мистический. После разошелся слух, что на материю, в которую завернули Рудину, были краской нанесены различные знаки, чуть ли не каббалистические, в том числе, – Турщ дотронулся до фуражки, – звезда.
– Говорите, он травмирован. Психически или?..
– Странности есть, контужен. Но не умалишенный, если вы об этом. Хотя я не могу точно судить. Место на берегу мы разыскали после, с его слов.
– А история про красные воды и знаки подтвердилась?
– Что ж, про воду, хм, возможно… Но насчет знаков или прочего в этом духе, – просто мазня белой краской. Ткань, точнее транспарант, в который замотали тело, был взят у самой Рудиной. Везла из города наглядную агитацию – ячейка выделяет средства. Планируем месячник, нужны плакаты, листовки.
– Много ли средств при ней было? Может, позарились на остаток да и ограбили?
– Из вещей ничего не взято.
– Того, кто нашел тело, задержали?
– Взяли сразу же. Но отпустили, – буркнул Турщ и неохотно пояснил: – Пришлось! Вмешался служитель культа, как раз таки поп той самой церкви. Австрияк у него вроде как работник, помогает. Поп говорит, весь вечер и ночь накануне контуженый провел там. К церкви доступ только по воде. Просто так, незаметно, не уйти…
– И вы поверили?
Турщ скривился:
– Обстановка в Ряженом накалена. Сильно влияние религиозного элемента.
– Ну, что касается причин смерти… – Я на минуту задумался и продолжил: – Местный фельдшер мог, допустим, проморгать черепно-мозговую травму. Истерическая реакция этого местного, который ее нашел – не слишком надежного свидетеля! – довершила дело. Я бы советовал все же пристальнее к нему присмотреться. Возможно…
Турщ выдвинулся из-за шкафа:
– Вы не смо́трите в корень! Рудина была общественницей. Порвала с косной семьей. Помогала вести работу по учету улова. В Ряженом национализирован завод по переработке рыбы, хозяин удрал за границу. Теперь на месте завода создается артель «Диктатура пролетариата». Но местное население всячески саботирует. Рудину все хорошо знали. То, что над телом поглумились, может быть демонстрацией, плевком в лицо власти. Дело дошло до руководства края!
– Вот в связи с этим товарищ и прибыл, – закруглил начугро. И обратился ко мне и Репину: – За помощью. Низовому аппарату в станицах мы должны помогать.
– Вам предписано командировать туда двух сотрудников, – констатировал Турщ. – В первую очередь стоит задача осмотреть тело. Установить причину смерти. Заявить авторитетное мнение и развеять кривотолки.
Репин негромко выдохнул «эх!» и поправил мохнатую шапку, которую не снимал до жары. Меня же история зацепила. Как ни ругал я себя за слабость, случаи смерти женщин или, хуже, детей всегда вызывали острую жалость и гнев.
– На месте мы всемерно вам поможем, – продолжил Турщ. – Там есть милиционер, товарищи из ячейки ревкома.
– Так, может, все-таки достаточно одного нашего сотрудника? – Начугро, у которого на счету был каждый подчиненный, спрашивал наудачу. И его, и меня удивило, что Турщ не стал настаивать, а, помедлив, согласился:
– Я, конечно, понимаю вашу ситуацию – кадры.
– Как вы посмотрите на решение командировать в Ряженое товарища Лисицу? – Начугро прямо посветлел лицом. – Он у нас на должности эксперта. Сотрудник грамотный, нужной квалификации. Да и человек компанейский – умеет найти подход, вызовет доверие у местных!
Репа, предатель, закивал усердно – он бы и лондонского душителя назвал компанейским, лишь бы ему дали возможность остаться в Ростове и не отрываться от азарта больших дел ради сельской глуши.
– Кого и отправить, если не вас, доктор? Это по вашей части, – добавил начальник.
Похоже, вопрос закрыт. Я поинтересовался, как долго туда добираться.
– Сейчас разлив, дорога непредсказуема. – Турщ подтянул с пола свой портфель.
Условились выехать сразу же, в ночь:
– Каждая минута на счету. Потом не проедешь. Ну, сами увидите.
Репин и Турщ вышли, начальник попросил меня задержаться. Не поднимая головы от стола, копаясь в бумагах, сказал:
– Это задание вам будет кстати. – Он замолчал так надолго, что я уже подумывал напомнить о себе. – У меня запросили ваши документы. Проводится чистка.
Чистки – борьба с «последними очагами буржуазных кадров» – проходили во всех крупных учреждениях. Графу «происхождение» я заполнял правдиво, не лукавя, не желая юлить. Да и глупо – что скрывать? Отец – врач, ученый. Мать? Из обнищавшего польского рода. Тетка, несмотря на преклонный возраст, до сих пор трудится в Кисловодске медицинской сестрой. Если бы не история с портфелем, думаю, обо мне бы давно забыли. На этот счет меня приглашали для беседы год назад и не так давно снова. Пришлось даже провести не слишком приятную ночь «с разговорами» в неприметном особняке – бывшей комендатуре[2].
– Я привык суждения выносить сам, – продолжал между тем начугро. – И о человеке выводы делаю по его делам. Ваша работа нам крайне полезна. Терять грамотных сотрудников на важном этапе борьбы с преступностью нерационально и неразумно. Но и вам, – он помолчал, – нужно будет показать в Ряженом результат.
При воспоминании об этом разговоре снова кольнуло давящее ощущение чужой воли. Именно в тот момент, когда дан случай наконец работать как мечталось, снова препятствия. Муторные мысли. Камень в желудке. Что же я – убегаю? Прячусь от тех, чьего права над собой не признаю?
Впрочем, ерунда, к черту! Я отвлекся, перебирая в уме детали рассказа об обстоятельствах, при которых нашли тело Рудиной. Без повреждений и следов насилия местный фельдшер затрудняется назвать причину смерти…
Холодная волна плеснула через борт в лодку. Бурые волны катились к высокому берегу по левую руку. На склоне белели крупные валуны удивительно правильной формы.
– А это что? – я показал на камни Турщу. В тумане ближайший из них напомнил мне vertebra(ае) cervicalis – шейный позвонок.
– Змей. Хребет из берега выходит. Море – видите? – обрыв съедает, земля осыпается.
Я не успел рассмотреть, о чем это он, пришлось покрепче вцепиться в борт. Волны за кормой взбесились и, пожирая дерево за деревом, наступали на завоеванную человеком землю. В воду уходили мостки, утыкающиеся в небольшую пристань. Ближе к воде лепились длинные сараи рыбацких артелей. У пристани я различил фигуры. Лодка ткнулась в сваю, закачались водоросли.
Одна из фигур подскочила, протянула руку:
– Давайте помогу – шаткие мостки! День добрый, товарищ милиционер.
Я поблагодарил, схватился за руку, примерившись, прыгнул – мостки отчаянно зашатало.
– Мы знакомы? Простите, думаю, не имел чести.
– Незнакомы, но кем же еще вы можете быть, когда мы все знаем, что лодка ушла за следователем из городской милиции?
Он представился: Рогинский Аркадий Петрович, местный фельдшер. Я снял перчатку, чтобы пожать ему руку:
– Рад знакомству. Но я скорее ваш коллега. Судебный врач. Хотя и командирован от милиции.
– Ах, батюшки! Прошу покорнейше простить, мы думали, товарищ для следствия.
Этот фельдшер Рогинский был занятный. Его можно было принять за лавочника: такой же словоохотливый, со смешками. Розовая плешь, коротенький – мне едва до плеча, но раздавшийся вширь. Серенький плащ, высокие галоши, простая палка с набалдашником – он довольно ловко подцепил ею край лодки, подтягивая ее ближе.
– Давайте, давайте вещи. А это у вас что же? Веломашина?
– Да, удобно: складной велосипед.
Покосился с сомнением:
– Ну что же. Вещь, должно быть, полезная. Вы головной убор-то держите – унесет. Вот, собственно, и добро пожаловать: Ряженое!
Ряженое стоит на пороге морского залива, в дельте реки. Берег, насколько видно, укреплен кое-где грядой речных камней. Очевидно главная, довольно широкая улица высоких домов на сваях и крепких каменных низах жмется близко к берегу. Вода плещет почти у домов, кое-где колыхаясь у самых плетней. Дома побелены, крыши крыты тростником. Ставни, перила галерей выкрашены синей краской. Позади домов огороды, а за ними – уже ничего, голая степь. Обитаема лишь узкая полоса суши вдоль берега. Осматривая залитый водой пейзаж, я поинтересовался, не опасно ли тут строиться и как доставляют продукты, лекарства. Фельдшер ответил, что строят высоко, посему опасности нет, а все необходимое привозят на лодках.
– Сейчас еще ничего. Вода, бывает, поднимается так, что прямо с галдарей[3], – он указал, приподняв трость, на деревянные балкончики вокруг дома, – рыбу ловят. Помню, год тому умер бригадир по фамилии Краснощеков, так его два месяца в засмоленном гробу держали. Кладбище вода разорила, похоронить негде. Сутками на чердаках сидели. Та вода и запомнилась по нему как «краснощековская». Скот, конечно, бывает, гибнет, да и в доме потом сырость. Но мы привычные.
В отдалении глухо ударил церковный колокол, с белой отмели поднялась цапля, болтая в воздухе длинными ногами.
– Сначала разместим вас и чаю горячего? – предложил фельдшер.
Времени терять не хотелось. Затянем, и место, где нашли тело, окончательно уйдет под воду. И без того люди и животные наверняка уничтожили почти все следы.
– Гадючий кут далеко отсюда? Вещи можно оставить, – я огляделся, – да вот хоть тут, у пристани.
Рогинский глянул на Турща и безнадежно махнул рукой куда-то в камыши.
– Не знаю, пройдем ли. Ну, попробуем. Только вот тогда попросим Данилу Иваныча… Вас все равно разместили у него в хате. – Он схватил за рукав нашего лодочника, сунул ему саквояж. – Отнеси, любезный, доктора вещи.
По селу нас провожали мальчишки и брехливые собаки. Почти у каждого забора стояли, рассматривали, кивали соседям, бросались вперемежку русскими и казачьими словечками:
– Это чей же такой?
– Анадысь приехал.
– Глянь-ка. Тю!
– Вихор… игреневый[4].
– …у лодочника, Данилы-бригадира, в хате поставили.
– Да рази?
– Мослаковатый![5]
Улица повернула. Вдоль низкого здания с вывеской «Лабаз» я заметил длинный ряд столбиков.
– Привязывать лодки, – объяснил Турщ.
На карте, которую мне показывал шофер, вся эта земля была как на вытянутом языке – на огромном мысе, выступающем в море. По всему мысу протоки, ерики, частой сеткой бежали к морю. В половодье вся эта местность становилась отдельными островками, частью каналов дельты. Из Ряженого на «большую землю» или к церкви и кладбищу добраться можно было по каналам и только на лодке.
Вода наступала отовсюду, обнажая корни деревьев, покачивая наросшие на них бурые водоросли. Фельдшер Рогинский продвигался первым, кругло согнув спину, шаря тростью, как если бы шел по трясине. Турщ молчал и шагал позади.
– Места у нас особенные! Всяк кулик свое болото хвалит, само собой, но разве найдете еще такой простор? – Рогинский внезапно остановился. – Смотрите: вон там выход на залив, на Чумбурку[6]. Море здесь, правда, мелкое, как блюдце, но рыбное. Римляне в давние времена называли его Меотийским болотом.
Мы вышли к протоке.
– А вот уж это место. Видите, справа канал? По-местному – ерик. – Он кивнул на узкую протоку. – Называется Кутерьма. При нагоне воды этот ерик и отрезает нас от земли.
Мы поднялись на травянистый пригорок, который растворялся в песке. Какой-то человек стоял вдалеке, сгорбившись, без фуражки и, завидев нас, быстро ушел.
Море катило к берегу багровые плотные волны. Признаться, услышав рассказ Турща, я подумал, что «красная вода» объяснится просто – либо сработала оптическая иллюзия, подогретая суеверными страхами, либо вылиняла красная ткань, в которую завернули тело. Но волны, насколько хватало глаз, были именно цвета крови… не венозной, а скорее артериальной, ярко-алого оттенка. У самого берега волны закручивались бурым.
Фельдшер, запыхавшийся на подъеме, покрутил пальцами и, показав на воду, сказал, обращаясь к Турщу:
– Извольте видеть – опять! – Он повысил голос и продекламировал как со сцены: – «Вот ангел вострубил, и третья часть моря сделалась кровью», – и добавил уже совершенно спокойным голосом и с явным сожалением: – Бычка уморит.
У берега колыхалось пятно гниющей рыбы.
Турщ махнул, чтобы я поднялся выше на пригорок.
– А это что? – Я показал на серое строение на горизонте.
– Старый маяк на насыпном острове. Давно заброшен. Во-о-он, видите, «голощечина». – Я рассмотрел обнаженное песчаное место среди травы. – Это Гадючий кут. Нам туда нужно.
Вода зашла далеко на берег, плескалась у низкорослой ивы, вцепившейся корнями в песок, устроила овражки глубиной по колено. Если следы на траве были, то сплыли давно.
Я махнул фельдшеру. Он подошел ближе.
– Аркадий Петрович, ведь это вы осматривали тело?
Рогинский, задумавшись, приминал мокрую траву галошей и ответил не сразу.
– Ах да, я, кто же еще… Видимых следов насилия нет, – дословно повторил он объяснения Турща. – Впрочем, не было возможности провести полноценный осмотр. Как раз накануне снова… разные случайности, инциденты. К тому же стало известно, что краевое начальство обяжет товарища Турща привлечь к делу auctoritas[7] – врача из города.
Стена взъерошенного ветром рогоза – рыжая, вода поблескивает в просветах… Услышав шорох, я подождал: из зарослей вышла птица с тонким кривым клювом. У берега стебли рогоза были сильно примяты, я шагнул рассмотреть ближе.
– Нужны сапоги, если хотите зайти глубже, – остановил меня Турщ, подойдя и не вынимая рук из карманов.
Рогинский, приблизившись, с готовностью предложил:
– Пройду вперед? Гляну, может, сумеете пробраться.
Прыгая по кочкам, он угодил в ил, провалился, но выкрутился, как шуруп, в обратную сторону, цепляясь за камыши.
Турщ говорил, перекрикивая ветер:
– Тут редко кто ходит.
– Из-за цвета воды? Боятся?
– А что вода? – фельдшер наконец вылез, стуча ногами, стряхивая ил. – Это багрянка – красные водоросли, Rhodóphyta. Цветут, извольте видеть.
Рогинский прибавил, уже обращаясь только ко мне:
– Там неглубоко, а чуть дальше отмель. Пробраться можно, – и продолжил: – Явление довольно редкое. В прошлый раз пришлось на год кометы. И вот – снова! Накануне эти водоросли погнал к берегу «багмут» – северо-западный ветер. Аккурат в ночь перед тем, как здесь нашли тело девушки.
– Вот бы и разъяснили явление в клубе, товарищ Рогинский. – Турщ досадливо сморщился. – Предрассудков было бы меньше.
Фельдшер покрутил головой.
– Разубедить здешний народ невозможно, сами знаете. Да и веса среди местного населения у меня нет, вы не раз говорили.
Турщ отвернулся.
Обсыпанный как мукой шелухой рогоза и мелким мусором, я добрался до узкой полосы белого песка – отмели. Осматриваясь, наткнулся на почти целиком занесенный песком обломок лодочной обшивки. В ржавом металлическом кольце обрывок истрепанной веревки. Осмотрел, стараясь не слишком ворочать. Из-под доски выскользнула потревоженная гадюка, прочертила извилистую линию на песке.
На берегу я достал блокнот, набросал план места. Турщ наблюдал за мной, сунув руки в карманы. Фельдшер бродил неподалеку, шевеля тростью пучки острой травы. Я окликнул Турща:
– Где сейчас тот местный, который нашел ее? Австрияк. Я бы хотел поговорить с ним.
– Потолкуете, само собой. За день до этого, – он кивнул на камыши, – видели, что она говорила с ним. Точнее, спорила.
– Все же вы погорячились его отпускать, – не утерпел я.
Турщу упрек не понравился.
– Не хотел. Считаю, что он причастен. Да священник баламутил, уперся. – Турщ закурил. – Впрочем, не беспокойтесь, в такой разлив ему отсюда податься все равно некуда.
– Может, она еще с кем-то ссорилась незадолго до смерти? – спросил я Турща.
– С семьей была в ссоре, – ввернул подошедший Рогинский.
– Я не имел касательства к ее личным делам, – добавил Турщ в своем телеграфном стиле. – Возникла необходимость в агитации, товарищу Рудиной выдали деньги. Она поехала в город. Все как обычно. Если вы тут закончили, двинемся дальше?
На обратном пути, уже в Ряженом, пока я мысленно клял себя, что позволил вместе с вещами унести и мой докторский саквояж, из-за чего приходилось сделать крюк и зайти за ним на «квартиру», Турщ, выражаясь по матери, остановился и ободрал со стены лавки какие-то листки. Фельдшер Рогинский отстал, шагал, о чем-то задумавшись. Турщ ткнул бумагой в мою сторону. Я прочел:
«Товарищи-граждане, по всему району известно, что наш округ задался целью показать пример о проведении социализма. Что такое социализм? Это есть обман крестьян. Товарищи, мы обмануты!»
– Видите, что делается? Форменный саботаж, срываю через день. Село и станицы рядом в прошлом были контрреволюционными, и не служивших у белых, кроме молодежи, считайте, никого нет.
– А погибшая? – спросил я.
– Двадцать лет. Хороший работник. Организовала в селе курсы по ликвидации безграмотности. Агитировала местное население записываться в артель. Но, как я уже говорил, шло туго. Сейчас байды, рыбацкие лодки, личные, а будут общественные. Отдают с боем, а потом отказываются чинить, конопатить. Говорят, раз общее – значит, ничье.
Турщ посмотрел наверх, я проследил за его взглядом: хищная птица раскинула крылья. Вдалеке точки – лодки рыбаков. Красные волны отсюда смотрелись темной полосой.
– Вдоль берега всюду рыбачьи поселки?
– И казачьи станицы. В работе с казаками были перегибы, это не отрицается. – Турщ методично складывал сорванное объявление. – Сейчас взят другой курс. Так сказать, не допускать опасной искры, не подпалить бикфордов шнур. У нас работают ревкомы – для более тесной связи с населением… – Сложив бумагу, он ногтем сгладил сгибы, как портной стрелки на брюках. – Но, несмотря на это, участились нападения на артель. Мешают работе, учету рыбы. Портят имущество. Останавливают обозы. Кроме того, из порта идет контрабанда…
Турщ аккуратно разорвал объявление, клочки полетели на землю.
– Подозреваем, – продолжил он, – что нападения и саботаж, а пожалуй, и контрабанда имеют один источник. В последний месяц обстановка в Ряженом мутится явно организованно.
– Есть мысли, догадки – кто именно мутит?
– Известно, вполне. Черти. – Нас нагнал фельдшер.
– Черти?
– Нападавших так и описывают: шерсть, рога, копыта… Поймать пока не выходит. Вот, пришли. Тут вас и разместили.
В комнате, которую мне определил хозяин, я пристроил в углу на вешалке тяжелый от сырости плащ. Попросил немного времени собрать все нужное.
Раскрыл саквояж, проверяя, не забыл ли чего. Турщ сел на лавку у окна, достал папиросу. Фельдшер с любопытством разглядывал содержимое моего саквояжа. Прищурился, всматриваясь в коробку с порошком.
– Это для дактилоскопии, – пояснил я.
– От греческого – «палец» и «смотрю»? – уточнил фельдшер.
Я кивнул:
– Рисунок кожи на пальцах индивидуален. Непревзойденная вещь для определения личности. Нужен особый порошок, но в крайности подойдет и толченый грифель, и хорошая дамская пудра.
Фельдшер бросил рассматривать коробочку и потянулся за тростью.
– Пойду вперед, подготовлю все, – заговорил он деловито. – Тело мы опустили в погреб, там подходящая температура, молоко не киснет, бывает, что и неделю. Но поторопиться с аутопсией нужно. Третий день, жители возмущены, что не даем хоронить.
Турщ с фельдшером переглянулись неожиданно мирно.
– Приходили женщины, вышла тяжелая сцена. Уже и домовину сколотили, и яму выкопали, и погребальное сшили. А вот отец и братья в стороне. Она ведь для них безбожница-активистка…
Он вышел.
Я прикинул, во что бы переодеться. Понятно, что при такой погоде перемены мне хватит ровно на полчаса, но уж больно противно липла к телу промокшая от дождя рубашка.
На улице послышались крики. Бросив папиросу, Турщ выскочил за дверь. Я выглянул в окно, но через запотевшее стекло ничего не увидел. Схватив плащ, кинулся следом, закрывая на ходу саквояж.
– Опоздали! – Фельдшер Рогинский махал руками, торопил нас. – Мать и кое-кто из местных забрали тело! Увезли в церковь!
Мы почти бежали по улице.
– Этого нельзя допустить! – кричал я Турщу, думая, что если тело успели подготовить для похорон, то уничтожили все улики, которые еще можно было бы найти. – Как же вы проглядели?
Тот так опешил, что начал оправдываться:
– Это ж такой народ! Категорически любого выпада, подлянки можно ждать! – Он остановился, развел руками.
Фельдшер пыхтел, багровея от быстрого шага. Выговорил, задыхаясь:
– Больница не острог, охраны там нету!
Турщ, с досады далеко сплюнув, шагнул, чтобы не попасть себе на начищенные сапоги.
– Нужно задержать погребение, – сказал я. – Либо успеем, либо придется эксгумировать.
– Выкапывать, значит… Растерзают. Зашумят! Идите к пристани, я нагоню, только возьму подмогу. – Турщ ушел, широко шагая.
Солоноватый ветер посвистывает, подталкивает на волнах, заносит в лодку дождь пополам с речной водой.
– Любашу у нас все знали. С семьей она в контрах. Вообще у казаков бабы – ух, боевые, по хатам не сидят. А Любка и вовсе… в городе училась, опять же курсы политграмоты. – Молодой милиционер (из округа, его разыскал и взял с нами Турщ) гребет с усилием, но продолжает болтать. Отмахнулся от моего предложения сесть на весла, сказав, что знает все протоки здесь и так пройдем быстрее. Ориентируется как птица, чутьем – за камышами проток не рассмотреть. Дождь мелкий, морось лепит волосы к лицу.
– Из города она на машине с почтой добиралась? Я говорил с водителем.
– Да, как обычно, на ней! Но колесо увязло, Люба не стала ждать, пока вытащат, вылезла, сказала, пешим ходом быстрее. Верно я говорю, товарищ Турщ? – Милиционер опустил весла, осмотрелся, и мы нырнули в другую протоку.
– При ней были личные вещи кроме материалов для агитации. Где они?
– Узел был. Ну, ищо чемодан. Она его в кабине шофера оставила. Чтоб вроде как подвез ей опосля. И пошла. Чемодан мать забрала.
Он греб некоторое время молча, всматриваясь в лабиринт камыша.
– Когда ночевать не пришла, мы весь вечер в хаты стучали. Нам сподмогли берег осмотреть. Но видели ее, нет – не доспрашиваешься: молчат, ироды. Товарищ Турщ вам расскажет, какие тут творятся дела. С властью Советов не хотят сотрудничать!
– Если хватились быстро, значит, она нечасто возвращалась поздно?
– Значица так, раз всполошились. Но я, товарищ, считаю, немцы это. В кузове ж мужик с девкой были, из этих! Ихали с города.
– Предубеждение, – буркнул Турщ. – Случись что, местные винят сектантов или немецких колонистов. Хотя в обычное время рядом живут вполне мирно.
– Вон, уж видно – церква, – милиционер проглотил протест, направил усилие к берегу.
– Заупокойная кончилась, не успели мы, – сказал фельдшер.
Церковь – кирпичная, пустая, темные купола. Кладбище в стороне. Гранитные памятники со скорбящими ангелами. Заросшее мхом, выбитое в камне посвящение попечителю храма, имя не разобрать. Деревянные кресты частоколом.
– Заложные покойники, – бросил милиционер на ходу, – старое чумное кладбище. А нам… вона, смотрите!
Толпа у ямы невелика – черные платки, сдернутые фуражки. Большинство женщины. Одна в центре – напряженное лицо, низко сдвинут платок, товарки обняли за плечи. Видимо, мать. Я отвел глаза. Земля мокрая – кто впереди, еле удерживается на краю. Яма пустая. Домовина стоит рядом – простая, из светлых мокнущих досок. Мы подходим. Причитания и ропот перерастают в крики.
Турщ хватается за квадратную кобуру маузера. Молодой милиционер сжимает «линейку»[8]. В стороне от толпы и ямы я как могу убеждаю священника – одна надежда на его разумность.
Тот твердит: «Одобрить не могу – вы что же…» Приходится давить. Подошедший к нам Турщ трубит угрозы. Священник чуть не плачет, но уступает и, чудо, убалтывает толпу. Переговариваемся: лодка не потянет, просядет, надо вынуть тело из домовины.
Поп умоляет поторопиться – долго народ уговорами не удержать. Везение, что отец и братья не вмешиваются.
– И все же дочь… Хоть и безбожница, а может, опомнятся, – причитает священник.
Вносим домовину в церковь. Потом через подворье обошли – и к лодке: та пляшет на волнах, рвется. Удерживаем, стоя в воде по пояс.
– Думал, разорвут, стрелять придется. – Турщ оглядывается на церковь. – Отправляться нужно, да побыстрее.
Больницу, одноэтажное здание с мезонином, широким крыльцом и вроде пристройкой-флигелем, я толком не рассмотрел. Мы быстро прошли в темную прихожую. Мелькнуло женское лицо.
– Я поставил стол у окна, чтобы было больше света, – фельдшер кивнул на оконный проем в частом переплете и вдруг продекламировал: – «Ее одежды, раскинувшись, несли ее, как нимфу; она меж тем обрывки песен пела…»[9]
Я уставился на него:
– Пела? Это вы в общем смысле?
Он не смутился:
– В общем, конечно, именно в нем! Пришло на ум поэтическое совпадение из строк Шекспира. Трагический случай с Офелией.
– Турщ сказал, вы не нашли признаков утопления.
Чуть нагнувшись, он начал снимать платок и венчик с головы покойницы.
– Вы городской специалист, вам и выносить вердикт. А вот и о сходстве с Офелией, смотрите-ка.
Волосы девушки были длинными, а не по моде на городской манер «а-ля гарсон»[10], и лежали, как водоросли. Фельдшер, разбирая пряди, вынул смятый стебель цветка. Приоткрыл саван, в складках ткани тоже оказались цветы. Полевые, блеклые, вроде колокольчики.
– Положил кто-то в домовину, не в привычках здесь, но все же трогательный жест, – сказал фельдшер.
– Это местное растение? Какое, не знаете?
– Это… – он поднес стебли почти к носу. – О! Интересно. «Персты покойника», или «плакун-трава». Нет, погодите. Это цветок ятрови. Ботаническое название – ятрышник, семейство Orchidaceae. А народное – несколько смелое. Основано на внешней схожести корня растения с мошонкой. На латыни scrotum, яичко – testis. Корень используют как приворотное зелье – суеверие, конечно.
– Цветы растут там, где нашли тело?
– Вполне может быть, вполне. Рано цветет, встречается нечасто – на мокрых солончаках, в песке… У нас тут были поразительно теплые недели. А потом вот снова, – махнул за окно: снег летел, как перья.
Мы разложили свернутые в узел вещи покойной. Жакет городского фасона, ткань хорошего качества, но в пятнах засохшей грязи. Видны повреждения – мелкие дыры, торчащие нитки.
Разгладив подол юбки, фельдшер снял с него зацепившийся жесткий стебель.
– То же растение, но иного рода. Чертополох, точнее, бодяк красноголовый. Защита от порчи и дурного глаза. Коробочки с колючками, старые, цепкие, видимо, еще с зимы, новым цвести пока рано.
– Там, на поляне, я его не заметил.
– Разумеется. Он растет большей частью в оврагах.
– Вы удивительно много знаете о растениях.
– О, я тут увлекся ботаникой. Не дает закиснуть, да и польза для дела существенная. К народным средствам не нужно относиться свысока. Природа суть лекарство. Или вот, взять язык цветов: «крапива» означает «боль». А, допустим, Nymphaéa álba? Нимфея. Попросту – кувшинка белая. Здесь ее много, скотом не поедается. «Нимфея» означает «отказ от лжи».
Рогинский бубнил над ухом еще что-то. Я уже не слушал. От непростого дня и почти бессонной ночи голова у меня гудела, как горшок, по которому хорошенько треснули палкой.
Для исследования тел власти то и дело печатали новые регламенты, в которых, однако, судебно-медицинский эксперт оставался главным действующим лицом, коему предписывалось «оказывать полное содействие». Я вытурил фельдшера из «прозекторской» – его присутствие и болтовня мне мешали. Тем не менее необходимы были понятые… Ладно, обойдусь пока. Частенько приходилось отступать от правил.
Подкрутил керосиновые лампы. Убрал марлю с окна. Оно выходило на поле и залив, но и сюда долетал усиливающийся гул голосов во дворе больницы.
Не слушая, повторяя про себя рифмованные строчки – по привычке, чтобы сосредоточить внимание, – я занялся делом. Все нужное я привык иметь при себе – иглы, губки, бечевку и сургуч для запечатывания пастеровских пипеток и пробирок. Банки с притертыми пробками и камфара, чтобы приглушить запахи во время исследования тела, нашлись здесь.
Уже тщательнее осмотрел вещи Рудиной. Головки чертополоха срезал, завернул в бумагу. На блузе с тряпичным галстуком не было верхних пуговиц. Под воротником – плотные масляные капли. Снял немного пинцетом, рассмотрел – по виду темный свечной воск. Вырезал часть ткани в надежде собрать отпечаток, но фрагменты были тонкими, смятыми, распадались.
Я проверил карманы жакета – нашлась круглая оправа, вещь недешевая, узор на синей эмали. Вывернул карман над листом бумаги, прошелся щеткой по швам. Посыпались сверкающие крошки – разбитое зеркальце. Следы пальцев на оправе смазаны. В другом кармане обнаружилась сложенная красная косынка. Обувь сильно поношена, дырочки замазаны чернилами. У туфли обломан каблук. Судя по состоянию одежды, Рудина бежала или пробиралась через кустарник – шиповник или терн. Надо бы узнать, какой дорогой она возвращалась. Проезжий тракт, которым мы добирались до пристани, один, но пешком наверняка можно спрямить. Подол юбки спереди в засохшей грязи – видимо, не раз падала. Место, где ее нашли, этот Гадючий кут, не так далеко от дороги. Но там нет колючего кустарника, фельдшер сказал «голощечина» – всюду мелкий белый песок… Как там сказал Турщ – демонстративная выходка, плевок в лицо власти?
Я посмотрел на девушку – сомкнутые веки. Тело обмыли, подготовили для похорон. Открытые части – руки, лицо – все в мелких царапинах, кровоподтеках. Непохоже на укусы или следы ударов тела о камни. Скорее все то же – колючий кустарник. Несколько ссадин. Такие повреждения возникают, если человека с силой тащить по неровной жесткой поверхности.
Кое-где на теле пятна – сначала я подумал, что это следы ушибов, но, достав сильную линзу и разглядев, разобрался, что материя, в которую завернули тело, видно, была такая дрянная, что краска въелась в кожу, оставила следы. Время смерти совпадает с установленным фельдшером.
Прибавив света, я сделал первый продольный надрез и начал вскрытие. В легких воды нет, что ожидаемо. Мозг, внутренние органы.
Исследуя ткань сердца, заметил зону некроза, окрашенную в более светлые тона, ее оттенок постепенно менялся на желтовато-серый. Это значило, что приток крови к сердечной мышце внезапно резко сократился.
Сердце. Английский медик, анатом Гарвей, сравнивал процесс перекачки крови в сердце с работой насоса, бесконечно повторяющего один и тот же цикл. Удар – кровь идет по артериям – потом по венам – снова удар – и завершение круга. Что могло вызвать остановку сердца у молодой, крепкой деревенской девушки?
Проверил на яды, и в первую очередь на дигиталис. Он вызывает повреждения, сходные с теми, что возникают при параличе сердечной мышцы. В деле отравителя Поммерэ, триумфе французских судебных медиков, преступник использовал этот яд, добываемый из наперстянки.
Однако ни следа известных растительных ядов.
Места тут кишат змеями… Гадюки весной медлительны, укус вряд ли станет смертельным для взрослого человека. Но только если он здоров. Яд дает довольно серьезный отек, опухоль бывает такой, что лопается кожа. Я проверил зрачки – непохоже, следов укуса не нашел. Я постоял, опершись на стол, прикинул. Признаки подходят под осложнение инфаркта миокарда. В просторечии «смерть от разрыва сердца».
В гимназии по классам ходила затрепанная книжка о приключениях гения русского сыска сыщика Путилина[11]. Уговор – прочесть за ночь. Проглатывали при свечке, вздрагивая от шорохов: то ли родители заметили полосу света и будет взбучка, то ли преступник-горбун «с дьявольски злобным лицом» лезет в окно. И вот там-то, помнится, была история о смерти от сильного испуга. Смерть от испуга и возможна-то только в бульварных романах. Это факт, как выражается товарищ Карась. Но леший меня раздери, если я сейчас не с ней имею дело!
У страха есть «проводник» – надпочечники. Они выделяют в кровь вещество адреналин, недавно открытый в Северо-Американских Штатах. Когда к жертве подбирается хищник, адреналин, как хлыст лошадь, подстегивает, толкает бежать, спасаться. Я снова поглядел на мелкие дырочки – пуговички у ворота блузы вырваны с мясом. Она задыхалась, искала воздух. Бежала, не разбирая дороги, не замечая царапающих веток. Резкий выброс адреналина… при осложнениях с сердцем… Надо расспросить фельдшера и родителей, жаловалась ли Рудина на боли в груди, страдала ли ишемической болезнью. Исследуя тело, я установил еще одну причину возможной общей слабости. Очевидно, накануне в городе она сделала аборт. Неплохой мотив, если отец ребенка женат и не хочет огласки.
В судебно-медицинский протокол я, поколебавшись, вписал понятым Турща, а фельдшера – своим помощником. Что же, ruptura cordis – разрыв сердца. Сознательно так убить нельзя, случайно – можно. Выходит, смерть – случай? Но последующая выходка с телом явно умышленная.
У двери загремели голоса, я накрыл тело простыней. Стук сапог. Вошел Турщ, отряхивая мокрый снег. Спросил:
– Ну что?
– Инфаркт, – сказал я. – Разрыв сердца.
– Отлично. Конец пересудам!
Турщ бросил взгляд на тело, цокнул и вышел.
У больничного крыльца собралась небольшая толпа. Женщины, завидев меня, замолчали, но глаз не опустили. Я узнал среди них мать Рудиной.
– Товарищи! – Турщ возвысил голос до торжественного. – Медицинский работник, присланный из города, из Доноблугро, точно установил, что смерть товарища Рудиной наступила от болезни сердца.
Его перебили выкрики, гул усилился:
– Наброд[12]! Уж он так знает!
– Поди брешет, гундор[13]!
– Балабон[14]!
– Вредные слухи…
– А ну!
Крики стали громче, лица – злее. Я поднял руку.
– Послушайте! – Мои слова потонули в свисте. Понял, что не перекричать, заговорил негромко: – Простите…
Сработало. Те, кто ближе, замолкли, вслушиваясь, зашикали на остальных. Гул постепенно затих.
– Простите, – повторил я, – что пришлось прервать погребение. Поступить не по-людски. Но выхода не было. Погиб ваш товарищ, – я посмотрел на мать, – дочь. Мы должны дознаться, установить.
– Дело говорит, – высокий голос из толпы. – Жаль девку.
– Поэтому мы будем благодарны, – я «ковал железо», – за любую помощь. Мне нужно поговорить с теми, кто ее хорошо знал…
Лица, напряженная тишина. А потом снова гул голосов, волнами, недовольный, но уже без злобы.
– Зачем вам это? – Турщ дернул за руку, махнул в глубь крыльца. – Баста! Сделано дело. Диагноз окончательный.
– На подробности вам плевать? – я злился и не скрывал этого. – Любовь Рудина сделала аборт незадолго до смерти. Ее, очевидно, преследовали, испугали! Возможно, отец ребенка? Не станете искать? И тот, кто переместил тело, тоже пусть гуляет?
Турщ помолчал, похлопал по карманам, но папиросы не достал.
– С этим мы сами решим. Руководству я предоставлю отчет по вашей работе. А вы – можете ехать.
Мне довольно сильно наскучило, что все распоряжаются мною. Ответил резче, чем собирался:
– Я, товарищ Турщ, назначен сюда моим начальством. Разобраться досконально. Смерть – явление социально-правовое, – я ввернул фразу из какой-то давно читанной брошюрки. – И как вы прикажете мне добираться до Ростова? Разлив.
– Ладно, воля ваша. Оставайтесь. Пойдете вечером к фельдшеру? Верно, он уже звал?
– Нет. А вы ходите?
– Не приглашают, – отрезал он и спросил, можно ли дать добро забирать тело. Я попросил час, чтобы привести все в порядок.
Постоял на крыльце – тяжелый солоноватый ветер остужал лицо – и вернулся в прозекторскую.
После мороси улицы сухость и тепло комнаты навалились как одеяло. Я прислонился к стене, подумывая, не посидеть ли хоть немного, но времени не было. Растерев лицо руками, чтобы собрать мысли, стал зашивать.
Услышав, как скрипнула дверь, поглядел на часы, – оказалось, что провозился я довольно долго. В щели заблестел глаз, дверь открылась пошире, выкатилась уверенная плотная тень.
– Иди, дай нам заняться.
Тень стала женщиной. Приземистой, круглой как луна. Говорила она, как многие тут, мешая русские слова с диалектными, смягчая согласные, – я с трудом поспевал за ее речью.
– Голошейка ее иде? – И добавила, увидев, что я не уловил сути: – Рубашка? Бабы шили, штоп иголка шла фпирет, на жывую нитку – это штоп дорога ей была итить на тот свет.
Из ее бормотания стало ясно, что она местная повитуха, а при случае и плакальщица, или, как она сказала о себе, «ахалыцица», – и добавила, охая:
– Распотрошил девку, словно таранку, тут сподмочь надо.
И хотя я молчал, помогая ей, бабка и имя свое назвала – Терпилиха. Она продолжала говорить низким шепотом, как будто мы могли кого-то разбудить.
– Ты не думай, мне и пятиалтынного не дадут, и не надо. Это фсе для нее, – кивнула в сторону тела девушки. – Жалку́ю ее.
– Вы ее знали?
– Я-то? Знала али нет, мне фсе – едино. Мне сила дана сподмогать. Я фсе ить могу. Кости умею лячить, заговор на Антонов агонь[15] знаю – против гнетучки[16]. Могу выливать переполох[17]. Жабу дубоглот[18] сведу, а то и дурну болеснь[19] могу. Ну, уж есля покойник, то зафсегда меня зовут.
– Если жалеете, может, знаете, кто хотел ее обидеть?
Терпилиха нагнулась с усилием, потащила таз из-под стола. Я достал, отдал ей.
– Ты тута наброд. Долго ехал, а – зазря! Змей губит, змей крутит… Как он ее, жалочку, в саван-то красный скрутил! Так-то он к жалмеркам ходит. У кого казак на службу ушел. А нет, так к вдовам. А она ить не вдова и не мужа жена. Вот мается если девка, так змей к ней наладится. И сушит ее до смерти лаской.
– Какой змей?
– Такой! Огненный. Собой… вот как багра – наподобие макового цвету. Ты ступай уж, дай нам-то справить все! Не по-божески ты у церквы.
– Так ведь и поделать было нечего. Я уйду, только вы мне еще скажите. Одежда у нее порвана. Есть здесь такое место, где колючего кустарника много?
– Ажина? А може, терн, – она задвигала пальцами, будто растирая невидимую ягоду. – Да фсюду, в ямах, там не пробересся.
– А не знаете, где ткань, в которой ее нашли?
Терпилиха сноровисто при ее грузной комплекции крутанулась, крестясь на угол, поплевала, шепча, я расслышал: «Соль да печина»[20].
– Тряпку эту окаянную с бесовым знаком фельдшериха забра́ла.
Стукнула дверь, потянуло сквозняком с улицы. Вошли еще несколько женщин. Не желая им мешать, я вышел.
У двери я уловил обрывок разговора: говорили явно обо мне. Щепетильность при моей работе лишняя. Я остановился и прислушался:
– …так как же, Аркаша, его называть: гражданин милиционер?
– Товарищ доктор, Анечка. Он врач.
– Удивилась – так молод. И волосы длинные. Эпатажничает?
– Напротив. Довольно прост. Кажется, с ним не будет сложностей: а уж мы опасались, что пришлют человечка позубастее.
В который раз я подумал, что надо бы остричь волосы. А может, наоборот, бороду отпустить? Даст солидности. Погромче хлопнул дверью, вошел. Рогинский представил:
– Анна Сергеевна, жена.
Интересная пара. Женщина некрасива лицом: мелкие, не слишком выразительные черты, ушные раковины чересчур большие, немного оттопыренные. Волосы причесаны так, чтобы скрыть лопоухость, но при этом, несомненно, женственная – высокая блондинка, розовая тонкая кожа светится, великолепную фигуру подчеркивает платье канареечного цвета, кокетливое, удивительное в деревне. Окинула взглядом. Протянула мягкую белую руку, слабо пожала.
– Вас удобно разместили?
– Да, благодарю.
– Так отчего же она умерла? Отравилась?
– Нет, почему вы подумали?
– Так. Просто. Я от этой погоды сама не своя. Мигрень.
– Раз так, Анечка, нужно прилечь. – Фельдшер засуетился.
– Я расспросить хотела…
– Не прямо же сейчас? Тебе отдохнуть нужно. Ступай наверх.
Жена его ушла, на ходу прихватив книгу.
– Анечка такая чувствительная! – сказал фельдшер. – Ну что же мы стоим, пойдемте-пойдемте! Непременно чаю. День-то какой выдался!
Затащил, не слушая возражений, в небольшую комнатку вроде кабинета. Полки, книги, журналы, портреты. Выдвигал стул, хлопотал.
– Мы живем тут же, при больнице. Комнаты в мезонине. Я, Анюта моя да девчонка из села. Помогает.
Достал поднос из латуни, самовар-«эгоист», вытянутый как яйцо, на две чашки, захлопотал.
– А вот и чай. Я признаю только крепкий. Про слабый казаки знаете как говорят? «Через него Москву видать»! – засмеялся, зашелся всем телом.
– Вы здесь оказались по линии земства? – спросил я, решив воспользоваться случаем и расспросить хорошенько, пока никто не мешает, один на один.
– Оказались, да, скорее волей случая. Но я не жалею нисколько! В прошлые-то времена пароходик с заготовленной рыбой успевал за день четыре раза сходить в Ростов! Сапожник свой имелся, был и цирюльник. Мы с Анечкой, как прибыли сюда, прямо удивлялись, до чего в таком отдаленном месте налажена городская жизнь. Вы пейте чай, пейте! Сахара, правда, нет, но есть отличное варенье. Аня варит из вишен, тут кругом много садов. Такие сладкие вишни, что сахара почти не нужно. Ведь сахар – дефицитный товар, нехватка.
Звякнула ложечка.
Варенье было чрезвычайно кислым, и когда фельдшер отвернулся, я опустил ложку в чай. Попросил еще раз рассказать о дне, когда пропала Рудина.
– Да я знаю то же, что и все. – Он наполнил розетку с горкой, потекло по краям. – Девушка приехала с последней машиной. Шофер дожидался у переправы сколько мог – разлив, следующая будет хорошо если через несколько дней. Ждали долго, добирались еще дольше. По дороге колесо у них сверзилось, машина, знаете, перегружена, под завязку. Люди. Товаров набрали – керосин, спички, газеты. Рудина слезла. Сказала, пешком быстрее дойдет.
Рогинский встал, снова заколдовал над самоваром.
– Ушла и ушла, очевидно в Ряженое. Куда же еще? Поломка, дождь, не до нее… Да и местные, конечно, знают тут все тропинки.
Слова фельдшера подтверждала и ее одежда. Пошла короткой дорогой, может, оврагом? Балки, обрывы, займища тут повсюду, море подъедает берег.
– А обстоятельства, при которых нашли тело, что вам известно об этом?
– Немного, но, может, сей кладезь окажется полезнее…
Он порылся на полках и положил передо мной бледно-голубую книжечку «О бромистом конине. Диссертация на степень доктора медицины лекаря В. Ольдерогге, 1884 г.».
Отвечая на мой удивленный взгляд, открыл ее в середине, где была вложена фотография. И не одна. С почти довольным видом фельдшер рассказывал, раскладывая карточки на столе:
– Видите ли, в наших краях располагался аэрофотосъемочный отряд Рабоче-крестьянского красного воздушного флота. Они производили здесь съемки по своим надобностям. Фотограф – прямо энтузиаст своего дела. Главным образом использовал аэрофотоаппарат Потте. Интереснейшая вещь. Обычную съемку тоже можно сделать.
Я разглядывал снимки. Они были великолепны: контрастные, выполненные со знанием дела. Рядом с мелкими, плотно сжатыми строчками диссертации они производили странное впечатление – не иллюстраций, а как будто распахнутого окна. Мелькали кони на отмели, птицы, причал, рыба в человеческий рост – хорошо различим нос рыбины, за который ее держит рыбак.
– Этот фотограф-энтузиаст работает, не поверите, даже для газет.
На фотокарточках мелькали изображения курганов в степи. Потом купол местной церкви. Снимок вскрытой раки с мощами, рядом товарищи в фуражках, очевидно, комиссия по реквизиции религиозных ценностей.
– Снимает все! Особенно интересуется обрядами, жизнью деревни. – Фельдшер налил еще по стакану и немного смущенно добавил: – Ну и, конечно, нашей церковью. Как раз оказался там. Удачно. То есть я имел в виду, просто случайно. Вот и сделал карточки… когда Австрияк принес туда тело.
У тела на фото не было лица – ткань, собравшись в складки, закрыла все, кроме белых рук, раскинутых на темных пятнах земли.
– Товарищ Турщ не стал возражать. Он принял к сердцу трагедию девушки, – продолжил фельдшер.
– Турщ?
Фельдшер смотрел не мигая.
– Да.
Турщ производил впечатление человека не сердечнее нильского крокодила.
Еще несколько фото. Видно, что тело обернули в ткань плотно, как в саван. Вот другое, снятое немного иначе.
– Аркадий Петрович, а глаза? Когда ее нашли, глаза были открыты или закрыты?
Рогинский взял фото, обвел пальцем фигуру.
– Действительно, здесь… Но даже не знаю.
– Говорят, материя, в которую завернули тело, находится у вас.
– Сохранил вместе с носильными вещами. Родители взять не захотели. А чемодан забрали.
– Хорошо, я поговорю с ними, попрошу отдать.
– Попробуйте. Они настроены, как выражается товарищ Турщ, резко отрицательно.
– Она обращалась к вам за врачебной помощью? Может, жаловалась на боли в груди?
– В смысле на сердце? Нет. Приходила, помню, раз, еще той весной, ее молотилкой задело. Говорят, она бывала в городской больнице, ездила туда.
– Зачем?
Он поднялся, собрал пустые стаканы, залез чуть не по пояс в буфет:
– Да, собственно, откуда мне знать? – Грохнуло, покатилось в глубине буфета. – Выглядела здоровой… Я с ней говорил пару раз, не больше. Давал брошюры по общей гигиене.
– А кто может знать? Подруги у нее были?
Вернувшись к столу, фельдшер подвинул ко мне фотографии, поставил книгу на место.
– Кажется, нет, в друзьях все больше мужчины. Новые нравы. К тому же она была заметной… в том самом, женском смысле.
– Кстати, я видел на берегу мужчину, когда мы осматривали место. Высокий, темные волосы.
– Я и не заметил, может, местный рыбак… Да, как время-то бежит! Вы спрашивали ткань? Пойдемте.
В кухне жена фельдшера Анна склонилась над подоконником, будто что-то выронила и теперь искала. Вздрогнула:
– Вы меня напугали, – и закрыла белой тканью кастрюлю. Густо и сладко пахло какой-то травой.
– Анечка, зачем ты встала?
Рогинский бросил мне рассеянно:
– Минуту…
Поискал, погремев, принес ведро, откуда достал ком свернутой ткани.
Я попросил газету. Анна подала. Расправил над ней материю – посыпались земля, листья, сухая трава. Покрутил. «Саван» оказался транспарантом с выписанным белой краской призывом: «Религиозное воспитание есть преступление против детей» – и действительно нарисованной звездой.
Свернул ткань, собрав все, что высыпалось из складок. В куче этого мусора обнаружилась медная монетка. Ребристая, с неровными краями. Подошел к окну, поднес к свету. Анна, переставив кастрюлю, тоже наклонилась. Оказалось, не монета. Медный, чуть больше ногтя диск, похожий на амулет. На одной стороне выцарапаны или выбиты буквы. На другой – я повернул… Анна протянула руку.
– Видели раньше?
На обороте – лицо в анфас, по ободу линии, как волосы горгоны Медузы. Немного поколебавшись, Анна покачала головой, отвернулась.
Фельдшер обнял ее за плечи:
– Вы заходите к нам позже вечером? Уже, так сказать, не по делу, а просто на огонек.
– Благодарю, но не знаю, надолго ли я здесь.
– Так ведь вода. Так ведь разлив, ветер. Вам и не уехать. Мы ужинаем поздно. У нас тут сложился кружок. Новый человек всегда интересен.
– Благодарю, буду. У меня с собой банка маслин – я захвачу.
Провожая меня до крыльца, Рогинский еще раз напомнил, что меня ждут. Но, несмотря на радушие, мне показалось, что я ему не слишком понравился.
По пути к хате, где оставил вещи, я вышел к мосткам. Постоял, глядя на грязноватые волны прибывающей воды. Уехать в любом случае не выйдет, как бы ни мечтал об этом товарищ Турщ! Он был крайне недоволен моим желанием разыскать местного, который нашел тело. И еще раз, без помех, переговорить со священником. Но все же обещал лодку рано утром, раздраженно бросив, что «никуда Австрияк не денется, верьте, знаю. За пристанью присмотрим и за попом». Крупная стрекоза, вильнув у лица, сбила меня с мысли. Что-то было еще, что-то важное…
А интересная штучка этот медальон, найденный на теле! Откуда он там и чей – жертвы, убийцы? Оставили его с умыслом, нарочно или вышло случайно? Или за смертью Рудиной стоит нечто большее, чем местечковый «жестокий романс»? Руководство «Научное следствие и полиция» делит все расследование на три этапа. Собирание данных о совершенном преступлении. Создание на их основе рабочей гипотезы. И, наконец, третий – поимка виновника. Откладывая временно в сторону упрощенность этой схемы, я признался себе, что застрял не дальше первого этапа. Гипотезу построить пока не выйдет. Я устал, хотел выспаться, разложить по полочкам мысли, впечатления, вопросы. Но оставался фельдшер Аркадий Петрович Рогинский. Я решил, что вечером мне обязательно нужно к нему. Может получиться познакомиться поближе, разговорить его компанию. Да и приглашение было кстати, я позабыл, что не обедал.
По дороге заглянул в лавку, вполне привычный ассортимент, но скудный. Спички, мыло, на чистой широкой полке рулон простой ткани. Разглядывая каменные пряники, я вспомнил, что газеты писали о бедственном положении сел в части продуктов, и подумал, что вряд ли мой лодочник рад лишнему рту. Жили тут небогато. Продналог, первые годы перестройки на селе давались крайне нелегко. Положение села выражалось, пожалуй, частушкой:
- Ленин Троцкому сказал —
- Давай поедем на базар,
- Купим лошадь карюю,
- Накормим пролетарию.
Дом, где меня поселили, был двухэтажным, окруженным резным балкончиком. Второй этаж деревянный, нижний – каменный, что называется «на низах», спасение от воды в разлив. Я постучал в окно, обошел крыльцо. Позади него стояла узкая старая лодка. Лежали мотки веревок и сети, наброшенные на вросший в землю, опрокинутый истукан – каменный идол, выглаженный временем и степным ветром.
– Почистись, земли натащишь.
Со спины подошел хозяин, лодочник.
– Как величать-то тебя?
– Егором.
– Данила, – он протянул руку. – Волковы мы.
Он облокотился о столбик тына, поудобнее устроил ногу с пустой штаниной. Я взял железный скребок, занялся ботинками. Кивнул на идола, вокруг которого без почтения рылись пестрые куры.
– Откуда он у вас? – Такие божки изредка встречались в степи, торча на курганах как часовые.
– Еще при старой власти, лет тому десять сосед пахал. – Лодочник скрутил самокрутку, настроился на разговор. – Недалече курган низкий, совсем старый. Под него не лезем, а рядом что же? Ну и зацепило плугом камень, лемех согнуло. Я пошел посмотреть. Торчит эта каменная баба, – он ткнул в истукана пальцем, расшугав кур.
В абрисе фигуры идола с трудом, но угадывались женские черты.
Данила пошарил по карманам, вытащил спички.
– Сосед и говорит: здесь клад должен быть! Стали мы копать напеременку. Две статуи вытащили ищо. А на дне ямы вроде как горшок. С него земля посыпалася, а снизу камешки. Мы эти камешки к кузнецу, он один в горн сунул – ничего! Не смог растопить. Он и кувалдой по нему. Ничего не берет. – Данила рассказывал со вкусом, забыв про самокрутку, делая паузы и взмахи рукой для остроты рассказа. Видно, пересказывал случай не в первый раз.
– Кузнец, конечно, разное, мол, клад этот – заговоренный! А я говорю, раз боишься, то к попу отнесем. Он молебен отслужит, и будут из камушков деньги.
– И что же?
– А, – он досадливо махнул рукой, – тогда другой поп служил. Забрал и гор-шок, и камушки. Да и отдал уряднику, а тот их послал в Ростов. Так и ушел клад. Двенадцать фунтов весил! А каменных баб мы себе взяли.
– Не опасаешься? Все-таки древний идол? – Я перешел на ты, невольно подделавшись под его лад.
– Баба, она и есть баба, чего ее бояться. Сосед мой опосля с глузду съихал[21]. Все копал, клад искал с другими бугровщиками, да без толку.
– Кто это – бугровщики?
– Которые клады копают. Бывает, и в курганы лезут, я так-то думаю, там самое золото и серебро.
– А ты не копаешь?
– Не. Идем, что ли, в дом?
Я наконец разместил все свои вещи, вытянулся на кровати. Небольшая комната, тканые половики. При входе, высоко над дверью, помещалось круглое зеркало, лежа, я рассматривал его, однако к чему оно здесь, так и не догадался. Тянуло не вставать до самого утра. Но, раз не вышло пока добраться до Австрияка, не стоит терять зря вечер. Я достал чистую сорочку, свитер. Наугад толкнул дверь, сказать хозяину, что ухожу. Шансы, что лодочник поинтересуется делами навязанного ему гостя, малы, но все же приличия требовали. Оказалось, кухня. Печь теплая «в низах», полы посыпаны песком. Хозяин почти радушно предложил поужинать:
– Исть будете? Каша со вчера настоялась, жир утячий.
Хозяйка Марина разделывала рыбу:
– Рахманку[22] делаю. Спробуйте, вкусно.
Я поблагодарил и отказался, сказав, что иду ужинать к фельдшеру.
– Тю, рази вас там накормят толком, – хозяйка говорила с явной насмешкой. – Фельдшериха – та, може, воды сварит.
Лодочник одернул:
– Цыц, Маринка, – но она только повела плечом:
– Тогда хоть чаю!
Я кивнул, присел, не удержался, отломил хлеб. Лодочник помог, прижал ломоть – край поднялся вверх.
– Хозяйка замешивает: раньше-то на молоке, теперя на чем придется.
Подал стакан с чаем. Тепло приятно обожгло горло.
– Слышал, ты бригадир артели? – спросил я.
Он помрачнел.
– Ноги ж лишился. Ще на войне. В море ходит не часто. Смотрит за работой. Да возит что нужно на землю и приезжих. Но ловкий! – вставила Марина. Лодочник снова цыкнул на нее, мол, зачем при чужом!
– Али он не видал? – Она, не слушая мужа, продолжала: – Беда с ним! Ведь приходится пару обуви покупать! А был бы на селе еще такой калека – вскладчину дешевле.
– Ну, бригадир, – оборвал ее Данила. – А куда деваться?
Как объяснил мне Турщ, артель, которую устраивали в Ряженом, имела сходство с парижскими коммунами. Имущество объединялось. А полученные от продажи рыбы деньги шли на общий счет и расходы. Рыбаков ставили в бригады по десять-двенадцать человек.
– Что, идут неохотно?
– Чего ж хотеть, когда, говорят, теперя все общее? Откуда ж моя лодка общая, когда ее мой отец строил?
Выпал удобный случай расспросить о нападениях на артель и порче сетей, но отвечал он неохотно, односложно. Мелькнула было мысль упомянуть Турща, что он, мол, обещал содействие артельных. Но ясно было, что здесь найдет, пожалуй, коса на камень.
– Рыбы тут много? Хватает? – я перевел на личное.
– Э, счас уж не то! Меньше стало. Раньше весло в рыбе застревало. По весне сбивали по-грязному икру со щуки, а то с сулы, с чикомаса[23]. Теперь – вот она выручает, – он подвинул мелкую рыбку в газете. – Таранька. Полузгай, она как подсолнухи. Только солоно. Бывает, когда разлив, так ею держимся. Кандер[24] на ей сварить, или в печку опять же можно заместо дров или ежели сырое все.
Гирлянды сухой рыбы висели под самой крышей.
– Дымит, верно, отчаянно?
– Известно, зато нечисть отпугивает. А и мышей. – Марина присела к столу. Тонкие смуглые пальцы ловко очищали мелкую рыбку.
Отхлебывая чай, я проглядывал сделанные за день заметки.
– Хочу еще раз на Гадючьем куте осмотреться.
– Это где нашли ее? – Хозяйка с любопытством наблюдала за тем, как я разбирал бумаги. Потянулась за наброском – берег, нос лодки.
Лодочник громыхнул стаканами, встал.
– Вы ее хорошо знали?
– К нам она касательств не имела. Разве только при учете рыбы… Спектаклю придумала в клубе, книжки носила. – Лодочник подвинул жену плечом, кивнул ей на посуду.
– Вы вот пишете да малюете. – Марина стряхивала крошки со стола, заворачивала рыбу. – Справно вам?
– Вполне.
– Может, свечку надо?
– Спасибо, я взял в лавке свечи и спички. – Я вспомнил, что хотел спросить. – Зачем в комнате зеркало над самой дверью? Высоко, лица не видать.
– Так это ж не для людей. Это для ангела-хранителя, – хозяйка удивилась вопросу. – А Австрияк, как вы, тоже малюет. И Любе, что там надо, все помогал. Он каплюненник, пьяница, – пояснила Марина. – Но добрый. Что попросишь – делает. Ох и страшный только, – она смешливо скривилась, – рожу мыши сгрызли.
– Вы же здешние места хорошо знаете. Как Люба могла на куту оказаться? – спросил я хозяина.
– А! Бис ее разберет. Там сейчас редко ходят. Пока казачья вода[25] была, холодная, море было чистое. А багмут задул, русская вода пошла и уже – багрецовая. Ну, рыбаки сети ставят сторонкой. Рази только с ерика, когда в море идут, так мимо. Да и об эту пору там много змей.
Лодочник говорил медленно, рассматривал сложенные руки. Помолчав, перевел разговор.
– Вы если провизию хотите брать, так это, зайдите до последней хаты. Там ирьян[26] хорош. Мертвецова жена держит корову и коз.
– Мертвецова – откуда такое прозвище?
– Жинка Петра-мертвеца. Так-то он Красуля. Заснул однажды, добудиться не могли аж с зимы, с Николина дня до Пасхи. Хотели уж схоронить, но ничего, очухался, поднялся, – весело объяснила Марина.
– Пора вам. Вечереет, они по-городскому об это время садятся, – сказал лодочник.
Днем отчаянно, по-весеннему синее небо к вечеру вдруг рассыпалось легким снегом. В сумерках вода в полях отливала ртутью. Луна, опрокинутая в воду, просвечивала синим. По пути к больнице, где квартировал фельдшер Рогинский, мокрая земля разъезжалась под ногами, шел я медленно. Хорошо, что лодочник дал мне свои болотные сапоги, хоть и неохотно. Увидев, как я достаю веломашину, отсоветовал ее брать, прибавив, что не корова, со двора не сведут, а вот завязнуть в грязи выйдет запросто.
Рассовав по карманам прихваченные из Ростова на всякий случай вино и маслины, я шагал, держал в уме вопросы, которые, как бы то ни было, нужно задать. Задумался, какой же Люба Рудина была – в памяти мелькнула желтая кожа, сухие, безжизненные пряди. Фельдшер сказал, «заметной», теперь ничего от заметности не осталось. Меня грызла досада, что кто-то подкараулил, напугал, виноват в смерти молодой девушки, а взять, даже если найдем, не за что. Остается разве что разузнать, кто ее преследовал и поглумился над телом.
И что еще за «дела творятся тут», о которых упомянул фельдшер между делом. Жаль все же, что в сутках двадцать четыре часа. Может, мировая революция и это сумеет изменить, взялись же править календарь?[27]
Личные комнаты фельдшера в больнице – ровно такие же, как в любой провинциальной гостиной. Буфет, лампа, этажерка. Сидя здесь, и забудешь, что кругом степь да вода. Я осмотрелся – цветные переплеты на полке, собрания сочинений. Отдал Анне Рогинской вино и маслины. Она улыбнулась, махнула рукой – «у нас по-простому, без церемоний». Из соседней комнаты через раскрытые двери доносились мужские голоса и стук фишек.
Сам Аркадий Петрович, в домашней кофте, с аккуратно повязанным пестрым галстуком-бантом, увидев, что я рассматриваю книги, потянулся за томиком, обдав меня густым запахом кельнской воды:
– Вернейшее средство развлечь хандру – книги, журналы. Даже в таком отдалении от центров очагов культуры, – он запнулся, запутавшись в словах, – в общем, даже здесь можно получать подписные издания. А кое-что, представьте, повезло добыть благодаря новой власти: в усадьбе владельца рыбокоптильного завода мебель, понятное дело, растащили и порубили, а библиотека досталась мне.
Пока он говорил, я рассматривал вынутую книгу – Яков Канторович, юридический поверенный, «Средневековые процессы о ведьмах». «Чудесные знамения. Правдивые описания событий необыкновенных», автор – я покрутил книгу – Финцелиус.
– У вас интересная библиотека.
Фельдшер достал другой томик, французского натуралиста, на корешке тусклым золотом год – 1874-й.
– «Летучая мышь есть символ безумия», – прикрыв глаза, процитировал, выделив строчку в книге пальцем. Его жена, возясь у буфета, отвернулась, протирая чистым полотенцем миску.
– Удивительно, как вы точны на цитаты.
– Да, не пожалуюсь. Но ведь тут что делать? Глушь, вот и читаю.
Я полистал страницы, нашел интересное: «важнейшая характеристика змеи – ее хтоническая природа».
– «Змея сочетает в себе мужское и женское, огненную и водную символику, – прочитал я вслух. – Длинные гибкие предметы соответствуют змее: нитка, бусы, волосы».
Придержал строчку пальцем.
– «Двенадцать пар скрытых ног змеи можно увидеть только в Юрьев день; человек, увидевший их, умрет», – процитировал, не заглядывая в книгу, Рогинский.
– Средневековая чушь, если позволите, – донеслось от стола с играющими.
– «Змей тесно связан с фаллической символикой», – я листал страницы дальше.
– «Галавища в маслище, сапажища в дегтище, а партки набиты змеей», – снова от стола, уже со смешком.
– Однако Ева искушена была змеем, Дмитрий Львович, – не согласился фельдшер с невидимым участником разговора.
Забавный чудак. Я взял с полки томик поэзии, яркий корешок.
– Позвольте-ка, – фельдшер ловко вынул книгу из моих пальцев, несколько нараспев продекламировал: – «Домового ли хоронят, ведьму замуж выдают»… Прямо строки о нашем ненастье. О, я убежден, что поэт страдал невропатией. То, что принято называть вдохновением, – просто повышенная возбудимость. Мне, как лицу, не чуждому медицины, интересны свойства человеческой психики.
Анна отвлекла мужа какой-то хозяйственной просьбой. Меж тем за столом под широким желтым абажуром шла игра. Я подумал было – в карты, но оказалось, в другое. «Гусек». Картонное игровое поле напомнило свернувшуюся змею. От игры я отказался, отговорился, что неазартен. Присел к столу, но наблюдал не за игрой, а за играющими. Компания тоже как всюду. Теснота места, общества и мысли вынуждает тех, кто имеет если не одинаковые интересы и вкусы, так хотя бы общие бытовые привычки, жаться друг к другу.
Рогинский представил нас. Почти все собравшиеся были мне уже знакомы заочно. Бывший управляющий рыбокоптильным заводом, конторщик и почтовый служащий. Последний, как нарочно, и видом, и даже именем – карикатура на сам этот тип. Астраданцев, он представился по имени – Саша, с ударением на последнее «а». Старательно прямо держит голову, опасаясь, что светлые локоны из прически капуль[28] завесят глаза.
Ему оппонирует в игре Дмитрий Львович Псеков, бывший управляющий заводом. Усы параллельны плечам. Когда наклоняется, протягивая руку в игре, мелькает проплешина; широкие ладони человека, хорошо знакомого с тяжелой физической работой. На первый взгляд лет скорее средних. Но, если всмотреться, видна сетка вен, склеры мутные. Пенсне на широком черном шнурке. Пожалуй, сильно старше.
Почувствовав мой взгляд, он поднял голову.
– Егор Алексеевич?
– Верно.
– Да-да, тезка эсера, убийцы министра, террориста[29], – усмехнулся Псеков. – Не надумали сыграть?
Некоторую симпатию вызвал конторщик – Нахиман Бродский. Брюнет, из тех, кому приходится бриться дважды в день, твердое рукопожатие. Сутулится, спортивный свитер.
– Присоединяйтесь, – предложил Бродский, передвигая фишку. – Правила так просты, что, считай, их и нет! Всего лишь пройти все клетки. Если, к примеру, наступили на клетку гуся, который вперед смотрит, то следующий ход – ваш. А вот если занесло в кабак, стало быть, пропускаете!
Под общий смех звякнуло стекло, выпили. Псеков под наливочку для аппетита подвинул миску с маслинами.
Перебирая фишки, я прикидывал, как подойти к нужному в разговоре.
– Представьте, меня сегодня отправили за провизией к мертвецу, – начал я.
– А, Петр-мертвец? – фельдшер крутил в руках кости, прикидывая бросок. – У них действительно хорошее молоко и сметана. Но, видите ли, имеет место некоторая афера. Петр заведует сепараторным пунктом по перегонке молока. Ему молоко сдают в порядке налога. Давайте, ваш ход!
– Этот его сон – летаргический энцефалит[30], сонная болезнь. Очевидно, организм был ослаблен, скажем, после «испанки». Стоило бы растолковать обывателям, – я обращался к фельдшеру.
Бродский хмыкнул, все переглянулись. Рогинский налил себе из графинчика.
– Уж лучше вы. – Сделал глоток и добавил с улыбкой: – Предложите товарищу Турщу свои соображения, он включит вас в программу с лекцией. – Улыбаясь, он собирал вилочкой маслины к краю тарелки.
– Наш комиссар, я имею в виду товарища Турща, не покладая рук борется с суевериями и метафизикой, – сказал Псеков.
Фразу про мертвеца я пустил наугад, но попал, заговорили о Турще. А там недалеко и до его отношений с Рудиной.
– Кстати, сам он что за человек, местный? – Я чувствовал азарт, разговор повернул в нужное мне русло.
– Сын гувернантки. Избалованный, злой мальчик, mauvais type. Воображает себя карбонарием, – вступил Астрадамцев, – В то же время пуп-то у него как у всех завязан. Обычный человек.
– Жаден, беспринципен, ловчила и развязный хам, вот что такое ваш Турщ, – добавил Псеков. Бродский, чуть качнув головой, сверлил его взглядом, но Псеков упрямо продолжил: – Нахватался лозунгов, как пес репейника, вот и вся его революция.
– Странно, он производит впечатление человека, который болеет за дело, и к тому же вы говорили, он принял близко к сердцу судьбу погибшей, выходит, не чужд сострадания, – произнося это, я смотрел на фельдшера, но ответил мне Астраданцев:
– Еще бы, метил ее себе в конкубины[31], – пробормотал он себе под нос.
– Бросьте, – поморщился Бродский. – Нехорошо. Девушка ведь умерла. К тому же гнусно повторять сплетни.
– Гражданин с портфелем и сам не чурается говорить за спиной, – возразил Псеков и повернулся ко мне. – Но мы в его дела не вмешиваемся, соблюдаем гигиену. Что вы задумались, ходите.
Пока в перерывах между партиями шел разговор общего рода, я ждал. Первым не выдержал Астраданцев:
– Так вы разобрались, от чего она умерла?
– Вполне. Если коротко – сердечный приступ. Выяснилось, что у нее были проблемы с сердцем. И кто-то ее испугал.
– Может, животное, кабан? Здесь водятся.
– И кабан завернул тело в саван? Если уж и вспомнить животное, то скорее мифическое – зме́я, – вставил Псеков. Я вспомнил бормотание Терпилихи.
– Дух-обольститель, который ходит к вдовам? Он вроде миролюбив, требует только плотских наслаждений, – возразил фельдшер.
Я поинтересовался, насколько в ходу здесь это суеверие.
– Бабьи сказки, но весьма популярны, – хмыкнул Бродский. Он курсировал между игральным столиком и буфетом с закусками. За окнами коротко застучал дождь. Анна встала, чтобы задвинуть шторы.
– Нельзя все же отрицать явления, которые наука не может объяснить, – подал реплику Рогинский.
– Как вам сказать, – протянул Псеков. – Народ тут суеверный, раздумчивый, охотно верит в волхование, чудеса, особенно рыбачьи станицы подвержены. А вот казаки, те менее. Люди служилые, военные, да и в степи мало мест, где воображение может запутаться.
– Не скажите, казаки домовому кашу ставят, это как, по-вашему? – кинул Бродский.
– Положим, ставят – еще рюмочку, не откажите, – главный морок, однако идет со стороны лиманов. Черти, русалки…
– А что вы скажете вот об этом? – я кинул на стол монетку-амулет с изображением змей. – Нашел при осмотре вещей. Тоже суеверие?
Монетка покатилась по столу между рюмок.
– Что это? Амулет? – Псеков прихлопнул ее ладонью.
– У нашей передовой общественницы, дамы нового типа? Вряд ли, – возразил Астраданцев, трогая ногтем неровные края зеленой меди. – Случайность или дал кто-то.
– Материя, в которую завернули тело, тоже случайность? – продолжил я. – Или это… – я поискал слово, – ритуал, обряд? Символический знак?
– Насколько мне известно, это был транспарант, – сказал Бродский. – Если и ритуал, то новый, совдэповский…
– Вы лучше краеведов расспросите, – перебил Псеков, потянувшись за фишками. – Они тут копают, может, знают и про обряды.
– Благодарю, воспользуюсь советом.
Игра продолжилась. Общее молчание нарушали лишь шум дождя, звяканье рюмок и стук фишек. Псеков, встав, отошел от стола, он и жена фельдшера Анна о чем-то негромко говорили в стороне.
– Слухи пошли после того, как Австрияк привез тело в церковь, привлек внимание, – неожиданно заговорил фельдшер, будто прочитав мои мысли. – Ворвался, тело нес на руках…
– После заговорили о начерченных краской знаках на теле. Да и мало того, якобы вокруг, на отмели тоже! Нонсенс. Будь они сто раз мистические, эти знаки. Песок кругом, сами видели. Какая уж там краска, – вставил Бродский и добавил: – Гадючий кут – место известное. Там бычок хорошо идет.
– Но он все же в стороне от дорог. И ходят там сейчас редко?
– Много змей в эту пору, – пробормотал фельдшер, отклоняясь от стола и окликая жену. – Так, о чем я? Значит, ворвался в церковь. Тело нес на руках. Выкрикивал.
– Из Апокалипсиса, – вставил Астраданцев.
– «И упала с неба красная звезда, имя той звезде Полынь, и стали воды красны», – дополнил фельдшер.
Круглый, низенький, нараспев декламируя, выглядел он комично.
– Понимаете? Понимаете, что их смущает? В тексте говорится о звезде, и именно красной. Опять же нагон воды, багрецовые водоросли.
– Бросьте! Водоросли цветут постоянно. Вспомните год при Марсовой звезде[32]. – Бродский раскладывал фишки.
Анна облокотилась о спинку стула, на котором сидел Бродский.











