Читать онлайн Отрок. Богам – божье, людям – людское
- Автор: Евгений Красницкий
- Жанр: Боевая фантастика, Героическая фантастика, Историческая фантастика, Попаданцы
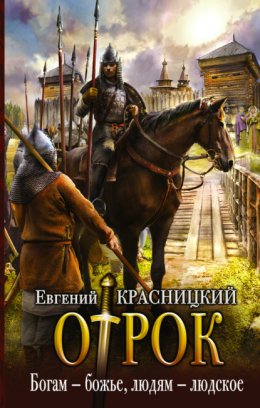
Выпуск произведения без разрешения издательства считается противоправным и преследуется по закону
© Евгений Красницкий, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017
От автора
Это последняя книга из серии «Отрок». Нет, я не собираюсь расставаться с Михаилом Андреевичем Ратниковым, оказавшимся в XII веке в теле подростка Мишки Лисовина, просто мальчик уже вырос, и повествование о его приключениях будет продолжено в серии книг под общим названием «Сотник».
Разумеется, в первые шесть книг вошло далеко не все, что написано мной за прошедшие два с лишним года. Часть «задела», возможно, будет использована мной позже, а два фрагмента размещены в конце этой книги, под общим заголовком «Люди, события, разговоры». В этих фрагментах содержится то, что важно для понимания причин дальнейших событий и для более глубокой прорисовки характеров некоторых персонажей.
Засим, любезный читатель, позвольте оставить Вас наедине с книгой «Богам – божье, людям – людское» в надежде, что она не покажется Вам более скучной, чем предыдущие.
Часть 1
Глава 1
– Едут!!! – Дударик ворвался в лазарет с таким лицом, будто сообщал о начавшемся в крепости пожаре. В другое время за подобное поведение он получил бы от Юльки… В общем, получил бы, да так, что на всю жизнь зарекся бы заходить без разрешения, но сейчас одно слово «едут» снимало с него любые грехи – в крепости уже несколько дней ждали возвращения первой полусотни Младшей стражи из похода.
Юлька, услышав Дударика, замерла возле постели Трифона, которого, под ее присмотром, перевязывала Слана – одна из новых помощниц. Из головы разом вылетели все мысли вместе с планами поведения при первой встрече с Мишкой.
Выручили зашевелившиеся и начавшие подниматься больные и раненые. Привычно цыкнув на пациентов и шуганув Дударика, который и так не собирался задерживаться в лазарете, лекарка, сдерживая себя, нарочито неторопливо ушла в свою каморку и только тут заметалась – вытащила зеркальце, забыла в него глянуть и принялась искать платок – Мишкин подарок – вовсе не там, где ему надлежало находиться.
Платок, впрочем, нашелся быстро – слишком мало вещей было в каморке. Юлька потыкалась туда-сюда, сама не зная зачем, почувствовала, как горят щеки, убедилась, глянув в зеркальце, что это ей не кажется, и, уже собравшись бежать в сени к кадке с холодной водой, приструнила сама себя, вспомнив уроки матери: лекарка в любых обстоятельствах должна уметь сохранять спокойствие, не показывая ни голосом, ни внешностью, какие чувства ее обуревают.
Немного посидела на постели, закрыв глаза и выравнивая дыхание, пробудила в кончиках пальцев ощущение жара и погнала волны успокаивающего и расслабляющего тепла вверх по рукам. Привычное упражнение с первого раза не получилось – шея не расслабилась, а, наоборот, напряглась, кровь забилась в жилах, еще больше прилила к лицу… Пришлось встряхивать ладонями и начинать все сначала. Со второго захода все вышло, как надо. Юлька неторопливо накинула на плечи переливающийся лазурью шелковый платок, поглядывая в зеркальце, тщательно оправила его, и, сделав несколько глубоких вдохов, неторопливо вышла из лазарета на улицу.
Помощницы – Слана и Полина – были уже тут как тут, нетерпеливо топтались на месте, собираясь бежать к воротам.
– А вы чего здесь? – осадила девиц Юлька. – К больным ступайте, там и без вас обойдутся!
– Так, может, еще раненые будут… – попыталась возразить Полька – мы бы сразу и…
– А без вас их от ворот сюда, значит, не довезут? Пошли! Все для перевязки приготовить и ждать!
Юлька, не оглядываясь на помощниц, двинулась к воротам, сзади чуть слышно донеслось:
– Платок-то нацепила…
– Это ей Михайла подарил…
Только пройдя несколько шагов, Юлька заметила шагавшую через крепостной двор Мишкину мать, которую сопровождал табунок девок во главе c Мишкиными сестрами – Анькой-младшей и Марией.
– Строга ты с помощницами, строга! – Анна-старшая поощрительно улыбнулась. – И правильно, нечего им у ворот делать! В поход отроков не провожали, возвращения их не дожидались, ночами за благополучие их не молились, подушки слезами не мочили… – Анна Павловна произносила слова ритмично, в такт шагам, и нарочито громко, чтобы слышали девицы, сбившиеся позади нее в маленькую толпу. – Радости встречи достойны только те, кто дожидался, а для остальных это просто зрелище… Мария, ну-ка, поторопи Плаву, что-то я ее не вижу.
Машка повернула было в сторону кухни, но почти тут же из дверей «пищеблока» выплыла Плава, держа в руке расписной ковш. Позади нее обозначился и Простыня в обнимку с объемистым бочонком.
В Ратном встреча возвращающихся из похода ратников была обставлена выработанным и утвердившимся за многие десятилетия ритуалом. Ратники неторопливо выворачивали из-за края леса, останавливались и, обнажив головы, крестились на колокольню ратнинской церкви. Стояли довольно долго, дожидаясь, пока подтянется обоз, и одновременно давая возможность встречающим собраться у въезда в село. Потом шагом ехали к воротам, чтобы встречающие успели выйти навстречу. У ворот спешивались, снова обнажали головы и вторили молитвам священника, выходившего вперед из толпы. Все при этом старались не обращать внимания на женщин, не обнаруживших в строю своих родных и торопливо пробирающихся в сторону обоза, везущего раненых и убитых, – радость встречи и благодарственная молитва не должны омрачаться ничем.
Потом будут слезы и причитания, потом сотник и десятники будут ходить по дворам, кланяясь вдовам и сиротам, прося прощения за то, что не сберегли мужей, отцов, братьев, сыновей… Потом все село соберется возле церкви на отпевание убитых, и так же все вместе пойдут на кладбище, чтобы предать павших земле. Потом староста привезет на подворья погибших вдовьи доли добычи и хозяйским глазом определит, какая помощь требуется семье, оставшейся без мужских рук.
Все это будет потом, а сначала – радость встречи и благодарность Всевышнему. Жизнь продолжается.
В крепости у отроков не было ни матерей, ни, тем более, жен; раненых обозники привезли раньше: легких сюда, тяжелых в Ратное к Настене, убитых – тоже в Ратное. Однако встретить молодых воинов из первого в их жизни боевого похода надлежало, как следует. Так, чтобы эта встреча запомнилась на всю жизнь и, возможно, стала бы основой нового, своего собственного, отличного от ратнинского, ритуала. Этим Анна Павловна озаботилась заранее, даже провела пару репетиций, правда Юльку на репетиции не звали, и она не знала, где ей вставать и что делать. Анна-старшая, как выяснилось, об этом прекрасно помнила. Подхватив Юльку под руку, она притянула лекарку к себе и негромко сказала:
– Держись рядом со мной. Как только Антон доклад окончит, если захочешь, первая к Михайле подойдешь, – ободряя, слегка напрягла пальцы, которыми держала Юльку за руку, и добавила: – А платок-то, Михайла тогда верно сказал, как раз под цвет глаз.
Слова, казалось бы, приятные, вызвали у Юльки досаду – десятка шагов от лазарета не отошла, а про платок уже дважды услышала, так и будут теперь трепать: для Мишки вырядилась! Хоть снимай да прячь!
– Правильно надела, – Анна снова улыбнулась, теперь уже понимающе. – Михайла его на тебе еще не видел, сразу заметит, порадуется!
Юлька снова ощутила жар на щеках, а губы сами собой начали расплываться в улыбку, но тут внимание Анны-старшей очень вовремя отвлек на себя дежурный урядник Антоний:
– Матушка боярыня! Как Михайлу-то величать теперь? Его же господин сотник… это самое… ну, старшиной-то у нас нынче Дмитрий…
Вести о штурме острога и лишении Мишки старшинства принесли первые раненые, доставленные обозниками в крепость, и для Юльки впервые, сколько она себя помнила, главным стали не забота о пациентах и не сожаление о погибших, а Мишкино несчастье. Именно несчастье, потому что, в понимании юной лекарки, Мишка не мыслил себя отдельно от Младшей стражи. Как же он теперь? За что старик Корзень с ним так обошелся?
Потом, когда привезли раненых из Отишия, все стало еще непонятнее: Мишка, вроде бы уже и не старшина, все равно командовал отроками и даже увел два десятка в самостоятельный поход. Юлька тогда не удержалась и попыталась получить разъяснения у боярыни Анны. Та тоже не скрывала беспокойства за сына, но ответила уверенно:
– Старый Лисовин мудр и знает, что делает. Раз лишил старшинства, значит, это для чего-то было надо!
Правда, уверенности ее хватило ненадолго – вести о ранении Алексея тоже были какими-то противоречивыми: то получалось, что ранен он чуть ли не смертельно, то ранение такое легкое, что старшего наставника Младшей стражи даже не стали перевозить через болото.
В конце концов, уже Юльке пришлось успокаивать Анну, напоминая, что раненым все всегда представляется в мрачном свете, гораздо хуже, чем было на самом деле, а самостоятельный поход опричников вовсе не опасен, иначе дед Мишку ни за что не отпустил бы. Разговор, что называется, сложился – юная лекарка ведовским чутьем уловила некую теплоту, возникающую между ней и Мишкиной матерью, но тут все испортила Анька-младшая, до того радовавшая собеседниц совершенно необычной для нее сдержанной молчаливостью:
– А если Миньку убьют…
Юльку будто пилой по сердцу полоснуло. То, что мысли Аньки-младшей почти целиком заняты туровскими женихами, изнывающими в ожидании ее приезда, было известно всем, то, что весь ум, положенный двум старшим Мишкиным сестрам, почти целиком достался одной Марии – тоже, но ляпнуть такое!
Начисто позабыв материн запрет пугать людей ведовством, не заметив уже занесенную для оплеухи руку Анны-старшей, Юлька вывернула «колдовским жестом» ладонь в сторону Аньки-младшей и прошипела таким тоном, что самой стало жутко:
– Если накаркала, женихи тебе уже без надобности!
Получилось настолько убедительно, что дура Анька, отшатнувшись, аж позеленела, а ее мать так и замерла с поднятой рукой, с трудом произнеся враз побелевшими губами:
– Что ж ты, девонька…
Умна была Анна Павловна, не отнимешь, и прихожанкой у отца Михаила числилась образцовой, но в ведовство и прочие колдовские дела верила безоговорочно.
Кончилось все тем, что в ту же ночь Юлька, впервые в жизни, самостоятельно выступила в роли жрицы Макоши, впервые возглавила проведение обряда. Все девицы, проходящие обучение на Базе Младшей стражи, украсив головы папоротниковыми венками с вплетенными в них Юлькой нужными травами, кружили на лесной поляне, мерцая в лунном свете обнаженными телами, и хором повторяли за юной ведуньей слова оберегающего воинов заговора. Юлька, сама себе удивляясь, по очереди вплетала в колдовской речитатив имя каждого отрока, ушедшего в поход, и девки взмахами еловых ветвей отгоняли от него беду. Удивлялась же юная ведунья тому, что, не зная родовых имен отроков, поминала их христианские прозванья, и это не вызывало у нее никакого внутреннего протеста или неудобства.
И еще одно, совершенно неожиданное впечатление подарила юной лекарке та ночь – понимание того, что ощущает воинский начальник, когда каждому его слову или жесту беспрекословно подчиняются десятки людей. Поняла, но не возгордилась, а содрогнулась. Вот так посылают на смерть и на убийство. Так послал поп «очистить огнем» то место, где жила семья матери…
Макошь смилостивилась – Минька возвращается, а Антон спрашивает, как величать старшину, переставшего быть старшиной… Дурак, какое это имеет значение? Главное – вернулся!
– Величать бояричем! – ответила Мишкина мать тоном, мгновенно изменившимся с ласково-покровительственного на командный. Сказала, как припечатала – Антон выпрямился в седле, будто перед сотником.
– Слушаюсь, матушка боярыня!
Развернул коня и погнал его вон из крепости, а Анна-старшая, вновь подобрев, мягко повлекла Юльку к воротам. Этот мгновенный переход – от ласковой покровительственности к командной строгости и обратно – выдернул из Юлькиной памяти недавние материны наставления: «Особенно же не доверяй, если наказанная тобой вдруг ласковой да улыбчивой к тебе станет. Змеиная та улыбка».
Сразу же позабылись и смущение, и привлекающий взгляды платок. Наказала ли она тогда боярыню Анну? Угроза дочери страхом ведовской мести… Потом Анна-старшая беспрекословно отпустила девок на ночную ворожбу, а сама так же беспрекословно осталась дома, поскольку в обряде нельзя участвовать рожавшим женщинам, но…
Юлька вспомнила тяжелые бедра Анны-старшей, «березку» по бокам живота – последствия многочисленных беременностей. Анна – мать, а мать не забудет и не простит угрозы для ее детей, и совершенно неважно, каковы эти дети: умны или глупы, здоровы или больны, малы или уже сами стали родителями. К тому же Анна умна, а это делает ее еще более опасным недругом. И она женщина – именно такая ЖЕНЩИНА, о которой толковала Настена во время недавних ночных посиделок с дочкой. Алексей, конечно же, видел ее такой – без одежды, но все равно глядит на вдову побратима так, будто никого краше на свете нет.
Юная лекарка вдруг показалась себе такой маленькой и беззащитной рядом с боярыней Анной – сильным, умным и смертельно опасным зверем. На мгновение показалось, что ладонь, мягко поддерживающая под руку, вот-вот, словно рысья лапа, выпустит спрятанные в мягких подушечках загнутые когти.
Анна-старшая, почувствовав, как поежилась подружка ее сына, снова слегка склонилась к ней и заговорила успокаивающим тоном:
– Не бойся ничего, все хорошо будет. Я тоже, когда своего первый раз из похода встречала, ног под собой не чуяла. И не думай о том, что все на тебя глядят – как только отроки появятся, каждая своего высматривать станет, о тебе и вообще обо всем позабудут.
Ни доверительный тон, ни ободряющие слова не подействовали. Скорее, достигли обратного результата – захотелось к маме, к такой мудрой, доброй, сильной, почти всемогущей жрице Пресветлой Макоши… Но мама далеко и ей нужна Юлькина помощь здесь, в крепости, потому что Минька… Минька! Он тоже иногда смотрит так, как Алексей на Анну! Он защитит, он… и еще Крестильник в нем! Да! Пусть увидит платок, поймет, что ждала, что нарочно берегла подарок для подходящего случая!
Вторую полусотню Младшей стражи недавно забрали из крепости, для того, чтобы они помогли гнать от болота трофейных коней и конвоировать полон, поэтому за крепостным рвом, напротив паромной переправы, выстроилось всего около трех десятков отроков. Все были в блестящих на солнце, начищенных доспехах, на ухоженных конях. Тут же высились в седлах наставники Прокоп и Тит, а Филимон и Макар, не способные из-за увечий ездить верхом, стояли в сторонке, у самого моста через ров. Перед строем гарцевал урядник Антоний, нетерпеливо оглядываясь на отчаливающий от противоположного берега Пивени паром.
– Ну вот, – удовлетворенно произнесла Анна-старшая, – как раз вовремя подоспели. Девки, не толпитесь, встаньте вдоль моста рядком, да не высовывайтесь, проезд не загораживайте! Простыня, вскрывай бочонок… да не здесь, вот тут поставь! Плава будет ковшом зачерпывать и мне подавать… да что вы, как в первый раз, дважды же пробовали! Маришка, подол отряхни, где уже угваздаться умудрилась? А ты волосы поправь… помогите ей, сама-то не видит! Так! Хватит вертеться, стоять смирно, косы наперед, через левое плечо!
Властный голос боярыни Анны оказал прямо-таки чудодейственное влияние: строевых команд вроде бы не прозвучало, но полтора десятка девиц после короткой суеты изобразили не менее четкое построение, чем «курсанты» воинской школы.
Пока Анна-старшая распоряжалась, Юлька бочком отошла от нее и пристроилась рядом с согнутым, опирающимся на клюку, наставником Филимоном.
– Как новая мазь, дядька Филимон, помогает?
– Спаси тя Христос, девонька! Как огнем прожигает, райское блаженство познал! – Наставник улыбнулся щербатым ртом и хитро подмигнул. – Кабы матушка твоя еще и такую же крепкую бражку делать умела, цены бы ей не было.
– Кому? Матушке или бражке?
Не улыбнуться в ответ инвалиду, сумевшему, несмотря на увечье, сохранить веселость нрава, было невозможно.
– А обеим! Так бы и лечился: мазью снаружи, бражкой изнутри! Таким бы молодцом стал, глядишь, и к тебе бы посватался… ежели б Михайла попустил. О! Гляди, приплыл сокол твой ясный.
Паром действительно ткнулся в берег, и первыми с него съехали Михайла и Алексей. Оба были без доспеха, оба сидели в седлах как-то неловко – неестественно прямо, а у Михайлы вдобавок еще и висела на перевязи левая рука.
– Э-э, зацепило, видать, твоего ненаглядного, что-то он… – начал было комментировать увиденное Филимон, но договорить ему не дали.
«Слушайте все!» – запел с самой высокой части недостроенной крепостной стены рожок Дударика.
– Равняйсь! Смирно! – что было мочи скомандовал Антон. – Равнение на средину!
И тут, ломая весь торжественный ритуал, откуда-то из-за штабеля досок выскочила Красава, тянущая за руку Савву. Малец не очень-то и спешил, видимо, не понимая, куда тащит его внучка волхвы, но потом разглядел отца и сам припустил быстрее Красавы. Подбежал к коню Алексея, вытянул вверх ручонки, и старший наставник Младшей стражи, нагнувшись с седла, подхватил сына и усадил его перед собой. При этом поморщился так, что сразу стало ясно: после ранения это далось ему очень нелегко.
Красава подскочила к коню Мишки, но глянув на всадника, поняла, что подхватить ее, так же как Алексей Савву, Михайла не сможет, даже если бы очень этого захотел. Ухватилась за стремя и прижалась к сапогу (выше не доставала) щекой.
Юлька дернулась, чтобы уйти – смотреть на то, как эта мелкая гадюка льнет к Михайле, было выше ее сил, но Анна Павловна удержала юную лекарку, прихватив за рукав цепкими пальцами.
– Погоди, девонька, не горячись, сейчас увидишь: как прибежала, так и убежит.
Боярыня оказалась права: Михайла что-то коротко сказал Красаве и, подавшись корпусом вперед, толкнул коленями Зверя, заставив его пойти легкой рысцой навстречу коню урядника Антона. Красаве хватило ума не тащиться за стременем, чтобы потом неуместно торчать у всех на виду во время доклада. Но и остаться на месте тоже не получилось: сначала Алексей махнул на нее рукой, будто отгоняя муху, потом и сама сообразила убраться из-под копыт коней, сходящих с парома. На некоторое время Красаву заслонили проезжающие отроки, а потом, когда паром опустел и его потащили назад к противоположному берегу, Юлька разглядела, как внучка волхвы, с пылающим лицом и закушенной губой, бежит прятаться за тот же штабель досок, из-за которого недавно выскочила.
– Так-то! – назидательно поведала Анна-старшая. – На чужой каравай рот не разевай!
– Вот-вот! – поддержал боярыню Филимон. – Столько времени возле воинской школы обретается, а порядка не поняла! Пока молодой сотник доклад о делах не принял да ковшик квасу с дороги не испил, он еще в походе, и нечего всяким свиристелкам…
– Как ты сказал? – перебила его Юлька. – Молодой сотник?
– А что? Гм… старый, что ли, по-твоему?
– Нет, не старый… а почему сотник-то?
– А как же? – Филимон солидно расправил усы и принялся объяснять. – В поход сходил? Сходил! Ворогов поверг, добычу взял, назад благополучно вернулся. И не сам по себе, а людьми повелевая! Значит, что? – наставник вопросительно глянул на собеседницу и сам же ответил на собственный вопрос: – Значит, воинский начальный человек! А сколь у этого начального человека народу под рукой ходит? Поболее дюжины десятков! Кто ж он, как не сотник? – Филимон утвердительно пристукнул клюкой и подвел итог: – Сотник, как есть сотник!
Приняв доклад дежурного урядника, Мишка скомандовал «Вольно» и направил Зверя к мосту через крепостной ров, при въезде на который стояла Анна-старшая с ковшом в руках. Юлька подняла на Миньку глаза и… ни жеста, ни кивка – он всего лишь улыбнулся, и сразу же все окружающее стало мелким и ненужным, ушло куда-то в сторону, вдаль… не важно, куда, осталась только эта улыбка и взгляд глаза в глаза, душа в душу. И длился этот взгляд долго, очень долго, вечность – целых пять или шесть конских шагов.
Первый шаг: «Вернулся…»
Второй шаг: «К тебе…»
Третий шаг: «Ждала?»
Четвертый шаг: «Тебя».
Пятый шаг: «Я вспоминал…»
Шестой шаг: «Я знаю…»
Зверь прошагал мимо, Минька не стал оборачиваться – Анна-старшая уже протягивала ему ковш.
– Здравствуй, сынок, испей кваску с дороги.
– Здравствуй, матушка, благодарствую.
Две женщины – одна впервые познавшая, а другая давно испившая полной мерой, что ожидание считается не в днях и часах, а в мыслях, страхах и надеждах. Две женщины, убежденные в своем праве первыми прильнуть к нему – долгожданному – и слезами, улыбками, словами, объятиями разбить и развеять не только воспоминания о времени разлуки, но и мысли о том, что расставаться придется вновь… Две женщины сдерживали себя, подчиняясь ритуалу и тому, что принято называть «приличиями». Приличиями, которые строгие блюстители нравов считают извечными, но которые век от века меняются, ловко притворяясь неизменными.
Лекарское естество Юльки наконец взяло верх над чувствами, и сквозь все еще стоявшую перед глазами Минькину улыбку проступили и болезненная бледность лица, и оберегаемая левая рука, висящая на перевязи, и неестественная прямота посадки в седле. А потом Минька прервал на половине наклон туловища и не дотянулся до ковша с квасом, так, что Анне-старшей пришлось поднимать его выше – на всю длину рук. Досталось Миньке в походе, ох, досталось…
Михайла спешился – неловко и осторожно, словно опасаясь разбить или сломать что-то хрупкое внутри себя, передал поводья Простыне и встал рядом с матерью, МЕЖДУ Юлькой и матерью, а на освободившееся место подъехал Алексей. Снова слова приветствия, плещущийся в ковше квас, ответные слова благодарности и… Ритуал все-таки сбился! Анна уже взялась за опорожненный ковш, а Алексей его из руки не выпустил, да Анна не очень-то его и вырывала.
Такой же долгий взгляд глаза в глаза, такой же безмолвный диалог, но у Алексея и Анны нашлось, что сказать друг другу – гораздо больше, чем у Михайлы и Юльки. У юной ведуньи аж дыхание перехватило – таким плотским призывом повеяло от Анны, и таким радостным нетерпением отозвался Алексей.
Сами собой вспомнились строчки какого-то мудреца-книжника, которые перевел Минька:
- Просто встретились два одиночества,
- Развели у дороги костер,
- А костру разгораться не хочется,
- Вот и весь, вот и весь разговор.
Только там все грустно было, а здесь как раз наоборот – костер все разгорается и разгорается. Но были там и правильные слова:
- Нас людская молва повенчала,
- Не поняв, ничего не поняв.
Вон как девки пялятся, некоторые даже рты приоткрыли, и отроки тоже. Плава уже и руки в бока уперла, чтобы прикрикнуть, да, видать, так и не решила, на кого – то ли на молодежь, чтоб глаза не вылупливали, то ли на взрослых, чтобы вспомнили, где находятся. Однако все же нашлись понимающие: позади, пробормотав что-то на тему «вот счастье-то… нежданно-негаданно», растроганно засопел Филимон, а Минька обернулся и их с Юлькой взгляды снова встретились.
«И у нас все будет…»
«Будет…»
Юлька спрятала глаза, потому что дальше Миньке знать было не надо. И мысли: «Мой, только мой, у нее Алексей есть, пусть не жадничает» – были в спрятанном отнюдь не главными.
Тихое волшебство незримой связи между Алексеем и Анной разрушил малохольный Савва, зачем-то потянувшись к пустому ковшу. Алексей с заметным сожалением, отпустил посудину и направил коня на мост, а Анна отдала ковш Плаве, тут же получила его назад наполненным и приветливой улыбкой встретила подъехавшего старшину Дмитрия.
Так дальше и пошло: каждого отрока Анна величала по имени, для каждого у нее находилось доброе слово и материнская улыбка, пока Роська, сидевший в седле уж и вовсе не пойми как, не учудил – спешился, бухнулся перед Анной на колени и, прежде чем принять ковш, перекрестился на нее, как на икону. Уж на что Минькина мать умела владеть собой, и то чуть не облила парня квасом.
– Встань! Воину только перед Господом Богом надлежит… – голос Анны был чуточку растерянным, – …на коленях. Встань, я сказала!
Роська послушно встал, но остальные отроки по его примеру стали принимать питье спешившись, предварительно осенив себя крестным знамением и глядя на боярыню Анну прямо-таки со щенячьим восторженным обожанием.
Юлька чуть не ахнула от удивления – оказывается, все-таки и Анну можно смутить! Ай да Роська! Кого в краску вогнал – боярыню, мать сотника. Минька – сотник, надо же! Ее Минька!
Юлька обернулась к наставнику Филимону и, вроде бы продолжая недавний разговор, спросила:
– Дядька Филимон, а если Михайла и вправду сотник, так и городок наш, наверно, надо Михайловым называть?
– А? – наставник с интересом глядел куда-то на мост, еще больше согнувшись, так, что опирался подбородком на клюку, заглядывая под брюхо проходящих мимо коней. – Михайловым, говоришь? А что? Правильно! А то придумали Базу какую-то… и слов-то таких не бывает. Ты гляди, что девки вытворяют, пользуются, что Аньке кони застят!
Юлька тоже пригнулась и увидела, что от полутора десятков учениц на мосту осталось меньше половины. Вот и сейчас одна из девиц шагнула от перил на середину моста и ухватила под уздцы коня, которого вел в поводу спешившийся отрок. Оба тут же о чем-то оживленно заговорили, да так и пошли дальше рядышком. Первой в девичьем строю стояла Анька-младшая – надутая и, по всему видно, злая на весь белый свет. Уйти вместе с Дмитрием, который был бы счастлив подобным оборотом дела, она не догадалась или побоялась и теперь со злобной завистью смотрела в спины проходящих в крепостные ворота парочек. Один из отроков сам протянул руку стоящей на мосту девице, Анька-младшая ухватила было ее за рукав, но та вырвалась, даже не обернувшись.
Отроков было еще много, а девиц на мосту осталось лишь четверо, и ясно было, хоть плачь, что к боярышням никто не подойдет – то ли не решаются, то ли… да кто их поймет? И ладно бы, как в Ратном, девиц было бы больше, чем парней, так нет – на полтора десятка девок почти полторы сотни отроков, а боярышням… прямо беда.
Рядом с Машкой вдруг объявился Дударик, притащивший небольшой кувшин, от которого так и пахнуло стоялым медом, и берестяной ковшик.
– Вот, нацедил, пока мамка не видит, только ковша нарядного не нашел…
– Ничего, спасибо тебе!
Машка подхватила кувшин и ковшик, ласково улыбнулась Дударику и отправилась мимо удивленно оглядывающихся на нее отроков к подходящему к берегу парому. Там она дождалась, пока на берег сойдут наставники Илья и Глеб и с поклоном поднесла им угощение. Весь ее вид так и говорил: «Не хотите и не надо, сама найду, кого приветить, а Анька дура, пусть одна на мосту торчит».
– Ань! – позвал Михайла. – Иди к нам, чего ты там одна…
Последние слова прозвучали уже в спину бегущей к воротам Аньки-младшей.
Юльке было подумалось, что надо бы посочувствовать Минькиной сестре – такое у всех на глазах! – но сочувствие где-то затерялось. Если уж все мысли только о туровских женихах, то здесь ждать некого и незачем, как, впрочем, и тебе никто особенно не рад. Хоть бы к брату подошла, спросила бы, что с рукой… Нет, вся в себе.
– Ну, здравствуй, Юленька.
Юная лекарка вскочила с лавочки, на которой дожидалась Миньку. Вместе со всеми к часовне она не пошла – была уверена, что после молебна он не пойдет, как все отроки, в баню и в трапезную, а в первую очередь явится проведать раненых. Присела и задумалась.
Лавочку эту поставил Минька и сидел на ней каждый день, подстерегая, когда Юлька выглянет из лазарета. Иногда перекидывались всего несколькими словами, иногда разговаривали подолгу, и никто старшину в это время не беспокоил – знали, что встретит неласково. Ждал каждый день, а она знала, что он ждет, но выходила не сразу, да и не всегда… А теперь вот сама на этой лавочке его дожидается.
Вздрогнула от неожиданности – не заметила, как он подошел, а почему так торопливо вскочила… и сама не поняла. Вскочила, шагнула было навстречу и замерла. Это был Минька и… не Минька – не прежний Минька. Всего-то меньше двух недель, как последний раз виделись, а… Повзрослел? Построжел?
Не только ведовским чутьем уловила перемены – и так было видно. Лицо стало каким-то твердым, между бровями над переносицей наметилась вертикальная складка, исчезла детская пухлогубость, резче стал раздвоенный ямочкой подбородок… и глаза. Такие же зеленые, как у матери, и так же, как у матери, выдающие какое-то тайное и очень нелегкое знание. Раньше Юлька этого вроде бы не замечала, а вот сейчас увидела у Миньки и поняла, что такое же всегда было у Анны-старшей. Может быть, и не всегда, а только после того, как невестка Корнея овдовела, но Юлька тогда была еще слишком мала…
Но не было же этого! Там, у крепостного моста, во время бессловесного разговора между ними. Не было этого взгляда! Почему же сейчас? Да потому, что там, у моста, он на миг – радостный миг – забыл о том, что не привел назад шестерых отроков, которых увел за собой в поход, а во время молитвы, конечно же, вспомнил. И будет теперь помнить всегда.
Научился ли он будить в отроках зверя, как умел это, по словам матери, Корней? Одни раненые рассказывали, что во время захвата Отишия он сам озверел – кинулся грудью на топоры и рогатины, но как-то сумел при этом выжить, а другие раненые поведали, что он, наоборот, успокаивал ребят – на них два десятка конных копейщиков перли, а он прохаживался перед строем, пошучивал…
– Здравствуй… Минь, что с рукой?
– Да так, зашиб немного. Как тут ребята мои?
– Все поправятся, тяжелых-то в Ратное увезли, к маме…
– Да, задали мы тебе работы, ты уж прости… Матвей вернулся, поможет. Вы с Настеной его хорошо выучили, да и он молодец – Бурей на него почти и не ругался, Илья говорит, это – похвала. Так что тебе теперь полегче будет – с помощником.
– А я и не одна, у меня уже две помощницы есть – Слана и Поля.
Вроде бы нормальный разговор, правильный, вежливый, доброжелательный… Но хотелось-то совсем другого – пусть опять без слов, одними глазами, пусть на расстоянии, мимолетно, но вернуть тот радостный миг, ту улыбку!
Юлька вдруг обнаружила, что обе ее ладошки лежат в Минькиной руке – сама не заметила, как так вышло. Торопливо, даже суматошно, отдернула их и уже ставшим привычным непререкаемым тоном скомандовала, будто одному из рядовых отроков:
– Ну-ка, хватит мне зубы заговаривать, пошли, погляжу, что у тебя там!
– Сначала ребят проведать…
– Ты мне не указывай, что сначала, что потом! В лазарете – я воевода! Сам приказал, чтобы…
Юлька осеклась, потому что в ответ на ее слова Минька сделался опять привычным Минькой – добрым, понимающе улыбающимся, словно дед, глядящий на непоседливую внучку. Ну и пусть это была не такая улыбка, как там, у крепостных ворот, зато ушло это тягостное ощущение нелегкого, непростого знания. Вот и пойми его: пока тихо да вежливо говорили – зимняя вода, а как ощетинилась – сразу подобрел.
– Ну, ладно, проведай сначала своих ребят… Пойдем.
Проведать получилось долго. Минька присаживался к каждому из раненых. Расспросив о самочувствии, заводил разговор об обстоятельствах ранения, обязательно доказывал, что это – урок не только для самого отрока, но и для всей Младшей стражи: теперь, мол, он и сам сможет поучить остальных, как уцелеть при повторении такого же случая. Строил разговор так, что по большей части говорили мальчишки, а Минька только внимательно смотрел на них и кивал, даже если те несли совершенную чушь. Можно было подумать, что не Юльку, а его Настена учила, как надо разговором занимать внимание больного и улучшать его настроение, не давая слишком уж углубляться в мысли о своем недуге.
Потом объявился Матвей, тоже разительно переменившийся за время похода. Только вместо затаенной боли и непонятного тайного знания, как у Миньки, у Матвея прорезалась уверенность и резкость, даже некоторая грубоватая властность, словно он впитал понемногу от поведения и Настены, и Бурея. Впрочем, неласковое отношение Матвея к женскому полу никуда не делось – для Юльки-то у него приветливая улыбка нашлась, а на Слану и Польку он глянул так, что те разом переменились в лице и подались к выходу.
Минька и тут нашелся. Удержал девиц, принялся расспрашивать о том, как и когда обнаружилась их способность к лекарству, потом про дом, про родню, пошутил насчет яркого румянца Сланы[1].
Юлька даже чуть не возревновала – таким он сделался вдруг приветливым да улыбчивым. Потом, правда, сама себя одернула, вспомнила материны рассказы о древнем обычае, оставшемся еще с тех времен, когда во главе родов стояли женщины. В соответствии с этим обычаем подобные расспросы были непременной вежливостью и знаком приязни к гостю или новичку. Помогали преодолеть первоначальную неловкость при знакомстве, поддержать разговор, не прерывая его томительными паузами, и позволяли собеседнику определенным образом заявить себя перед незнакомыми людьми.
Потом, как рассказывала Настена, этот обычай распространился на всех, а не только на женщин, но у мужчин не очень-то и прижился, вернее сказать, переродился. Такие расспросы стали в мужских устах свидетельством старшинства, правом хозяина, а ответный рассказ о себе – признанием равенства или знаком благожелательности. У женщин же все так с древних времен, и осталось… Только Минька не женщина, хотя говорил он как-то, что нет для человека темы разговора интереснее, чем о себе самом.
Девиц Минька успокоил, да и Матвей перестал смотреть волком, даже буркнул, что вот теперь пускай они Роське задницу и лечат – того, мол, по второму разу в то же самое место угораздило – чем опять вогнал обеих Юлькиных помощниц в краску.
Наконец Юлька утащила Миньку в свою каморку, заставила улечься, скинув предварительно рубаху, и только потом вспомнила, что раненых в торс перевязывают в сидячем положении. Заволновалась и, вместо того чтобы снова усадить его, принялась срезать повязки, как с лежачего.
Открывшееся зрелище на какое-то время и вовсе вымело из ее головы все лекарские навыки. Левая рука заплыла синяком от локтя почти до плеча, два синяка на груди – каждый больше ладони – почти сливались краями, а на животе запекся след от каленого железа.
Жалость стиснула горло, а потом еще и пришли мысли о том, что он еще как-то нашел в себе силы улыбаться, общаться с ранеными, успокаивать благожелательным разговором девок… Всяких синяков и ушибов Юлька за свою не такую уж долгую лекарскую практику насмотрелась достаточно, знала она и как выглядят следы от стрел, не пробивших доспех, но… не зря Настена объясняла дочке, как трудно бывает лечить родню или близких друзей. И надо было прощупать ребра – нет ли трещин, а руки не поднимались.
– Кости целы, Юль, – угадал причину ее колебаний Минька. – Меня уже Бурей мял, так что чуть не удавил.
– Это тебя так, когда ты Немого вытаскивал?
– Сам дурак, – в Минькином голосе слышалась искренняя досада, – сунулся под выстрелы без ума… и Андрею из-за моей глупости досталось, еще сильнее, чем мне. Слава богу, граненых наконечников у журавлевцев не было.
– А если бы… ой!
Юлька, окончательно позабыв о врачебных обязанностях, прижала ладонь к губам, не давая себе договорить.
– Не было и все! – твердо, даже зло, заявил Минька. – Ты мне чего-нибудь придумай такое… живот чешется, спасу нет. Мазь какую-нибудь…
– Мазь… да, сейчас…
– Юленька, да успокойся ты, – Минька взял ее за руку, и юной лекарке показалось, что он, каким-то непонятным образом, овладел секретом «лекарского голоса». – Ну, ничего же страшного! Не убит, не покалечен…
Юлька попыталась сглотнуть стоящий в горле комок, ничего не получилось, и тут у Миньки, похоже, лопнуло терпение:
– Ты лекарка или девка кухонная?! Чего нюни, как над убиенным, распустила?!
Будто нарочно подгадав, не дав Юльке отреагировать на Минькин окрик, из сеней раздался голос Матвея:
– Иди, страдалец жоподраный! Говорил же: «Лежи в телеге!», нет, в седло он полез! Перед девками покрасоваться захотел? Вот сейчас и предстанешь во всей красе, сразу перед двумя. Эй, помощницы! Принимайте богатыря, в тайное место уязвленного!
Неизвестно, что более отрезвляюще подействовало на Юльку, Минькина строгость или матвеевская ругань, но «крапивный» язык юной лекарки заработал сам собой:
– Ты мне не указывай! Надо будет, так на грудь паду и слезами омою, а надо – веником по морде отхожу! Мало мне настоящих раненых, так еще и ты по дури подставился…
– Вот и молодец, вот и правильно! – неожиданно расплылся в улыбке Минька. – Так меня, дуролома!
– Вот и лежи! Сейчас лечить тебя будем! – распорядилась Юлька и вышла в сени с неприступным видом, начисто позабыв, что помощниц можно позвать и голосом.
В «общей палате» творился сущий спектакль. Несчастный Роська лежал на животе со спущенными штанами, двое легко раненых держали его, видимо, чтоб не сбежал, а Матвей громогласно вещал, измываясь непонятно над кем – то ли над Роськой, то ли над Сланой и Полькой:
– Чего жметесь, как телки на первой дойке? Задниц, что ли, не видали? Правильно: таких не видали, и никто не видал! Такой задницей один урядник Василий в целом свете обладает! И не бережет – не ценит свое сокровище! Надо будет мастера Кузьму попросить, чтобы он для сей части тела особый доспех измыслил, так что вы, девки, не только лечите, а еще и мерку снимите, дабы доспех тот к телесам удобно прилегал и вид имел хоть и благообразный, но грозный – на страх врагам и на радость нам. И только вы двое будете знать, что именно под этим доспехом укрыто, а посему рассказам вашим все будут внимать с почтением и восхищением…
Раненые дружно ржали, хватаясь за поврежденные части организмов, девки рдели, соревнуясь яркостью румянца с пламенеющими Роськиными ушами и воспаленными ягодицами, а Матвей, между делом, пробовал на ногте остроту ножа, словно собирался единым махом ампутировать уряднику Василию сразу все больные места.
– А ну, заткнись! – цыкнула Юлька на Матвея. – Ты чему хорошему у Бурея обучился или только сквернословить? Роська, ты что, с ума сошел? Один раз тебя из горячки еле-еле вытащили, так ты на второй раз нацелился? А вы чего ржете, жеребцы стоялые? Чужой беде и глупости радуетесь?
Лекарка, неожиданно сама для себя, шагнула к Матвею и отвесила ему звонкую оплеуху. Смех в палате мгновенно утих.
– Ты лекарь или скоморох? Не хотел Роська в телеге лежать, привязать обязан был! Самому не справиться, Бурей помог бы или любой ратник! Как тебя теперь в поход отпускать, если ты из беды веселье устраиваешь? Так и скажу сотнику: «Не годен! Молод, глуп!»
– Ну, чего ты, Юль… – враз изменившимся голосом протянул Матвей, – ты сама глянь: ни одна царапина не загноилась, заживать уже начало, если б этот дурень…
– Ты лекарь! Думать должен и за себя, и за раненого! Его дурь для тебя не оправдание! Все, хватит болтать! Матюха, занимаешься Роськой, Полька, бегом за горячей водой для припарок, Слана, вон ту плошку с мазью подай и травы для припарок от ушибов подбери. Помнишь, какие надо?
– Помню…
– Шевелитесь, шевелитесь! А вы – все по местам! – Юлька грозно оглядела пациентов. – Кто дурака валять станет, лечиться к Бурею отошлю! Он вас быстро обучит правильно болеть!
Устроив разгон подчиненным и пациентам, лекарка почувствовала уверенность, что в присутствии Миньки больше слабины не даст и решительным шагом направилась к себе в каморку. Однако не тут-то было – на постели, рядом с Минькой, сидела боярыня Анна (и когда успела зайти?), гладила сына по волосам и что-то ласково приговаривала тихим голосом, в котором чувствовались подступающие слезы.
Прежде чем Минькина мать, услышав шаги, обернулась, Юлька успела разобрать:
– Что ж ты так неосторожно, сынок?
– Случайно вышло, мама…
Обернувшись к вошедшей лекарке, боярыня Анна мгновенно изменившимся тоном предложила:
– А что, Юленька, давай-ка попеняем Мишане за то, что так глупо себя поранить дал!
– Да я же говорю: случайно… – начал было Минька.
– Мне-то хоть не ври! – прервала его мать, вставая на ноги. – Я все ж жена десятника и невестка сотника! – Анна-старшая снова оглянулась на Юльку, словно требуя подтверждения своим словам. – СЛУЧАЙНО ты живым остался, а три стрелы на себя принял так, как и должно, когда дурь ум застит! Верно, Юля?
Мгновенное преображение Минькиной матери так подействовало на лекарку, что та лишь растерянно кивнула в ответ.
– Я всех раненых отроков подробно расспросила, – продолжила Анна, – и вижу: раны твои – не беда, а вина твоя, и ты в той вине продолжаешь упорствовать! За время похода ты, Мишаня, себя дважды терял! Первый раз, когда Корней тебя от старшинства отрешил, но тогда ты справился, все верно сделал, молодец! А второй раз, когда ты себя зрелым воином вообразил и пожелал, чтобы все остальные в это уверовали.
– Да ничего я не воображал…
– Молчи, не спорь! Атаку копейщиков отбил, пешцев разметал и полонил, заклад у ратников выиграл, вот в тебе ретивое и взыграло. Испугался, что тебя опять в достоинство малолетки-несмышленыша возвратят. Ну-ка, вспоминай: такое ведь с тобой уже случалось. Помнишь, на пасеке, во время морового поветрия, тебя с взрослыми мужами за стол усадили? А ты испугался, что в Ратном тебя опять на женскую половину дома вернут. Вспомнил?
– Откуда ты знаешь? Это же Нинея придумала…
– А я не дурнее Нинеи! И придумывать тут ничего не надо – по тебе и так все видно! – Анна снова обернулась к Юльке. – Слыхала? Такие они все загадочные и мудрые, а мы, дуры, ничего не видим и не понимаем! Только на то и годны, чтобы детей им рожать да портки их от дерьма и кровищи отстирывать!
Юльку настолько покоробили слова и поведение Анны, что она даже открыла рот для возражений, хотя еще и сама не знала, что скажет. Чувство того, что никто не смеет разговаривать так с ее Минькой, кроме нее самой, еще не сформировалось в слова. Открыла рот… да так и осталась, потому что глянула случайно на Миньку. А тот смотрел на мать так же, как частенько глядел на Юльку – понимающе и снисходительно: повидавший жизнь старик, глядящий на разгорячившуюся по пустяку молодуху.
– Все-то вы, женщины, о нас, грешных, знаете, – не Минькин это был голос, не Минькин, Юлька готова была поклясться, – кроме одного: почему мы одних любим, а на других женимся.
– Фрол… – едва слышным, несмотря на повисшую тишину, голосом, вымолвила вдруг помертвевшими губами Анна.
– Крестильник… – прошептала, чувствуя, как слабеют в коленках ноги, Юлька.
Алексей и Настена сидели лицом друг к другу в избушке лекарки, развернувшись бочком на лавке, на которой Алексей еще недавно лежал, пока Настена осматривала его рану. Правая ладонь старшего наставника Младшей стражи лежала в левой руке ведуньи, и он неторопливо, с явной благожелательностью, разговаривал с ней, беспорядочно перепрыгивая с темы на тему.
Постороннему зрителю показалось бы, что беседуют то ли брат с сестрой, то ли очень близкие друзья, оба получая от разговора удовольствие и не замечая бегущего времени. Более внимательный зритель, пожалуй, смог бы уловить одну странность – голоса. Создавалось впечатление, что говорит один и тот же человек, но попеременно то мужским, то женским голосом – настолько совпадали интонации, темп речи, частота дыхания. И еще одну странность мог бы заметить сторонний наблюдатель – очень уж откровенен был Алексей, буквально раскрывал перед Настеной душу.
Но никаких посторонних зрителей в избушке не имелось, и тихо сидящей в уголке Юльки тоже как бы не было. Без малого три года назад, когда Настена решила, что уже можно позволить дочке присутствовать при приеме больных, она научила Юльку «уходить, не уходя». Пациент слышал, как Настена велит дочке выйти, видел, как та идет к двери, слышал, как дверь хлопает, а вот то, что маленькая лекарка никуда не ушла и бесшумно прошмыгнула в специально устроенный уголок, не замечал – Настена ловко отвлекала его внимание. Из своего укрытия Юлька даже могла высунуться и посмотреть, что мать делает с больным. Надо только было очень внимательно слушать, что та говорит, и, когда в разговоре прозвучит намеренно вплетенное в речь, заранее оговоренное слово, тут же спрятаться.
Вот и сейчас Алексей даже не подозревал о Юлькином присутствии, а юная лекарка все видела, слышала и прекрасно понимала, что мать не просто разговаривает с приятным ей собеседником, а тонко и уверенно работает, переводя разговор с одной темы, важной для Алексея, на другую, не менее важную и волнующую, пусть даже сам собеседник эту важность не всегда сознает. Нет, это был не «лекарский голос» – успокаивающий, расслабляющий, завораживающий – это были воплощенные в женском облике доброжелательность, отзывчивость и понимание, тонко улавливающие чувства собеседника и ненавязчиво вызывающие на себя словесное выражение этих чувств. Полная и решительная противоположность Нинеиному «рассказывай!».
Так работать Юлька еще не умела, хотя уже хорошо понимала разницу между образом действий Нинеи и Настены. Нинея могла добиться ответа практически на любой вопрос, но этот вопрос еще надо было догадаться задать, а Настена узнавала все, что даже подспудно, даже неосознанно волнует, беспокоит или радует собеседника, но не замечала того, к чему он совершенно равнодушен. Только полные дураки думают, что ведуньи могут творить с человеком все, что захотят. Не так это, далеко не так!
Юлька сидела в уголочке, слушала разговор матери и Алексея и терзалась самыми дурными предчувствиями. А ведь так, казалось бы, все хорошо было придумано!
Когда Минька попросил ее найти повод отвести Алексея к Настене, чтобы та сняла напущенную Нинеей порчу, Юлька так обрадовалась, что не смогла скрыть свои чувства. Минька, вернувшийся из Ратного мрачнее тучи – ездил туда кланяться матерям убитых отроков – досадливо поморщился и принялся по второму разу объяснять ей причины своей просьбы. Мол, Алексей вместе с Анисимом были у Нинеи накануне похода за болото, и волхва зачем-то наворожила такого, что будущий Минькин отчим начисто позабыл о своей сдержанности и здравомыслии – нарушил приказ сотника, ввязался по-дурному в поединок и вообще вел себя непривычно и непонятно.
Все складывалось просто удивительно удачно! В день возвращения Младшей стражи из похода, когда Минька крепко ошеломил мать невольным напоминанием о покойном муже, Анна, покинув лазарет, отправилась вовсе не к Алексею, а в часовню. Пробыла она там чуть ли не до темноты, и как там потом сложилось у нее с Алексеем, одной Макоши ведомо. Во всяком случае, Юлька была уверена, что обещанного взглядом у крепостного моста Алексей не получил – не тот у Анны был, по выходе из часовни, настрой. И в следующие пару дней Анна не выглядела очень уж счастливой и довольной.
А потом старший наставник Младшей стражи попал в Юлькины руки. Был ли он разочарован поведением Анны, Юлька определить не смогла – не тот человек был Рудный Воевода, чтобы девчонка, хоть и ведунья, читала в его душе, как в открытой книге, но ей очень хотелось думать, что разочарование все-таки имелось. А уж нажать на нужное место, так, чтобы Алексей охнул от неожиданной острой боли, и, сделав озабоченное лицо, настоять на том, что надо показаться Настене, для Юльки особого труда не составило.
Все было, как по заказу: с Анной у Алексея не заладилось… вроде бы к Настене он послушно отправился, а там… Юлька была непоколебимо уверена: если Алексей Настене глянулся, то никуда он от нее не денется!
Первый тревожный сигнал прозвучал для Юльки сразу же, как только Настена, осмотрев рану Алексея и успокоив его – мол, ничего страшного, ошиблась дочка, усадила старшего наставника Младшей стражи напротив себя и завела неторопливый разговор, незаметно подстраиваясь под состояние и настроение собеседника. Мать не стала выгонять дочку из избушки, а значит, не собиралась делать с Алексеем ничего ТАКОГО. Почему? Он же ей понравился, да и не просто понравился…
Потом, когда Алексея затянула зеркальная поза ведуньи, ее тонкая настройка на ритм и тональность общего для обоих ощущения и бытия, когда он впервые повторил легкую полуулыбку Настены, поворот ее головы, заговорил легко, с желанием поделиться своими заботами и беспокойствами, Юлька было воспрянула духом. Мало ли, а вдруг мать решила поучить ее еще одной грани ведовского искусства? Однако мать, поставив Алексея в положение ведомого, тут же «отпустила» его, позволив самому выбирать, о чем говорить, и не сделала ни малейшей попытки увести собеседника туда, куда, по мнению Юльки, его и требовалось увести – в тайное и радостное восхищение Настеной, неосознанное, но непререкаемое счастье служить, радовать и ублажать…
Ну а потом все и вообще пошло как-то наперекосяк. Перво-наперво выяснилось, что Минька ошибся – Нинея Алексея не завораживала, а причиной его неразумной горячности стал… Корней! Вот уж за кем ведовства никогда не замечалось! Однако же сумел, старый, так попрекнуть будущего зятя холодностью и рассудочностью, что того, что называется, понесло! Ну, и доигрался! Но сам Алексей ни о чем не жалел, наоборот, испытал облегчение от распада внутренних оков, в которые сам же себя и заковал! Дальше же в разговоре вылезли такие вещи, которые Юлька и вовсе не могла ни понять, ни принять.
Казалось бы, Алексея, в первую очередь, должно было волновать душевное здоровье сына, но нет! На первом месте оказалось самоощущение бывшего Рудного Воеводы в Ратном и среди ратнинцев. Понятно, конечно, что, заняв достойное место в новой семье, он мог наилучшим образом позаботиться о Савве, но…
Мужи воинские! Да как же у них ум повернут? Убить из уважения! Достойно проводить старого воина ударом меча! Как это понять? Холодным разумом высчитать, что четыре мальчишеских жизни – достойный размен на тридцать с лишним зрелых мужей, убитых на Заболотном хуторе, и остаться спокойным, глядя на бездыханные тела! Как такое простить? Полюбить, да, полюбить Миньку – Алексей искренне хотел бы иметь такого сына – и не сказать ни слова против того, чтобы он ушел с малым отрядом в поход по вражеским землям! Как в такое поверить?
А Настена, все так же чуть заметно улыбаясь, неизменно соглашалась, что, мол, да – надо было щенкам первую кровь дать попробовать, и свою и чужую; да – надо было Михайле и самому понять и другим показать, на что способна его Младшая стража; да – даже и грубость его в отношении старшего простительна, более того, если б не было этой грубости и попытки взять в свои руки полную власть, это означало бы, что он еще не готов принять на себя ответственность за сотню отроков. Настена соглашалась, поддерживала и все тянула и тянула из Алексея, мягко, чуть заметно, что-то еще, о чем Юльке даже страшно было задумываться.
И не зря было страшно. Оказывается, ратнинцев и отроков Младшей стражи ждет новый поход – далеко и надолго, а Алексей, хоть и говорит об этом с сожалением, твердо уверен, что вернется назад, в лучшем случае, половина отроков. Сожаление же Алексея больше относится к тому, что осталось мало времени на учебу, а не к возможной гибели мальчишек. Раз осталось мало времени на учебу, значит, поход скоро…
И снова со стороны Настены ни одного вопроса: когда, куда, зачем, с кем ратиться? Только легкая улыбка, только ненавязчивое согласие: да – недоучены мальчишки, да – у тех, кто ходил за болото, надежды выжить больше.
Но вот Алексей вроде бы покончил с воинскими заботами и вспомнил наконец о Савве, но и то через свои отношения с Анной-старшей. Ушибленный судьбой малец прислонился душой к вдове побратима, ластится, как к родной матери, а та ему и вправду мать заменила. И где тут давнее чувство к Анне, когда сам Алексей хотел к ней посвататься, да опоздал, а где новое, обещающее дом, покой, любовь, он и сам не знал, все перемешалось. Юлька даже чуть было не растрогалась, таким теплом и лаской вдруг повеяло от Алексея, когда тот заговорил о Минькиной матери. И куда подевался безжалостный и расчетливый воин? Как это все может уживаться в одном человеке?
А разговор все струился и струился – неторопливо, казалось бы, свободно, но только мать и дочь видели берега, за которые он никак не может выплеснуться…
И тут на юную лекарку словно упал откуда-то сверху тяжеленный сундук: у Миньки есть нареченная невеста! Дочь погостного боярина Федора, обрученная с Михаилом еще в колыбели. Правда, Анна не желает этого брака, но… Но!!! Ее – Юльку – Минькина мать использует только для того, чтобы отвратить сына от мыслей о нареченной невесте Катерине! Да еще холопку – молодую бабу, которую муж вернул родителям из-за бесплодия, хочет Миньке в услужение приставить, чтобы адамов грех познал…
Юлька сжалась в своем уголке. Зрение вдруг утратило четкость, а рука снова почувствовала хватку пальцев боярыни Анны, которые в любой миг готовы выпустить спрятанные когти… Да нет, не готовы, а уже выпустили, только впились эти когти прямо в сердце! Юлька ощутила себя маленьким зверьком, которым играет, перед тем как убить, рысь – то ли сытая, то ли собирающаяся отдать добычу котятам.
Нет! Уже отдала – своему детенышу Миньке! Тело застыло, а мысль забилась, как птица в тенетах, тут же найдя привычный и спасительный выход: «Мама! Она сильная, мудрая… она поможет… она знает…» И как озарение пришла мысль:
«Материной помощи недостаточно! Минькой играют так же, как и мной, добиваются чего-то непонятного. Моим Минькой играют! Не со зла, а просто рассудив, что так будет лучше, но даже не задумываясь над тем, что у него могут быть свои собственные желания и стремления… Значит, вдвоем! Он и я! Минька меня не бросит, он сильный, умный, а я ему помогу… Помогу, даже если против всех пойти придется!»
А разговор между Настеной и Алексеем неспешно тек дальше…
«О чем они там? О чем-то другом уже… да как можно сейчас о чем-то другом говорить?!! Опять о Савве…»
Как бы не отвлекали Алексея другие заботы, какими бы важными они ему не представлялись, мысль его почти от любой темы все равно возвращалась к сыну. Алексей не таил обиды на Настену за то, что не взялась лечить сына – понял, что мальца надо не лечить, а выхаживать, долго и терпеливо.
Журчат голоса, все шире и шире раскрывается душа Алексея, и уже становится ясно, что не пожалеет он впоследствии о своей откровенности, будет вспоминать этот разговор не с досадой, а с теплом и благодарностью, и еще не раз наведается этот безжалостный воин с обожженной душой в избушку лекарки в поисках понимания и сочувствия – совместного чувствования. Будет приходить как близкий друг… Друг, а ведь Юлька-то хотела помочь матери совсем в другом! Друг, но любит и собирается жениться на Анне – страшном звере с когтями, спрятанными в мягких подушечках! Друг, но будет крутить Минькой так, как велит ему Анна!
А еще Демьян… А причем тут Демьян? Разговор-то дальше ушел! Перестаралась тогда Юлька на дороге из Княжьего погоста с «лекарским голосом», приворожила к себе мальчишек, а они чуть с ножами друг на друга не поперли. Но Настена дело поправила – сумела перенести мальчишеское обожание на Анну… Знала бы, на кого переносит! Да знала же, конечно, ей ли не знать!
А вот Демьяна упустила – лечили его тогда Юлька с Минькой вместе, к ним и прикипела Демкина душа. К обоим! Вот откуда родилась его мрачная язвительность – рвется он между юной лекаркой и двоюродным братом, чувствует себя третьим лишним, а родной брат Кузька забыл про все и про всех, в своих мастерских блаженствует, а между родителями разлад, и остался Демка один, всеми брошенный! Мечется парень – Корнею сказал, что невместно ему старшинства под братом искать, а потом, среди Михайловых ближников совсем другое говорил: мол, не по плечу тягота, не справится. На самом же деле, он в старшинском достоинстве, из-под Михайлы выдернутом, Юльке на глаза показаться побоялся!
Подловил Алексей Демку растроганным после того, как Минька обнимал и благодарил его перед строем отроков, подловил и разговорил, выведав у мальчишки сокровенное. А про то, что случилось во время возвращения из Турова, наверно, у Миньки узнал или у Корнея. Понял, в чем дело, догадался… Надо же, он, оказывается, и это умеет… Рудный Воевода, кто бы подумать мог… Хотя сам же нечто подобное пережил, когда его побратим Фрол женился на Анне.
Никола с Дмитрием тоже пропадают – влюбились наповал в Аньку-младшую, а той все хиханьки да хаханьки. Хорошо хоть друг на друга не кидаются! Вовремя Минька Николу окоротил, да отец Михаил епитимью наложил, за неподобающие мысли. Дмитрий-то и сам себя сдерживать умеет – не по годам самообладание, прирожденный воин. И вообще, одна головная боль – полтора десятка девок на сотню отроков, долго ли до беды? Пока Анна девок в ежовых рукавицах держать умудряется да Алексей отроков учебой так уматывает, что к вечеру еле ноги таскают, но сколько ж можно?
И снова удивил Алексей – то над отроками убитыми у него сердце не дрогнуло, а то так в их душевные терзания входит, словно родные. Видать, и Настену это заинтересовало – осторожно подвела Алексея к мысли о дальнейшей судьбе мальчишек, и тут-то все и раскрылось! Рудный Воевода никуда не делся – тут как тут! Душа у него болит только за тех, у кого выжить и повзрослеть надежда есть, а те, кто медленно учится или ленится… сгинут и не жалко. Времени на обучение им не хватило – что ж поделаешь, судьба! Кто через кровь и смерть пройти сподобится, тому и жить! Радоваться, девок огуливать, дальше учиться.
Снова все вернулось к войне. Понятно – для Алексея это сейчас главная забота. Да – безжалостно, да – несправедливо, но Алексей уже разделил отроков на две неравные части: к одним обернулся чувством и сердцем – сделает все возможное, чтобы вернулись назад живыми, а на других смотрит холодным рассудком – их жизни разменяет на спасение тех, кого считает своим долгом сохранить.
И опять понимание и одобрение Настены – всех не убережешь, но большинство из первой полусотни уцелеет… если не жалеть остальных. Нет, не гнать на убой, а просто не тревожиться и не оберегать, так же, как предоставил Алексей своей судьбе десяток Первака на Заболотном хуторе…
Опять струится и журчит разговор: о Корнее – как-то ему придется складывать вместе силу ратников и силу отроков, ведь никому из сотников такого делать еще не доводилось; о Михайле: не примет он приговора, вынесенного Алексеем половине отроков, как бы не сломался, ведь на свою совесть все возьмет; об Анне: не хочет женить сына на Катерине, ее дело, но Алексей не мальчик, пожил достаточно и знает, что в поединке за сердце юноши матери чаще всего проигрывают девицам.
Кажется, и не изменилось ничего – так же неторопливо и благожелательно течет беседа, да только даже Юлька не заметила, когда поворачивать русло разговора в нужном ей направлении стала Настена, а соглашающимся и одобряющим сделался Алексей. Да, права Настена: хоть и не поженились еще, но не дети же – всем все понятно, и муж всему голова, значит, должен и может, когда надо, и на своем поставить.
Верно-верно: не та Юлька девчонка, которой крутить можно, как бы боком не вышло, да и о самой Настене забывать не следует, поостеречь надо Анну. И уж совсем правильно то, что в поход Михайле надо уходить с бестрепетным сердцем да спокойной душой, а потому незачем вокруг него бабью колготню устраивать, холопок ему подкладывать и… прочее всякое такое.
Кивает Алексей, соглашается, смотрит по-доброму, с легкой улыбкой, но понятно: сумеет глянуть на Анну строго и объяснить, что не всевластна она в судьбах людских, что не богиня она и не святая, хоть отроки ее таковой и почитают.
И Юльку, замершую в уголке, отпускает напряжение – мама мудрая, мама все может, а тетка Анна… ну почему зверь? Просто возгордилась баба от всеобщего обожания отроков, возомнила о себе… Мама рассказывала, что лесть и гордыня с людьми делают – еще и не такое творят…
А Настена с Алексеем уж и вовсе спелись: нужна Демьяну девка, чтобы про горести свои забыл да одиноким-брошенным себя не чувствовал. Придется подыскать, сама не найдется – не смотрит Демка ни на кого, а девки сторонятся, больно уж мрачен и злоязычен. Да и вообще девок добавить в крепость не мешало бы – пошел разговор, вроде бы по второму кругу. Но нет, свернул опять на Михайлу – обмолвился он будто бы, что мало ратнинцев в воинской школе – все больше куньевские да Нинеины отроки. Только где их взять, ратнинских-то? Вроде бы Михайла что-то измыслил, но что именно, не сказал. Может быть, Юлия расспросит? Но это не к спеху, все долгие дела откладываются на конец осени и зиму – на после похода…
После ухода старшего наставника Младшей стражи Юлька так и осталась сидеть в уголке. То, что мать не воспользовалась случаем приворожить к себе Алексея, внушало самые мрачные предчувствия – неразумную инициативу Настена пресекала в корне, на руку была скора, а оправдания типа «хотела, как лучше» в расчет не принимала. Надеясь как-то отвлечь внимание матери, Юлька затараторила:
– Мам, что опять война? Ребят всех в поход возьмут? А когда?
– А ну-ка, поди сюда, сводня! – «многообещающе» позвала Настена. – Поди-поди, чего в углу засела?
– Ну, мам! Минька же сам попросил Алексея тебе показать, и все на твое решение осталось! – вывалила заранее припасенные аргументы Юлька. – Не захотела так не захотела.
– Поди сюда, я сказала!
Настена дождалась, пока дочка нога за ногу протащилась от темного угла до стола, оглядела втянувшую голову в плечи девчонку и неожиданно приказала:
– Сядь! – выдержала томительную паузу и передразнила. – Не захотела, не захотела… Не смогла!
– Ты? Не смогла? – Юлька от изумления даже позабыла о страхе наказания.
– И ты не сможешь… скорее всего.
– Я?
– Ты! Рано или поздно придется выбирать: или Михайла, или ведовство. Вместе не получится!
– Так я же думала, что ты его, как Лукашика… – продолжила было оправдываться Юлька, потом осеклась, осмыслив сказанное матерью, и впервые в жизни с настоящей злостью процедила Настене в лицо: – Лучше б побила!
– А я и бью! – ничуть не смутилась Настена. – Полезла во взрослые дела, так и получай по-взрослому, а подзатыльником отделаться и не мечтай! Все, кончилось детство! Пришла тебе пора, во славу Пресветлой Макоши, с самой Мореной потягаться!
– Мам…
– Молчи! Выбор останется за тобой, ни торопить, ни подталкивать, как меня бабка подталкивала, не стану, все в твоей воле. Но Михайла будет для тебя платой за ведовскую власть! Или одно, или другое. И не смотри на меня так!!! Сама все знаешь, не впервой об этом речь!
– Мам…
– Не перебивай! Даже если выберешь потом не Михайлу… Молчать!!! Я сказала «если»! Ты про войну спрашивала? Так вот: война будет, и кровушки прольется столько, что Алексей, сама слышала, даже половину отроков назад привести не рассчитывает. А ему в таких делах верить можно… Хотя… не было еще такого, чтобы недостаток ратников детьми восполняли. Поняла теперь, почему я Морену помянула?
– Минька…
– Угу. И даже если ты потом выберешь не Михайлу, – с нажимом повторила Настена, – сберечь его мы с тобой обязаны. Если не для себя, то для рода Лисовинов, для всего Ратного. Ну, есть мысли, как его от Морены защитить?
– Матвея бы расспросить. Он же…
– Даже и не думай! Врагом себе на всю жизнь сделаешь. Он от смертного ведовства отрекся, а мы Морене… – Настена запнулась, но продолжила все тем же уверенным и как будто бездушным тоном: – Мы Морене мальчишек отдавать будем.
– К-как?.. – Юлька, переменившись в лице, отшатнулась от матери. – Макошь не простит…
– Макошь одобрит! – уверенно заявила Настена. – Это не жертва, это обман! Отнять у Морены добычу нельзя, а подменить можно. Обычного отрока спасти – дело доброе, но бесполезное, потому что так на так и выйдет – одного на другого поменяла. Такое только для особо любезных делают, но Макошь ревнива и чужих любимчиков не жалует, как и тех, кто только на себя ее благоволение растрачивает. Вот, скажем, для Лукашика я и пальцем не пошевелю, Михайла же совсем другое дело…
– А для Алексея?
– Тьфу, чтоб тебя, дурища! В чем разница-то? Что Михайла, что Алексей: спасти их – значит спасти в будущем множество жизней. Вот такое Макошь одобрит. Поняла?
– Тогда почему только Миньку защищать будем?
– Потому что Алексей о себе сам позаботиться способен, он это всей своей жизнью показал. Ну, еще… потому, что мальчишек на двоих может не хватить. Морена жадная, ей только дай.
– Так ты что, всю Младшую стражу?..
– Нет, Нинеиных отроков не смогу. Вернее, могла бы, но невместно мне чужими распоряжаться.
– Значит, самых лучших…
– Да! – Настена утвердительно прихлопнула ладонью по столу. – Лучшие и дело лучше сделают!
– Жалко ребят…
– А Михайлу не жалко?
Юлька надолго замолчала, уставившись в стол, молчала и Настена, давая дочери время осмыслить новое знание и примириться с необходимостью выбора. Наконец Юлька вздохнула и подняла глаза на мать.
– Что делать надо?
– Все… – голос Настену подвел, пришлось откашляться. – Все просто, доченька. Жизнь, любовь и терпение. Добыча Морены – жизнь. Щит и меч Макоши – любовь и терпение. Сделаем так, чтобы отрокам в радость было собой Михайлу от смерти закрыть. Претерпеть за любовь к нему.
– Это я смогу! – уверенность, прозвучавшая в голосе дочки, не только удивила, но даже слегка напугала Настену.
– И в мыслях не держи! Столько смертей на себя принять – не выдержишь, ума лишишься!
– Я справлюсь.
– Нет, я сказала! Первый шаг на этом пути – одна смерть, один обмен жизнь на жизнь. И то не все выдерживают.
– Я смогу!
– Нет, и не спорь! – повысила голос Настена. – Я тебе обещала, что выбор останется за тобой. Если сейчас сотворишь по-своему, минуешь развилку, пути назад уже не будет, и о Михайле можешь забыть!
Ведунья сначала сказала, а потом внутренне сжалась от страха – заметит Юлька ложь или нет? Шестая она или двадцатая в цепи взращенных и выпестованных ведуний, повзрослела не по годам или осталась ребенком, все равно она дочка, и легче самой надорваться, чем взвалить такой груз на нее. Кажется, не заметила, поверила.
– А у тебя, мам, таких уже много?
– Есть… и не один.
– А кого они… закрывали?
– Корнея… было, в общем, кого. Нельзя об этом рассказывать, если родня убитых узнает… Сама понимаешь.
– Корнея же не уберегли? Калекой стал.
– Война… от увечья не уберегли, но насмерть затоптать не дали. Один за это жизнью заплатил, другой тяжкой раной. Я тогда троих к Корнею приставила, но третий не успел, коня под ним убили.
– А Корней… знает?
– Да ты что? Он бы меня сам на куски изрубил, если б узнал! Да если б даже и не изрубил… Он и так за свою власть полной мерой платит, зачем его еще отягощать?
– За власть… – Юлька в очередной раз надолго задумалась, и Настена снова не стала сама прерывать молчание, гадая, какие мысли бродят у нее в голове. – Знаешь, мам, Минька мне тоже часто про власть, про управление людьми толкует. Как-то он сказал, а я не поняла, что власть бывает явная и тайная. Вот ты решаешь, кому жить, кому умереть, и никто об этом не ведает. Значит, наша власть тайная?
– Ну, можно и так сказать…
– А еще он говорил, что нельзя все на одну сторону накладывать, равновесие должно быть.
– Ну и что?
– А то, что ты же можешь заставить не только защищать, но и наоборот… если для спасения многих жизней. Так?
– Выпороть бы вас с Минькой…
– Понятно…
– Ничего тебе не понятно! – взорвалась криком Настена. – Только попробуй что-нибудь устроить! Понятно ей! Не власть это будет, а разбой! Поняла?
– Ты чего, мам? С кем устроить-то?
– А то я не заметила, как тебя из-за боярышни Катерины перекосило!
– Да не хочет Минька на ней жениться и не захочет! А заставить его Корней не сможет, вот увидишь! И тетка Анна… – Юлька оборвала сама себя, не закончив фразы.
– Чего примолкла? Дошло, наконец, что не для тебя Анька сына бережет?
– Мам… мама…
– Не хнычь! Я тебе сказала, что выбор за тобой. Выберешь… выберешь Миньку, помогу… возьму грех на себя, но… не хочу за тебя решать, как когда-то за меня решали. Все! Хватит болтать! Собирай на стол, опять ведь сегодня толком не ела. И без того худющая, одни глаза остались, и что в тебе Михайла углядел?
Глядя, как дочка хлопочет по хозяйству, Настена никак не могла отогнать от внутреннего взора образ Алексея.
…Вот он сидит напротив. Стягивающая ребра повязка не портит осанки – и так привык держаться прямо – мышцы вроде бы и расслаблены, но сила-то в них так и играет – лекарский глаз не обманешь. Голос вроде бы и доброжелателен, но тверд, глаза… ох, что за глаза! Зверь оттуда, изнутри уже прицелился, измерил расстояние до противника и изготовил тело к смертельному броску, но не смеет и пошевелиться, укрощенный железной дланью рассудка. И не слабый, дурной или глупый урод, как бывает у некоторых, а сильный, хоть и крепко битый, но здоровый, а когда надо и свирепый, зверь! А лицо… да, другого сравнения и не подберешь – истинный Перун в молодости! Корзень, старый дурак, даже не представлял себе, с чем играет, пытаясь пробудить в Алексее страсть, наперекор рассудочности. Или представлял? Он же целой сворой таких зверей повелевать способен!
Эх, не так бы нынче с Алексеем, не водить бы его на невидимой и неощутимой привязи, а… Ведь могут же быть эти сильные руки ласковыми и глаза умеют светиться совсем по-иному… Нельзя! Запретно и недоступно, будь оно все проклято! Потому что заполучить все это, оборотить своим и только своим, можно, лишь самой сделавшись его и только его – отдаться всепоглощающе и без остатка, раствориться в слиянии двух сущностей. Но, пусть даже и добровольно, ограничить собственную волю, значит, утратить ведовскую силу – дары светлых богов бесплатными не бывают. Как же повезло Аньке… да и не повезло, если по правде, а просто не приходится ей давить волей и разумом женское естество, не боится она отдаться и подчиниться, а потому и ответ получает полной мерой.
Не на кого пенять – сама выбрала… Ну, не совсем сама, бабка давила, конечно, но окончательный выбор все-таки был за внучкой. Ведь было же, было перепутье, могла остаться простой лекаркой-травницей и жить, как живут все бабы… ну, почти так же. И был мужчина… такой же почти, как этот. Но сама избрала иной путь, и другая пошла с ним под венец, а пришел срок – выла над пробитым стрелами телом, лежавшим в телеге, а Настена стояла рядом, закаменев лицом и исходя внутренним, не слышным никому криком.
– Мам! – Настена так глубоко ушла в свои мысли, что даже вздрогнула от голоса дочери. – Мам, а почему ты Савву к Нинее отослала? Я бы могла с ним сама заняться, а то крутится эта… соплячка в крепости…
– А тебе что, Корнеевых крестников мало? Целых трое!
– Так я же… А чего ж ты мне не сказала? Я и не думала…
– Ну и хорошо, что не думала, так даже еще лучше! Тихо да незаметно, как и должно наше ведовство твориться.
– Но они же не увечные, как Бурей был! И не запуганные, как Савва… Ну, разве что Матвей, да и то…
– Нет, дочка, нет… из всех четверых, что Корней тогда из Турова привез, только у Роськи душа не покалечена, видать, в хорошие руки попал, повезло, а остальные… У каждого свое, но души все в язвах. А вы с Минькой не только Демьяна тогда на дороге вылечили, вы еще и каждый день понемногу Дмитрию, Артемию и Матвею эти язвы заглаживаете. Они на вас с Минькой смотрят и видят, что не все в жизни плохо, страшно да грязно. Тем и исцеляются понемногу.
– Ну да! Не знаю, как Артюха, а Митька только на Аньку-дуру и пялится…
– Не суди! Не всем так, как вам с Минькой, везет… Да еще и неизвестно, кому больше повезло… Безответная любовь – она тоже лечит… горькое лекарство, но лекарство! Вот он на Аньку-дуру… пялится, как ты говоришь… Да не пялится он, а смотрит, и совершенно не важно, что на дуру и без толку, а то важно, что у него в это время убитые родичи перед глазами маячить перестают! Неужто непонятно? Пялится! Не коса у тебя змеей оборачивается, а язык! Как только не зажалила никого насмерть?
– Ну, чего ты, мам…
– А ничего! С Красавой тоже: соплячка, соплячка… Сама больно взрослая! Савву-то она выхаживает? Выхаживает! Сама говорила, что пользу уже видно! А о том и не задумываешься, что в крепости она и без того крутилась бы, да неизвестно чего еще выкинула б, а так – при деле, меньше дури в голову лезет. С такой-то обузой, как Савва, шустрости глупой, знаешь ли, очень сильно убавляется.
– Да чего она выкинуть-то может? Ну, не подожжет же крепость?
– Да кто ж вас, дурех, угадает? Ты-то вон в сводни подалась! От великого ума, скажешь?
– Мам! Я же как лучше хотела!
– Хотела она… Тьфу, довела: как старуха древняя ворчу… Собирай на стол!
…Ведь могут же быть эти сильные руки ласковыми…
Шлепая босыми ногами по дощатому полу, Анна внесла в спальную горницу деревянный поднос с едой и кувшином кваса, глянула на постель и почувствовала, как губы сами собой раздвигаются в улыбке. В слабом свете одинокой свечи, стоявшей в дальнем углу (сама так ставила – подальше от постели; мужи любят глазами, но в ее возрасте не все стоит показывать в подробностях), было видно, как лежит Алексей – привычная поза: на спине, чуть повернувшись на правый бок, закинув левую руку за голову.
Нет, не спит. И не потому, что ждет, когда Анна принесет попить и поесть, а потому, что никогда не позволяет себе после любви уснуть раньше своей женщины, будто знает, как для нее важно и радостно такое отношение. На самом деле, не знает, а просто… вот такой он, ее Лешка – ничего не делает специально, но выходит так, словно кто-то ему подсказывает: это делай, это не делай, а вот это будет хорошо, но не сегодня.
Не сразу это открылось для Анны, но в одну из ночей мягкий, все чувствующий, осторожный и ласковый Алексей вдруг оборотился неистовым Рудным Воеводой – брал ее, как половецкое кочевье в дикой степи, и… она ощутила, что сегодня, именно в эту ночь, ей как раз этого от него и хотелось! А еще испугалась, что будет он теперь таким всегда – сдерживался, сдерживался, а теперь вот… Зря испугалась – каждый раз Алексей дарил ей именно то, чего она и ждала: когда нежность, когда неистовство, а когда и покорность… да, да, умел он и это – предугадывать желания, смиряться и подчиняться.
Но способен был и на иное, мог подарить что-то совершенно неожиданное – или удивлял, или смешил, а еще умел довести до неистовства и ее. И тогда… Не девочка уже была Анна, но вот только теперь довелось познать, что самозабвенное безумие способно воцариться не только на бранном поле, а обнаженные тела способны сплестись в жаркой схватке не хуже, чем тела, защищенные доспехом.
Анна нагнулась вперед, ставя поднос, и ее тяжелые груди качнулись под перекинутыми наперед распущенными волосами, укрывающими ее почти до пояса. Алексей приподнялся навстречу, обхватил ее за талию и нырнул лицом в эту завесь, щекотнув усами грудь так, что Анна прерывисто втянула в себя воздух и тихонько ойкнула.
– Перестань… да перестань ты… хватит! Ну, Лешка! Вот сейчас как уроню все на тебя…
– Угу…
– На-ка, попей… Леш, ну знаю же, что пить хочешь!
– Хочу, Медвянушка… и пить, и есть, и… тебя тоже хочу. Больше всего – тебя!
– Вот ведь… Лешка, перестань!!
Алексей пил квас прямо из кувшина – никаких чарок и ковшиков в такие моменты он не признавал – пил большими шумными глотками, а Анна смотрела на него и жалела, что нельзя переставить свечу чуточку поближе. Алексей оставался воином даже сейчас. Въевшаяся в самую суть его естества воинская выучка не позволяла просто поднять руку или повернуть голову – тело отзывалось на любое его движение все целиком, чуть-чуть, порой незаметно для глаза, изменяя позу. Вот и сейчас каждый глоток не только двигал кадык, выглянувший из-под короткой воинской бороды, но и порождал едва заметный трепет почти всего тела. И было видно, что, несмотря на жажду, лишнего глотка Алексей не сделает – все в меру, чтобы не отяжелеть.
Ох и любили ратнинские бабы почесать языками у колодца «про это», деликатно приумолкая в присутствии девчонок и вгоняя в краску молодух, лишь недавно познавших первые радости плотских утех. Мнение баб было твердым: если муж после любви просит есть – можно рассчитывать на продолжение, а если пить – тогда все, жди следующего раза. А вот ее Лешка и пил, и ел и… будет продолжение или нет, зависело только от ее желания. Так, по крайней мере, думалось Анне… или хотелось думать. Сейчас продолжения хотелось, но не сразу – больше хотелось кое-что выведать, и время для этого было самым подходящим.
Когда Алексей напился и потянулся к подносу за куском копченой кабанятины, Анна протянула ему вышитое полотенце.
– На-ка, утрись, а то накапаешь с усов, чудо мое…
– Не-е, сама меня утри!
– Как дитя малое… Вот мы Лешеньке ротик сейчас утрем, а ручки он потом сам вытрет и крошек в постельку, как в прошлый раз, совсем не насыплет…
В полутьме засветилась улыбка Алексея – не то нахальная, не то блаженная, не то и вовсе какая-то разбойная. Сразу и не разберешь.
О-хо-хо, как бы ни был мужик хорош, а насвинячит обязательно, такие уж они… почти все. Нет, встречаются, конечно, аккуратисты, у которых ни пятнышка, ни соринки, и у каждой вещи свое, точно определенное раз и навсегда место, да только… взвоешь, рано или поздно, от этого сугубого порядка, отступить от которого хотя бы на пядь никак невозможно. Лучше уж так…
– Леш, а чего тебе Настена сказала?
– Да хорошо все… – невнятно пробубнил Алексей с набитым ртом, – ошиблась Юлька.
– И все?
– И охота тебе сейчас-то… Лапушка, давай лучше…
– Охота! – Анна добавила в голос требовательности. – Рассказывай!
– Да ладно тебе…
– Лешка!!! Куда жирными лапами?! Сейчас вот встану и уйду! Хочешь, чтоб ушла?
– Нет…
– Тогда рассказывай!
– Ну, если тебе так уж невтерпеж… Велела поостеречь тебя, чтобы ты Юлькой крутить не вздумала… Медвянушка, да чего ты вскинулась-то? – Алексей приобнял Анну и попытался притянуть ее к себе. – Подумаешь, баба… ведунья, конечно, но…
– Что, так и сказала?.. Да отпусти ты… вот ведь силищи немерено… бугай… Ну-ка, вспоминай: что она точно сказала? Слово в слово!
– Э-э… – Алексей завел глаза к потолку, – вроде бы так: «Не та Юлька девчонка, которой крутить можно, да и о самой Настене забывать не след – боком выйти может». Так как-то сказала… или почти так. Да с чего ты всполошилась-то?
– Вот, значит, что… – Анна откинулась на спину и машинально принялась накручивать на палец прядь волос. – Боком, говоришь… а ведь подружками были по молодости.
– Подружками? Но ты же не здешняя!
– Да уж, еще какая нездешняя! – Анна выпятила нижнюю губу и сдула волосы со лба. – Дреговические-то девы поначалу в Ратном тише воды и ниже травы – для них и Ратное большой город, а меня-то из Турова привезли, да свет поначалу повидала: Киев, Переяславль… Сам все знаешь. Вот и шипели на меня, да каждая… ужалить норовила! И я тоже, дура молодая, нос до небес драла… пока Добродея, была в Ратном такая мудрая старуха, Царство ей Небесное, в разум не привела… – Анна неожиданно хихикнула. – Так и вспомнила себя тогдашнюю, когда Мишаня купеческих детишек на берегу стращал.
– Угу, мне рассказывали потом – тогда-то не видел, не до того мне было, – Алексей тяжело вздохнул. – Но Михайла все верно тогда делал, молодец. Ты подучила?
– Нет, сам измыслил, я только помогла чуть-чуть. Он у меня разумник… вот из-за него-то, да из-за Юльки еще, мы с Настенной и подружились. Я все боялась, что у меня и третий ребенок девчонкой будет, а Лисовинам-то наследник нужен был… воин. Настена тогда меня и уверила: мальчик будет, не сомневайся. По ее слову все и вышло, а через год с небольшим ей самой рожать пришлось. Ох, и худо ей было, Лешенька, ой, как худо! Мужа нет, девочка слабенькая совсем родилась, того и гляди, помрет… И поплакаться некому, бабка-то у нее была, как из мореного дуба сделанная – топором не возьмешь…
– А Добродея чего же? – удивился Алексей. – Я так понимаю, что бабы со своими горестями к ней…
– Да, ходили к Добродее и за советом, и с жалобами, и за утешением, но не ладила она с Настениной бабкой! – прервала, недослушав, Анна. – Открыто-то не ссорились, но не любили друг друга крепко. А меня старуха привечала, чем-то я ей по сердцу пришлась… Вот и бегали мы с Настенной друг к дружке, чаще-то я к ней. Посидим, поплачем на пару, про детишек своих поговорим… Настена сказывала, что и бабка ее при мне как-то мягчает слегка. Так и подружились. А когда бабка вскорости померла, и Настена совсем одна осталась, так и вовсе не разлей вода стали.
А потом… Мишане еще десяти не минуло, Фрола… убили. И Варвара, чтоб у нее язык отсох, просветила меня: было у Фрола с Настеной что-то… Да так сильно, что Корнею пришлось его в Туров отослать. Потом-то я и сама заметила: от Настены мне ни слова утешения, будто закаменела вся… подружка. Ну, и отдалились мы друг от друга как-то…
– Ну, а сейчас-то ты чего напугалась?
– А ты не понимаешь? Дочку-то она как любит! Даже окрестила ее – против себя пошла… ну и… Не знаю… может быть, хочет, если уж у нее жизнь не сложилась, так хоть чтоб у Юльки…
– А что, разве бывают замужние ведуньи? – искренне удивился Алексей. – Что-то я не слыхал о таком…
– Верно, не бывает, но Настена, наверно, хочет дать дочке самой выбрать: либо семья, либо ведовство.
– А ты, значит, не желаешь такой невестки?
– Да, не желаю! Мишаня большего заслуживает! И мне такая невестка не нужна – характер, что твоя крапива. И Мишане теща такая не нужна – разозлится да в козла оборотит!
– Да? Неужто так сильна? – Алексей заинтересованно приподнялся на локте. – Тогда выходит, что не ошиблась Юлька, а нарочно подстроила, чтобы я к Настене сходил?
– А ты думал! Конечно, подстроила! У Настены ничего случайно не бывает! Как это так: Настена с Фролом шуры-муры водила, а теперь ее дочка с его сыном… бывают такие случайности?
– Хм, да…
Что-то было не так – слишком хорошо изучила Анна все Алексеевы хмыканья. А ведь и верно: лежит в постели с ним, а поминает, то и дело, покойного мужа, да еще и ревнует… Не хватает только ненароком его Фролом назвать! Надо чем-то отвлечь…
– Спрашиваешь, так ли Настена сильна? – Анна искоса глянула на Алексея. – А ты на Бурея глянь!
– А причем тут Бурей-то?
– А вот послушай, – Анна ухватила Алексея за руку, втянула ее на свою подушку и положила голову на плечо любовника. Он тут же согнул руку в локте и опустил ладонь ей на грудь, Анна протестовать не стала, а лишь потерлась о плечо Алексея щекой. – Ну, слушай же! Мне начало этой истории Настена рассказала, а конец я уже сама видела.
Жили у нас в Ратном два брата, Ипатий и Савватий, прямые потомки первого ратнинского сотника Александра. Видать, сильно измельчал Александров род – Ипатий еще туда-сюда, а Савватий вовсе станом коряв, ликом неприятен, да еще и бельмо на левом глазу. Так и не выучился ратному делу, сразу в обоз отправили. Ипатий, правда, ратником стал, но так – плохоньким. Зато злющий был, не приведи Господь – чуть что, сразу за нож хватался.
Замуж за них, конечно же, никто идти не захотел, и женились они на полонянках. Савватий так и остался бездетным, а у Ипатия, хоть и родился сын, так лучше бы и не рождался! Жена Ипатия родами померла, больно уж ребенок крупным оказался, но ликом вышел уродлив, а волосом темноволос – не в мать, не в отца, а в проезжего молодца. И злющий был сызмальства – бабы, которые по доброте душевной его выкармливать взялись, жаловались, что больно рано у него зубы прорезались – все груди им искусал. Вот такой малец у Ипатия народился… Да! Он еще, как наестся, бурчание какое-то неприятное издавал, вроде «бу-р-р». Так и прозвали его «Бурей», а настоящего имени «Серафим» никто почти и не помнил.
Ну вот… а как подрос Бурейка, так и еще одна беда вылезла – косноязычен. Чуть не половину слов нормально выговорить не мог, порой такое нес, что даже родной отец его понять не мог. Само собой, со сверстниками у Бурейки не заладилось – обижали, насмехались, дразнили… Он, конечно, в драку, ну и били его – скопом или те, кто постарше был, а то и взрослые. Он же не только кулаками махал, а и царапался, и кусался. Какая ж мать стерпит, когда ребенок домой возвращается с лицом разодранным или покусанный? Так ведь и без глаз остаться можно! Ну, настропалят бабы мужей, а те Бурейку по чему ни попадя… Ты слушаешь, Леш?
– Слушаю, слушаю. Ну, и что дальше было?
– Отец за Бурейку вступался и тоже бит бывал… Хотя ладно, не об этом речь. Кто-то из баб, со зла наверняка, трепанул, что Бурейка не в отца крупен телом и что нагуляла, видать, его мамаша с лешим, а потом и еще хуже – заменили лешего на Агея Лисовина! Не любили Корнеева отца многие… в чем там дело было, не знаю, но прозвали его Бешеным Лисом.
– Погоди! Но так же Михайлу кличут!
– То-то и оно… Слушай дальше. Крутился как-то раз Бурейка возле баб у колодца, а мимо Агей с Корнеем проходили. Кто-то из баб возьми да и пошути по-дурному: «Бурейка, гляди, батюшка твой идет!» Малец подхватился, сунулся к проходящему мужу: «Бафуфка, ба…» – увидел, что не тот, но остановиться-то уже не успел и хвать руками Агея за ногу. Тот лицом покривился да как наподдал – уродец аж до забора долетел! Понятно, что главная-то обида у Агея не на Бурейку была, а на баб трепливых, но так уж сложилось, что малец крайним оказался.
Бурейка, конечно, в рев, и, как на грех, Ипатий недалеко был да голос сына услышал. Выскочил из-за угла, а в руке уже засапожник, кинулся на Агея, а тот уж и вовсе от всего этого взбеленился. Ка-ак двинул Ипатия, тот грянулся оземь, выгнулся дугой, а изо рта кровь как хлынет – на собственный засапожник напоролся, когда падал! И тут Бурей как вцепится зубами Агею в руку – отца защищать кинулся, да куда там! Сшиб его Агей и сапогом… только косточки хрустнули.
Бабы было в крик, но Агей на них так зыркнул – вмиг у колодца пусто стало, один только Корней сотничьего гнева не испугался. Поднял Бурейку на руки и понес к лекарке. Что уж там Агею в голову ударило, бог весть – окликнул, велел бросить урода. А Корней и ухом не повел, дальше пошел. Агей тогда подобрал коромысло – кто-то из баб забыл с перепугу – да тем коромыслом сыну по спине. Корней – ни гу-гу и дальше идет! Агей от такого и вовсе в раж вошел – принялся лупцевать в мах, а Корней только горбится да мальца от ударов прикрывает, а останавливаться и не думает…
– Не могло такого быть! – перебил Алексей.
– Почему? Разозлился и стал…
– Да нет, Анюта… сразу видно, что тебе это кто-то из баб рассказывал. Понимаешь, если б, скажем, я кого-то стал коромыслом в мах бить, то убил бы или покалечил бы, если не с первого, то со второго удара, точно. А Агей-то не слабее меня был, наверно.
– Ну, не знаю… рассказывают, что коромыслом… да не в том дело-то, чем бил, а в том, что Корней-то его не послушался! Да не просто не послушался… вот лупит его Агей, а он идет, лупит, а он идет, а потом вдруг выронил Бурейку из рук, развернулся, вырвал у отца… коромысло, или что там было, и замахнулся.
– Ты что? – изумился Алексей. – На отца?
– Ну да! Агей, рассказывают, прямо опешил от неожиданности… Да не перебивай ты! Замахнуться-то Корней замахнулся, но ударить не посмел – родитель все-таки. Только на словах предупредил, что помрет, но бить себя больше не даст. Агей так и остался стоять, а Корней снова подобрал Бурейку да дальше понес. Вечером того же дня собрал Корней вещички и вместе с женой и детишками на другой край села перебрался. То ли Агей его выгнал, то ли сам ушел – люди по-разному рассказывают, но я думаю, что все-таки Агей выгнал.
– Угу… а Бурей, значит, выжил? Ну и причем тут Настена? Ты же мне про ее силу толковать взялась.
– Ну, погоди, Леш, не подгоняй, а то непонятно будет. Дойду и до силы. Ты поешь еще… только полотенце подстели, а то крошки потом колоться будут… Ну, вот: выжить-то Бурейка выжил, но стал у него горб расти. И без того урод был, смотреть тошно, а тут еще такое. И из всей родни у него только бельмастый дядька-обозник остался. Хилый да непутевый… даже и надежды не было с Агеем за племянника посчитаться.
– Угу, верно… у меня в ватаге болгарин был – поп-расстрига – так он говорил: «С сильным не дерись, с богатым не судись»[2]. Как раз этот случай.
– Ну, да… а еще пьяница он был. Рассказывали: наклюкается бражки, сядет где-нибудь в уголке, Бурейку по голове гладит и плачет тихонечко… Не поймешь: то ли над ним плачет, то ли над собой. Так и помер – тихо как-то да незаметно.
– Да уж… пошутили бабоньки…
– Ага… всегда у вас бабы во всем виноватые! Ладно, Ипатий сам дурак – с ножом кинулся, а мальца-то зачем калечить было? Вот ему наказание и вышло – с единственным сыном рассорился. А Корней-то, как нарочно, десятником стал, серебряное кольцо, рассказывают, всего за три года заслужить умудрился. Агею – хоть разорвись! С одной стороны – гордость отцовская за его успехи, с другой – гонор и обида.
Но знаешь, недаром же говорят, что вода камень точит. Жена Корнея пилила, с Агеем несколько раз Добродея беседовала, а однажды привела Корнея, поставила его перед отцом на колени и заставила кланяться земно и просить прощения. Агей, рассказывают, поначалу ругался страшно, грозил, а потом вдруг обмяк и обниматься с сыном полез. Потом, уж как водится, надрались они бражкой до того, что посреди ночи купаться пошли. Это в конце октября-то! Как и не утонули-то, просто удивительно. Свекровь, покойница, с двумя холопками, пока их из Пивени вытаскивала, Корнею чуть половину волос не выдрала, а у Агея к тому времени голова, как колено стала, так его и вовсе хватали за что попало, холопки потом такое рассказывали – бабы со смеху кисли!
– Хо-хо, это за что ж, интересно, его хватали? – Алексей оживился, даже отложил недоеденный кусок. – Вот ведь, ворчите на нас, что, мол, только об одном и думаем, а сами любым случаем попользоваться…
– Умолкни, охальник! – Анна ухватила Алексея за нос и принялась поворачивать его голову туда-сюда. – Вот за это хватали, вот за это! А тебе лишь бы непотребство какое придумать!
– Ой! Отпусти, Анюта! – гнусаво заблеял Алексей. – Отломаешь, страшнее Бурея стану!
– Вот и ладно, молодухи засматриваться перестанут!
– Собака на сене! Сама не гам и другим не дам…
– Это я-то? – Анна попыталась возмущенно подбочениться, но лежа получилось плохо. – Да! Я такая! И только попробуй у меня… Ай! Лешка… бесстыжий! Ле-о-о-ш… Ле… о-ох, мамочки…
– Фу! Все усы в квасе вымочил… – Анна бормотала неразборчиво, уткнувшись лицом в подушку. – Куда полотенце-то задевалось?
– Какое полотенце? Погоди, я вроде на чем-то лежу… – Алексей закопошился на постели. – А! Вот оно… ой, и кабанятина здесь…
– Угу… вот и пускай такого в дом… под крыльцом тебе ночевать… Укрой меня, холодно что-то…
Алексей накрыл Анну и заботливо подоткнул одеяло.
– Спи, Медвянушка…
– Не-а… обними меня… не так, вот сюда… бороду с шеи убери… щекотно…
– Спи, не капризничай… вот я тебя сейчас за ушком поцелую…
– Ай! Усы мокрые!
– Да я же утерся!
– Утерся он… все равно мокрые!
Попробовала бы Анна вести себя так днем… даже наедине… Но сейчас ей дозволялось все, и она об этом прекрасно знала. Ночная кукушка… люди зря говорить не станут!
– Леш, я тебе не досказала…
– Завтра расскажешь, давай-ка, спи.
– Ну да! Завтра! Как усвищешь с утра своих убивцев мелких гонять… вечером придешь потный, злой, лошадьми провонявший… то ли дело сегодня – после баньки…
– Где та банька? – Алексей сокрушенно вздохнул. – Весь зад в сале кабаньем…
– Хи-хи-хи… сейчас на пол соскользнешь!
– Хихикалка… только что вроде как засыпала…
– Ага! А ты с усами мокрыми…
– Ладно… рассказывай.
– Ну, слушай. Помирились, значит, Агей с Корнеем… Агей еще долго прожил, даже дождался, пока Михайла родится, а помер плохо. Зимой где-то в дебрях его лесовики убили, даже тела не нашли. Жалели-то его все, сотник все-таки, хотя кто-то, может, и притворялся, а вот Бурей радовался! Как-то выхлебал чуть не ведро хмельного да принялся орать, что, мол, жаль, тела не нашли, а то бы сходил да на могилку Агея и помочился бы. И тут Добродея возьми да и напророчь ему: «Вернется Бешеный Лис – не быть тебе живу!» Кто ж тогда подумать мог, что Мишаню тоже Бешеным Лисом прозовут?
– Да ты что?! – Алексей рывком сел на постели. – А Корней-то… да этого урода убивать сразу же надо было! Да я его сам…
– Ты про силу Настены узнать хотел? – в голосе Анны исчез даже намек на сонливость. – Вот и знай: неприкосновенен Мишаня для Бурея по слову Настены!
– Как так?
– А вот так! Одно дело то, что Настена его выходила, считай, вынянчила – говорить по-людски научила, нрав свой дикий в узде держать… Да много всего, недаром же он ее матушкой кличет, хоть и старше по возрасту.
И совсем другое дело, что Бурей, даже если сам не хочет, Настене все равно подчиняется беспрекословно… Были случаи. Не от ума это буреевского, не от благодарности, а от силы ее ведовской! И еще… я с Нинеей разговаривала, когда Мишаня у нее лосем побитый лежал… Знаешь, что она сказала? Настена с Буреем такое сотворила, что не только сама Нинея не смогла бы, но даже и не знает, кто бы еще так смог! Она в его душе чернущей солнечный уголок устроила!
– Да ну… – Алексей недоверчиво покачал головой. – Не бывает такого!
– Бывает, Лешенька, бывает. И поселила в этом солнечном уголке Юлькин образ. Бурей с Юлькой тетешкается, Ягодкой зовет, всякие вкусности да подарки таскает. Настена, правда, не все позволяет принимать, чтоб не избаловал девку, но… Ты вообще можешь себе представить Бурея ласковым, улыбающимся, сюсюкающим?
Алексея так поразили последние слова Анны, что вместо ответа он издал горлом какой-то булькающий звук.
– Не можешь? Вот и я не поверила бы, если б сама не видала. А теперь скажи: могу ли я, при таких раскладах, осмелиться хоть какой-то вред Юльке нанести? Понял, да? Так что не Юлька ошиблась, а сама Настена ошибается – не надо меня ни от чего предостерегать… Только на самого Мишаню и надежда…
– Ну, вы, бабы… Погоди! Как это, на самого Мишаню?
– А вот так! – Анна, казалось бы, не изменила позу, почти и не шевельнулась, но сейчас это была уже не женщина, уютно укутанная руками любимого мужчины, а опасный зверь, припавший к земле перед прыжком. – Знаешь, что он мне недавно сказал? «Все-то вы, женщины, про нас знаете, кроме одного: почему мы одних любим, а на других женимся?»
Мурлыкающие нотки в голосе Анны ничуть не обманули Алексея, знал он такое «мурлыканье».
– Юльку-то он любит… любит, я вижу, а вот жениться… Против воли его даже Настена не заставит – Юлька не позволит!
– Д… Кхе! Да что ж это у вас в Ратном творится-то? С виду все тихо-мирно, а как вникнешь… даже Нинея не может… обалдеть!
– А чему тут удивляться-то? – Анна все с той же кошачьей грацией потянулась, выскользнувшая из-под одеяла рука напряглась, и пальцы на ней скрючились наподобие когтей. – Нинея на волхву выучилась, а Настена с Юлькой ведуньями родились. Настена пятое колено, Юлька шестое. То, чему Нинее годами учиться приходилось, у них в крови от рождения.
– Тебе-то откуда знать? Можно подумать, ты сама ведунья…
– Ну… мало ли… – Пламя свечи на секунду отразилось в глазах Анны, и рука Алексея, как бы сама по себе, дернулась сотворить крестное знамение. Еле удержался. – Да не пугайся ты, не знаю я ничего такого… Так – понемножечку…
– А я и не…
– Ага, а то я не вижу!
– Итить твою… – Алексей снова еле сдержал, но теперь уже не руку, а язык.
– Одного я только понять не могу, Лешенька: откуда у Мишани все это? Что-то не верится, что про «любим да женимся» он в книгах у отца Михаила вычитал.
– Ну, не скажи, Медвянушка, в Писании про все есть… если не впрямую, то в толковании. А уж про всякие свадьбы да женитьбы… Что-нибудь такое: «И взошел он в шатер ее, и познал ее. И отверз Господь чрево ее, и зачала она, и родила…»
– И чье же чрево Михайла отверз? Не Юлькино, я точно знаю!
– Да не Михайла, а Господь! – Алексей, заговорив о Святом Писании, вдруг почувствовал себя так, словно выбрался из зыбучего болота на твердую землю, к тому же и Анна снова непостижимым образом обратилась в обычную женщину. – Знаешь, Анюта, вышел у нас однажды спор. Я ж говорил, что был в моей ватаге болгарин-расстрига. Так вот, поспорили мои удальцы с ним. Он говорил, что в Писании на любой случай пример найти можно… Ну, конечно, не на мелочь какую-нибудь, вроде, как правильно кашу варить или заплату на портки пришивать, а что-то серьезное. А они взялись какой-нибудь случай измыслить, чтобы такого примера не нашлось. И знаешь, не смогли! Или впрямую, или через истолкование, обязательно есть! Уж как они старались, и так, и эдак, такое придумывали, что и в жизни не бывает… Месяца полтора у нас такие благочестивые беседы шли, а потом болгарина убили. Э-э… Да! Так что, Михайла, если с умом…
– А про любовь там что-нибудь есть? – Анна поймала ладонь Алексея и втянула ее к себе под одеяло.
– Да сколько хо… Гм… а то ты сама не знаешь!
– Не-а, не знаю, расскажи, Лешенька.
– Н-ну… как же там… ведь помнил же… О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими… Волосы твои – как стадо коз, сходящих с горы… Э-э-э… как лента алая губы твои, и уста твои любезны. Как половинки гранатового яблока – ланиты твои под кудрями твоими… Пленила ты сердце мое! Пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои! О, как много ласки твои лучше вина, и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов! Сотовый мед каплет из уст твоих, мед и молоко под языком твоим…
Алексей примолк, вспоминая то немногое, что задержалось в памяти, и вдруг… Голосом Анны зазвучал ответ:
– Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина. Влеки меня, мы побежим за тобою; – царь ввел меня в чертоги свои, – будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино; достойно любят тебя! Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня.[3]
А дальше слова стали не нужны…
Возможно (кто может знать на самом деле?) и завидовала немного сейчас Богородица с иконы, целомудренно завешенной вышитым рушником. Нет, не любовникам, а Ладе и иным богиням, коим не зазорно было вселиться в любовников или незримо присутствовать возле их ложа, получая свою долю любви и счастья. Мало ли под вечным небом религий, не ставящих плотские радости ниже духовных?
Хотя нет, не подвластна Она чувству зависти, ибо Всеблага! Радовалась Она, наверняка радовалась за своих детей, ибо все мы Ее дети. А детям прощается все или почти все. Можно даже притвориться, дабы не смущать их, что действительно может что-то завесить и загородить от Всевидящего Ока тонкая ткань рушника.
И да возрадуется Богородица! Во имя Ее сошлись любящие души. Аллилуйя Любви! Аллилуйя! [4] Пусть радуются дети, ибо их радость дарит Ей несравнимо больше, чем та доля от чужого счастья, которую способны взять себе богини любви! Пусть радуются дети…
Глава 2
Мишка стоял, опустив разряженный самострел, и смотрел на лежащие перед ним трупы двух «курсантов». У одного из ямки над ключицей торчал кинжал, ушедший в тело почти на половину длины клинка, у второго голова была изуродована прошедшим навылет самострельным болтом.
«Ну, вот и накаркал. Как я тогда отцу Михаилу говорил: „Очнусь, а передо мной изуродованный труп лежит“? – не только в числе трупов ошибся, но и в том, что сделано все в здравом уме и твердой памяти».
Все началось с того, что Мишка услышал шум драки от того места, где седьмой десяток Младшей стражи упражнялся на штурмовой полосе, построенной по Мишкиному распоряжению, по образу и подобию сооружения, осточертевшего ему еще во время срочной службы в Советской армии. Дрались двое, остальные, в том числе и урядник, с интересом наблюдали происходящее, подбадривая дерущихся криками. Наставника с ребятами не было, а сами они так увлеклись происходящим, что не обратили на подходящего к ним боярича ни малейшего внимания.
Наставников не хватало, но расписание занятий старались составлять так, чтобы в случае проведения занятий за пределами крепости кто-то из наставников за ребятами присматривал. Однако получалось это не всегда. Вот и сейчас, десяток, работавший на штурмовой полосе, сооруженной за пределами строящегося равелина, был предоставлен сам себе, вернее, уряднику, а тот, вместо того чтобы прекратить безобразие, сам был в числе активных болельщиков. Увы, среди ребят, пришедших в воинскую школу от Нинеи, дисциплина приживалась довольно туго. Седьмой десяток был как раз «из Нинеиных».
Перемазанные кровью и землей драчуны вдруг синхронно отпрянули друг от друга, и в руке у каждого появилось по ножу. Это были не «штатные» кинжалы, с которыми «курсанты» упражнялись согласно разработанной Мишкой программе, и не ножи, носимые на поясе, считавшиеся не оружием, а хозяйственным инструментом. В руках у драчунов блестели засапожники, привезенные с собой из дому – тоже нарушение дисциплины, причем серьезное.
– Отставить! – гаркнул Мишка. – Урядник, куда смотришь?
Его даже не услышали – противники начали сходиться, и зрители замерли в ожидании. Дело приобретало серьезный оборот. Мишка поднял самострел и, тщательно прицелившись, благо расстояние было небольшим, а противники двигались медленно, выстрелил. Болт ударил в блестящий клинок и вышиб нож из руки одного из «дуэлянтов». Пока присутствующие осмысливали произошедшее, глядя на искореженную железку, Мишка торопливо перезарядил оружие и навел его на второго противника.
– Бросай нож, козел!
Отрок (имен всех учеников Воинской школы Мишка никак не мог запомнить, все-таки почти полторы сотни) глянул на боярича, потом на своего урядника и нехотя принялся засовывать нож за голенище.
– Я сказал – бросай. Не понял? На землю!
Отрок снова оглянулся на урядника и, получив в ответ на вопросительный взгляд кивок головой, отбросил нож в сторону, многообещающе проворчав в адрес своего противника:
– Все равно прирежу, упырь.
– Сам раньше сдохнешь, собака! – не остался в долгу тот.
Мишку, упорно насаждавшего среди учеников Воинской школы идеологию воинского братства, покоробило от искренней ненависти, отчетливо прозвучавшей в голосах противников.
– Урядник Борис!
– Здесь, боярич.
Тон, которым отозвался Борис, больше подходил не для воинского доклада, а для недовольного ворчания. Оно и понятно – намечался заслуженный втык от начальства, да и имя свое, полученное при крещении, Борис не любил, предпочитая кличку, с которой явился в Воинскую школу – Плост, полученную, видимо, за чрезвычайно густые, действительно чем-то напоминавшие войлок волосы.[5]
– Построить десяток!
– Десяток, становись! – Борис вытянул в сторону левую руку, обозначая линию построения, отроки собрались в одну шеренгу. – Равняйсь! Смирно! Боярич, седьмой десяток Младшей стражи, по твоему приказанию построен. – Плост так и не изменил ворчливого тона. – Командир десятка урядник Борис.
– Ты и ты, – Мишка ткнул указательным пальцем в драчунов. – Выйти из строя!
Имя одного из них все-таки всплыло в памяти. Отец Михаил при крещении осчастливил парня имечком Амфилохий, которое ученики Воинской школы почти сразу же переделали в кличку «Ложка». Имя второго так и не всплыло, но зато вспомнилось, что это младший брат урядника: подсказку дали внешнее сходство и такие же густые, спутанные волосы.
Мишка, «собирая внимание», глянул каждому из стоявших перед ним парней в глаза и заговорил скопированным у деда командирским голосом:
– Все вы знаете, что кроме братства во Христе, мы связаны еще и воинским братством. Братья не могут желать смерти друг другу, тем более, они не должны поднимать друг на друга оружие.
Это правило, со всевозможной строгостью, вбивалось наставниками в головы отроков с самого начала. Направленный на кого-нибудь, даже незаряженный, самострел, даже в шутку, даже случайно, служил поводом для строгого наказания.
– Вам всем это правило хорошо известно, но вы только что видели, как оно было нарушено ратниками Младшей стражи Амфилохием и…
Мишка повернулся к брату десятника и требовательно спросил:
– Имя?
– Овен, – отозвался парень.
– Я спрашиваю имя отрока Младшей стражи, а не собачью кличку! Доложить, как положено!
– Овен, – упрямо набычившись, повторил провинившийся, оправдывая свою кличку.[6]
Ситуация была знакомой и обросшей за месяцы муштры лесовиков рецептами противодействия. Мишка выбрал из этих рецептов самый жесткий: Овен охнул сквозь сжатые зубы и слегка скособочился, получив по ребрам прикладом самострела.
– Имя!
– П… Пахом.
– Доложить, как положено!
– Младший урядник седьмого… – Пахом сплюнул на землю кровью из разбитых губ, – …седьмого десятка Младшей стражи Пахом.
– Младший урядник Пахомий, ратник Амфилохий, снять доспех!
Августовский денек был солнечным, ребята, упражнявшиеся на штурмовой полосе в кольчугах и шлемах, только тем и спасались, что дул довольно свежий ветер. Мишка решил, что обдуваемые ветром потные тела остынут быстро, а вместе с телами остынут и страсти, поэтому, дождавшись, когда Пахом и Ложка стащат с себя поддоспешники, приказал им снять и насквозь мокрые рубахи.
Прошелся туда-сюда перед строем, вглядываясь в лица, и ничего, кроме интереса по поводу: «что это такое придумал боярич», не заметил.
«М-да, сэр, с первым набором было намного легче, удружила Нинея с личным составом. Хотя, с другой стороны, делать воинов из смирных да послушных, – несомненно, жертвовать качеством. Но проблем…»
Заметив наконец, что Пахом зябко повел плечами – контраст между жарким поддоспешником и обдуваемой летним ветерком потной кожей был слишком велик, Мишка решил, что должный эффект достигнут, и заговорил снова:
– Из-за чего подрались?
В ответ – молчание.
– Отрок Амфилохий, из-за чего подрались? Отвечать!
– Я б его уже давно, если бы их не двое было…
«Понятно, конфликт притащен с собой из дома. Видимо, дрались уже не раз, но у Ложки не имелось старшего брата, который в случае нужды приходил на помощь. А здесь старший брат Пахома оказался урядником, значит, Ложке рассчитывать на справедливость не приходилось, скорее наоборот, обиды продолжали накапливаться. Случай запущенный, слова о воинском братстве в одно ухо влетают, в другое вылетают».
– А ты что скажешь? – Мишка посмотрел на Пахома. – Нечего на брата пялиться, своей головы нет?
– Этот упырь, – Пахом снова сплюнул кровью, – уже лет пять лишних на свете живет. Пора кончать.
«И таким мы даем в руки оружие? Ну уж нет! Говоришь, пора кончать? Вот сейчас и кончим, прямо здесь».
– Отрок Амфилохий, все еще хочешь убить Пахомия?
– Хочу! – Ложка тоже сплюнул кровью из разбитого рта. – И убью!
– А ты, Пахомий…
– Считай его уже покойником, боярич, – перебил Мишку Пахом. – Дня не проживет, змей подколодный.
– Будь по-вашему!
Все взгляды тут же сошлись на Мишке: таких слов от него никто не ожидал. – Сейчас дам вам по кинжалу, и можете друг друга резать, но запомните два моих условия: поединок – до смерти, а победителя я пристрелю. – Мишка обещающе повел туда-сюда заряженным самострелом. – За убийство отрока Младшей стражи – смерть!
В воздухе повисла тишина, все ошарашено смотрели на боярича. Джека Лондона, разумеется, никто из присутствующих не читал, и подобное условие поединка казалось совершенной дичью.
– Повторяю: победителя убью сам! Если ученики Воинской школы так ненавидят друг друга, что готовы умереть ради того, чтобы убить, ни о каком воинском братстве между ними не может быть и речи. А нам такие воины не нужны!
Мишка немного помолчал, дожидаясь, пока его слова будут поняты и усвоены, затем продолжил:
– Отрок Пахомий, не передумал?
Пахом опять зыркнул в сторону старшего брата, но никакого совета не получил, да и какую помощь мог оказать ему Борис в сложившейся ситуации?
– Нет, не передумал!
Особой уверенности в голосе парня не было, одно упрямство и еще, как показалось Мишке, надежда на то, что Борис что-нибудь придумает.
«Привык, чуть что, за спиной старшего брата прятаться, как следствие, неумение самому отвечать за собственные поступки. Что ж, будем надеяться, что у второго голова варит лучше».
– Отрок Амфилохий, не передумал?
– Нет!!!
Вот здесь ни малейшей неуверенности не было. Похоже, братцы так достали парня, что он готов был рискнуть жизнью, ради того, чтобы рассчитаться за все разом.
«Блин, не катит Джек Лондон. Там были опытные, битые жизнью мужики, не раз ходившие по краю и знавшие, что такое смерть. А эти наверняка по-настоящему и не понимают, что вот прямо сейчас умрут. Что же вы творите, сэр? То, что и обязан, как бы дико это ни звучало! Прямо сейчас в крови и муках должен родиться неписаный закон: „Свой неприкосновенен. За убийство своего – смерть!“ Одними словами и увещеваниями это не создается. Наказаниями, даже самыми строгими – тоже. Непререкаемая истина должна быть наглядной и осязаемой. Амфилохия жаль, Пахома – нет. Если еще и братец сунется… тоже не пожалею. Позже эта кровь десятки жизней сохранит».
– Всем отойти! – Строй «курсантов» заколебался, но по нескольку шагов назад ребята сделали только после того, как Мишка угрожающе дернул в их сторону самострелом. – В любого, кто сунется, стреляю без предупреждения!
– Боярич, дозволь обратиться! Урядник…
– Заткнись! – Мишка направил самострел в сторону Бориса. – Раньше надо было думать, когда ты свой десяток до такого дерьма довел! Пахомий, Амфилохий, последний раз спрашиваю: не передумали?
– Нет! – в голосе Амфилохия слышался тот самый гибельный восторг, о котором через много веков споет Владимир Высоцкий. – Не передумал!
Пахом снова оглянулся на брата, и Борис не выдержал:
– Он передумал! Боярич, он передумал!
– Молчать! Не тебя спрашиваю! Пахомий, твое слово!
Пахом наконец-то испугался. Не поединка до смерти и не Мишкиного самострела. Впервые в жизни он лишился возможности прикрыться от опасности старшим братом. Оказалось, что это страшно. Мишка было подумал, что он сейчас откажется от поединка, но…
– Нет…
Трудно было понять: отвечал ли Пахом на Мишкин вопрос или просто попытался протестовать против сложившейся ситуации. Ни жестом, ни какими-нибудь словами он этого не пояснил. Тянуть больше не было смысла, и Мишка принял решение. Вытащив два кинжала, он швырнул их под ноги Амфилохию и Пахому, после чего в полный голос объявил:
– Поединок до смерти! Победитель будет казнен на месте за убийство отрока Младшей стражи! Начали!
– Стойте… – подал было голос Борис, но было уже поздно.
Амфилохий, видимо, слишком долго копил обиды и ненависть. Пока Пахом как-то нерешительно тянулся рукой к кинжалу, Ложка, мгновенно нагнувшись, схватил оружие и, не разгибаясь, метнул его в противника. Кинжал вонзился нагнувшемуся Пахому слева от шеи в ямку над ключицей, и парень застыл в согнутом положении, так и не подобрав свое оружие. Амфилохий же, «рыбкой» метнувшись к противнику, схватил его кинжал и развернулся к уряднику Борису – одной жертвы ему было явно недостаточно. В этот момент ему в затылок врезался болт из Мишкиного самострела. Выстрел с расстояния в несколько шагов пробил голову навылет, и в сторону зрителей полетели брызги крови и мозга.
Никакого поединка, в сущности, не получилось – все произошло почти мгновенно. Мишка стоял, опустив разряженный самострел, и смотрел на лежащие перед ним трупы двух мальчишек. Впервые он убил человека не в бою, не приступе ярости или защищаясь. Преднамеренно, ясно понимая, что и для чего делает. Отроки тоже замерли, глядя, как скребет пальцами по земле Пахом, так и не успевший взять в руки оружие.
Сколько длилась немая сцена, Мишка сказать бы не смог даже приблизительно. Ему показалось, что очень долго. Наконец, кто-то ойкнул, кто-то зашипел от боли, попытавшись утереть забрызганное кровью лицо кольчужным рукавом, кто-то согнулся в приступе рвоты – на каждого произошедшее подействовало по-своему.
Момент, когда на него кинулся урядник Борис, Мишка пропустил, но наработанные тренировками рефлексы не подвели – тело само ушло в сторону, а нога сделала подсечку. Правда, «проводить» пролетающего мимо урядника ударом приклада Мишка не успел. Грохнувшись на землю, Борис мгновенно подтянул правую ногу и вытащил из-за голенища нож, потом быстро вскочил на ноги и, слегка пригнувшись, двинулся на боярича. Повторно кидаться очертя голову он не стал, урок пошел на пользу – Мишка гораздо лучше владел приемами рукопашного боя, к тому же был без доспеха, а значит, подвижнее.
Перебросив самострел в левую руку, Мишка зажал в правом кулаке гирьку кистеня. Ни убивать, ни калечить Бориса он не собирался, поэтому даже не притронулся к кинжалу, а кистень взял не за кончик ремешка, а за гирьку. Борис сделал ложный выпад, но стоял он при этом так, что явно не доставал оружием до противника, Мишка даже не шевельнулся в ответ, лишь предупредил:
– Опомнись, на боярича руку поднимаешь.
– Ты, гнида, во всем виноват! – прошипел в ответ Борис. – Из-за тебя…
Недоговорив, Борис шагнул вперед и дважды махнул засапожником: слева направо и справа налево, стараясь полоснуть Мишку по горлу. От первого взмаха Мишка уклонился, откинувшись назад, а следующий сблокировал самострелом, сразу же ударив десятника в лицо кулаком с зажатой в нем гирькой. Борис рухнул навзничь, не издав ни звука, – чистый нокаут, несмотря на то, что Мишка бил аккуратно, опасаясь повредить руку. Но в полную силу бить и не требовалось, потому что бармица у Бориса была откинута назад, шлем сдвинут на затылок, а эффективность зажатого в кулаке груза Мишке довелось познать еще в детстве.
В первой половине шестидесятых годов ХХ века Мишке неоднократно приходилось принимать участие в драках с парнями из ремесленного училища, располагавшегося в Ленинграде на Петроградской стороне возле Сытного рынка. «Ремеслуха», как правило, оказывалась в численном большинстве, так как быстро получала подкрепление из близлежащего общежития, и очень любила использовать в качестве оружия форменные ремни с латунными пряжками. У некоторых эти пряжки были дополнительно усилены свинцовой заливкой, так что попадало пацанам с Петроградки довольно крепко.
Хотя большинство ребят носило школьную форму с практически такими же ремнями, как и у «ремеслухи», пытливая мысль младшей возрастной группы ленинградских гопников породила асимметричный ответ в виде стопки пятикопеечных монет, завернутых в тряпку или (у кого имелись) в носовой платок. Такое оружие можно было использовать двояко: либо как короткую дубинку, ухватив за свободные концы тряпки, либо зажав в кулаке. Кроме того, что это «изобретение» уравнивало шансы в столкновении с противником, оно еще и спасало от конфликтов с милицией, так как пятаки можно было мгновенно рассыпать, а платок приложить к разбитому носу или губе, изображая из себя невинную жертву.
Денег, правда, было жалко. После денежной реформы 1961 года пятьдесят копеек стали деньгами: два-три кило картошки (если плохой и мелкой – пять), или пять порций мороженого, или пять походов в кино по детскому билету. В силу этого обстоятельства Мишка натренировался при появлении милиции мгновенно высыпать пятаки в карман, а не раскидывать их по асфальту.
Именно эти воспоминания заставили Мишку категорически отказаться от Кузькиного предложения сделать гирьки кистеней ребристыми или даже шипастыми. Наоборот, Мишкин «фасон» гирьки внешне вовсе не выглядел грозным – слегка сплющенная с боков, удлиненная округлая железка. Зато как удобно она ложилась в ладонь и каким убойным был выглядывающий снизу из кулака край гирьки с ушком, в который продевался ремень! Даже дед одобрил Мишкино «изобретение», приняв для пробы на щит несколько ударов кулака с гирькой, одетого в латную рукавицу.
Вводя в обиход Младшей стражи гирьку «двойного назначения», Мишка имел в виду бой в тесноте, где особенно не размахнешься, а тыкать кинжалом в окольчуженного противника бесполезно, но вот же, пригодилось и в чистом поле. Борис лежал пластом и, кажется, даже не дышал. Мишка на всякий случай пощупал у него пульс на шее. Ощутив биение жилки, он облегченно вздохнул, распрямился и обвел глазами притихших парней.
– Ну, у кого еще руки чешутся?
Ответом было молчание. Два трупа и повергнутый без видимого, для неопытного глаза, усилия урядник, превосходивший всех присутствующих ростом и силой, произвели шокирующее воздействие.
– Младший урядник! – не дождавшись ответа, Мишка повторил громче: – Младший урядник! Не слышу ответа!
– Здесь! Младший урядник Нифонт, боярич!
Вторым младшим урядником десятка оказался тот самый парень, что ободрал себе щеку, утеревшись кольчужным рукавом.
– Слушай приказ, Нифонт. Временно принимаешь на себя командование десятком. Этого, – Мишка кивнул на лежащего без сознания Бориса, – освободить от доспеха, связать и отвести в темницу. Если не очнется, привести к нему лекаря Матвея. Этих, – кивок в сторону убитых, – отнести в часовню. О произошедшем доложить старшему наставнику Алексею.
– Слушаюсь, боярич!
Чувствуя спиной взгляды отроков, Мишка неторопливо, соблюдая достоинство, пошел к кустам, из-за которых вышел на шум драки. Когда почувствовал, что его уже никто не видит, опустился на землю и с чувством выругался. Кулак, которым он «отоварил» Бориса, болел, на душе было погано.
«Два покойника, а с третьим тоже что-то надо делать! Урядник, а ничуть не лучше рядовых, на боярича с ножом… Наказывать? А как еще наказывать? И так порем розгами, „губа“ (она же темница) ни одного дня не пустует. Наставники на пинки и затрещины не скупятся. Куда уж дальше-то? А вот сюда, сэр, – высшая мера, как апофеоз педагогического воздействия. С почином вас, сэр Майкл».
Мишка снова выругался и пнул ногой ни в чем неповинный самострел.
«А ну-ка, сэр Майкл, давайте-ка успокоимся, перестанем дергаться и начнем думать. Есть, хотя еще и не полностью сформировавшийся, уклад и порядок жизни Младшей стражи. И есть вполне сложившиеся уклады и представления о порядке, которые ребята принесли с собой. Они оказались среди чужих людей, в незнакомом месте, и к ним предъявляются достаточно суровые требования. Вполне естественно, они в таких условиях держатся кучкой, внутри которой сохраняются привычные им порядки. Что в результате получается?
Навязываемая им система правил то и дело приходит в противоречие с привычными им порядками. Причем, обратите внимание, сэр, у каждой группы порядки свои, хоть немного, но отличающиеся от остальных. Именно поэтому единый подход, применяемый ко всем, время от времени дает сбои. Что же прикажете в таком случае делать?
Сам собой напрашивается выход: разрушить землячества, растасовав ребят по разным подразделениям! Если не будет возможности придерживаться привычных порядков, им придется принять систему отношений, предлагаемую Младшей стражей. Недаром же в большинстве регулярных армий в будущем будет применяться принцип экстерриториальности – национальные или территориальные воинские формирования по сути являются инкубаторами иных ценностей и мотиваций, нежели общеармейские уставы. И это – опасно.
И все вроде бы правильно, досточтимый сэр Майкл, и вы об этом уже думали, но Нинея формировала десятки сама и предложение перемешать ребят не одобрила. И тогда вы придумали другой ход…»
Когда-то на вопрос деда о том, как заставить ребят подчиняться, что заставит их идти в бой под его командой, Мишка ответить не смог, но потом помог случай. Опричники настолько обалдели, увидев Мишкиных сестер в новых платьях, что даже не услышали приказ спешиться. Тогда-то Мишке в голову и пришла мысль о неявном противодействии влиянию Нинеи, которому волхва, пожалуй, не сможет противопоставить ничего.
Потом эта мысль получила подтверждение на берегу Пивени, когда от вида Анны Павловны, Аньки и Машки хором обалдели не только ратнинцы, но и всякого повидавшие лодейщики, вкупе с преисполненными столичной спеси купеческими сынками. Никола, бедняга, и вовсе наповал втрескался в Аньку-младшую.
После этого концепция формирования у «Нинеиного контингента» нового набора ценностей и мотиваций сложилась легко и быстро. Собранным по глухим дреговическим селениям отрокам даже Ратное, с его почти тысячным населением, казалось огромным городом. Дома, которые строила для своих семей артель Сучка по Мишкиному «проекту» – просторные пятистенки на подклете, с отоплением «по белому», с деревянными полами и черепичными крышами, представлялись прямо-таки дворцами. А девки… Да, девицы, сами того не зная, стали Мишкиным «главным калибром».
Вечерами, на посиделках, девки, повинуясь дирижерским взмахам рук Артемия, сладкими голосами выводили:
- Эх, дороги, пыль да туман,
- Холода, тревоги да степной бурьян.
- Знать не можешь доли своей,
- Может, крылья сложишь посреди степей.
- Вьётся пыль под сапогами, степями, полями,
- А кругом бушует пламя да стрелы свистят…
А в ответ, заставляя Артемия морщиться и кривиться, как от зубной боли, звучали ломающиеся голоса отроков:
- Ты ждёшь, Лизавета,
- От друга привета.
- Ты не спишь до рассвета,
- Всё грустишь обо мне.
- Одержим победу,
- К тебе я приеду
- На горячем боевом коне…
С немалым для себя удивлением и радостью Мишка обнаружил, что тексты песен, разученные им в школе на уроках пения и в солдатском хоре, почти не нуждаются в редактуре при переводе на язык XII века.
В общении же с девицами Мишкины братья и, особенно, бывшие музыканты, во многих местах побывавшие и многого повидавшие, выигрывали с явным преимуществом, как, впрочем, и купеческие детишки.
С коварством эдемского змия-искусителя, Мишка начал подспудно внушать «Нинеиному контингенту» мысль: «И ты можешь стать таким же – повидать свет, жить в таком же доме, заполучить в жены такую же девку…»
Сначала, в качестве поощрения за успехи в учебе и службе, он начал приглашать отроков к себе на ужин. Два-три отрока, сам Мишка, кто-нибудь из «ближнего круга» и старший наставник Алексей не просто ужинали, а еще и чинно беседовали, как взрослые солидные мужи, а поев, приглашали с другой половины дома «дам» – боярыню Анну, Мишкиных сестер и нескольких девок из «бабьего батальона». Засиживались за разговорами в домашней обстановке допоздна, а отроки потом гордились и хвастались перед другими, не удостоившимися такой чести, придумывая невесть какие подробности.
Между десятками Младшей стражи развернулось воистину свирепое (иногда и до мордобоя) соревнование за право сопровождать девиц по воскресеньям в ратнинскую церковь. В доспехе и при оружии! На субботнем построении Младшая стража, затаив дыхание, ждала Мишкиного объявления о том, какие два десятка отроков по итогам недели признаны победителями и назначаются в вооруженный конвой.
Наиболее же сильным воздействием на умы отроков оказалась придуманная Мишкой «репетиция семейной жизни». Суть ее заключалась в следующем. Один из построенных на посаде домов передавался на трое суток паре из отрока и девки. За первые два дня они должны были обставить пустой дом мебелью, натащить туда со складов Ильи хозяйственной утвари и припасов, а на третий день принять гостей – Анну Павловну с Алексеем, Илью с женой, Мишку с сестрами. Показать, как обустроен дом, угостить, занять приличной беседой – сначала мужская и женская части по отдельности, а потом вместе. После этого следовал «разбор полетов» – что «молодые» сделали правильно, что неправильно, как себя вели, принимая гостей, как следует исправить недочеты.
Популярностью это мероприятие пользовалось бешеной, отроки готовы были наизнанку вывернуться, чтобы стать очередным испытуемым, несмотря на то, что спрос при подведении итогов был строжайший, ни одно из упущений не оставалось незамеченным, а надзор за нравственностью оставленной наедине пары осуществлялся, «дабы не увлеклись», жесточайший.[7]
Не обошлось, правда, и без неприятностей. Поскольку девок было всего полтора десятка, а отроков более сотни, женская часть «испытуемых» быстро приобрела необходимый опыт и начала помыкать временными партнерами, ударными темпами нарабатывая опыт стервозности и скандальности. Результат воспоследовать не замедлил – одна из девиц, поведшая себя с очередным отроком уж и совсем, как с мужем-подкаблучником, огребла сначала пару оплеух, а затем, направляемая и вдохновляемая пинком под зад, ласточкой упорхнула с крыльца.
Особых телесных повреждений она не получила (рукопашному бою отроки обучались старательно), но переживаний было!.. Поученная «по-мужски» дева не только не нашла ни малейшего сочувствия у Анны-старшей, но еще и была подвергнута дополнительному наказанию. Алексей же прочел отрокам пространную лекцию о том, как правильно «учить» зарвавшихся баб, не нанося ущерба здоровью и не оповещая шумом всех соседей. Лекция имела такой успех, что Мишке потом пришлось преподать отрокам несколько психологических «противостервозных» приемов, не требующих рукоприкладства. Хотя и ему пришлось признать, что сама возможность воздействия физического является весьма существенным подспорьем для воздействия психологического – средневековье, куда денешься?
В общем, дело достаточно уверенно шло к тому, чтобы где-нибудь через годик отроков можно было спокойно отпустить на побывку домой. Там молодым воинам все покажется серым, скучным, тесным, маленьким… И Нинея ничего с этим поделать не сможет. Если подростку где-то интересно и весело, если впереди надежда на новые впечатления и ощущения, то родителям и учителям с этим справиться очень и очень трудно. В этом разницы между XII и ХХ веками не было никакой.
«М-да, светлая боярыня Гредислава Всеславна, несмотря на всю вашу опытность и мудрость, женский подход вас все-таки подвел! Уже в процессе обучения некоторые из назначенных вами десятников доверия не оправдали, а в боевых условиях этот ваш просчет может стать еще более явным. Не знаете вы военных реалий, не знаете…
Тот же конфликт Амфилохия с Борисом и Пахомом мог бы остаться обычной детской ссорой, если бы одна из конфликтующих сторон не приобрела формального права командовать другой стороной. Вот и достали братцы Борис и Пахом парня до последней невозможности. Ну, что ж, сэр, значит, придется пройти и через это».
Мишка поднялся с земли, привел в порядок одежду и амуницию и пошагал к крепости. Первым ему навстречу попался Роська. По всему было видно, что крестник целенаправленно ищет Мишку по какому-то сверхсрочному делу.
– Минь! – закричал Роська еще издалека. – Минь, нельзя же так, скажи им!
– Чего нельзя-то?
– Они покойников необмытых и неприбранных в часовню притащили и бросили. Кто ж так делает? И еще: кто их отпевать будет? За отцом Михаилом посылать надо.
– Обмывает и прибирает пусть сам седьмой десяток, так младшему уряднику Нифонту и передай, скажи, что я велел. И еще скажи, что если не сделает, младшим урядником ему не быть! А отпевать… Отпевать ты будешь!
– Я?!
– Да! Ты у нас самый ревностный христианин, почти все службы наизусть знаешь, да и ответственным за духовное воспитание отроков от Совета Академии назначен тоже ты. Так что, за неимением рукоположенного священника… Трудись, одним словом.
– Минь, – Роська явно растерялся – да как же… я…
– Урядник Василий! – добавил металла в голос Мишка. – Отставить причитания!
– Слушаюсь, боярич!
– Вот так-то. Покойников отпоешь, проводишь до могил, а потом уйдешь в казарму и носа на улицу не высовывать, особенно ночью.
– Да ты что? Они же их не зароют, а по языческому обряду на костер положат!
– Ох, Роська… – Мишка с трудом сдержался, понимая, что одним командным тоном толку не добьешься, – ну сколько ж тебе еще объяснять, что знания лишними не бывают? Ты хоть поинтересовался, как по Велесову уряду покойников в последний путь провожают?
– Нет никакого Велесова уряда! – Роська набычился, и Мишка уловил в его голосе знакомую фанатичную тональность отца Михаила. – Нет вообще никаких урядов, а одно лишь сатанинское непотребство! И ты ему потакаешь! А я не стану!!!
«Праведник, туды б тебя… Спокойнее, сэр, вам ли не знать, что неофиты вечно стараются быть святее Папы римского? Плюс юношеский максимализм. Сопротивление фанатиков только распаляет, единственное надежное средство – заставить думать. Унтер Василий, слава богу, не дурак, да и не фанатизм у него пока, а некая восторженность от нового взгляда на жизнь и приобщения к Великой Истине. Пользуйтесь, пока вы для него авторитет, а то упустите – поздно будет».
– Давай-ка, Рось, присядем… вон там хотя бы.
– Зачем?
– А ну, кончай ерепениться, – Мишка приобнял крестника за плечи. – Я тебя когда-нибудь плохому учил?
– Э-э…
– Давай, давай, садись, поговорим. Помнишь, как я тебя книжным словам обучал?
– Ну, помню…
– Вот и хорошо… Видишь ли, сын мой во Христе, наука умеет много гитик…
– Чего?
– Бог есть Любовь… С этим-то ты согласен?
– Ну… да… – Роська напрягся, заранее подозревая какой-то подвох. – А причем тут…
– А как любить, не понимая? – не дал ему договорить Мишка. – И как понимать без знания? Вот ты говоришь «сожгут», а зачем? Какой смысл вкладывается в обряд кремации? Тебе это известно?
– Ну, вроде бы они верят, что так в Ирий-град попасть можно…
– Верно. В град богов славянских, к Сварогу и его детям. Но Велес-то из Ирия изгнан был, а дреговичи Велесу поклоняются! Зачем же тогда жечь? Зачем отправлять души туда, где их бога нет?
– Сатана тоже низринут был, за то, что… – начал было Роська, явно собираясь идентифицировать Велеса, как Князя Тьмы, но Мишка снова его перебил:
– За что Врага рода человеческого Господь покарал, я не хуже тебя знаю! Не увиливай, Роська! Я тебе вопрос задал: «Зачем жечь тела, если душам поклонников Велеса в Ирий не надо?» Как ты духовным воспитанием отроков занимаешься, если на простейший вопрос ответа не знаешь?
– Так… это… вроде бы незачем… – Роська удивленно уставился на Михайлу. – А чего ж они тогда?..
– Именно! Незачем! – Мишка поймал себя на том, что, копируя деда, назидательно вздел указательный палец. – Так они и не жгут! В земле хоронят! И разницы в способе захоронения особой нет – земля к земле, прах к праху. Единственное – мы тело в домовину кладем, а они кораблик плетеный делают – корзинь…
«Мать честная! Корзинь, а дед-то, в язычестве, Корзень! Как же я раньше-то… Ну да, Нинея рассказывала, когда я еще про деда не знал… Это ж получается что-то вроде греческого Харона, который умерших через Стикс перевозил… вернее, не так – дед „путевку на берег Стикса выдавал“. Ну, ни хрена себе репутация у дедушки! Сколько же он народу положил, чтоб такую кликуху заработать?»
Мишкины размышления, видимо, настолько явственно отразились на его лице, что Роська осторожно спросил:
– Минь… ты чего?
– Ничего! – отозвался Мишка, резче, чем хотел. – Хочешь на христианском обряде настоять? А у тебя к нему все готово? Христиан хоронят в пределах церковной ограды. А у нас освященная земля для кладбища есть? Если не храм, то хоть часовня на этом кладбище стоит? Ты хотя бы место, где покой усопших мирская суета нарушать не будет, выбрал? И не смей врать, что собирался умерших в Ратное отвозить, ты об этих делах даже не задумывался!
– Да кто ж знал? Минь…
– Вот и сиди в казарме! Сунешься им мешать, морду набьют или чего похуже устроят.
– Так ведь грех-то какой!
– Помешать ты им можешь? Нет! Поэтому позаботься о душах, а с телами… – Мишка сделал над собой усилие и заговорил мягче: – Ну, не все же сразу, Рось! Посмотри ты на жизнь нормальным взглядом. На все время нужно. Это ты вот так сразу истинной верой проникся, но ты исключение, а не правило. Ребята всего три месяца как к православию прикоснулись, а всю жизнь до этого в Велесовом уряде обретались, и родители их, и деды, и пращуры не знамо сколько колен.
– И горят теперь в геенне огненной…
– Дурак! – Мишка снова сорвался на резкий тон. – Они виноваты в том, что до них никто Благую Весть не донес?
– Андрей Первозванный…
– Да! На киевских горах проповедовал, но где Киев и где мы, да и когда это было? От тех времен до Владимира Святого столетия прошли!
– Но все равно…
– Нет, не все равно! Сжигают своих покойников поклонники Перуна, а не Велеса, да и то не всех. Некоторых тоже в земле хоронят, для того чтобы, пройдя через Лоно Матери-Земли, они очистились и пришли в мир в новом рождении, более лучшими. По-научному называется реинкарнация, сиречь – перевоплощение.
– В Писании такого нет… – не очень уверенно возразил Роська.
– Верно, христианство реинкарнацию отвергает. Перун в наших краях чужой, его сюда варяги Рюрика принесли. А у литвы, пруссов и ятвягов есть похожий бог – Перкунас. Твои родители, скорее всего, ему поклонялись, им ты тоже адские муки сулишь?
– Я за них молиться буду…
– Ты мне тут кликушу из себя не строй! – Мишка все-таки сорвался на крик. – Я слышал, как ты сейчас про геенну огненную толковал, злорадство в твоем голосе было, злорадство! Мол, я Истинной Веры сподобился, а вам, язычники закоренелые, в адском пламени гореть! И это христианин, коему о загубленных душах скорбеть надлежит!
– Минь… – Роська дернулся, как от пощечины. – Крестный!
Мишке показалось, что Роська сейчас бухнется на колени и начнет каяться.
«Перебор, сэр, ну нельзя же так! Парень вас чуть ли не за отца родного держит, а вы с ним, как с дерьмократом в кулуарах Госдумы. Нервы, конечно, не железные, но своего-то зачем?»
– Все, Рось, все, хватит! – Мишка снова приобнял крестника за плечи. – Ну, перестань, перестань… эк тебя пробило-то. Хватит, я сказал! Испробовал на себе истину «не суди и да не судим будешь»? Вот и не суди.
– Но как же?..
– Всему свой срок, Роська, не спеши, воспитаем ребят как надо, только не дави, не ломай. Время – такая штука… оно все перебарывает, сам убедишься… со временем. Ну, вот представь себе: переженятся наши отроки, родятся у них детишки. Кто им сказки да легенды рассказывать будет? Деды и бабки, так?
– Так… но они же язычники?!
– Погоди, Рось, не спеши. Потом и у тех детей родятся свои дети. И они уже будут спрашивать у своих дедов и бабок: как устроен мир, почему гремит гром, что с человеком происходит после смерти?
– Ага! А они уже христиане и станут рассказывать…
– Нет, Роська, если бы все было так легко и просто! На самом же деле… Понимаешь, сказки-то малым детям мы рассказываем по большей части те, которые сами в детстве слышали. Так что… не знаю. Кто-то, конечно, и Святое Писание внукам возьмется пересказывать, а кто-то языческие сказания, а скорее всего, и то и другое вперемешку. Но пройдет еще несколько поколений, и однажды на вопрос внучат: «Что бывает с людьми после смерти?» уже никто не произнесет слово «Ирий», а только слова «Ад» и «Рай». Вот тогда… вот тогда и произойдет то, чего ты хочешь добиться всего-навсего за три месяца!
– Так мы же и не доживем…
– Андрей Первозванный тоже не дожил, а Русь-то крестили!
– Минь… Крестный, ты так говоришь, будто тебе не четырнадцать лет, а четыреста…
– Ну так и ты, православный воин Василий, тоже с отроками разговариваешь не от себя, а опираясь на одиннадцать веков христианства. Или не так?
– Я как-то и не задумывался…
– Ну так задумайся: что такое три месяца по сравнению с тысячелетием? А теперь ступай, присмотри там, но в меру, с разумением.
– Но отец Михаил…
– Исполнять! Могилы, кстати, пусть тоже седьмой десяток роет. А кресты на могилах позже поставим. Все, урядник Василий, спорить и возражать запрещаю! Иди, командуй седьмым десятком!
«Мда-с, досточтимый сэр, мировоззренческий конфликт между поколениями… В какую еще сторону вывернется – поди угадай. Ладно, еще сейчас – „это бог неправильный, а вот этот правильный“, а придет время и вслух будет сказано: „Бога нет!“
И какой из сего заявления надлежало сделать вывод? Все дозволено? Этим вопросом, помнится, мучились персонажи Достоевского. А Максим Горький устами своего героя заявил: „Все – в человеке, все для человека! Существует только человек, все же остальное – дело его рук и его мозга!“ Все почему-то помнят из этого монолога Сатина только слова „Человек – это звучит гордо!“, а ведь, по сути, это – манифест атеизма. И публика рукоплескала! Граждане империи, где православие было государственной религией и без справки от приходского священника нельзя было получить паспорт! Да, на театральных подмостках это красиво, смело, возвышенно! А в жизни? Когда дошло до дела, то только шмотья полетели, причем шмотья кровавые, а те, кого в школах подзатыльниками и розгами заставляли учить Закон Божий, с уханьем и присвистом валили кресты с куполов…
Не то ли и вы, сэр, сейчас творите? Да, под угрозой наказания „курсанты“ уже не блеют и не кукарекают во время молитвы, но… Амфилохий и Пахом – дети одного рода, пусть и дальние, но родичи – подняли оружие друг на друга, вопреки обычаям, освященным веками! Не ваших ли рук дело? Старые правила вроде бы можно уже и не исполнять, а новые еще не стали непреложной истиной…
Переходный период… Как его сократить? Пожалуй, только война – боевое братство в бою и выковывается. Едрит твою, опять кровь… неужели нельзя никак иначе? Э-э, сэр, опять вас понесло! Кровь, кровь… да, кровь! Вы Воинской школой или балетным кружком руководите?
Но вторая составляющая воинского братства – одинаковое понимание Добра и Зла, то есть единая идеология. Патриотизма еще нет – не то ЗДЕСЬ пока государство, национального самосознания… да тоже пока конь не валялся – о славянстве знают, хотя и весьма расплывчато, но главенствует во всем род, более опосредованно – племя: дреговичи, кривичи, радимичи и прочие. Значит, в качестве позитивного объединяющего начала остается только религия. Одинаковое мировоззрение, одинаковые нравственные императивы, одинаковые поведенческие реакции в сходных обстоятельствах. Единоверцы понятны, предсказуемы, вызывают доверие. Вывод? Никаких посвящений в Перуново братство больше допускать нельзя. Выкручивайтесь, сэр, как хотите, но зигзаги типа: Велес – Христос – Перун для подростковых мозгов явный перебор.
М-да, достойный вывод для ученика и преемника главы Перунова братства. Стопроцентный сюр, господа!»
Внутри крепости все, казалось, шло своим чередом, все занимались своими делами, но Мишка то и дело ловил на себе настороженные взгляды. Все было понятно: обычно боярич телесными наказаниями не злоупотреблял, фактически не использовал их почти никогда, а сегодня… Два трупа и урядник под арестом, хотя тоже мог бы уже быть покойником.
Мишка огляделся, увидел, что Алексей что-то объясняет сидящему верхом отроку – судя по всему, отсылает гонца в Ратное, и направился к старшему наставнику Младшей стражи. Идти пришлось мимо «курсантов», занимающихся верховой ездой. Наставника с ними почему-то тоже не было, в середине круга, по которому неспешно рысили кони, восседал верхом Мефодий, время от времени пощелкивая кнутом и покрикивая на учеников.
Поначалу кавалеристы из лесовиков были вообще никакие. На спине у лошади кое-кто из них держаться мог, но и только. К седлам, стременам и кавалерийским командам Нинеин контингент пришлось приучать с нуля. Сейчас, после месяца ежедневных занятий, все выглядело уже гораздо приличней, но Мефодий постоянно находил повод для замечаний:
– Не горбиться, спину держать! Ногу в стремя самой широкой частью стопы, пятку опустить! Да не плюхайся ты, плавно в седло опускайся! Ногой направляй, ногой, а не поводом!
Заметив старшину, Мефодий послал своего коня вперед и, проехав сквозь круг всадников, зычно заорал:
– Боярич, шестой десяток…
Мишка махнул рукой, прерывая рапорт и удивленно уставился на Мефодия: прерывать занятия для рапорта бояричу, проходящему довольно далеко, явно не требовалось. Торк замолк, но коня не остановил и в круг не вернулся, а подъехал вплотную и, свесившись с седла, негромко произнес:
– Если что, свисти. Мы готовы.
– Что «если что»? – не понял Мишка. – Ты о чем?
– Вон, Дмитрий идет, – Мефодий качнул головой в сторону выхода из казармы. – Он уже всех собрал.
– Кого «всех»?
Ответа не последовало, Мефодий развернул коня и отправился на свое место. Мишка прибавил шагу, но направления не сменил: было видно, что Дмитрий тоже направляется в сторону наблюдательной вышки, под которой стоял Алексей.
– Поздравляю! – непонятно поприветствовал Мишку старший наставник. – Вот ты, наконец, и стал сотником. Я уж думал, так и не решишься никогда.
Алексей говорил совершенно серьезным тоном, в голосе его не было ни малейших признаков сарказма или издевки, признаков неодобрения не было тоже.
– С чем поздравляешь-то? С покойниками?
– И с покойниками тоже, но главное то, что ты после всего один против семерых остался, и они тебе подчинились, и никто из них оскалиться не посмел! Так и должно быть – есть ты и есть все остальные! А кто не согласен, того нет! Молодец, все правильно сделал, только надо было еще и обалдуя этого, Борьку, тоже прирезать, а то возись теперь: воеводу Корнея вызывай, суд устраивай… Митяй! – Алексей повернулся к подходящему Дмитрию. – Что у тебя, все готовы?
– Все, дядька Алексей. Два десятка опричников в казарме у окошек и дверей, Артемий со своими музыкантами возле моста через ров вроде бы в дудки дует, но самострелы под рукой, Варлам с теми, кто у него остался, – у плотников в мастерской, Демьян с десятком вон там засел, только что из кустов махал. Прикрылись со всех сторон, только Роську никак не найдем. Минь, ты не знаешь, где он?
– Повел седьмой десяток могилы копать…
– Один?! – Алексей резко развернулся в сторону Мишки. – Ты о чем думал, когда его одного… Ладно. Митяй, быстро одну пятерку к Роське! Бегом!
– Так… Куда? Кладбища-то еще нет, где они копать собирались?
– У Артемия спросишь, он у моста со своей музыкой сидит, должен был видеть, куда они пошли. Погоди! – Алексей оглянулся в сторону загона для лошадей. – Кони оседланные есть?
– Нет… – растерявшийся Дмитрий тоже глянул в сторону загона. – Не подумали…
– Ссаживай вон тех! – Алексей указал на отроков, упражнявшихся под руководством Мефодия. – Давай-давай, не тяни!
Дмитрий обернулся к окошкам казармы и, указав растопыренной пятерней количество нужных ему людей, ткнул указательным пальцем в сторону Мефодия и сам побежал туда же.
– Дядька Алексей, что тут происходит-то? – Мишка и сам понял, что первая полусотня только что взяла крепость под контроль, но ему нужен был комментарий самого Алексея. – Вы что, бунта опасаетесь?
– Ну… это – вряд ли. Однако, чтобы дурные мысли в головы не лезли, пусть видят, что при случае мы их всех уроем и не почешемся. Гляди и запоминай. Перед казармой верхом крутится самый упорный десяток – те, которые грамоте учиться не хотят. Верхом они ездят еще неважно и от болтов увернуться не смогут. Еще два десятка лесовиков сейчас на стрельбище, но у них только учебные болты, с ними не повоюешь, и стоят они на открытом месте. Демка, если что, их из кустов пощелкает, как гусей. Может, и не всех, но в крепость пройти не даст. Еще один десяток, вон, гляди, кинжалы мечут. От них до мастерской, где Варлам засел, всего шагов тридцать – не промажут. Еще один десяток в дозоре, Нинеину весь охраняют, они и не знают еще ничего. И последний десяток по хозяйству работает, они и вообще без оружия и доспехов.
– Ты как будто заранее ко всему готовился…
– А как же? Ты, думаешь, я, как столько времени ватагу озверевших мужиков в кулаке держал? Ко всему готов был: и к бунту, и к удару в спину, и к тому, что другого воеводу избрать захотят и… вообще, ко всему!
Алексей проводил глазами пятерых опричников во главе с Дмитрием, согнавших с коней отроков, упражнявшихся под руководством Мефодия, и галопом вылетевших из крепости куда-то к лесу, на который указал им Артемий.
– Но у меня-то не озверелые! – Мишке стало даже обидно, что Алексей сравнил Младшую стражу со своей ватагой.
– У тебя еще хуже – молодые и глупые! Страха в них настоящего нет. Не боязни, не трусости, я не об этом говорю. Страха от понимания того, что ты смертен. Молодые его не чувствуют, им все кажется, что впереди вечность. А ты им сегодня этот страх показал. Давно надо было! Самое же главное – они твоего страха не увидели! Ты стоял над тремя телами, один против семерых и не боялся. Ведь не боялся же?
– Да я как-то и не думал…
– Вот! Если бы подумал, то мы с тобой, может быть, сейчас и не разговаривали бы. Почувствовали бы в тебе слабину, накинулись бы и порвали. Но ты даже и не думал! В этом твое право командовать, а не в том, что ты сотников внук и поставлен начальствовать над Младшей стражей. Только в этом! Никакое боярство, никакой княжий указ такого права не дает. Оно или есть, или нет.
Но запомни: обратной дороги у тебя нет, и в Ратнинскую сотню для тебя путь закрыт – ни один десятник, если он в своем уме, тебя в свой десяток не возьмет, и сотник, даже если он тебе дед, тоже не возьмет. Право смерти может быть только у одного. Мне Фрол покойный рассказывал, как твой прадед сотника зарезал. За такое ведь казнят? А?
– Да, должны…
– Его же не казнили, а подчинились! И никаких выборов сотника не было, он сам себя выбрал, не задумываясь о казни и прочих вещах. Так и ты сегодня. Все, считай себя отныне сотником, без всяких выборов и назначений. Ты сам себя им сделал!
«Мда-с, любезнейший Алексей Дмитриевич, зерно истины в ваших словах несомненно есть, но то, что вы мне излагаете, хорошо для руководства бандой, а я совершенно другую структуру создать намерен – регулярное воинское формирование, дружину, боевое братство профессионалов. Мне не за спинами опричников прятаться надо, а внедрять в сознание суворовский принцип „Сам погибай, а товарища выручай“. Если делить ребят на „своих“ и „толпу“, ни черта, извините, у меня не выйдет. И у вас, уважаемый старший наставник, тоже. Вот прямо сейчас я вам, Алексей Дмитриевич, это и продемонстрирую».
– Дядька Алексей, а где все остальные? Наставники, мать с девками…
– Наставники вместе с опричниками в казарме, только Глеб с Демьяном пошел, Аню… матушка твоя вместе с девками в плотницком жилье – на всякий случай, за отроками Варлама приглядывает.
– Значит, крепость простреливается вся насквозь, как тогда, во время бунта, усадьба?
– Верно понял, – Алексей обвел взглядом внутреннее пространство крепости, словно оценивал будущее поле боя. – Ни одного уголка, где можно спрятаться, нет.
– А если кто-нибудь из девок, как тогда, во время бунта, случайно стрельнет, а за ней все остальные? – озаботился Мишка. – Сколько народу перебьем?
– Нет, за девками твоя мать присматривает.
– Значит, Варлам стережет лесовиков, девки стерегут Варлама, а мать стережет девок? Знаешь, у древних римлян такая пословица была: «Кто будет наблюдать за наблюдающим?»
– Ну, кашу маслом не испортишь! – пословицей на пословицу отозвался Алексей. – Зато все надежно!
– Обед скоро, дядька Алексей, ребята со стрельбища обедать пойдут, а Демьяну указано их в крепость не пускать. Что получится?
– Гм, надо Дударику сказать, чтобы пока на обед не дудел.
– Пока что? Ты посмотри: наши все в засаде сидят, а те, кого они стерегут, и в ус не дуют. Кто в крепости хозяин? Те, кто спокойно своими делами занимается, или те, кто с оружием по углам да кустам попрятался и неизвестно чего ждет?
– Как это, неизвестно чего? Ты двоих из них убил, а третьего в темницу отправил, а Корней, когда приедет, к смерти его приговорит непременно…
– Ну и что? Я убил двоих не «из них», а из седьмого десятка, и только. Ребята все из разных поселений собраны, и выходцев из каждого поселения Нинея сама свела в десятки и поставила десятников. У убитых нигде, кроме седьмого десятка, земляков нет, они все чужие друг другу. С чего бы остальным за ребят из чужого поселения заступаться?
– Гм… ну, ладно. Значит, объявим, что это было учение на случай, если враг в крепость ворвется, и на этом закончим.
Не успел Мишка порадоваться покладистости старшего наставника, как тут же получил замечание:
– А ты почему без меча? Я тебя для чего отдельно учу?
По вечерам, перед ужином, Алексей занимался с Мишкой отдельно, так, чтобы этого не видели «курсанты». По его глубочайшему убеждению, лучше, чем командир, владеть оружием не должен никто, а потому во время занятий старший наставник Воинской школы был беспощаден. В первые дни Мишка даже не мог за ужином нормально есть, бывало, ронял ложку или не мог дрожащей рукой зачерпнуть еду.
Поэтому и приходилось ужинать в специально для него выстроенном доме, чтобы «курсанты» не видели своего старшину в столь жалком состоянии. Постепенно Мишка втянулся в занятия, они перестали его так изматывать, а в последние дни он даже по собственной инициативе, а не по команде Алексея, стал переходить от обороны к нападению, без особого, впрочем, успеха.
– Да я как-то… – Признаться, что никак не привыкнет постоянно таскать на поясе меч, Мишке показалось стыдным.
– Ну, вот, только тебя похвалил, а ты… – Алексей досадливо поморщился. – Разумный же парень, а никак не поймешь, что каждый миг, любой мелочью, ты должен напоминать всем: я не такой, как все остальные! Вот ты Амфилохия из самострела убил, но так и все отроки могут, а мечом зарубил бы? Так можешь только ты и опричники…
– Человек в реке!!! – прервал Алексея истошный вопль с наблюдательной вышки. – Тонет!!!
Мишка выскочил из-под вышки и, задрав голову, заорал:
– Где?!
– Там! – отозвался наблюдатель, указывая на реку выше по течению. – Ребята со стрельбища уже бегут!
Когда Мишка выбежал на берег, спасательная операция уже завершилась: на прибрежном песке, мучительно кашляя, лежала обнаженная девушка, рядом валялся насквозь промокший узелок с одеждой. Спасители пытались о чем-то расспросить несостоявшуюся утопленницу, но она только мотала головой и пыталась прикрыть наготу руками. Мишка сбросил пояс, стянул через голову рубаху, протянул ее девушке и на секунду замер, уставившись на знакомое лицо. Это была та самая холопка, которую «лишила слуха» Нинея.
«Мать честная, ну и свинья же вы, сэр Майкл! Еще месяц назад надо было ее к Нинее отвести, чтобы та ей слух вернула! Совершенно из памяти выскочило, а она, бедолага, все ждала, ждала… Кто-то, наверно, надоумил самой ко мне идти. Чуть не утонула…»
Мишка накинул свою рубаху на девчонку и прикрикнул на отроков:
– Ну, чего уставились? Быстро тащите ее к лекарке, видите – прокашляться никак не может! И одежку ее прихватите.
Ребята, подхватив девчонку под руки, споро потащили ее к крепости, а Мишка, мысленно матеря сам себя за забывчивость, потащился следом.
В крепость он вернулся как раз одновременно с конниками Дмитрия, конвоирующими остатки седьмого десятка и Роську. Дмитрий, увидав Мишку, направил своего коня к нему.
– Минь, ты чего это с голым пузом?
– А, пустяки. Что там с Роськой, по шее не накостыляли?
– Ага, ему накостыляешь! Он святоша-святоша, а когда надо, сам кому хочешь накостыляет! И Нифонт – парень правильный, сумел своих от дури удержать, нам ничего и делать не пришлось.
– Ну и ладно. Мить, завтра дед приезжает. После обеда все занятия отменяй и наводи порядок в крепости.
– Да как его тут наведешь?
Действительно, стройка была в самом разгаре. Плотники уже сложили часть срубов, поверх которых должны были быть насыпаны валы. Другую часть только начали складывать. Повсюду валялись бревна, щепки, полосы древесной коры, тут и там высились груды земли, глины и камней. В общем, привычная картина стройплощадки опоясывала строящуюся крепость по периметру. Относительный порядок был только посередине да возле казарм – одной построенной и второй, только подводившейся под крышу.
– Как получится, так и наведем, Мить, негоже начальство грязью встречать. Передай Демке, чтобы командовал, зря, что ли, его городовым боярином сделали? И ты тоже присмотри, а я к лекарке пошел.
– Чего, заболел?
– Да нет, за рубахой.
«Однако, сэр, в медпункт вам надо бы не только за рубахой. Что за странные выпадения памяти? То забыли, что для Якова специальный десяток разведчиков создать собирались, то про девчонку „глухую“… Может, и еще что-то важное позабыли… В чем дело-то? Хотя, если поразмыслить… Морфологически мозг окончательно формируется только к двадцати пяти годам, вам в этом теле еще нет и пятнадцати, а грузите вы мозг по полной. Были же уже проблемы, теперь вот еще и это. Как там, во время бреда в Отишии, Лис выразился: „Береги голову, она пока не может вместить все, что ты в нее пихаешь“? Вот тебе и бред…»
Повидаться с Юлькой одновременно и хотелось, и было боязно. За день до посвящения в Перуново воинство Мишка оказался в ситуации, которой всегда и сам всячески избегал, и другим советовал – вляпался в девичью разборку.
Еще месяц назад, привезя в крепость отца Михаила, Мишка приставив к священнику, в качестве экскурсовода, Роську, отправился к Нинее. Другого случая, пока в крепости пребывал монах, могло и не представиться, а Савву надо было показать волхве обязательно.
Сделал все честь по чести: заслал к Нинее предварительно Дударика с объяснением возникшей нужды, в двух словах изложил причину болезни Саввы и то, что Настена лечить его не взялась. Попросил назначить время для приема, чтобы не отрывать светлую боярыню от важных дел. Ответ Дударик принес несколько странный: Алексей с сыном могут приходить прямо сейчас, а Мишка – после отъезда попа.
Помочь Савве Нинея не отказалась, но и сама лечить не взялась. После того, как Алексей с сыном просидели у волхвы часа полтора, Савва вышел на улицу держась не за руку отца, как было всегда, а за руку Красавы. С тех пор они не расставались целыми днями – Савва таскался за Красавой как собачонка, а та почти все время что-то ему говорила, что-то показывала, приводила смотреть то на тренировки «курсантов», то на занятия девок со щенками. При всем при этом, маленькая волхва как-то умудрилась ни разу не попасться на глаза отцу Михаилу, пока тот находился в крепости. Когда артель Сучка поставила дома для наставников, Красава поселилась в доме Алексея.
Минула переполненная событиями середина лета – бунт, ранение, поход за болото… Мишке было не до пацаненка, потерявшего со страха голос и, видимо, слегка повредившегося в уме, но усилия Красавы, похоже, не пропали втуне. Постепенно с лица Саввы начало сходить выражение испуга, а однажды вечером Мишка услышал, как Алексей говорит матери: «Молодец Красава, истинная волхва растет! Саввушка-то мой улыбнулся сегодня! Бог даст, заговорит скоро».
«М-да, сэр. Вот она Святая Православная Русь – лечимся у языческой волхвы и при этом совершенно искренне рассчитываем на Божью помощь! И кто из нас тут сошел с ума?».
Через несколько дней после этого на идущего по крепостному двору Мишку налетел Савва, весь в слезах и бегущий сам не зная куда. До сих пор он позволял Мишке притронуться к себе только в присутствии отца или Мишкиной матери, а тут, едва удержавшись на ногах после столкновения, сам ухватил Мишку за рукав и продолжая обливаться слезами, потащил куда-то в сторону собачьих вольеров. Спрашивать о чем-либо пребывающего в истерике пацана было совершенно бесполезно, поэтому Мишка покорно направился туда, куда тащил его Савва.
То, что открылось Мишкиному взору возле пустых собачьих клеток – всех щенков увели на занятия, заставило его на несколько секунд окаменеть от удивления. Рядом замер и замолк вцепившийся в рукав Мишкиной рубахи Савва. В пустом собачьем вольере билась, как птица в ловушке, Красава. Билась отчаянно и, кажется, совершенно не соображая, что с ней происходит. Ее тело ударялось то о стенку клетки, то о решетчатую дверь, она падала, поднималась и снова кидалась вперед с закрытыми глазами. Внучка волхвы, видимо, пребывала в таком ужасе, что даже не могла догадаться просунуть руку сквозь решетку и отодвинуть засов.
Рядом с клеткой, спиной к Мишке и Савве, стояла, уперев руки в бока, Юлька и орала издевательским тоном:
– Ну, что ж ты не ворожишь, волхва? Давай-ка, преврати меня в крысу или в лягушку! Ну, хотя бы молнией ударь! Не можешь?
Такого злого голоса у Юльки Мишка не слышал никогда, хотя характер у юной лекарки был сущий перец. Она даже не обращала внимания на то, что Красава ее не слышит и вообще не воспринимает ничего из окружающей действительности, только бьется о деревянные решетки, падает, поднимается и снова бьется.
– Погремушка ты, а не волхва, и никогда тебе волхвой не быть! Даже из собачьей клетки выбраться не можешь, так и подохнешь в ней, сучка! А я тебя на куски порежу и псам скормлю!
Мишка, выйдя из кратковременного ступора, уже хотел вмешаться, как вдруг в Юлькином монологе мелькнуло его имя, вернее, кличка:
– …сдохнешь, и Лис о тебе даже не вспомнит, не нужны ему дуры сопливые! Он на тебя и не смотрел никогда, это ты крыса Велесова…
Удивиться Мишка не успел, потому что его тут же отвлекло другое, не менее удивительное событие – Савва дергал его за рукав и силился что-то сказать:
– Ы-ы-ы, ы-к-к…
Только тут до Мишки дошло: к Савве вернулся голос! Он еще не мог ничего членораздельно произнести, но голос был! Тихий, сиплый – голосовые связки после долгого молчания нормально работать отказывались, но голос вернулся! И в этот момент Мишку словно что-то толкнуло под руку. Он схватил Савву за плечо, развернул лицом к Юльке и закричал:
– Савва, Красаву твою обижают! Красаве плохо, помоги ей. Слышишь? Красаву спасать надо!
– Кх… К’а-ава! К’а-ава!
Савва сорвался с места и кинулся на Юльку. Та, чуть не упав от внезапного толчка, бешено обернулась и увидела Мишку. Его появление, видимо, оказалось для нее совершенно неожиданным, она даже не сразу стала защищаться от слабых, но частых ударов кулаков Саввы. Что там происходило дальше, Мишка смотреть не стал, а открыв дверь вольера, принялся ловить мечущуюся Красаву. Поймал только со второго раза, вытащил наружу и прижал к земле бьющееся девчоночье тельце. Оглянулся на Савву с Юлькой, там баталия была в самом разгаре – пацан вцепился обеими руками в Юлькин пояс, на котором висело сразу несколько мешочков с разными лекарскими надобностями, и тащился по земле следом за пятящейся лекаркой, норовя укусить ее за руки, которыми она пыталась попеременно то ударить, то отодрать от себя защитника Нинеиной внучки.
– Юлька! – заорал Мишка – Ты-то хоть в разум приди! Совсем сдурели все, идиоты!
Бесполезно. Никто его не слышал. Савва, надо полагать, воображал, что бьется насмерть с неким чудовищем, покусившимся на его… черт его знает, кем для пацана стала за это время Красава? Юлька, способная без труда «отключить» и более сильного противника, бестолково отбивалась от вцепившегося, как клещ, слабенького парнишки. Красава перестала биться, словно пойманная птица, но в себя не пришла, ее сотрясала крупная дрожь, зубы были стиснуты, глаза крепко зажмурены.
Весь этот сумасшедший дом надо было как-то прекращать, пока на нечленораздельные вопли Саввы не стал собираться народ. Легче всего, видимо, было привести в себя Юльку, которая просто-напросто растерялась от неожиданного появления Мишки и Саввы. Сидя верхом на лежащей ничком Красаве, Мишка снял с себя пояс с подсумками и запустил его в Юльке в ноги. Юная лекарка запнулась, потеряла равновесие и уселась на землю. Савва тут же боднул ее головой в грудь, но Юлька, каким-то змеиным движением ухватила его за шею и парень почти сразу обмяк.
Переключив внимание на Красаву, Мишка не нашел ничего лучше, чем отвесить ей несколько звонких пощечин. Подействовало. Нинеина внучка резко втянула воздух сквозь сжатые зубы и попыталась сесть. Мишка не стал препятствовать, лишь придержал Красаве руки и заорал ей прямо в ухо:
– Очнись, Красава! Савва заговорил! Ты его вылечила, слышишь, Красава? Ты Савву вылечила, к нему голос вернулся!
Красава коротко простонала и принялась вырываться, Мишка выпустил ее руки, схватил за плечи и как следует, встряхнул.
– Глаза-то открой! Все уже, все! Никто тебя больше не обидит, ну-ка, посмотри на меня.
Красава послушалась, открыла глаза, которые тут же начали наполняться слезами.
– Мишаня, она меня… – продолжение фразы утонуло в рыданиях.
Тут все было в порядке, раз слезы, значит, отпустило. Мишка поднял голову и глянул на Юльку и Савву. Пацан лежал неподвижно, видимо в обмороке, а Юлька, что-то зло шипя сквозь зубы, по одному разгибала пальцы Саввы, сомкнутые на ее поясе.
- Ну что, Перуница[8], великую победу одержала?
- С детишками справилась!
- Слава тебе, дева грозная!
- Ликом прекрасная, богоподобная,
- В прах всех врагов повергающая
- Мощной десницей божественной!
- Блеск твоих крыльев серебряных,
- Взор твоих глаз, что как яхонты,
- Смертью грозят недостойному,
- В трепет ввергают несмелого…
– Трепач! – Юлька зло зыркнула в сторону Мишки и снова опустила глаза к поясу. – Скоморохом тебе быть!
- Но возжигают они
- Пламя отваги у воинов,
- Но поселяют они
- Сладкую муку любовную
- В сердце того, кто с достоинством
- Имя несет мужа честного…
– Балаболка! – Юлька наконец освободилась и поднялась на ноги.
- Стоя над телом поверженным,
- Славу поешь ты делам его:
- Подвигам, битвам, свершениям.
- Душу приняв мужа честного,
- Ты по пути яснозвездному
- В Ирий пресветлый…
– Да заткнись же ты, аспид! Ты хоть знаешь, что тут было?
– И знать не хочу! Перед тобой двое больных лежат. Ты лекарка или коза на выпасе?
– Эта мочалка…
Это было серьезно! Юлька не отреагировала, казалось бы, на неотразимый прием – призыв к исполнению лекарских обязанностей. Хочешь не хочешь, пришлось применять недетские средства:
– Даже и не знал, что ты так хороша, когда сердишься! Прямо глаз не отвести!
– Трепач… – вне всякого сомнения, Юлька слышала подобное в свой адрес впервые в жизни. – И что в тебе девки находят? Морда шпаренная, руки-крюки, язык, что помело…
– Правда твоя, Юленька: неказист… но твоей-то красоты нам на двоих хватит, даже еще и останется!
– Да ну тебя!
– Нет, правда, Юль! Недаром же мне про Перуницу вспомнилось!
– Вот еще… выдумал…
Юлька вырвала руку и чересчур суетливо склонилась над Саввой, приподняла ему голову, оттянула веко.
– В лазарет его! Надо присмотреть, когда в себя приходить начнет, – не глядя на Мишку, сухим деловым тоном распорядилась лекарка. – Голос-то вернулся, но… всякое может быть.
– Сейчас, Юль… только мне двоих не утащить. Ничего, сейчас организуем!
«А вы-то чего засуетились, сэр?»
– Погоди, Юль, а с Красавой что?
– Ничего. Поревет-поревет и успокоится. Впредь наука – с лекарками не вздорить!
Мишка сунул в рот пальцы и вполсилы, чтобы не будоражить весь гарнизон крепости, высвистал сигнал «ко мне». Почти сразу из-за угла вышел наставник Прокопий – не старый еще мужик, бывший ратник, перешедший в обозники после потери правой руки.
– Чего это тут у вас? – недоуменно спросил Прокопий, обводя взглядом «поле битвы». – Михайла, это ты звал?
– Я, дядька Прокоп. Видишь, двое болезных у нас – мне одному не утащить. Возьми Савву, отнеси, куда лекарка покажет.
– Угу, – Прокопий одной рукой подхватил Савву с земли и, осторожно придерживая крюком, заменявшим ему кисть правой руки, взвалил на плечо. – Показывай, девонька, куда нести.
Конечно, хорошо было бы выяснить, что тут произошло, из-за чего сцепились Юлька с Красавой и как Красава оказалась запертой в собачьей клетке, но Мишка еще из ТОЙ жизни вынес железное правило: ни при каких обстоятельствах не встревать в женские разборки (не важно, девичьи или бабьи). Столь же неукоснительно он следовал и другому правилу: никогда не обсуждать одну женщину в разговоре с другой. Здесь, правда, были не женщины, а девчонки, но девчонки, ох какие не простые. Сработало и третье правило: удивить – значит, победить. Юлька ожидала от него чего угодно, только не комплиментов, да и не знала она, что это такое.
Мишка вдруг почувствовал, что краснеет. Ощущение было такое, словно обманул маленького ребенка. В сущности, Юлька была абсолютно беспомощна против примененного Мишкой метода и, хотя он не сказал ей ни слова неправды, но почувствовал себя исключительно погано: говорил-то он искренне, но если бы не необходимость, произносить это вслух ему бы и в голову не пришло.
«Мда-с, досточтимый сэр, сколь бы юным ни было нынешнее вместилище вашего сознания, а годы есть годы! Где юношеский трепет, где „обильные страстные речи“ и прочие благоглупости, лезущие наружу помимо воли? Где, наконец, позвольте вас спросить, „взгляды, так жадно, так робко ловимые“? Рассудочность, расчет, взгляд стороннего наблюдателя… А Юлька-то вспоминать будет каждое слово, повторять про себя, думать всякое девичье… Стыдно-то как!»
Мишка поднял на руки Красаву, отметив, между делом, что левая рука, хоть еще и побаливает, но работает нормально, и понес ее к дому Алексея. Плач Красавы постепенно затих, перейдя в редкие всхлипывания, Нинеина внучка обхватила Мишку за шею и неожиданно поведала:
– Мишаня, ты не думай… я с Саввой все время была потому, что бабуля так велела. А Юльку я от тебя все равно отважу… это только сегодня у меня так вышло.
«Так это они из-за меня поцапались? Одной девяти еще нет, другой тринадцати. Совсем девки с ума посходили!»
– Тебе Юльку не одолеть. Она уже сейчас сильна, а через год-полтора с ней даже твоя бабуля справиться не сможет. Не лезь на рожон.
– Но ты же на ней не женишься?
– А ты где-нибудь замужних ведуний видела?
– Нет.
– Вот и я… нет…
«„Морда шпаренная, руки-крюки, язык, что помело…“ С первым и третьим пунктом не поспоришь, а руки-то тут причем?»
Когда с лица сняли повязку, Мишка свистнул у баб полированное серебряное блюдо и, забравшись в уголок, где его никто не мог увидеть, долго рассматривал свое отражение. Увиденное, откровенно говоря, не радовало. На краю левой надбровной дуги красовалась вмятина, как будто не лучиной ткнули, а рубанули топором, кожа на левом краю лба и виске натянутая, тонкая и блестящая, вся в разводах от ожога. Левая бровь заметно короче правой и постоянно вздернута, что придает лицу не то насмешливое, не то издевательское выражение. Волосы еще не отросли, и на виду торчит изуродованное ухо. На левой щеке метка, оставшаяся после того, как Анька лупила младшего брата граблями. Плюс возрастные «удовольствия»: вся рожа в прыщах, на щеках цыплячий пух, под носом нечто, претендующее на звание усов, а губы еще детские – пухленькие.
Вообще-то, растительность на лице полезла рановато, у сверстников ничего подобного еще не наблюдалось, но кто его знает, может быть, данные о волосяных покровах притащились в составе информационной матрицы из ТОЙ жизни? «Инсталлировались» вместе со всем остальным и «активировались», как только в организме созрела подходящая ситуация. Прорастать-то начало не только на лице, но и в других местах.
Плюс ко всему дурацкая привычка, разозлившись, морщить и приподнимать верхнюю губу, скалясь, как собака. А еще мозоли на нижней челюсти, натертые подбородочным ремнем из-за постоянного ношения шлема. А еще мозоли, набитые упражнениями на костяшках пальцев. Вечные синяки и царапины, постоянный, несмотря на ежедневные купания, запах пота, въевшийся в войлочный поддоспешник. В общем, экстерьером своим Мишка доволен не был – гадкий утенок, да и только. Битый, жженый, драный, взопревший…
«Вот так, сэр! Извольте любоваться: морда кирпича просит, мозги набекрень, язычество с христианством замешиваете, не поморщившись, благонравие личному составу внушаете всеми средствами, вплоть до расстрела. При этом две девицы, обладающие, мягко говоря, нестандартными навыками и способностями, из-за вас друг друга убить готовы, а третья, добираясь до вас, прет пешедралом десяток верст и, рискуя утонуть, форсирует водную преграду.
Вокруг вас сотня вооруженных подростков с взбаламученным мировоззрением, бывший бандит намерен жениться на вашей матушке, которая тоже кровушки не страшится, а в соседях обретается спившийся спецназовец, организовавший гибрид колхоза с ГУЛагом. Крепость вам возводит отмороженный на всю голову бригадир плотников, по уши влюбленный в бабу вдвое массивнее себя и чуть ли не на полметра выше ростом, а любовница деда строит козни в стиле шекспировских злодеек. Ученица Бабы-Яги оказывается вдовствующей богемской графиней, мечтающей возродить древлянское княжество, русские девки в XII веке щеголяют в платьях на кринолинах и в испанских мантильях, а оркестр народных инструментов разучивает песни Гражданской войны.
И продолжать этот список можно, кажется, до бесконечности. Как говорилось в одном старом фильме: „Мадам Кольцова курит трубку и пьет водку прямо из самовара!“ Любой сумасшедший дом обзавидуется!
Не-ет, к Юльке и только к Юльке! Пусть язвит, пусть ругается, да пусть хоть глаза выцарапывает, но только рядом с ней все эти „сапоги всмятку“ почему-то перестают давить на мозги».
Идти до лазарета было всего ничего – в Михайловом городке вообще все было близко, но Мишка плелся нога за ногу – одолевали мысли. Положение было, мягко говоря, неудобное. С одной стороны, надо было вести «оглохшую» девчонку к Нинее – надо же и совесть иметь, в конце-то концов, с другой – явиться пред грозные очи боярыни Гредиславы Всеславны, только что угробив двух присланных ею для обучения отроков и подведя под воеводский суд третьего…
Ситуация дополнительно осложнялась еще и тем, что судить урядника Бориса будут за нападение на боярича, но Юлька-то – представитель простонародья – тоже отметелила боярышню – Красаву! А не потребует ли Нинея наказания Юльки? Или между ведуньями другие счеты?
«И как вы намерены выкручиваться, сэр? Можно, конечно, самому наехать на волхву: „Я предупреждал, что земляков в одном десятке держать нельзя!“ Можно еще и усомниться в статусе Красавы – она же не внучка, а правнучка Нинеи, и совершенно неизвестно, кто ее родители. Может, она вовсе и не боярышня? Но подействует ли? Баронесса Пивенская непредсказуема как… помните, сэр, своего бригадира в ленинградском порту?»
Был у Михаила Ратникова в ТОЙ молодости бригадир, который всю методику воспитания личного состава описывал одной фразой: «Пока все нормально, я для вас комбриг, а будете разъе…вовать, сразу стану бригаденфюрером!»
«М-да, сэр, при желании, вдовствующая графиня Палий любого бригаденфюрера СС за пояс заткнет! Наехать… да она сама так наедет – бульдозер на табачный ларек деликатнее наезжает! Однако же позвольте вам напомнить, сэр Майкл: однажды вам наезд удался. Припоминаете? Именно, именно! Какой бы крутой волхвой и представительницей супердревнего рода мадам Петуховская ни была, а ограниченность своих бабьих прав, по сравнению даже с таким сопляком, как вы, но „мужеска пола“, понимает. И не просто понимает, а на уровне безусловных рефлексов – спинным мозгом, как говорится!
Значит, нужна такая же неубиенная позиция! И стоять на этой позиции насмерть! Волхва это сразу просечет! Одна беда – позиция эта должна быть естественной, тоже на уровне безусловных рефлексов, потому что любое притворство Нинея раскусывает на раз. И что у вас, сэр, в вашем наборе масок и поведенческих императивов на этот случай имеется? Ля-ля-ля, трам-пам-пам… А и Б сидели на трубе… ничего в голову не приходит…
Вы, сэр, Нинее нужны. Это факт. Она пытается вами манипулировать, а заодно и воспитывает… вот и вздрючит в воспитательных целях по самое некуда! Однако вами манипулирует и Настена. Это тоже факт. Как-то на этом сыграть можно? Да уже сыгралось, блин! Красава с Юлькой сцепились не просто, как две девчонки, а еще и как два инструмента воздействия на вас! Ну, и что это дает? А ничего, потому что имеется еще целая толпа субъектов влияния: дед с его военно-феодальными замашками, отец Михаил со своим фанатизмом, „полевой командир“ Алекс с отцовскими намерениями, Аристарх еще тут нарисовался со своим тайным обществом… Дурдом, одним словом.
Вот-вот, сэр! А вы, несчастное дитя, посреди всего этого кошмара – никто не пожалеет, никто не приголубит! А если наоборот? Вы сами, сэр, кошмар из кошмаров, самый, так сказать, кошмаристый? Манией величия-то гораздо приятнее болеть, чем манией преследования!
Есть контакт! Отморозок прадедушка Агей – прекрасно, дед, заработавший кличку, производную от похоронного обряда – великолепно, природный Лисовин, время от времени ввергающий вас в бешенство – блестяще! Ничего и выдумывать не требуется – Нинее и в голову не придет усомниться, все в елку! А теперь, сэр, добавляем к наследственной отмороженности дикое самомнение – Христос вас любит, Велес вас любит, Макошь вас любит и Перун, как выяснилось, тоже! Мечом в четырнадцать лет опоясались, сотником вот-вот станете, город имени себя заложили – круче только яйца страусиные!
Так, а мисс Джулия? А в ту же копилку! Кто еще с ней в лекарском экстазе сливаться способен? Кому вы, сэр, фактически рыцарскую клятву на верность принесли? Близко никому не подходить, во избежание переработки на фарш и заявления, что так оно и было!
Нормальный ход! А почему только сейчас это так явно вылезло? А в боевой поход сходил, настоящей кровушки испробовал и победителем вернулся!
Ну что ж, сэр, теперь есть с чем идти к Нинее – не оправдываться за убитых отроков и не отмазывать Юльку за то, что Красаве навтыкала, и не напоминать светлой боярыне Гредиславе о том, что предупреждал о неправильном формировании десятков и о том, что рано Красаве волховские умения давать – и то, и другое боком выходит.
Просто доложить, что вы, сэр Майкл, весь из себя такой крутой, вынуждены ошибки светлой боярыни исправлять: отроков прессовать вплоть до высшей меры, девчонок подравшихся растаскивать, да еще и от воеводы Погорынского за все это вздрючки получать. И спасает вас во всех этих разборках только ваша крутизна – Алексей верно заметил, что вы не побоялись остаться в одиночку против семерых, да любовь богов – девчонки ведь могли сгоряча и по вам своими волхвовскими да ведовскими прибамбасами врезать.
Мадам Петуховскую, конечно, этим всем не удивишь – еще и не таких видала, но нашкодившим мальчишкой выглядеть не будете.
Интересно, а с другими субъектами влияния эта маска сработает? С дедом… сомнительно, он за демонстрацию крутизны так приложит, что все звезды на небе при дневном свете увидите, и любовь богов ему пофиг, потому что для него они такие же управленцы, как он сам, разве что масштаб деятельности у них побольше. Аристарх – Туробой? Темная лошадка, но… после того, как вы нехило выступили на обряде посвящения, крутизна его не удивит, а самомнение… самомнения в учениках обычно учителя не терпят, можно и по сопатке получить, если не физически, то морально. Значит, с этим делом надо поаккуратнее. Алексей? Ну, для него, сэр, любая чужая крутизна – всего лишь вызов и повод эту самую крутизну обломать… запросто и отлупить может, причем исключительно в учебно-воспитательных целях. Настена? Гм… после „сексотерапии“ чего-то там изображать из себя в ее присутствии просто не тянет. Да и не нужно – образ рыцаря мисс Джулии ее вполне устраивает, а для вас, сэр, он вполне естествен, ничего изображать и не требуется.
Мисс Джулия? Юлька, Юленька… ребенок, в сущности, но без всяких понтов и рисовки готовая положить жизнь на алтарь медицины. Единственный тихий и светлый уголок во всем этом дурдоме… ну, положим, не очень-то и тихий, но, несомненно, светлый. И перед ней, как это ни паскудно, придется притворяться. Увы, сэр, как вы тогда совершенно справедливо заметили: „сколь бы юным ни было нынешнее вместилище вашего сознания, а годы есть годы“. Было бы вам действительно четырнадцать, вы бы впервые в жизни ощутили, как это бывает, когда в толпе встречающих вдруг обнаруживаются ждущие только вас глаза, и впервые бы догадались, что нарядный платок надет специально для вас. Ну, и разумеется, не удержали бы это свое открытие в себе, а так или иначе озвучили бы…
Но вам-то, сэр, в сумме уже крепко за пятьдесят! И соответствующие вашему возрасту партнерши сами прекрасно понимают и замечают, как вы находите их глазами в толпе, а к словам „краше всех“ относятся… как бы это выразиться? Ну, скажем, с пониманием. И насчет платка… им не догадка нужна, что, мол, для меня надела, а что-то вроде: „как тебе к лицу это цвет“, да и то аккуратно, чтобы не было похоже на напоминание „это я тебе подарил“.
Но Юлька-то пока все это за чистую монету принимает, для нее это все – открытия, новые и непривычные ощущения. Приятные, волнующие, однако и смущающие, даже, может быть, слегка пугающие… И, слов нет, она всего этого заслуживает, так что, сэр, если не можете естественным образом ощущать юношескую восторженность, извольте ее изображать – для мисс Джулии не грех и постараться. Очень постараться, потому что она дает вам больше, чем вы ей – на фоне приключений засланца из ХХ века нормальные человеческие отношения и чувства, не зависящие от исторического периода!»
За размышлениями Мишка сам не заметил, как добрался до лазарета. Он уже было собрался подняться на крылечко, как дверь распахнулась и на пороге появилась Юлька.
– А-а, явился! А я уж думала, что ты так и будешь без рубахи с голым пупом шляться!
«Вот вам, сэр, и лямур! Предмет обожания, едрена вошь…»
Часть 2
Глава 1
Чем дальше продвигалось строительство крепости, тем больше убеждался Мишка в высокой квалификации старшины плотницкой артели Кондратия Епифановича по прозвищу Сучок. Мастером он был редким – не только прекрасно «чувствовал дерево», не только имел богатейший практический опыт, но и был, как выяснилось, очень неплохо подкован теоретически: знал основы геометрии, приемы работы с циркулем и угольником, держал в голове рецепты клеев и лаков. Мало того, его чуть ли не дежурная фраза «Не строят так!» – была вовсе не консерватизмом, а следствием обширных знаний истории и новейших веяний в области зодчества!
В очередной раз Сучок поразил Мишку своими познаниями, когда бояричу загорелось обзавестись «офисным зданием», поскольку осуществлять управление «на коленке» стало уже трудно и понадобилось как-то упорядочить административную деятельность: делопроизводство, работу с личным составом, хранение информации на материальных носителях и прочее, и прочее. Проще говоря, понадобилось «присутственное место».[9]
Первой ласточкой в офисном строительстве Михайлова городка явилась конторка «начальника тыла» Ильи, пристроенная к складу. Семейство Ильи, возглавляемое его женой, с нескрываемым энтузиазмом переправило из дома в новое помещение завалы учетной документации, заляпанные чернилами письменные столы, ящики с берестой, гусиными перьями и вощанками, объемистые горшки с чернилами и еще кучу непонятно для чего нужного и неизвестно как накопившегося барахла.
Нарождение второго «гнезда бюрократии» ознаменовалось скандалом, чуть было не дошедшим до рукоприкладства из-за того, что отроки поломали макет крепости, пытаясь затащить его в один из свободных кубриков казармы, занятый Демьяном под «кабинет городового боярина». Демка в общем-то аккуратно последовал Мишкиным советам по оборудованию своего рабочего места, но вот пользоваться планом городка, начерченным на шкуре, отказался наотрез и пожелал иметь под рукой макет, который можно было постоянно дополнять вновь появляющимися сооружениями.
Наконец и Мишка «дозрел» до понимания необходимости строительства официальной резиденции. К его удивлению, Сучок, услышав предложение озаботиться строительством боярского терема, не устроил очередной скандал по поводу отвлечения рабочей силы от основных работ, а огорошил вопросом:
– Ты что, жениться собрался?
– А причем здесь женитьба? – удивился Мишка.
– Ну, а как же? – в свою очередь удивился Сучок. – Сестер своих ты в Туров увезешь, замуж выдавать, матушка твоя… гм… тоже во благовремении к мужу переедет, кого ж ты в тереме поселишь-то?
– А что, в тереме одни бабы живут, что ли?
– Ну, еще детишки малые… ну, которых те бабы нарожают… Погоди, боярич… ты что же, несколько жен завести решил? Ты в своем уме?
«Стоп, сэр Майкл, кажется, пошел разговор слепого с глухим, вы и ваш начальник строительства явно говорите о чем-то разном: вы – об архитектуре, а он – о делах семейных. Похоже, он знает что-то такое, что неизвестно вам».
– Погоди-ка, старшина, давай вон там на лавочке сядем да поговорим, а то я тебя чего-то не пойму: причем здесь бабы да детишки?
– А чего тут понимать-то, боярич? Хоромы, что княжьи, что боярские, строятся в три яруса. Терем – третий ярус жилья. Первый ярус называется подклет, потому что на него сверху ставится клеть – второй ярус. На втором ярусе делаются горницы… название такое, потому что он на верху – на горе, а терем…
– Понятно-понятно, – попытался перебить Мишка, сообразив, наконец, что название «терем», видимо, распространилось на все здание в более поздние времена, но Сучка, взявшегося что-то объяснять, остановить было трудно, а потом уже и не захотелось останавливать, поскольку плотницкий старшина начал демонстрировать просто потрясающую, с Мишкиной точки зрения, эрудицию.
– Вообще-то, слово «терем» происходит от греческого слова теремнон, сиречь, жилище, – продолжил Сучок лекторским тоном. – Правда, некоторые считают, что «терем» происходит от слова «гарем» – место, где сарацины своих жен держат, но это неверно. От греков терем пошел, от греков, а на сарацинов думают от того, что у нас на третьем ярусе бояре да князья женское жилье устраивают. И им с верхотуры в окошки глядеть веселее, и у хозяина на душе за девок да молодух спокойнее… мало ли что?
– Ага! «Живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет хода никому…» – продекламировал Мишка.
– Вот-вот, – Сучок согласно покивал головой. – Терем, правда, можно еще и над воротами поставить, но сейчас все больше норовят вместо терема надвратную церковь устроить, особенно над городскими воротами. Еще терема, бывает, над дружинными избами возводят, ну, как это у тебя называется, – Сучок скривился и проблеял гнусным голосом, – над казярмой… – искоса глянул на собеседника, не дождался реакции на подначку и продолжил уже нормальным тоном: – Но там не живут, а дозорные стоят или припас для обороны держат… стрелы, там, ядра для пращей, ну и прочее. Так ты какой терем возводить надумал, если не для жены?
– Э-э… я, пожалуй, неправильно сказал, старшина. Понимаешь, мне нужно место власти обозначить, чтобы все знали, что с делами надо идти вот сюда, и чтобы всем было видно, что власть находится вот в этом месте и нигде больше, а само здание было бы для управления приспособлено. Чтобы можно было совет созвать, чтобы пир при нужде устроить, и чтобы было где писарей посадить, и чтоб казну держать, и чтобы с возвышенного места приказы объявлять. Но с другой стороны, надо чтобы уважаемых людей принять можно было достойно… Хоть бы и самого князя…
– Ага, рубить-колотить! – перебил Сучок. – Хоромы тебе, значит, понадобились, наподобие княжьих.
– Ну, я же не князь… мне бы чего поскромнее…
– Поскромнее не выйдет! – безапелляционно заявил плотницкий старшина. – Сам сказал: «место власти», а оно скромным быть не может! Да и не получится скромно, вот смотри.
Сучок попытался рисовать на земле щепочкой, но грунт в крепостном дворе был утоптан почти до каменной твердости, и он достал из поясной сумки металлическую чертилку, которой обычно наносил разметочные риски на дереве.
– Вот, значит, подклет, – плотницкий старшина уверенно начертил на земле несколько четких и прямых линий. – Вот так он сбоку выглядит, а вот так сверху. Понятно? В подклете место для всяких хозяйственных дел и кладовок, но можно и жилье обустроить – для челяди там или для холопов…
Сучок принялся излагать прописные истины издевательски нравоучительным тоном, словно малому ребенку, но Мишке даже не пришло в голову обижаться или перебивать, настолько сильное впечатление произвел на него чертеж в нескольких проекциях, до сих пор представлявшийся ему для XII века чем-то запредельным.
«Да, учитель у мастера Сучка, по всему видать, был хорош… интеллектуал, наподобие Нинеи! Однако, сэр, это что же татары над нашим народом учинили, что такие знания были напрочь растеряны? Нет, похоже, что оставшиеся вам сорок с лишним лет жизни действительно есть на что с толком потратить: создать систему, способную противостоять беспределу кочевников – цель вполне достойная… Как изволит выражаться вдовствующая графиня Палий, цель на всю жизнь!»
Плотницкий старшина, в очередной раз не дождавшись реакции на свою подначку, заговорил, наконец, по делу.
– Впрочем, подклет – дело обыкновенное, а по-настоящему место власти начинается со второго яруса и, перво-наперво, с крыльца. Вести крыльцо должно прямо на второй ярус и быть таким широким, чтобы на каждой ступени могло три или четыре человека встать. А еще крыльцо должно быть либо целиком крытым, либо на самом верху накрыто деревянным шатром. Вот под этим-то шатром стоит или сидит князь, когда суд вершит, просителей выслушивает, что-нибудь народу вещает или смотрит на что-то… Вот как на тебя смотрел, когда ты в Турове воинское учение показывал. С крыльца же и бирючи указы возглашают, а рынды неугодных посетителей или провинившихся княжьих людей кувырком спускают. В общем, все, что надлежит творить на глазах у народа, происходит на крыльце.
А еще на крыльце сразу видно бывает, кто из бояр к князю ближе, а кто дальше. Когда князь по каким-то торжественным случаям на крыльце восседает, то бояре на ступенях стоят – ближники повыше, остальные пониже. Тебе, кстати, крепко подумать придется: кого выше ставить – ближников своих или наставников Укудемии. Гляди: тут и уважение надо выказать, и степень каждого из начальных людей простому народишку показать, и не обидеть никого! Так что думай!
«Ага! Вот откуда термин „вышестоящий“ появился! И „служебная лестница“, надо понимать, из этого же обстоятельства произрастает. А ведь действительно, как-то народ расставлять придется… табель о рангах, туды ее!»
– Теперь дальше… – Сучок добавил к своему чертежу еще несколько линий. – С крыльца прямо в хоромы попасть невозможно, для этого надо по гульбищу пройти. Вот, смотри: помост, вроде как на заборолах у вас, идет по всей передней стене второго яруса. Бывает, что и не только по передней стене, а и вокруг всего здания… это уж, как ты сам решишь. Снизу его столбы поддерживают, а сверху на таких же столбах над ним крыша… ну, и перила, конечно, по всей длине, чтобы не сверзился никто.
Вот на гульбище-то княжьи ближники целый день и толкутся, если, конечно, князь их в хоромы с каким-нибудь делом не призовет. Тут они промеж себя шушукаются, всякие хитрости задумывают, договариваются, ссорятся, мирятся, дела обсуждают… много всякого. Заодно и покой княжий берегут – кого попало к князю не допускают, а случись беда, собой князя от ворога заслонят. Хе-хе… – Сучок неожиданно ухмыльнулся. – Погоды-то у нас, сам понимаешь, всякие случаются, а гульбище всем ветрам открыто, разве что только от дождя крышей прикрывается, от того у бояр привычка завелась во всякое время в шубах ходить. Иной так в гордыню боярскую занесется, что и летом, в самую жару, в шубе преет, чтобы все видели – боярин! Придурки, прости Господи.
«Ага, вот, значит, как шуба стала чем-то вроде придворного мундира! А что? Дорогой мех, покрытый не менее дорогой импортной тканью, да еще с каким-нибудь золотым или серебряным шитьем, не слабее камергерского мундира будет. И никакие они не придурки – одежда в сословном обществе работает как удостоверение личности, даже покруче – „корочки-то“ издалека не видно, а прикид сам собой в глаза бросается. Интересно, а если гульбище застеклить, что они придумают? Так и будут в шубах париться или иные знаки отличия изобретут?»
– Так вот, боярич, если начинается «место власти» с крыльца и гульбища, то самая суть его в сенях! Это в простых домах сени ладят для сохранения тепла да для того, чтобы сразу с улицы в жилье не лезть, а в княжих хоромах да у бояр, что поважнее, сени для другого предназначены. На сенях князь пиры устраивает, послов принимает, боярскую думу собирает или совет с малым числом ближников устраивает. Здесь же и княжий стол находится – помост такой возвышенный над полом…
– Да знаю я, что такое стол…
– Не перебивай! – Сучок сердито ткнул чертилкой в землю. – Спросил совета, так слушай, я зря не болтаю! Стол, значит… а на столе столец – седалище княжеское, навроде кресла, что ты измыслил, только попроще будет. Ты вот, если деду твоему понадобится к князю Туровскому подольститься, возьми да и присоветуй ему, чтобы кресло князю привез. Князь Вячеслав, сказывают, телом излиха дороден, а такие люди любят с удобством восседать, вот и удоволите владыку своих земель! Еще бы узнать, какое у Вячеслава знамя, так можно было бы его на спинке кресла вырезать… или же знамя Рюрика – атакующего кречета – тоже почетно.
– Да! – подхватил мысль Мишка. – Можно еще и для княгини кресло чуть поменьше изготовить!
– Ну, не знаю… – засомневался Сучок, – я тебе для чего про стол и столец рассказывать взялся? Потому что столец – единственная постоянная мебель на сенях, а все остальное сменное. Надо устроить пир – соорудили столы на козлах, надо боярскую думу собрать – натащили скамей для бояр, надо принять послов – вынесли все, сидит один князь, остальные стоят, надо посоветоваться с ближниками – поставили небольшой стол и скамьи вокруг него, притащили напитки да закуски… Еще всякие разные случаи бывают, и все это на сенях происходит. Из-за этого сени делаются как можно просторнее – во всю клеть.
Окна в сенях устраивают большими, не только для света, но и для воздуха, а то ведь, бывает, что на пиру несколько десятков мужей соберутся, выпьют-закусят, да так надышат… и прочее, что в волоковые окошки[10] этакий дух и не пролезет! Ну а на ночь или в непогоду эти окна ставнями закрываются.
«М-да, симбиоз актового и банкетного залов с кабинетом и совещательной комнатой. Вот тебе и сени! Пожалуй, звание „сенной боярин“ соответствует примерно чину тайного или действительного тайного советника, а „сенная боярыня“ – ну, никак не ниже фрейлины».
– Слушай, старшина, а ты-то откуда это все знаешь? – заинтересовался Мишка. – Можно подумать, что ты сам боярином у князя был…
– Можно подумать, – передразнил Сучок, – что в княжьих или боярских хоромах пожаров не случается, что не ветшают они или не перестраиваются!
– Да, верно… Это я как-то не подумал…
– Да неужто тебе дед этого не рассказывал? – удивился Сучок. – Он же по молодости при князьях покрутился вдоволь!
– Рассказывать-то рассказывал, но у него взгляд на эти дела воинский, а у тебя строительный. Чувствуешь разницу?
– Воинский, воинский… – сердито проворчал Сучок. – Только и мыслей, что разломать или поджечь, а попробовали бы хоть раз что-то выстроить…
– Ладно, старшина, не ворчи! – примирительно произнес Мишка. – Когда-никогда, а жениться мне все равно придется, вот и терем сгодится, а пока мы туда девиц поселить можем, чтобы, значит, у них постоянное место в крепости было. Глядишь, им с верхотуры-то по ночам к парням шастать труднее будет…
– Ага, рубить-колотить, так ты их и удержал! Дело молодое, природа своего требует…
– Ну, тебе виднее… молодое дело или не молодое, сам-то в Ратное за тем же самым мотаешься… Бешеной собаке семь верст не крюк, как говорится…
– Ты не в свое дело-то не лезь! – взвился Сучок. – Молод еще меня попрекать! Говорим о стройке, рубить-колотить, так о стройке и говорим! И нечего тут…
– Да будет тебе, старшина! Что ты, как кипятком ошпаренный? Ходишь и ходишь, кто тебе запретит? И не попрек это вовсе… Радуюсь за тебя, женишься – сам первый тебя поздравлю! Такого мастера, как ты, еще поискать, а через женитьбу ты у нас ведь и насовсем остаться сможешь…
– Женишься… – Сучок вдруг как-то опал, словно из него выпустили воздух. – Кто ж за закупа пойдет…
– Выкупишься, мы же договорились обо всем! Или не поверил мне?
– Поверил – не поверил… – Сучок отвернулся от собеседника и заговорил в сторону, ковыряя чертилкой сиденье скамьи. – Я чего только не передумал, когда весть дошла, что воевода тебя из старшин разжаловал… Гвоздь так и сказал: «Не будет Михайла старшиной – не быть и нам вольными». А потом опять весть пришла, что тебя под стрелы попасть угораздило – чудом жив остался… – Голос плотницкого старшины дрогнул. – Ты, сопляк… ты хоть подумал, у скольких людей жизнь поломается, если тебя не станет? Других поучаешь, а сам…
«А ведь и вправду, сэр Майкл, сколько людей на вас завязано? Просто на одно ваше существование и на реализацию ваших планов! Случись что, и как им дальше жить? Это ж не ТАМ – накрылась фирма, другую работу нашли. ЗДЕСЬ работа с жизнью гораздо жестче связана – зачастую работа или служба и есть жизнь! Сколько же нервных клеток Сучок и его артельщики сожгли, пока вас из похода за болото дожидались? Да и не только артельщики… вместе с „курсантами“ почти две сотни народу в крепости обретаются, и все, так или иначе, от вас, сэр, зависят. Вот тебе и феодал-эксплуататор… в их понимании, чуть ли не отец родной. Да… дела».
– Ну, перестань, старшина… – Мишка совершенно неожиданно почувствовал, что и ему стало трудно говорить. – Кондратий Епифаныч, пойми правильно… я же еще учусь, да и присматривают за мной, не дадут просто так сгинуть… слыхал же, как меня Немой защитил…
Сучок ничего не ответил, только, все так же отвернувшись, повел плечами, а Мишкина растерянность (даже в какой-то мере растроганность), в полном соответствии с лисовиновским характером, быстро перешла сначала в раздражение, а потом в злость.
– Хватит, Кондратий! Попереживали и будет, давай-ка дальше о деле… Подклет, сени, терем, а жить-то где?
– Гм, жить… ишь, скорый какой! Хоромы в один сруб не ставятся! – Сучок, по-прежнему не глядя на Мишку, словно устыдясь проявленной слабости, снова принялся чертить. – Ставим рядом еще один сруб: подклет, клеть с горницами. Там и жить будешь: спать, трапезничать с семьей, добро хранить…
– Какое добро? – перебил Мишка. – Подклет же есть…
– А казну? А меха дорогие да паволоки?[11] Сам не заметишь, как рухлядью обрастешь… еще и тесно станет! Вот тут-то и третий сруб пригодится!
– Третий? Да куда ж еще третий-то? – в очередной раз удивился Мишка.
– А туда, что у княгини-то свои сени есть! – наставительно поведал Сучок. – Поменее княжьих, само собой, но тоже немаленькие. Там она и гостей привечает, и посетителей выслушивает, и с сенными боярынями… – Сучок, видимо сам для себя неожиданно, затруднился с разъяснениями, – …ну, чего-то ж они там делают, с сенными-то боярынями, не просто же так они… Вот, значит… а матушке твоей надо же где-то с девками рукоделием заниматься! Ну, и прочее всякое такое.
– Понятно, – Мишка обреченно вздохнул. – Не выйдет, значит, скромно.
– Даже и не надейся, боярич! Место власти скромным не бывает! – Сучок вдруг оживился и снова принялся черкать по земле. – Все это надо еще соединить лестницами да переходами и украсить наличниками, резными «полотенцами», причелинами, столбиками всякими, откосами… красиво будет, не то что твоя казярма!
«Так вот почему ты не возмутился, что народ от основной стройки отвлечь придется! Красоту тебе создать хочется… тоже творческая личность…»
Квалификация артели Сучка была высокой – боярские хоромы были «сданы в эксплуатацию» во второй половине августа, и получилось действительно красиво! Конечно же, не обошлось без споров на грани скандала со старшиной плотников. Если к требованию наладить отопление «по белому» Сучок уже как-то притерпелся, хотя и считал это чем-то вроде «архитектурного излишества», влекущего за собой напрасное разбазаривание дефицитных кирпичей и серьезное усложнение конструкции здания, то, например, сооружение прихожей, при наличии сеней, он воспринял просто как дурную блажь боярича.
Традиционный аргумент Сучка «так не строят» столкнулся с почти иррациональным неприятием Мишкой входа прямо с улицы. Все-таки парадные сени, хоть и не княжеского масштаба, сочетали в себе функции кабинета, гостиной и совещательной комнаты, вход в которую должен был, в Мишкином понимании, обязательно предваряться каким-то проходным помещением. Сломать сопротивление Сучка удалось, лишь обратившись к вопросу безопасности – придворные-то на гульбище не толпились, заходи, кто хочешь, и «нестандартную» горницу, где, по идее, было место секретарю или адъютанту, удалось «продать» старшине плотницкой артели, как помещение охраны. Под этот «проект» прошли и скамьи для ожидающих приема посетителей (как бы для размещения охранников), поскольку по нормам XII века посетителям, в соответствии с их статусом, надлежало ждать вызова либо на дворе возле крыльца, либо на гульбище.
В этих-то хоромах Мишка и поселился с матерью и сестрами (что, естественным образом, породило к жизни женскую половину дома), сюда же вселили брата Сеньку, после того, как «детский десяток» перебрался в крепость, сюда же почти ежедневно наведывался Алексей (бывало, и с ночевкой, но этого как бы никто не замечал).
Здесь же организовывались «семейные» ужины для отличившихся отроков, а под гульбищем, на некоем подобии деревянного тротуара, стояли скамьи для вечерних посиделок с песнями. Однажды отроки и девицы спрятались под гульбищем от дождика, а потом все так и осталось, сделавшись привычным.
Очень быстро Мишка убедился, что название «покои» тоже имеет совершенно конкретный практический смысл – обрести покой можно было только во внутренних помещениях. Хоромы действительно были центром общественной жизни, сопровождавшейся соответствующей суетой. Суету эту Мишка сам для себя разделил на несколько частей.
Первая – официальная. Стоя на крыльце, Мишка принимал утренний развод и вечернюю поверку, а также смену дежурных десятков. Принимал доклады, оглашал приказы и распоряжения, подводил недельные итоги соревнования между десятками и осуществлял прочие формальные публичные акты руководства Академией, а «на сенях» проводил заседания Совета Академии и «педсоветы» с наставниками.
Вторую составляющую суеты Мишка про себя поименовал «деловой». В терем постоянно перли посетители с делами самой разной степени важности. То являлась «шеф-повар» Плава и обрушивала на Мишку ворох кухонных проблем, то являлся с очередным скандалом Сучок (ну просто не мог он изложить даже простейший вопрос в иной, нежели склочно-пожарной тональности). То прибегал с подбитым глазом дежурный десятник и сообщал, что подрались силяжские с шеломаньскими (понимай: шестой десяток с девятым), наставники с дежурным десятком их угомонили, даже опричников звать не пришлось, но в темницу два десятка разом не запихнуть, да там и без того пятеро обретаются. То Роська «радовал» тем, что завтра ожидается аж семеро именин, но про одного святого из этой семерки он ничего отрокам рассказать не может, и надо срочно скакать в Ратное к отцу Михаилу. То черти приносили «кинолога» Прошку, длинно и занудно живописующего прямо-таки непреодолимые трудности с выбором имени для недавно родившегося теленка… и прочие дела, делишки, делища!











