Читать онлайн Бой бабочек
- Автор: Антон Чиж
- Жанр: Исторические детективы
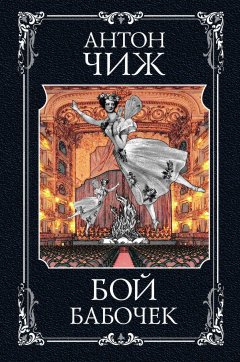
© Чиж А., текст, 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
1898 год, май, 11-е число
Ржавой занозой ранила душу, липла к мыслям скользкой грязью, вязким дегтем, черным сном. Не было от нее спасения. Уже не осталось ни звука, ни отголоска, ни шепотка, два дня как минуло, а нет все покоя. От сомнения мучительного Халтурин стал сам не свой. Службу толком нести не может, ни есть, ни спать. Все думал да гадал: что же такое случилось?
Товарищи по полицейскому участку, видя, что со старым городовым творится неладное, донимали расспросами, пока Халтурин не рявкнул, чтобы отстали. Нос суют куда не следует, проку от сотоварищей никакого. Что они понимать-то могут? Да и как рассказать? На смех, чего доброго, поднимут. Скажут: «Наконец-то наш Митрич бесстрашный страх испробовал». Не бывало такого, чтобы городовой высшего оклада Халтурин, отмеченный благодарностью начальства и медалью «За беспорочную службу в полиции», кого боялся. В воровское логово на Никольском рынке сам заходил, зверюгу-убивца, что семью топором изрубил, в одиночку вязал, ни перед кем не дрожал. Давно, конечно, это было, но порода крепкая, мужицкая. Сединами закалилась. И вдруг слабина позорная. Хуже того, некому душу излить.
К душевным мукам Халтурин не был приспособлен. Намаявшись так, что и врагу не пожелаешь, собрался с силами и отправился на второй этаж. Вежливо постучал, маленько приоткрыл дверь, испросил дозволения войти. Пристав дружелюбно махнул: заходи без церемоний. Хозяин 1-го участка Петербургской части, подполковник Левицкий, был человеком армейским, простым и доступным. Визит городового к нему в кабинет – дело привычное, всякая нужда по службе случается.
Простота обращения между приставом и подчиненными завелась сама собой. Участок был небольшим, куда меньше соседнего 3-го и даже 2-го участка Петербургской части. Состоял в основном из огородов, во множестве разбитых на глухой Петербургской стороне, да нескольких улиц с каменными домами. Из полезных владений – Сытный рынок. Из развлечений – Александровский парк с Зоологическим садом и театр «Аквариум». На территории участка находилась Петропавловская крепость. Но соваться туда нечего: там тюремная полиция правит, да и место страшное, мрачное, обходи стороной. В остальном – все мирно, по-семейному.
Левицкий предложил городовому садиться, пошутил про первые майские деньки, что пьяной черемухой веяли в распахнутое окно. Сел Халтурин на стул, охнувший под его весом, и потупился. Сам на себя не похож. Всем известно: старый городовой отличался добродушием и даже веселостью. Что службе не вредило.
– Случилось, что ль, чего, Митрич? – по-простому спросил пристав, подставляя теплой прохладе лицо, которое тут же начала щекотать уличная пыль. И откуда только берется?
– Не знаю, как и сказать, Евгений Илларионович, – без поминания звания и «вашего благородия» ответил Халтурин, что дозволялось ему из уважения лет.
– Говори как есть. В роте что-то стряслось? Опять из младших кто, напившись, на службу не вышел?
– Никак нет, в роте порядок, заступили на посты.
Что ж, уже хорошо. Разбираться с проступками городовых Левицкий не любил. Да и что со служивыми сделаешь: выгнать не выгонишь, на гауптвахту не посадишь. Только добрым словом и кулаком можно вразумить. Особенно кулаком. Без него доброе слово входило не так глубоко.
– Так… А что такой хмурый? Выкладывай, не таись.
– Слушаюсь, – Халтурин оправил ремень, что стягивал уже летний, беленого сукна, кафтан. – Дело второго дня помните?
Левицкий помнил все. Происшествий немного, каждый рапорт прочитывал.
Действительно, 9 мая[1] на Каменноостровском проспекте случилось заурядное происшествие. Лошадь испугалась, понесла, извозчик не справился, пролетка выскочила на тротуар и задавила случайную прохожую. Под копытами и колесами не уцелеть, бедняжка скончалась на месте. Погибшая, мещанка Макеева, проживала на Зверинской улице, шла к подруге в гости на Большую Посадскую. Перешла бы проспект на минутку раньше, осталась жива. А если бы лошадь понесла чуток левее, то происшествие досталось бы соседям: граница полицейских участков делила проспект ровно посредине. Протокол был составлен верно, свидетели подписались. Тело отправлено в морг Мариинской больницы. Извозчика лишат патента месяца на два, да какой с него спрос. Лошадь – животное самовольное.
– Дело закрыто, – сказал Левицкий. – Обязанности свои, Митрич, ты исполнил примерно. Толпу отогнал, вызвал с ближнего поста городового Илюхина. Турчановичу подсобил с оформлением и свидетелями. Дождался санитарной кареты и тело помог погрузить. Все бы так службу несли.
– Благодарю, господин пристав, да только не во мне вопрос, – ответил вконец помрачневший Халтурин.
Поведение городового казалось странным. Если не сказать – непонятным. А непонятностей пристав на дух не выносил.
– В чем же тогда вопрос? – со строгостью в голосе спросил он.
Халтурин выпрямился, будто решился на что-то важное.
– В протокол кое-чего не вошло, – доложил он.
Такой поворот никуда не годился: если городовой что-то утаил, а теперь сознаться решил – чего доброго, дело возвращать придется. Приставу – возня и морока, от начальства выволочка. Лучше бы Митрич помалкивал.
– Почему сразу Турчановичу не доложил? – Левицкий стал сух и резок.
– Как о таком доложить, ваше благородие? – отвечал городовой, уловив перемену в голосе начальника. – О таком не доложишь…
– Да что там случилось?! – вскрикнул пристав раздраженно. Не хватало, чтоб городовой распускал нюни, словно барышня.
– Разрешите доложить по порядку…
Левицкий нетерпеливо махнул, мол, чего уж там.
– Значит, тело проверил, она уже последний вздох испустила, – начал Халтурин. – Лежит, бедная, глаза в небо, лицо тихое, кукольное, милое, жалостливое…
– Избавь меня от этих тонкостей.
– Слушаюсь… Так вот, значит, собралась толпа. Не так чтобы много, а с десяток, как обычно. Я прикрикнул, чтобы отошли. Они подвинулись. Пялятся на несчастную, будто развлечений им не хватает. И тут, откуда ни возьмись, оно…
– Что это – «оно»?
– Песня, – выдавил Халтурин и преданно взглянул на пристава.
Левицкий в первое мгновение маленько растерялся.
– Что «откуда ни возьмись»? – переспросил он.
– Песнь, ваше благородие, – удрученно повторил Халтурин. – Или голос, как изволите.
– Романсик популярный исполняли?
– Никак нет, ваше благородие, что-то такое на иностранном. Протяжное, жалостливое, мучительное, и… и… – тут у Халтурина не нашлось слов, чтобы описать пережитое.
Не такой был человек городовой, чтобы с подобной чушью отнимать бесценное время пристава. Левицкий это знал и раздражение сдержал.
– Хорошо, Митрич, пел кто-то песню, – ровно проговорил он. – Тебе-то что за печаль?
– Как запел голос, я словно в камень обратился, шевельнуться не могу, стою как вкопанный. Толпа замерла, никто не шелохнулся, словно волшебство нашло какое. Кажется, прикажи мне, пойду за голосом, как теленок за мамкой… Такой красоты немыслимой, неземной. Душу вынимал, сердце разрывал. Чуть слезу не пустил…
Городовой разглядывал потолок, будто туда, в вышину, и улетел голос.
– Ну, и дальше что? – спросил пристав.
Халтурин, вздрогнув, словно очнулся от видений.
– Ничего, ваше благородие. Как сгинул голос, так все и ожили, оглядываются. Не понимали люди, что с ними было. Я, конечно, толпу обошел, но без толку: никого не приметил.
Задачка для пристава выходила не самой понятной.
– Голос женский или мужской? – спросил Левицкий, чтобы не показывать сомнений, на какие не имел права.
– Не разобрать. Красоты невозможной…
– Значит, женский.
– Я с тем согласный, – сказал Халтурин. – Потому как иного быть не могло.
– Чего не могло? – не понял пристав.
– Так ведь это душа отлетевшая пела, вот что. Звала меня за собой в прекрасный рай иного мира… Помру я, видать, скоро. Уж ангельскую песнь услыхал… Мне она пела, мне… Все, конец мой настает, не иначе… Отслужил Халтурин свое, пора под могильный камень…
На лице городового читался миллион терзаний, которые крепкий мужик перетерпел, пока изливал душу. Смеяться над искренним горем непозволительно. Но и допускать в полицейский участок всякую мистику не положено. Тут полиция, а не спиритический салон. Пристав понял, что должен действовать быстро, точно и просто. Как в армии. Для начала он налил из графина полный стакан воды и заставил городового выпить залпом. А когда тот, кашляя, утирал рукавом усы, приступил к возвращению его мозгов в служебное состояние.
– Будем, Митрич, рассуждать логически, – сказал Левицкий, сам не веря, что сказал этакое. – Толпа зевак голос слышала?
– Так точно, – ответил городовой.
– Коли слышали все, выходит, не тебе одному голос пел. Не за тобой он явился. Так?
Простая догадка стала Халтурину спасительной соломинкой.
– Так точно, вашь бродь, – оживая, отозвался он.
– Теперь главное: пост твой где? – спросил Левицкий и сам же ответил: – У сада и театра «Аквариум». А что в саду том находится?
– Да мало ли чего, всякой растительности хватает.
– Сцена летняя! – прикрикнул пристав, чтобы вернее дошло.
– И такое имеется, вашь бродь…
– На сцене той как раз песенки актрисы распевают.
– Ах ты… Сцена же летняя! – пробормотал городовой с таким удивлением, будто перед ним открылись чертоги разума.
– Услыхал ты незнакомую песню, как полагаю, на французском языке, – победно закончил Левицкий. – Хорошая певица, раз тебя так пробрало. Небось мадемуазель Горже или Мария ля Белль старались. Понял, Митрич, свою ошибку?
Простые доводы вернули городового к жизни. Мучениям пришел конец. Поживет еще, послужит. Никто его на тот свет не зовет. А наоборот: на этом его призывают нести полицейскую службу, как прежде. В лице пристава призывают. Который и выпроводил Халтурина из кабинета, отечески похлопав по служивому плечу и пожелав не забивать голову баснями, а следить за порядком в роте.
Когда за городовым захлопнулась дверь, Левицкий вернулся в кресло, закрыл глаза и подставил лицо ветерку.
Участок располагался на Кронверкском проспекте, окна кабинета выходили на зелень Александровского парка и ворота Зоологического сада. Откуда часто слышались звериные голоса. Сейчас долетел отголосок мощного рыка. Неизвестно отчего мелькнула странная мысль: «Зверь явился!» Возникла и исчезла, оставив на душе липкий след.
Городового Левицкий, конечно, уболтал. Но сам-то, как частый гость «Аквариума», знал: на летней сцене выступления начинаются в восьмом часу вечера. В полдень ни одну актрису на сцену не вытолкать. Правда была неприятной и ненужной, и пристав старательно отогнал незваную гостью. Не хотелось ему разбираться, чей голос околдовал Халтурина, откуда взялся, что пел, зачем пел и куда исчезла певунья. Все эти вопросы были пустыми. Не имевшими отношения к полицейской службе.
Отринув бесполезные глупости, Левицкий целиком отдался наслаждению весенней прохладой. В окно залетела ранняя бабочка и села на краешке рамы. Пристав улыбнулся безобидному насекомому.
Год тот же, август, 23-е число (воскресенье), вечернее представление
Одна недоброжелательная дама как-то меня спросила:
– Что вы делаете для того, чтобы иметь красивую шею?
Я ей дерзко ответила:
– Мадам, я родилась с красивой шеей.
Лина Кавальери. L’art d’être bell[2]
1
Среди ясного утра назревал скандал. Или драка. Уж как придется. Уличное волнение произошло около афишной тумбы, так гордо возвышавшейся на углу Литейного и Невского проспектов, будто ради нее проспекты и были построены.
Двое господ сошлись не на шутку. Один громко поминал свою фамилию Грохольский, и ее слышали все, кто остался понаблюдать за зрелищем. В нем легко узнавался чиновник средней руки. Другой настолько яро кричал: «Я, Тишинский!», будто был римским цезарем, – наверняка столичный бездельник, прожигавший родительское наследство.
Господа брызгали слюной, поочередно тыкали пальцами в афиши и делали заявления, самые резкие, относительно умственных способностей противника и особенно понимания искусства. Городовой, находившийся поблизости, пока не решался встать стеной между спорщиками. То ли дожидаясь, когда дело дойдет до доброго мордобоя, то ли наслаждаясь петушиным боем.
Рядом с набиравшейся толпой задержался господин, одетый в летний костюм от хорошего портного. Только что он спешил, но по привычке не смог пропустить созревавшее на глазах происшествие.
Заметив его, городовой выпрямился, решительно поправил портупею и готов был ринуться на восстановление порядка. Но господин сделал незаметный, но точный жест: «Не вмешиваться». Городовой послушно кивнул, всем видом показывая, что готов по первому знаку вступить в бой. Господин в летнем костюме уже забыл о нем, разглядывая тумбу. В ближайшие дни афиши предлагали петербургским жителям массу развлечений, споря размерами заголовков.
В Павловском театре давали «Принцессу Грёза» Эдмона Ростана. Театр в Озерках зазывал на бенефис Воронцовой-Ленни, для которого была выбрана пьеска «На привязи». Театр и сад Тумпакова ждал зрителей на «Князя Серебряного» Алексея Толстого. В пику ему летний театр и сад «Неметти» давал «Орфея в аду». Театр и сад «Новый Эрмитаж» обещал «Страшное дело» драматурга Дингельштедта. А театр и сад «Аркадия» хотел удивить «Мазепой».
Обилие афиш «театров и садов» объяснялось бурным финалом летнего сезона, когда государственные (императорские) театры еще находятся в отпуске, целиком предоставив публику крикливым и нагловатым (по мнению критиков) частным театрам. В которые эта самая публика ходит не для того, чтобы приобщиться к высокому и прекрасному, а неплохо провести время.
Однако ни одно из чудесных представлений не заслуживало того, чтобы посреди Невского проспекта прилично одетые господа расквасили себе носы или разодрали пиджаки, к чему все и шло. Наконец любознательный господин заметил, что острия пальцев споривших то и дело метят в афишу театра и сада «Аквариум», и без того наклеенную в самом видном месте. Афиша сообщала, что через три дня состоится гала-концерт и двойной бенефис мадемуазель Каролины Отеро и мадемуазель Лины Кавальери. Вот такое событие могло стать поводом хорошей драки. Господин в летнем костюме узнал об этом очень кстати.
В Петербурге, при всем богатстве развлечений, кажется, не осталось мужчины, который не принадлежал бы к партии поклонников Отеро или к их ненавистным врагам – поклонникам Кавальери. Две звезды сводили с ума танцами и песнями, но в основном слегка прикрытой красотой, которая сверкала среди настоящих драгоценностей. Брильянты и обнаженные части тел актрис были мощной силой притяжения. Особенно брильянты. У каждой их имелось так много, что было на что посмотреть. Обе звезды знакомы публике с прошлого года, когда они давали концерты на разных сценах. В этом сезоне ловкий владелец «Аквариума» подписал контракты с обеими, чтобы публика шла только к нему. Так что в этот летний сезон в один вечер пела и танцевала Кавальери, в другой – танцевала и пела Отеро.
Сцена «Аквариума» не только не примирила поклонников, но разожгла пожар вражды. Те, кто обожал Отеро, отзывались о Кавальери не лучше, чем о базарной танцовщице. Их противники, верные рабы Кавальери, кричали, что бездарной Отеро надо петь на железной дороге вместо паровозных гудков. Подобные оскорбления Грохольский и Тишинский сами исполняли на самых высоких тонах.
Господин, наблюдавший за ними, чуть улыбнулся верной догадке. Надо заметить, он был вообще довольно сообразительным. Иначе не смог бы занять место начальника сыскной полиции Петербурга. Потеряв интерес к уличной сваре, он заторопился к кофейной кондитерской без крепких напитков, «Au fin goût»[3], что располагалась в трех домах от угла проспектов. Там у коллежского советника Шереметьевского была назначена встреча. Неофициальная и оттого еще более важная.
Показав городовому, что оставляет безобразие на его усмотрение, Шереметьевский заторопился туда, куда шел, пока его не отвлекли скандалисты. Он уже не имел счастья видеть, как господин Грохольский, войдя в раж, влепил господину Тишинскому пощечину – легкую, как пух. А господин Тишинский от обиды ткнул обидчика в грудь тросточкой.
Когда городовой взялся их разнимать, господа докричались до дуэли, которая должна состояться не позже завтрашнего утра «в том самом месте, вы знаете где». Только кровью, красной и сырой, можно смыть оскорбления, которые были нанесены звездам, обожаемым Грохольским и Тишинским.
2
В приличном театре раннее утро начинается после обеда. Сейчас утро было неприлично раннее. Если бы не великое событие, ожидаемое всеми, рабочий сцены Икоткин ни за что бы не позволил себя уговорить. Виданное ли это дело: проверять механику сцены в десять утра! Да что они там, в дирекции, себе думают! Икоткин хоть и занимал в театральной иерархии одну из нижних ступенек, но был о себе мнения самого высокого. И было отчего. Без его стараний ни один концерт, ни один спектакль не пойдет. Кто делает смену декораций? Икоткин. Кто опускает и поднимает полотнища, задники, падуги и занавесы? Икоткин. Кто лазит, как белка, на самую верхотуру сцены под крышу на колосники? Опять же он, незаменимый.
Икоткин наизусть знал, где и что находится на его сцене, и мог с закрытыми глазами совершать любые действия, которые требовались по ходу пьесы. Но сегодня был особый случай. Режиссер «Аквариума», известный всем актрисам красавчик Михаил Вронский, поручил проверить подъемные механизмы. После законного вопроса: «Зачем их проверять, когда и так хороши?» – на Икоткина обрушился такой поток обвинений, включая «вылетишь отсюда как миленький», что было легче пойти и проверить. Такое, значит, грядет представление, что должно пройти без сучка без задоринки.
Обойдя правую боковину сцены, которая называется в театре карманом, и проверив каждый подъемник, заодно потопав каблуком по сценическим люкам, Икоткин неторопливо перешел к левой кулисе. Тут было то же самое. Ровный ряд тросов уходил под самый верх. Туда, где на потолке смонтированы вращающиеся колеса, по которым они двигаются. Тросы были подъемником, на нем поднимали и опускали части декораций на падугах. Механизм работал проще некуда: на одной половине закольцованного троса закреплен противовес свинцовых чурок. Другая – свободная. Куда тянешь, туда декорация и движется: вверх или вниз. А зрители хлопают чуду театрального искусства. Фальшивому, конечно. Но чуду.
Между тросами расстояние в два шага. Икоткин проверил по очереди каждый из пяти механизмов, работают отменно, и дошел до угла сцены. Оставался последний. Как у предыдущих, трос был перекручен, а в образовавшуюся щель враспор воткнута «кошка» – короткая железка с зацепами. Театральная штучка, чтобы блокировать подъемник. Икоткин уже не помнил, когда поставил эту «кошку».
Крайний подъемник давно не использовали. Года два, а то и три. И без него тросов для декораций хватало с избытком. Даже падугу не прицепили, держали пустым про запас. Но раз господин Вронский требует «всю машинерию, какая есть», надо и этот проверить. Вдруг великого режиссера осенит для какого-то эффекта его приспособить. Икоткин выдернул «кошку», сидевшую туго.
Двери зрительного зал были заперты, но из коридора донесся шум голосов, который отвлек его внимание. Икоткин знал, что за ранние гости пожаловали. А потому презрительно хмыкнул. Он услышал шуршание каната, который поехал сам по себе. И обернулся.
Сначала ему показалось, что это просто померещилось. Мало ли что привидится в темноте за кулисами. Театр – такое дело, тут всякое бывает, тени и шорохи сыгранных ролей бродят сами по себе. Икоткин крепко зажмурился, затем протер глаза. И посмотрел. Это смотрело на него из темноты. Вернее, не смотрело, а просто было.
Хоть рабочий сцены нагляделся всяких трагедий и драм, не считая опереток, представшее и взявшееся неизвестно откуда было столь мерзко, гадко и жутко одновременно, что к горлу подкатил ком. Икоткин схватился за грудь, будто получил удар шпагой, слепо попятился, сделал пару неверных шагов и зацепился каблуком за неровно лежащие сценические доски. В другой раз и не заметил бы такую мелочь. Но сейчас организм его, внезапно ослабевший, не совладал с препятствием. Икоткин потерял равновесие и повалился на спину, больно ударившись затылком. Он лежал на спине и не мог шевельнуться. И тут ему показалось, что оно ожило, зашевелилось, двинулось, приближается, тянется неживой тенью и хочет забрать к себе.
Не помня себя, Икоткин засучил ногами, словно отбиваясь от наползавшей змеи. Но с места не сдвинулся. И тогда он закричал. Сначала тонко и протяжно, а потом высоко и жалостно, как подранок. Тело пришло на выручку, он вскочил и побежал, не разбирая куда, так что только чудом не свалился в оркестровую яму, проскочив по самому ее краю.
Крик его, надрывный и беспомощный, разрастался, усиленный раковиной сцены, и разносился по зрительному залу, ложам, бельэтажу и балкону, слыхавшим множество предсмертных криков королей, злодеев и любовниц. Чего ведь только не напишут в пьесках господа драматурги.
Икоткин бежал быстрее крика. Бег его был слепым и отчаянным.
3
Шереметьевский вспомнил, что забыл важную мелочь. У самых дверей он задержался, вытащил из кармана жилетки часы, золотые, но не вульгарные, неторопливо откинул крышку циферблата и приподнял ладонь настолько, чтобы, как бы проверяя время, незаметно осмотреться.
Прием нельзя было считать слишком удачным. Так филера в толпе не обнаружить, если это настоящий обученный филер Департамента полиции. А вот если кому-то не слишком умному захотелось сунуть нос в дела начальника сыска, есть шанс, что попадется на глаза. Хотя кто может заниматься такой глупостью? На новой должности Шереметьевский еще не успел погрузиться в интриги и нажить серьезных врагов. Так что это пустяковая, конечно, но все-таки разумная предосторожность.
Убедившись, что позади и на другой стороне Невского проспекта ничего и никого подозрительного, Шереметьевский убрал часы, снял летнюю шляпу, обмахнулся (дескать, захотелось вдруг освежиться) и зашел в кофейную под ласковый звон колокольчика.
В «Au fin goût» поддерживали, как могли, демократичную атмосферу парижского кафе. Официанты в длинных фартуках изъяснялись по-французски с крепким ярославским произношением, столики были излишне парижскими, не рассчитанными на родимую привычку опираться локотком, а венские стулья норовили зацепиться за чей-нибудь ботинок и пасть с грохотом под ноги официанта с полным подносом. В кофейне не подавали крепкие напитки, зато торговали на развес конфетами и пирожными, а потому купцы, чиновники и прочая основательная публика сюда не захаживали.
Войдя в зал, Шереметьевский понял, что бывать ему здесь не случалось. Демократичной походкой подлетел официант, сказав что-то вроде «силь ву пле, месьё». Но отдельный столик не понадобился. Гость заметил господина за дальним столом, к которому и направился. Официант мгновенно испарился. Шереметьевский невольно отметил, что сердечко дрогнуло, а сам он внутренне сжался, как перед важным приемом у начальства. Действительно, на эту встречу возлагались надежды, от ее результатов зависели далекоидущие планы.
Засидевшись в заместителях Вощинина, своего предшественника, Шереметьевский только по весне получил повышение до начальника сыскной полиции. И то почти случайно, благодаря чрезмерным усилиям и отсутствию желающих занять хлопотную должность. Дальше карьере двигаться некуда. Прочной поддержки в Департаменте полиции у него не было. И не было нужных связей в высших сферах – при дворе. Откуда дождем сыплются чины и награды. Новый знакомый, который обратился к нему напрямик, как раз обладал влиянием, и оно могло превратиться в серьезную протекцию. Если все сложится удачно. Счастливый шанс, выпавший как подарок за долгое усердие, Шереметьевский ухватил и не собирался выпускать. То есть заранее решился сделать все возможное, что от него попросят. И даже невозможное. Особенно невозможное. Только трудные и деликатные услуги, оказанные высшим лицам, обеспечивают их дружбу. И заодно горизонты карьеры. Шереметьевский планировал получить от встречи большие выгоды.
Подойдя к столику, Шереметьевский смутился настолько, что забыл приготовленные фразы и отработанный поклон – в меру почтительный, в меру строгий. Он растерянно улыбнулся и не сразу понял, что ему предлагают сесть.
Начальника сыска ввел в затруднение довольно молодой человек в форме ротмистра Нижегородского драгунского полка. На вид ему было не больше тридцати. Он выделялся отличной выправкой спины, аккуратными усами и ясным, чистым лицом. Надо сказать, что ротмистр был так хорош собой, тонкой, фарфоровой, почти женственной красотой, что дамы, попивавшие кофе, то и дело бросали на него «интересные» взгляды. Но к подобным взглядам он давно привык. Заметив, что штатский господин испытывает затруднения, хотя превосходит его по чину[4], ротмистр улыбнулся такой искренней улыбкой, что на душе Шереметьевского отлегло.
– Прошу вас, садитесь же, ну что вы стоите! – сказали ему простым и милым тоном.
– Благодарю, ваша светлость… – Шереметьевский опустился на краешек стула и вынужден был удержать равновесие.
– Что вы, Леонид Алексеевич, никаких чинов, будем запросто, приятелями!
Шереметьевский чуть поспешно бросился пожимать протянутую ладонь. Благородная рука оказалась мягкой, но крепкой и жилистой, способной сжимать палаш и рубить. Врагов, разумеется.
Рядом возник официант в демократичном поклоне. Шереметьевский заказал кофе, отказавшись от прочего и сладкого. Он не до конца овладел собой и сомневался, что кофе полезет в горло. Хотя начало вышло многообещающим: новый друг оказался куда более славным человеком, чем о нем говорили.
Как полагается, первые минуты разговора были отданы вежливым вопросам о здоровье, службе и осуждению погоды, которая ведет себя, как ей вздумается. Ротмистр, уловив волнение «приятеля», нарочно постарался, чтобы тот скорее освоился. Наконец Шереметьевский прочно уселся на венском стуле, сделал глоток горьковатого кофе и отвечал непринужденно, сумев ввернуть заготовленный комплимент.
– Леонид Алексеевич, могу ли вам довериться?
Вот оно, теперь наступило главное. Шереметьевский был готов.
– Разумеется, князь. Все, что будет в моих силах. Рассчитывайте на меня полностью.
– Как приятно это слышать от дельного и опытного чиновника. Вам давали самые положительные рекомендации, теперь я убедился окончательно.
К счастью, Шереметьевский не был барышней. Иначе обязательно покраснел бы от удовольствия. Надо же, о нем отзываются в высоких сферах! Это добрый знак. Только бы не спугнуть удачу.
– Благодарю вас, князь, за столь лестную оценку более чем незначительных моих стараний…
Ротмистр улыбнулся так приятно, что барышня у окна, то и дело стрелявшая в него глазками, заулыбалась тоже.
– Ваша скромность делает вам честь. Значит, я не ошибся… Тогда, если позволите, изложу причину, по которой вынужден искать вашего участия.
От таких слов Шереметьевский должен был расцвести. Но опять же не был барышней. А им только дай расцвести: расцветут так, что только держись. Начальник сыска всего лишь обратился в слух.
Дело оказалось вот в чем. Одна «добрая знакомая» ротмистра, имя которой из вежливости не было названо, но Шереметьевский прекрасно понял, о ком идет речь (потому что об их «знакомстве» сплетничала вся столица), милая барышня, блестящий талант и бесподобная актриса, попала в чрезвычайную ситуацию. Ей поступили угрозы.
– Угрозы? – переспросил Шереметьевский, так добрая борзая делает стойку на зайца. – Какого рода угрозы?
– Не могу знать, Леонид Алексеевич. Угрозы настоящие, нешуточные. Что-то вроде письма или записки, которую подбросили.
– Чем же мадемуазель… – тут Шереметьевский запнулся, чуть было не брякнув вслух имя, которое не следовало называть, – …вашей знакомой угрожают?
– Ей угрожают смертью! – патетическим шепотом сообщил ротмистр. – Представьте, как бедняжка испугалась. Буквально не находит себе места, хочет бежать из Петербурга и вообще может потерять голос.
Сказанного было достаточно. Козни и интриги, ох уж этот театральный мир! К счастью, дело оказалось куда проще, чем могло быть. Уж это Шереметьевский расщелкает, как лесной орех.
– Вот, значит, как! – строго и внушительно сказал он, как и полагается настоящим защитникам барышень, у которых есть высокий покровитель. – Угрожать вздумали! – Тут он многозначительно сжал кулак и даже повел им. – Ну ничего, получат, что полагается! Дело, конечно, не простое, трудное дело, опасное. Но вы, князь, можете быть покойны: костьми ляжем, а не позволим с ее головы волоску упасть. Проучим негодяев, чтоб неповадно было угрозы подбрасывать!
– Как приятно, буквально сняли камень с души, – отвечал ротмистр со вздохом облегчения. – Но подумать не могу, чтобы вы сами занялись поиском этого преступника. Не приму такую чрезмерную жертву от вас. Есть кто-то надежный, кому можете поручить деликатную миссию?
– Есть такой надежный! – заявил Шереметьевский.
– Полностью доверю вашему выбору.
Ротмистр встал, показывая, что рандеву окончено. Шереметьевский торопливо поднялся, успев поймать падающий стул.
– Благодарю, Леонид Алексеевич, за вашу доброту и отзывчивость, – сказал ротмистр, пожимая ему руку. – Так значит, когда ваш человек сможет заняться этим делом?
– Прибуду в управление, сразу отправлю. Непременно!
– Рассчитывайте на мою дружбу. Только прошу об одном: неприятный факт должен остаться сугубо между нами.
Шереметьевский обещал умереть, но тайну не раскрыть. Разве можно раскрывать интимные тайны таких людей, которые обещают свою дружбу, а вместе с ней и головокружительные перспективы карьеры.
4
Пристав переживал странную смесь любопытства и разочарования. Впервые оказавшись на сцене, он посматривал вокруг себя и в пустой зрительный зал.
Сколько раз, сидя в кресле, Левицкий смеялся, грустил, радовался и даже разок всплакнул, испытывая эмоции, которым нет места в серости жизни. Он не жалел аплодисментов актерам, а когда бывал без жены, подносил актрисам корзины цветов. Но сейчас, оказавшись по другую сторону рампы, увидев изнанку театра, голые стены, ободранные и немытые, веревки и штанги, на которых крепились подвесные декорации, и клееные рамы самих декораций, потертые доски сцены с множеством шляпок вбитых гвоздей, вдруг ощутил, что его нагло обманывали. Не лучше шулера, который сдает карту, которую хочет. Не потому, что в пьесах все фальшь. А потому, что его заставляли плакать над бутафорской смертью или любовью. Из зала они казались настоящими. Со сцены открылись враньем.
Открытие раздражало. Как любое исчезновение иллюзий. Как будто он сам позволял делать из себя дурака. Пожалуй, теперь в театр не скоро пойдет. Левицким окончательно овладело дурное настроение. На лице у него застыла презрительная мина, с которой он прошелся по сцене.
– Ну и что устроили за представление, Георгий Александрович?
Вопрос обращен был к владельцу и создателю «Аквариума» Александрову, который с растерянным видом ходил кругами по сцене.
Хозяин 1-го полицейского участка и хозяин театра давно знали друг друга. Знали как облупленных. Левицкому был обеспечен бесплатный вход на любое представление, хоть в саду, хоть в каменном театре. За что Александров получил поблажки за мелкие проступки и шалости, без которых коммерческое дело в России не устоит. А частный театр тем более. Левицкий, сам будучи «из простых», с уважением относился к тому, чего Александров добился трудом и талантом, не воруя и не живя на казенные деньги. Придя в Петербург из деревни, начав кухонным мальчишкой в ресторане на Невском, Александров умом и усердием сколотил состояние. Но главное, для развлечений публики открыл один за другим театры «Ливадия», «Аркадия» и, наконец, «Аквариум», его гордость.
Так же хорошо Левицкий знал про хитрость и увертливость Александрова. Без которой такое огромное театральное дело не удержать. Ему палец в рот не клади, откусит по самый локоть. Вот уж точно кем Александров не был, так это любителем глупых розыгрышей. Просто так, ради «пошутить», бить тревогу и вызывать полицию не стал бы. Не того стержня человек.
Глядя в рубленое крестьянское лицо Александрова, в его цепкие хитрые глаза, пристав наверняка знал, что хозяин «Аквариума» пребывает в глухом неведении о том, что тут случилось.
– В толк не возьму, Евгений Илларионович, – проговорил Александров, прекратив кружения в котором не было никакого смысла.
– Оперетку решили с нами разыграть? Навроде «Парижаночки-сорванца» или «Альфреда-паши в Париже»? – припомнил Левицкий любимые спектакли, которым аплодировал не раз.
– Глупость какая-то, сейчас будем разбираться. Кому следует получить по шее, тот получит.
– Глупость не глупость, а напрасный вызов полиции. За это знаешь что полагается? – Пристав оглянулся на старшего помощника, штабс-капитана Турчановича, ища его поддержки, но тот, прижимая к груди папку для протокола, отчаянно зевал.
Александров прекрасно знал, что за такой проступок не полагается ничего страшнее взыскания, но сделал вид, что напуган и опечален.
– Не могло же оно взять и исчезнуть! – раздраженно проговорил он.
– Это уж вам, театральным, видней. Сейчас будем все тут обыскивать, а если надо, и доски от пола отдирать. Так, Турчанович?
Старший помощник ответил невнятным сопением, желая как можно скорее отправиться в участок. И так ясно: обознались. Ошибка вышла. Театр, одним словом.
– Пощади, Евгений Илларионович! – жалобно и покорно бормотал Александров. – У нас театр полон репортеров перед великим событием. Молю: пощади. Давай уж без шума, тихонечко.
– Тихонечко в таком деле нельзя. Куда труп дели?
Вопрос ставил в тупик.
Менее часа назад в дирекцию влетел Икоткин с перекошенным лицом и стал орать, что на сцене «ведьма мертвая стоит». Ужас его был натуральным, а запаха не было вовсе. Откуда быть запаху, когда Икоткин уж два года как не касался спиртного. Александров, не разобравшись и не проверив, телефонировал в участок Левицкому, просил прибыть срочно. Но незаметно. Чтобы представители газет случайно не заметили полицию и не сунули нос куда не следует. До прибытия пристава Александров запретил даже близко подходить к сцене и приказал запереть двери. Когда же полиция вошла на сцену, оказалось, что на ней нет ничего. Буквально. Не то что мертвой ведьмы, но хоть каких-то следов преступления: крови, частей тела, волос или рваной одежды. Из дружеских чувств Левицкий обошел каждый угол. Не нашел ничего, только заработал стойкое недоверие к театру.
– А где это бездельник, этот Икоткин? – спросил Александров, обернувшись к юноше в строгом черном костюме. – Платоша, ну-ка позови сюда шута горохового. Пусть самолично господину приставу пояснит, куда дел мертвую… тело, – придержал он за зубами слово «ведьма», чтобы окончательно не выглядеть дураком.
– Простите, Георгий Александрович, никак невозможно, – отвечал строгий юноша.
– Это как так? Набедокурил, а как отвечать – в кусты? Зови немедленно!
– Икоткин лежит мертвецки пьяным.
– Икоткин? Пьян?! – не веря своим ушам, проговорил Александров, что вызвало у пристава презрительную усмешку: «Ох уж эти театральные, строят из себя невинность». – Да как же он… Он же и пива не пьет…
– Как вы с господином Левицким прибыли на сцену, сразу отправился за ним, подумал, что Икоткин понадобится, – четко отвечал юноша, вызвав у пристава светлое чувство: «И в театре есть умные головы». – Нашел на летней веранде ресторана. Уже без чувств. Официант сказал, что Икоткин влетел на кухню, схватил графинчик водки и залпом опорожнил. После чего сделал три шага и упал, пробормотав: «Ведьма». Повара это слышали. Его подняли и отнесли на задний двор. Если господин пристав желает его допросить, то потребуется ждать не менее трех-четырех часов, пока придет в чувства. Или больше. Икоткин непьющий, организм не выдержал удара водки.
Вслух хвалить юношу Левицкий не стал, еще не хватало, но про себя отметил: какой толковый малый растет под крылом старика Александрова. Надо бы с ним завести приятельские отношения. С прицелом на ближайшее будущее, так сказать.
После такого доклада Александрову ничего не осталось, как только развести руками.
– Ну, Евгений Илларионович, хочешь – казни, хочешь – милуй, а вот такая незадача получилась. Твоя воля, прости нас, что голову тебе заморочили…
Признание вины смягчает не только суд. Скроив для порядка строжайшую мину, Левицкий заложил руки за спину.
– Даже не знаю, как поступить, Георгий Александрович… Обдумать требуется.
Намек был пойман на лету.
– А вот это верно, верно, – заторопился Александров. – Милости просим в наш ресторан, как раз поздний завтрак сейчас. У нас, конечно, не «Славянский базар», «журавлей»[5] не держим-с, но свои угощения имеются. Отменные, доложу тебе…
С этим Александров мягко подхватил Левицкого под локоть и повел прочь со сцены. Сопротивляться пристав не смог. Но пока еще напускал на себя строгость.
Турчанович с завистью глянул на удалявшуюся спину. Старшему помощнику пристава еще не полагался такой прием. А так хочется выкушать поздний завтрак. Всем известно: кухня в «Аквариуме» отменная. Словно угадав его мысли, юноша в строгом костюме позвал к себе в кабинет. У него, конечно, не ресторан, но закуска под хороший коньяк найдется. Чему Турчанович обрадовался искренне.
Что же до мертвой ведьмы, то был подписан молчаливый уговор: не было ее, и дело с концом. Показалось. Померещилось. С кем не бывает. Хоть и с трезвых глаз.
5
Сыскная полиция – не то присутственное место, где люди бывают счастливы. Не до счастья, когда дел невпроворот. Каждый день на голову сыплются распоряжения, отношения, требования по розыску беглых и политических, нужно составлять справки, статистические отчеты, делать еженедельные доклады в канцелярию градоначальника и ежеквартальные в Департамент полиции, писать ответы на требования Врачебно-санитарного комитета в отношении розыска безбланковых проституток и бланковых, уклоняющихся от обязательного осмотра. И одних бумаг – более сорока тысяч в год. Еще надо раскрывать такие преступления, как воровство, грабежи и даже убийства, – по запросам полицейских участков, которые сами обязаны мелкие дела разгребать, так ведь приставам лень. Проще скинуть на сыск. Голову некогда от бумаг оторвать, не то что насладиться последними солнечными деньками лета.
Тем не менее в приемной части сыскной полиции, что располагалась на третьем этаже полицейского дома на Офицерской улице, 28, над головой пристава и всего 3-го участка Казанской части, имелся целиком счастливый человек. Кое-как помещался этот одинокий счастливый человек за столом, воткнутым в уголок между окном и стеной. Перед ним высилась стопка неразобранных дел и другая – с требованием разнообразных справок, так, примерно, дня на три кропотливой писанины; на календаре было воскресенье. Все равно человек этот был поистине счастлив. Потому что остались считаные дни до того момента, как сбудется его мечта.
Последние лет пять, и даже больше, мечтал он не о дачном домике, богатой невесте, доходном чиновничьем месте или получении большого наследства. Мечтал побывать на священных руинах, изучению которых посвятил студенческие годы в Петербургском университете. Неожиданно для всех он устроился в полицию, поразив тем самым не только преподавателей, видевших в нем восходящую звезду, талантливого ученого, посвятившего себя исследованию классических древностей, но заодно и обожаемую матушку и старшего брата, перспективного чиновника МИДа. О совершенной много лет назад «глупости» одни позабыли, другие смирились с таким его выбором (кроме брата Бориса, который презирал полицию, как истинный дипломат), но мечта жила. «Увидеть Древнюю Грецию – и умереть» – примерно так она звучала, с поправкой, что умирать в ближайшие пять десятков лет мечтатель не собирался. Конечно, он мечтал увидеть не саму Древнюю Грецию, а то, что от нее осталось после долгих и трудных веков человеческой истории. Но и это было бы счастьем.
Однако полицейская служба имеет такое свойство: угодить в нее легко, а вырваться невозможно. Служа в сыске более пяти лет, чиновник Ванзаров никак не мог испросить себе отпуск. Всегда находилось неотложное дело, которое требовало раскрытия, или обстоятельство, которое не пускало. Пока вдруг этой весной не случилось чудо: ходатайство Ванзарова было удовлетворено. Ему было дозволено отправиться в отпуск за границу. И даже выдан заграничный паспорт. И даже начислено отпускное довольствие.
До невероятного, немыслимого счастья оставалось досидеть день в полном одиночестве до пяти часов, помчаться на квартиру, где ждали набитые книгами чемоданы, и оттуда прямиков на Царскосельский вокзал, с которого поезд довезет до Одессы, а дальше – пароход до Афин. И вот она, Греция, встречай своего непутевого пасынка!
Предчувствие счастья было столь сильно, что Ванзаров забыл про горы дел и справок, ради приведения в порядок которых вышел в выходной. На листке казенной бумаги он составлял тщательный план, когда и что поедет осматривать. Времени на отпуск дали всего ничего – два месяца, а столько надо посмотреть, стольким великим руинам поклониться, столько бессмертных камней поцеловать. Да что там камней, подышать воздухом свободы! Ну и заодно попробовать греческое вино. Пусть не древнее, зато в нем будут отголоски того, что пили эллины. Не замечая ничего вокруг, Ванзаров записывал места обязательного посещения. Их набиралось далеко за тридцать.
К отпуску подготовка шла основательная: последние месяцы его чтением были Гомер, Гесиод, Плутарх, Эсхил, Геродот и Платон. Так что Ванзаров был полон древней мудростью, как запеченный гусь капустой. Еще немного, и он заговорит гекзаметром. К счастью, атмосфера сыскной полиции немного остудила разгоряченную голову.
Ванзаров светился счастьем не хуже электрической лампочки. Свет этот незримо достигал других чиновников сыска, отдыхавших в воскресенье. У них тоже было предчувствие некоторой радости. Не такое сильное и всепоглощающее, как у Ванзарова, но было. Радовались чиновники сыскной полиции Силин, Викторов и Коцинг. Радовался чиновник Лукащук, не говоря уже о Власкове, Николае Семеновиче, а вместе с ним делопроизводителях Кузьменко и Ляшенко. Радовались чиновники, сидя по квартирам и дачам. Радовались тому, что уже в понедельник, когда вернутся на службу, и потом целых два прекрасных месяца не увидят Ванзарова.
Нельзя сказать, что между ним и прочими была вражда или неприязнь. Отношения были ровными, яд в чай не подмешивали. Однако Ванзарову без коллег-чиновников и чиновникам без него жилось бы куда как… вольготнее. Говоря по чести, душно им было вместе. Чиновники сыска были неплохими чиновниками, то есть обычными людьми, которых более заботит жалованье и повышение в чине, выходной день с женой и детишками, грибы и варенье по осени. В общем, у них имелись милые, простые и такие человеческие интересы. До которых Ванзарову не было ровным счетом никакого дела. А его интересы… Ну кого занимают Эдипы с Медеями в конце XIX века?! Вот именно…
Что же до службы, то и тут было не все просто. Считалось, что Ванзаров на особом счету, этакий гений сыска. А за что, за какие такие заслуги? Орденов и чинов не получает, как был коллежский асессор, так и остался. Ну, подумаешь, дела любые раскрывает. И что с того? Везение, не больше. А вот попробовал бы гений сыска за день написать три десятка справок, вот тут мастерство и сила воли нужны. Так ведь нет их у хваленого Ванзарова, бумаги запущены, вечно кто-то за него должен дописывать и подчищать. Взаимное раздражение копилось. Пора было Ванзарову и чиновникам отдохнуть друг от друга.
Ванзаров дошел в списке до посещения дельфийского оракула, когда в приемную заглянул Шереметьевский, нежданный и незваный, пожелал доброго дня и попросил заглянуть к нему. Начальник сыска считал, что отлично владеет лицом и выражением чувств, буквально непроницаем. Ванзаров сразу понял, что ожидается мелкая пакость. На крупную Шереметьевский был не способен. Не то что милейший Вощинин, покинувший сыск.
Сложив список и засунув его в карман как нерушимый завет отпуска, Ванзаров вошел в кабинет. Шереметьевский как раз деловито распахивал окна и дружелюбно предложил «дорогому Родиону Георгиевичу» садиться, где ему будет удобно. Вероятно, пакость готовилась среднего размера… Ванзаров остался стоять.
С суетливым дружелюбием Шереметьевский стал расспрашивать, как идут дела. На что Ванзаров сухо ответил, что у него до отпуска осталось несколько часов присутствия. Такая невежливость с начальством была его характерной чертой. Но Шереметьевский вынужден был ее проглотить и не поперхнуться.
– Любите ли вы театр, Родион Георгиевич? – игриво спросил он.
Ответ последовал мгновенный и неожиданный, как кирпич с крыши:
– Терпеть не могу.
Шереметьевский кашлянул, чтобы не вырвалось, что думает про эту наглую личность. Без которой не мог обойтись.
– Отчего же так? – миролюбиво спросил он.
– Театр – это не искусство, – сообщили ему.
– А что же?! – с искренним изумлением пробормотал Шереметьевский.
– Кривляние плебеев. С точки зрения римского свободного гражданина. Патриция…
– Вот как! – только и мог произнести Шереметьевский, из-под которого выбили такую удобную лесенку к деликатному делу.
Кроме безграничной наглости (о которой известно каждому), Ванзаров обладал излишней жалостью, переходящей в милосердие, недопустимое для чиновника. Ему стало немного стыдно, что он так лихо обошелся с хитрившим начальником.
– Современный театр перестал быть искусством, – как бы извиняясь, пояснил он. – Искусство должно вызывать ужас, открывать бездны, над которыми стоит человек. Безграничное небо надо мной и моральный закон во мне. Вот что такое искусство. Великое искусство требует жертвы. Иногда крови. А театр – дешевый балаган. Нынешний – особенно. Одно только пошлое зарабатывание денег на пошлостях. Я в этом не участвую.
В другой раз Ванзаров никогда не позволил бы себе выразить так прямо свои мысли. Но долгое чтение классической литературы сыграло с ним злую шутку. В полиции нельзя говорить то, что думаешь. А лучше не думать совсем.
Справившись с ударом, Шереметьевский понял, что остается только один путь – прямой и честный.
– Родион Георгиевич, у меня к вам просьба, – без затей сказал он. – Можете считать, что личная. Услуга, о которой не забуду. Никому другому поручить не могу. Вы единственный, кто умеет держать язык за зубами. Прошу помочь…
Надо было срочно найти веский аргумент, пока не втянули неизвестно во что.
– У меня до отпуска дела не разобраны, – со всей серьезностью сказал Ванзаров.
Шереметьевский хищно улыбнулся:
– Ничего, другим поручу. Первый раз, что ли, за вами доделывать?! Какие могут быть счеты между своими?
– Не успеть. Поезд в восемь вечера.
– Успеете! Конечно успеете! – Шереметьевский распахнул объятия. Будто хотел прижать к груди дорогого отпрыска. – С вашими талантами вам хватит нескольких часов. Тем более что вы не знаете, о чем хочу попросить. Поверьте, не пожалеете. Вам выпал редкий шанс познакомиться с самой красивой женщиной в мире. И не просто познакомиться, а помочь ей, защитить ее. Внукам своим будет рассказывать… Ну как, неужели от такого откажетесь?
У любого непобедимого героя имелось слабое место. Древнегреческие мифы об этом достоверно сообщали. Было такое место у Ванзарова. Даже слишком слабое для чиновника сыска, владевшего искусством логики, маевтики, составления психологического портрета и еще кое-какими способностями, о которых другим знать не полагалось. Что поделать, это слабое место знакомо многим мужчинам.
– Кто она?
– А вот прежде ответьте мне, кто вы: отерьянец или кавальерист?
Ванзаров ненароком подумал, что у начальника сыска немного помутилось в голове, раз спрашивает его – «вольтерьянец» он или «кавалерист». Допустить такое помутнение было бы слишком нелогичным и опрометчивым. И он честно признался, что понятия не имеет, о чем идет речь.
Если бы Шереметьевский не знал, кто перед ним, то наверняка решил бы, что его разыгрывают. Но это был не розыгрыш! Нашелся единственный мужчина в Петербурге, который не знал ничего ни про Отеро, ни про Кавальери! Ну конечно – он же не ходит в театр! Да это просто золото, а не человек. Тут Шереметьевский забыл еще про одного мужчину, который не принадлежал к враждующим партиям, – про себя. Ему было все равно, что та певичка, что эта. Какая разница?
– Тем лучше, что не принадлежите ни к одной из партий. Скажу напрямик: ваша помощь нужна самой яркой звезде сцены. Ей угрожает опасность, – о прочих обстоятельствах он благоразумно промолчал.
Ванзаров глянул на старинный напольный маятник, засунутый в угол еще, быть может, самим Путилиным. При Вощинине маятник точно стоял. Время было раннее. Несколько часов в запасе есть. Отличный предлог забыть про бумаги.
– Хочу предупредить наперед, Леонид Алексеевич: никакие самые красивые женщины не заставят меня отменить отпуск, – сказал Ванзаров и добавил: – Это незыблемо.
– Об этом и речи нет! Быстро разберетесь, и дело с концом.
– Прошу как можно больше фактов о самом деле и персоне.
Шереметьевский потирал руки. Мысленно, разумеется. Если самый неприятный чиновник поможет его карьере – разве это не чудо?
6
С варшавского поезда, прибывшего на Варшавский вокзал, сошел господин в добротном костюме, явно от варшавского портного, который так раскроит рулон доброго английского сукна, что и клиент доволен, и детям на жилетки останется.
Носильщик принял одинокий чемодан, что для путешествующего в столицу империи можно назвать «приехал налегке». Господин дошел до конца перрона, приказал носильщику положить чемодан прямо под ноги, заплатил без щедрости и остался в потоке выходивших пассажиров. Вид его не вызвал подозрений у дежурного жандарма: приезжий, вежливо приподняв шляпу, улыбнулся ему. Ясно, прибыл провинциал. В столице эдакой приветливостью жандармов баловать не принято. А принято обходить стороной.
Кода толпа схлынула, господин заприметил парнишку, что уселся на низенький заборчик, оберегавший кусты сирени. Парнишка выглядел щеголем: в новенькой фуражке-московке, начищенных сапогах, чистой рубахе навыпуск и пиджачке по плечам. Юнец чуть кивнул приезжему и вразвалочку двинулся к привокзальной площади, лузгая семечки. Там он задержался около пролетки, ничем не примечательной, пока приезжий закидывал в нее чемодан и забирался сам, и напоследок скоком уселся на багажное место между задними колесами. Извозчик не повернулся к пассажиру, не спросил «куда изволите?», не сторговался о цене, а тронул вожжи и поехал.
Пролетка катила по улицам, господин вертел головой, с любопытством осматривая столицу. Внимание его привлекали городовые, что перетаптывались на постах. Каждому он улыбался и провожал взглядом. Наконец пролетка остановилась на Садовой улице напротив шумного и нечистого Никольского рынка. Торговали здесь всякой мелочовкой, если не мусором, какую на другие рынки и не пустили бы. Здесь обитало и кормилось такое количество голытьбы, что Никольскому впору быть ближайшим родственником Сухаревки или Хитровки. Хотя и без московского беспредельного мрака жизни воровской.
Подхватив чемодан, приезжий последовал за парнишкой. На него поглядывали с удивлением: что за сумасшедший на рынок с чемоданом пожаловал, надо бы его от вещичек избавить. Углядев, за кем странный мужчина следует, мазурики сразу теряли интерес к приезжему. Так, без приключений, гость прогулялся насквозь внутреннего двора рынка. Парнишка подвел к широкой лестнице, ведущей в полуподвал, кивнул и исчез. Дальше провожатые не требовались. Подхватив чемодан под мышку, гость спустился по старинным, битым ступеням.
Внизу открылся склад, заставленный горами мешков. Что хранилось в них, было ведомо одному хозяину: крепкому жилистому мужику, что сидел за старой конторкой, у которой подкоротили ножки. Для удобства сидения. Вид хозяина и одежда говорили о чрезвычайной скромности, которая всегда скрывает змеиную хитрость. Отложив чернильную ручку на конторскую книгу, хозяин не мигая уставился на прибывшего. Гость выпустил чемодан, который благополучно шмякнулся на каменный пол.
– Мир дому сему! – сказал он с мягким польским акцентом, сняв шляпу и глубоко поклонившись.
– Заходи, коли добрый человек, – ответил мужик, поманив пальцем.
Поляк приблизился и в другой раз отвесил поклон.
– Мое почет и уважение пану старшине!
– Благодарствуем, что навестили. Для нас такая радость! Сам пан Диамант к нам изволил пожаловать. Такой известный человек, в каждом разыскном альбоме фотография пропечатана. Всякий раз как рассматриваем, так и диву даемся: до сих пор не повязали. О делах твоих наслышаны много. Большая честь, одним словом. – Гостю указали на стул – крайне ветхий, будто стоявший здесь с основания Петербурга.
Диамант сел послушно и аккуратно, как школьник, сжав колени и прикрыв их шляпой.
– Таки розум имам, – начал он, немного путаясь в словах. – В дом обцы не можна без дозволеня ходить. Не можна без дозволу, так сёнджем, прошу пана, старшина…
Хозяин степенно кивнул.
– Это правильно, пан Диамант. Без разрешения в чужой дом входить у нас не принято. Ведь как бывает. Не знает человек порядка, сунется, наделает дел. А потом идет по улице и вдруг упал замертво. А кто его финкой в бок угостил – поди разберись.
– То так, – в ответ кивнул Диамант. – Без дозволу не можна.
– Вот и хорошо. С чем пожаловал?
– Могу мувичь, пан старшина?
– Говори, пан Диамант, чужих ушей нет. Давно их отрезали. Так с чем пожаловал?
Воровской старшина Петербурга, известный по полицейский картотеке под кличкой Обух, а избранные именовали его уважительно, по имени-отчеству, был человеком страшным, но мудрым. Железной рукой держал он вверенный ему воровским миром город. Держал крепко, но справедливо. Виновные в проступках не наказывались, а просто исчезали. Иногда всплывая по весне в реках и каналах. После парочки уроков желающих перечить Обуху больше не нашлось. Включая залетных гастролеров. Все зарубили на ломаных и битых носах своих: без разрешения соваться в столицу не следует.
– Дело есть, большое дело, Семен Пантелеевич, – сказал Диамант, не меняя позы. Только очаровательный польский акцент сам собой растаял.
– Знамо, большое. За малым не пришел бы…
7
Хоть Ванзаров избегал театров, но про «Аквариум» слышал. Не было столичного жителя, который хоть раз не побывал в роскошном саду или каменном театре, нынче похожем на купеческий сундук и сказочный замок одновременно. Основатель театра не жалел фантазии и денег, чтобы поразить публику до потери речи.
Еще в старом здании были устроены гигантские аквариумы, в которых плавали стаи разнообразнейших рыб: от родимых осетров до самых редких африканских рыбок. На сцену приглашались лучшие исполнители и музыканты, и даже сам Чайковский слушал здесь сюиту из «Щелкунчика» и остался доволен, как говорят.
Семь лет назад театр был основательно перестроен и оборудован и теперь считался чуть не самым современным по сценической механике и самым большим частным театром в России. А когда в саду театра построили копию Эйфелевой башни, высотой в два этажа, слава «Аквариума» загремела в полный голос. В этом году достраивался еще Железный летний театр – огромный навес из стальных клепаных конструкций. Так что к следующему сезону в «Аквариуме» будет три сцены.
Все эти бесполезные сведения Ванзаров припомнил, ведь он, как любой человек, каждое утро открывал городские газеты. Проку в этих сведениях для предстоящего дела не было никакого. На извозчике, щедро предоставленном 3-м Казанским участком, он подъехал к саду, начинавшемуся от Каменноостровского проспекта и окружавшему театр буквой «Г».
Окинув взглядом здание, Ванзаров остался печально равнодушен к крикливой роскоши, к гирляндам цветов и фонариков, развешанных по саду, к летней сцене, видневшийся из-за растительности, и летней веранде ресторана. Будь его воля, снес бы он эти хоромы и опять разбил бы огороды с капустой. По примеру Овидия. Потому как от капусты польза в щах, а от театра – никакой. К счастью хозяина «Аквариума», такое ледяное сердце было единственным в столице и окрестностях. За кустами черемухи он заметил господина, который прижимал к себе массивный букет белых цветов, кажется, хризантем. «Еще один сумасшедший любитель театра», – с брезгливостью патриция подумал Ванзаров. За что не следует его осуждать: всеми мыслями он был уже в Элладе.
Направляясь к входным дверям, он еще приметил и городового, который находился явно не на своем посту. В лицо старого полицейского припомнил, но имени не знал. А потому сделал вид, что не заметил.
Стеклянные двери, привычно впускавшие публику, сами собой распахнулись.
– Опаздываете, у нее все собрались полчаса назад, – выговорил ему строгим тоном юноша в не менее строгом черном костюме.
Ванзаров не стал уточнять, что молодой человек ошибся, и молча кивнул.
– Вы откуда? – спросил юноша, пропуская перед собой.
– Из полиции, – уклончиво ответил он.
– А, «Вестник полиции»[6]. Приятно, что официальная газета проявила интерес к нашему великому событию. Прошу…
Юноша торопливо шел впереди. Минуя коридоры для публики, они прошли в артистические помещения. Здесь пахло потом, пудрой, клеем. И фальшью, как показалось Ванзарову. Подойдя к двери отдельной гримерной комнаты, юноша тихонечко распахнул ее и одними губами пригласил войти.
В гримерной было не протолкнуться. Уже с порога Ванзаров узнал некоторые лица: петербургские репортеры. Если может быть что-то хуже артистов, то это газетчики. Лезут куда не следует, пристают с неудобными вопросами, мешаются под ногами. И вечно хотят узнать то, что им знать не следует. Причем обязательно раньше всех. Отвратительные личности, одним словом. Но сейчас эти хищные личности слишком заняты: все их внимание приковано к даме, которая полулежала на софе. Ванзаров постарался оказаться у всех за спинами, что ему удалось с некоторыми усилиями. Пришлось протиснуться за подставку с китайской вазой, из которой торчал гигантский букет живых роз. Надо сказать, что в гримерной цветов было куда больше, чем репортеров. Букеты большие и малые торчали из каждого угла и на каждом свободном месте, нагнетая удушливый аромат целого сада роз.
Стараясь держаться стены, чтобы не снести вазу, он нашел устойчивое положение и смог рассмотреть ту, которой грозила смертельная опасность. Одного взгляда было достаточно, чтобы сердце Ванзарова, совсем не такое стальное, как его логика и разум, вздрогнуло и упало. Красивее женщины он еще не встречал.
Нет, вообще-то он видел ее изображение. Как-то раз, задержавшись у газетного лотка, Ванзаров заметил открытки с этим лицом. Тогда он подумал, что смертная женщина не может быть так красива, наверняка вымысел художника. Сейчас видел ее перед собой. Смотреть было трудно. Она была прекрасна, как наяда, как нимфа, как мраморная статуя. Ну с кем же иным мог сравнить ее Ванзаров, как не с древнегреческими образцами. В ее лице, немного кукольном, с дерзко вздернутым носиком, было то, что сражает мужчин наповал: смущенная невинность вместе с наивной порочностью. Смесь ужасной, разрушительной силы. После которой у мужчины остаются развалины в сердце. Ну, и в душе.
Она была в легком летнем платье с излишне открытым декольте, подчеркивающим правильную форму груди. Из украшений только нить жемчуга. Правда, невероятной длины: полтора аршина[7], не меньше. Нимфа беззаботно крутила нить, будто простую веревку. Ванзаров невольно подумал, что в женских ручках его годовое жалованье, а то и больше. Мысль о деньгах помогла оторвать взгляд от ее лица. Ванзаров заставил себя пройтись по физиономиям репортеров.
В них не было ничего волшебного. Наоборот: простая хищность голодных собак. Собаки облизывались, но не могли накинуться на лакомый кусок. На французском с дурным произношением они задавали вопросы, какие должны задавать: «Какие цветы ваши любимые?», «Какую партию хотели бы исполнить?», «Что думаете о предстоящем бенефисе?» и тому подобную глупость. Один из стаи, кажется из «Петербургского листка», спросил:
– Говорят, что ваша соперница, мадемуазель Отеро, сильнее вас голосом. Что скажете?
– У меня нет и не может быть соперниц, – ответили ему мягко и нежно.
Ее взгляд нашел Ванзарова. Она заметила его – мужчину, который вел себя не как все, а, напротив, держался в тени. Ванзарову пришлось нелегко, когда он заглянул в эти… ну, в общем, чрезвычайно красивые глазки. Да, глазки были его слабым местом. Ему было трудно, но он выдержал. Нимфа отвела взгляд.
– Вас называют самой красивой женщиной в мире. Что скажете?
– Пусть об этом судят те, кто так говорит, – последовал довольно умный ответ.
«Собаки пера» еще накидывались с вопросами, пока нимфа не встала и не поблагодарила за интервью. Она будет рада видеть каждого на бенефисе, входные билеты можно получить в дирекции. Стая выметалась, унося с собой запах нечистой одежды и типографской краски, от которого не спасали розы. Ванзаров вынужден был прикрыться плюшевой драпировкой, свисавшей у двери. Не хватало, чтобы его узнали и начались новые вопросы. Когда последняя спина исчезла, он вышел из укрытия и быстро прикрыл дверь. После чего отдал самый вежливый поклон.
– Я ответила на все вопросы, – сказала нимфа, разглядывая репортера, сильно не похожего на собратьев. Женским взглядом она отметила крепкую фигуру, бычью шею, роскошные усы вороненого отлива, русый вихор и добрые глаза с немного наивным детским выражением.
– Позвольте представиться, мадемуазель, – начал он, с трудом вытаскивая из памяти французские слова. – Чиновник сыскной полиции Ванзаров. Прибыл по поручению, чтобы оградить вас от угроз.
Мадемуазель нимфа о чем-то раздумывала, но не более секунды, улыбнулась (лучше бы он не видел эту улыбку) и протянула ему руку. Для поцелуя.
– А, как приятно, синьор Фон-Сарофф, – произнесла она по-своему трудную фамилию. – Рада знакомству. Лина Кавальери…
Он чуть коснулся нежной, мягкой, ароматной, душистой, бархатной ручки и утонул в ней. Поцелуй вышел чуть более долгим, чем позволяют приличия. Но Кавальери не выдернула руку из-под его губ, пока он сам не заставил себя оторваться.
– Вы, русские, такие страстные, – сказала она с улыбкой. – Целуете руку так, будто хотите овладеть женщиной, съесть ее целиком.
Это была правда, в которой Ванзаров никогда бы не признался.
– Мадемуазель Кавальери, что за угроза вам поступила? – спросил он натянутым от напряжения голосом.
– Ах да! – вздохнула Кавальери и обернулась к гримерному столику с роскошным зеркалом. – Куда его засунула?
Кончик пальчика прикусили белые зубки. О, эта итальянская легкомысленность! Что тут скажешь?..
Угроза нашлась. Нашлась в малахитовой шкатулке. Явно подарок от поклонника с Урала. Кавальери протянула сложенный вдвое лист плотной писчей бумаги. Ванзаров развернул его. Всего несколько строчек, написанных чернилами от руки:
«Коварная! Твой срок земной жизни истек! Часы вечности вот-вот отобьют твой последний час! Готовься к неизбежному, несчастная! Я иду за твоей душой!»
Подпись была еще более зловещей: «Беспощадный Мститель».
Получив такую угрозу, любая девушка заработает интересную бледность лица. Или упадет в обморок. Но сейчас на Ванзарова смотрели такие прекрасные, нежные, светлые и бездонные глаза. От него ждали ответа. А он не знал, что сказать.
– Ужасно, – наконец произнес он.
– О, благодарю вас, синьор Фон-Сарофф!
Ему захотелось найти еще две-три не менее страшные записки, чтобы услышать подобную благодарность.
– Сыскная полиция Петербурга сделает все возможное, чтобы защитить вас, мадемуазель, от любой неприятности, – только и сказал он.
– Как это чудесно! Вы – готовы меня защитить!
Готов ли он? Что за вопрос? Ванзаров был готов.
– Позвольте вопрос?
– О да, конечно!
– Как у вас оказалось это письмо?
– Я нашла его… Подсунули под дверь…
– Когда?
В задумчивости она поиграла петлей жемчужин.
– Кажется, дня три назад… Или раньше…
– Утром или вечером?
– Не помню… Утром… нет, вечером! После концерта!
– Опишите, как это было.
На хорошеньком личике мелькнула тень недовольства.
– Вошла в гримерную… У меня были цветы, много цветов… И вдруг увидела ее. Я сразу испугалась и поняла, что это опасно.
Ванзарову не хотелось больше ничего спрашивать, но он не мог удержать себя.
– У записки был конверт?
– Да, был… Ах нет, не было… Вот так и лежала. Горничная Жанетт мне подала.
– Так ее нашла горничная?
– О, вы правы, синьор Фон-Сарофф! Это горничная… Нет, я вспомнила: Жанетт только указала на нее, а я подняла. Она решила, что я обронила письмо.
– Предполагаете, кто этот «беспощадный мститель»?
Кавальери произнесла энергичную итальянскую фразу, смысл которой и без перевода был понятен. И добавила:
– Это все они!
– Кто – они? – спросил Ванзаров, чувствуя себя последним дураком.
– Сумасшедшие поклонники этой ведьмы Отеро. Кто-то из них! Кто же еще? Она хочет меня уничтожить. Но у нее ничего не выходит. Слаба талантом. И действует таким вот коварством. Это дело рук кого-то из ее любовников. Мерзкая дрянь! – И Кавальери добавила итальянское словцо, словно дала оплеуху сопернице.
Ванзаров бережно сунул записку во внутренний карман пиджака.
– Мадемуазель Кавальери, можете ни о чем не беспокоиться, – сказал он. – Более вам ничего не угрожает. Обещаю вам. Вы под защитой сыскной полиции.
Личико нимфы осветила улыбка, иначе и не скажешь.
– Как это приятно слышать, синьор Фон-Сарофф! Опасности больше нет! Я так волновалась, что пронюхают репортеры. Слухи у вас расходятся, как пожар в лесу. Что скажет публика!
Ванзаров подумал, то публика как раз была бы рада тому, что над звездой нависла опасность. Все бы побежали смотреть.
– Синьор Фон-Сарофф, а моим драгоценностям тоже ничего не угрожает? – она сложила на бархатном декольте ручки, как невинное дитя. – Без моих драгоценностей я не могу жить! Лучше пусть у меня отнимут жизнь, чем мои брильянты!
– Им тоже ничего не угрожает, – сурово ответил Ванзаров, изо всех сил стараясь не смотреть на манящий вырез.
– Как это чудесно! Приходите сегодня вечером, у меня выступление! – и она снова протянула бархатную ручку.
Ванзаров строго поклонился. Чтобы не мучить себя снова. Поклонившись, он быстро вышел. Ну как сказать нимфе, что вечером поезд увезет его в далекую и прекрасную Грецию? Увезет от нее.
Нет, отпуск превыше всего. Тем более что поручение Шереметьевского можно считать исполненным.
8
Ванзаров вышел из парадных дверей, как раз когда к ним направлялась парочка господ в приподнятом настроении.
Поздний завтрак в ресторане «Аквариума» удался. Пристав забыл про ложный вызов и с удовольствием внимал пошловатой театральной байке, каких Александров держал наготове великое множество. Заметив чиновника сыска, который честно попытался улизнуть и даже отвел лицо, Левицкий решил подарить ему частичку радостного настроя.
– Ванзаров! О, и вы здесь! – закричал он, распахивая объятия. – Неужели эти театральные бездельники уже и сыскную вызвали?! Ну молодцы, ну красавцы!
Последнее обвинение, впрочем в шутливом тоне, было направлено Александрову. Хозяин только плечами пожимал: никто сыскную полицию не вызывал, это уж точно.
Ванзаров был знаком с приставом. Он знал, что подполковник, в общем, прямой и неплохой человек. Управляет своим участком так, как умеет, сыскную дергает редко. Что касается его способностей полицейского, то обсуждать их не имело смысла. Что армия заложила, тем честно и пользуется.
– Здравствуйте, Евгений Илларионович, рад вас видеть, – сухо сказал Ванзаров, когда Левицкий тряс его руку и похлопывал по плечу.
– А вот знаешь, Георгий Александрович, какой великий человек перед тобой? – Пристав оборотился к Александрову, не прекращая рукопожатия. – Так позволь тебе представить: Ванзаров Родион! Можно сказать, гроза душегубов, лучший сыскной чиновник, вроде как гений сыска. О нем слава по всему Департаменту полиции идет! А это, друг мой Ванзаров, великий человек театра, Георгий Александров, основатель и владелец вот этого «Аквариума»! Тоже в своем роде гений! Да ты не тушуйся, душа моя!
Левицкий был нетрезв, громогласен и развязен. Ванзаров попал в положение, которое ненавидел всей душой: из него сделали посмешище. Он сдержанно поклонился Александрову, который цветисто выражался о том, как рад приятному знакомству.
– Что означают ваши слова, подполковник? – почти резко спросил Ванзаров, вырывая помятую руку. – Что значит: «И сыскную вызвали»?
Пристав не заметил раздражения в его голосе.
– Да тут такая история, натурально театральная. Представь себе, Родион: рабочему сцены померещилось, что в углу стоит мертвая ведьма. С пьяных глаз, не иначе. Так нас по тревоге вызвали! Приезжаем, а на сцене – пусто! Никакой мертвой ведьмы!
– Зря ты, Евгений Илларионович, наговариваешь, – заступился Александров за честь театра. – Я тебе говорил, что Икоткин два года не пил. И ты сам видел, в каком он бессознательном состоянии теперь под кустом лежит…
– Значит, рабочий увидел на сцене труп женщины, а когда вы прибыли, трупа уже не было. Все правильно?
– Так точно, так точно! – смеясь, отвечал пристав, опять хлопая Ванзарова по плечу. – Учудили вот артисты!
В этот момент любой чиновник сыскной полиции посмеялся бы с Левицким, поболтал о пустяках и отправился бы по своим делам. Любой чиновник. Ванзарову тоже хотелось поступить «правильно». Он заставлял себя и пинал себя, мысленно говоря: «Иди отсюда, ничего не замечай». Но какая-то сила, сильнее его, сильнее разума и правил, заставила поступить по-другому. В силе этой не было ничего сверхъестественного. Просто она была развита у Ванзарова сверх всякой меры. Сила эта – любопытство. Или любовь к истине, как говаривали древние греки вообще, а Сократ особенно.
Вместо того чтобы попрощаться с приставом и хозяином «Аквариума», Ванзаров потребовал показать место, где видели труп. Левицкий, еще не растеряв веселого хмеля, стал уверять, что лично осмотрел сцену – и никаких следов. Чистая фантазия, да и только. Александров, учуяв опасность, тоже стал просить не беспокоиться напрасно. Ванзаров был непреклонен. Ничего не поделать, чиновник сыска имеет право на осмотр. Даже если преступления не было.
Александров просил подождать, пока сходит за ключами от зрительного зала, так будет ближе, чем идти через служебный вход. Он вернулся действительно быстро, рядом с ним шел юноша в строгом костюме, который с удивлением заметил Ванзарова.
– А что господин репортер тут еще делает? – строго спросил он.
Александров быстро объяснил, кто перед ним. Юноша извинился за ошибку и был представлен: Платон Петрович Переслегин.
– Племянник мой родной, – добавил Александров, с невольной нежностью глядя на юношу. – Платоша – моя надежда и смена. Буду ему передавать театральное дело. Теперь вот постигает науку антрепренерства.
Ванзаров напомнил, что терять время преступно. Платон отпер зал и побежал распорядиться, чтобы включили освещение. Пока Александров вел в кромешной тьме Ванзарова и пристава между стульями, раздался громкий щелчок: сцену залил электрический свет. Мимо оркестровой ямы по боковой лесенке они поднялись на авансцену.
– Где рабочий нашел труп? – спросил Ванзаров, обернувшись к Левицкому.
Тот руками развел.
– Кто ж его знает. Лежит под кустом без чувств.
Мест, куда спрятать тело, если оно в самом деле было, не так много: сцена голая и пустая. Ванзаров прошелся по периметру, разглядывая шершавые доски. Никаких следов, похожих на кровь.
– Это что за веревки? – спросил он, указывая на механизм подъемника.
Александров тут же дал разъяснения, для чего с левого и правого боков сцены натянуты тросы.
– Они работают?
– Как может быть иначе?! – ответил Александров. – Каждый вечер даем концерт и представление. Перед великим событием тем более проверили.
– Что за великое событие?
Вопрос выдавал в Ванзарове человека дремучей невежественности в театральных событиях. Пока Александров описывал в красках, какой великий двойной бенефис звезд, Отеро и Кавальери, ожидается 26 августа, а пристав иронично ухмылялся, Ванзаров неторопливо осмотрел шесть тросов на одной стороне сцены и пять на другой. У последнего, крайнего, остановился и поднял с пола стальной штырь с крючками на концах.
– Что это такое? – спросил он, перебивая рассказ о значении гала-концерта и бенефиса для мировой истории.
– «Кошка», как мы ее называем, – ответил Александров, немного обиженный невниманием. – Блокирует движение подъемника. Только этот уж года три не используем, пустой стоит. Икоткин, наверное, вынул и забыл закрепить.
Взявшись за ближний трос, Ванзаров легонько дернул. Трос пошел легко, противовес работал отменно. Раздался мягкий шуршащий звук – веревка трется о металл колеса. Снизу плавно поднялась тень. Ванзаров, как будто был готов, перехватил трос. Тень, поднявшаяся чуть выше его головы, плавно чуть опустилась. И встала с ним лицом к лицу.
За спиной у Ванзарова раздался звук, будто кто-то подавился.
– Боже мой… – еле проговорил Александров, не в силах оторваться от зрелища.
– Мать честная, – выдавил пристав, мгновенно протрезвевший. – Господин Ванзаров, это что же такое?
– Нашлась пропавшая ведьма.
Кто бы знал, что под внешним спокойствием Ванзарова таится борьба с собой, – он не имел права дать слабину и отвести взгляд. Смотрел прямо в черный лик. Недаром рабочему сцены показалось, что явилось существо из тьмы.
– Пристав, номер Департамента полиции знаете? – наконец проговорил он, не поддаваясь тени.
– Так точно, 83.
– Господин Александров, у вас телефон имеется?
– Имеется, – раздался еле слышный ответ.
– Прошу телефонировать и вызвать сюда господина Лебедева.
– А если он… не изволит? – спросил пристав, с ужасом думая, кого ему предстоит беспокоить.
– Скажите, что я лично просил прибыть. Дело… интересное.
Ванзаров победил тень. Вернее, победил тень в себе. Она уже не казалась такой ужасной. Он обернулся к приставу.
– Прошу поторопиться. У меня мало времени, чтобы помочь вам. Иначе сами будете дело распутывать.
Левицкий побежал так, будто хотел скрыться от ужасного видения, преследующего его по пятам. А Ванзаров потер подушечкой большого пальца подушечку указательного – что-то скользкое осталось.
9
Поляк говорил хорошо. Поляк говорил уверенно, продуманно. Сразу видно: мастер своего дела. Коли возьмется, точно своего добьется. Никто не помешает. Никто поперек пути не встанет. Вон как каждый ход, каждую деталь заранее подготовил. Обух слушал дорогого гостя с большим интересом. Таких виртуозов нынче не осталось. Теперь все больше фомкой да динамитом работают. А тут – высокое понимание человеческих слабостей. Талант, одним словом, мир воровской кличку даром не дает.
Диамант закончил изложение плана. Плана простого, разумного, верного. И теперь ждал, что скажет старшина. Обух не спешил с ответом.
– Каково твое слово будет? – не выдержал поляк.
Обух степенно хмыкнул.
– Что сказать: задумано толково. Может, и выйдет.
– Не сомневайтесь! Так могу получить ваше дозволение? – спросил Диамант. – Дозволяете, пан старшина?
– Нет, не дозволяю.
Диаманту показалось, что он ослышался: не может быть такого. Он со всем уважением, все карты раскрыл, процент самый выгодный предложил, а с ним вот так? Ох уж этот столичный имперский дух! Воры – и те заразились. Нигде не дают бедному угнетенному поляку свободы. Что за народ такой, даже украсть для своей же выгоды не дают. Может быть, что-то напутал старик.
– Пшепрашам, пан старшина? – аккуратно спросил он.
– Все ты понял, Диамант, нету тебе дозволения.
– Со всем уважением, Семен Пантелеевич, – Диамант старался быть мягким и вежливым. Чтобы выйти живым. – Так, может, процент не устраивает? Так я не держусь. Если двадцать мало – предлагаю двадцать пять. Это очень хорошо будет с такого куша.
– Да, процент хороший, – согласился Обух, играя в пальцах перьевой ручкой, как ножиком. – И куш будет жирный, кто спорит.
– Но давайте, пан старшина, раз так, для такого случая – берите треть!
Щедрость Диаманта не имела границ. Не мог он позволить себе прокататься из Варшавы в Петербург впустую.
– Даже треть даешь? Надо же…
– Добже! – Диамант кинул шляпу об пол, хлопнул по колену, плюнул в ладонь и протянул. – Половину даю, Семен Пантелеевич! Половина – ваша. По рукам?
Обух только усмехнулся.
– Ох, горячий ты. Да ты остынь малость, послушай…
Диамант не отвел протянутую ладонь, ждал. Или надеялся на чудо.
– И куш большой, и половина куша – еще лучше, – продолжил Обух. – И ты против закона нашего не пошел, все как должно сделал. Гости́ у нас, сколько пожелаешь. Только на дело твое дозволения нет. Все, точка.
– Но почему?! – вырвалось из души Диаманта.
Обух не стал серчать: переживает человек.
– Любому вору одного моего слова достаточно. Тебе послабление сделал. Потому, что ты знаменитость, такие фокусы и в Киеве, и в Одессе, и в Ростове показывал. И даже в Москве-матушке. Но тут другой поворот…
Ладонь осталась нетронутой. Диамант подобрал с пола шляпу, отряхнул и молча, через силу улыбался.
– Только тебе из уважения поясню, почему не дал дозволения. Брильянтов и камений у актриски этой Кавальери, конечно, целая гора. Да только горячи больно, в руки не даются. Ну, возьмешь ты их, и куда денешься? Это все подарки таких людей, что власть большую имеют. Обидятся они сурово. А это что значит? А то, что тебя не только вся полиция ловить будет, тебя и жандармы ловить будут, и, чего доброго, армию подымут. Такое начнется, что хоть беги. Ловить тебя будут, а у нас загривки трещать будут: в крепкий оборот возьмут, не вздохнешь. Что половина куша, что целиком дорогонько обойдется. Пусть актриска наряжается. Нам спокойнее жить. Ну, понял аль нет?
Это был конец. Конец мечте закончить карьеру знаменитого вора таким делом, чтобы о нем легенды слагали. Даже в поражении Диамант умел держать лицо. Поблагодарил, поклонился и, подхватив чемодан, вышел вон.
Сразу за ним в подвал юркнул парнишка-щеголь. Обух поманил его, обнял за плечо и стал нашептывать, будто кто-то мог подслушать.
– Вот что, Пегий, приглядишь за паном Диамантом, пока не отчалит. Посматривай. Да помни: он ловкий, обведет тебя вокруг пальца. Если заметишь, что ходит кругами, где не следует, тут уж бегом ко мне. А мы покумекаем, что делать.
Парнишка подправил фуражку и был таков.
А Обух глубоко задумался. Он знал, что решение принял верное, хотя и жаль упускать такой куш. В одном не был уверен: с таким гонором, как у Диаманта, чтобы вот так взял и отказался от брильянтов Кавальери? Трудно поверить. Ох трудно. Ну да поглядим… За ослушание запрета наказание одно. Хоть ты вор безвестный, хоть звезда Диамант. Пощады никому не будет.
10
Разных звезд повидала сцена «Аквариума». Но такую видела впервые. Звезда возвышалась над сценой могучим ростом, легонько помахивала докторским саквояжем желтой кожи и перекатывала во рту незажженную сигариллу. Что было большой удачей для всех. От запаха этой никарагуанской сигариллы, говорят, падали в обморок крепкие извозчики, а барышни лишались чувств. Да что там барышни, сам директор Департамента полиции Зволянский однажды неудачно вышел на лестницу, где раскуривалась сигарилла, упал в обморок и, придя в себя, долго не мог вспомнить, где находится. Пришел в себя, только когда поднесли портрет его супруги. Говорят, при этом сильно закричал.
Звезде никто – даже начальство – не мог сказать слово поперек, не то что запретить курить в присутственном месте бесчеловечную гадость. И вообще звезда отличалась вздорным характером и умением говорить в лицо дуракам все, что о них думает. Но эти выходки терпели. Потому что в России, а может, и Европе не было другого такого великого криминалиста, как Аполлон Григорьевич Лебедев. О заслугах и научных открытиях можно говорить так долго, что это наконец наскучит. Довольно и того, что он открыл антропометрическое бюро по методике бертильонажа, в котором вел и расширял ненавистную воровскому миру картотеку преступников.
Левицкому сильно повезло никогда не иметь дела с Лебедевым. Но он был наслышан, как однажды строптивый пристав посмел оспорить обнаруженные улики, за что был отправлен головой в реку Мойку. А потому Левицкий старательно держался как можно дальше от Лебедева.
Между тем Аполлон Григорьевич, героически скрестив руки, отчего стал похож на памятник самому себе, потребовал показать, ради чего его оторвали от важной работы.
– Дайте насладиться зрелищем! – прогромыхал он.
Заранее призванный мастер сцены Варламов послушно дернул за механизм. Снизу неспешно выпорхнуло тело, свисавшее с троса. Судя по платью и ботиночкам, оно принадлежало женщине. Руки болтались плетьми, верхняя часть туловища и плечи стянуты расписной шалью накрест. Повешенная была бы похожа на десятки других жертв, если бы не лицо.
– О, вот это подарок! – с удовольствием заявил Лебедев. – Умеете находить редких красоток, прямо талант у вас, друг мой Ванзаров!
Лицо погибшей было необычно: высохшая мумия, с ввалившимися щеками, острым носом, торчащими скулами и мутными шарами глаз, торчащими из ям глазниц. Кожа черноватого оттенка натянулась, как на барабане. Не зря Икоткин принял мумию за мертвую ведьму. Да и Ванзаров не сразу привык. Трудно сказать, какая она была при жизни, но сейчас дама была страшна, как… только может быть страшна сама тьма.
– Какой яд дает на коже такой оттенок? – тихо спросил Ванзаров, хотя Александров с приставом и Турчановичем разумно держались у края сцены. От греха подальше, так сказать.
– Это не яд, друг мой! – последовал ответ, подчеркнувший превосходство науки над серостью сыска.
– Перед смертью напилась медного купороса?
– Не лезьте в криминалистику, как я не лезу в вашу логику, – заметил Лебедев. – Это не яд и не купорос, а сыровяленая барышня. Вот так-то!
Механизм подъемника находился в неустойчивом равновесии. От малейшего движения тело скользило вниз. Ванзаров поймал трос и вернул мертвую барышню на место.
– Ишь шустрая, плутовка! – И Лебедев засмеялся своей искрометной шутке.
– Аполлон Григорьевич, сколько она висит?
– Хотите спросить, друг мой, сколько вялилась?
Ванзаров кивнул.
– Полагаю, не меньше трех месяцев… Точнее скажу, когда попадет ко мне на прозекторский стол. То, что вижу сразу: веревка глубоко вошла в кожу, значит, ее не трогали с момента повешения, – Лебедев глянул на господ, которые держались на приличном расстоянии. – Хотите совет, друг мой? Не ищете здесь того, чего нет…
– Чего не надо искать? – так же тихо спросил Ванзаров.
Ему погрозили крепким пальцем.
– Знаю вас, уже придумали красивую историю: загадочное преступление, таинственная смерть. Все проще простого, не берите в голову, пусть вон пристав-подполковник дело заводит, а вы отправляйтесь в отпуск. Заслужили.
– Какие факты говорят, что сыровяленая барышня погибла «проще простого»?
– Да вы же сами это видите, разве нет? – Лебедев подмигнул.
Ванзаров, конечно, осмотрел ее не прикасаясь, пока ждал Лебедева. На теле и платье не было следов борьбы, ногти не поломаны, прическа не растрепана. Даже шаль не развязана.
– Намекаете на самоубийство?
– Не намекаю, это очевидно, друг мой. Как мне, так, полагаю, и вам. От несчастной любви барышня сунула голову в петлю, трос поехал вниз, дыра в полу как раз позволяет свободно пройти телу, что мы наблюдали. Съехала и провисела три месяца. Хорошенько провялилась. И еще могла в три раза дольше провисеть, окончательно мумифицироваться. Ее случайно нашли?
– Почти случайно. Этим подъемником давно не пользовались.
– Ну вот! А под сценой сквозняки гуляют, как вам прекрасно известно. Вот барышня и приготовилась до вяленого мяса, – поставил Лебедев победную точку.
Ванзаров поманил Варламова, который топтался в одиночестве. Мастер сцены подошел с большой неохотой. За ним, как за приговоренным, следили и Александров, и пристав.
– Откуда эта петля? – спросил Ванзаров, указывая на веревку, что сдавила шею жертвы, намертво прицепившись к тросу.
Варламов только покосился и отвернулся. Зрелище было тягостным, прямо сказать, омерзительным. Для тонкой театральной души – невыносимым.
– По своей надобности вяжем, – пробормотал он.
– Что же это за надобность? Провинившихся актеров вешать?
Мастер сцены окончательно помрачнел, как будто его уже подозревали.
– Когда груз большой поднимать надо, мы, чтоб сподручней было, вяжем такие рукояти. Трос тянуть ловчее выходит, – словно оправдываясь, добавил он.
Ванзаров отпустил Варламова, но уходить разрешил не дальше рампы.
– Не могу согласиться, Аполлон Григорович, – сказал он.
Лебедев хищно перекинул в зубах сигариллу.
– А что так? Ваша лженаучная психологика не разрешает?
– Нет, физика, – ответил Ванзаров.
– Ох ты. Это что-то новенькое. Ну, блесните познаниями на уровне 5-го класса гимназии.
– Рассмотрим идею самоубийства, – сказал Ванзаров, пропуская мимо ушей укол.
– Ну, попробуйте, – разрешил Лебедев.
– Барышня решает покончить с жизнью. Что ж, ее право. Она взволнована, в слезах, в истерике, в нервах…
– Где физика? Подайте мне физику!
– Она выбирает не яд, не прыжок с моста, что у нас частенько проделывают, а повешение… – продолжал Ванзаров.
– Требую физику! – не унимался Лебедев. – Долой психологику!
– …И не находит ничего другого, как прийти в театр, за кулисы, найти трос, найти на нем петлю и сунуть в нее голову. Не странен ли поступок?
– Мало ли глупостей люди совершают?
– Она хочет свести счеты с жизнью, причем не дома, а в публичном месте. Что это значит?
– Не знаю, не вскрывал ее.
– Вывод: барышня прекрасно знает театр изнутри, знает машинерию сцены. Или служила в театре, или хорошо знакома с кем-то из театральных работников. С этим согласны?
Для виду фыркнув, Лебедев согласился.
– Итак, она знает, что на тросах, которые поднимают декорации, есть особые петли, – продолжил Ванзаров, – о чем лично я узнал только сегодня. А если так, она не может не знать самого главного…
– Чего же? – с интересом спросил Лебедев.
– Если сунет голову в петлю и прыгнет, чтобы повеситься, трос под ее тяжестью уедет вниз. Она сильно ударится коленями. Или повредит шею. Вот вся физика.
Аполлон Григорьевич стал серьезным.
– Что хотите этим сказать?
– Прежде вы ответьте: на чем можно повеситься дома?
– На чем угодно. Хоть на дверной ручке. Помните случай в Песках[8], когда жена удавила мужа полотенцем на спинке железной кровати, да еще и лежа? Пыталась меня обмануть, дурочка: дескать, умер во сне любимый супруг…
– То есть нужно нечто прочное, упор для веревки.
– О великое открытие!
Ванзаров указал на трос и тело.
– Подъемник с противовесом находится в неустойчивом равновесии. Тронь – поедет. Можно предположить, что жертва не только сунула голову в петлю, но и держала противоположный трос, пока не умерла?
– Исключено, – резко ответил Лебедев.
– Логический вывод из противоречия: ей кто-то помог, – сказал Ванзаров. – Честно признайтесь: найдется в вашем опыте подобное повешение в театре?
Спорить невозможно: не то что в опыте самого Лебедева, в опыте полиции ничего подобного не случалось. В чем криминалист вынужденно согласился.
– Устроили приставу головоломку, будем теперь снимать! – сказал Лебедев и позвал несчастного Варламова, чтобы помог с телом.
Ванзаров подошел к Александрову, который пребывал в нервном «мандраже», как говорят в театре про актерское волнение перед выходом на сцену.
– Господин Ванзаров, спасите! – Он молитвенно сложил руки.
– От чего вас спасти?
– Через два дня у нас великое представление, о котором будут помнить в веках! Умоляю, не дайте ему сорваться!
Ванзаров искренне не понимал, почему обнаружение тела может помешать бенефису. Театр никто закрывать не собирается. Во всяком случае, пока.
– Вы не человек театра, вы не можете понять катастрофы! – с плачущей интонацией начал Александров, что для крепкого мужика с окладистой бородой и хитринкой в узких глазах казалось перебором. – Если об этом узнают, Отеро и Кавальери закатят истерику и откажутся выходить на сцену, где… где был труп. Публика начнет сдавать билеты, и мы погибнем! Окончательно! Совсем!
– Разве нельзя перенести представление? – спросил Ванзаров, что с точки зрения логики было проще всего.
– О, вы не понимаете! – опять затянул Александров. – Тридцатого августа заканчивается летний сезон частных театров, открываются государственные театры. Хуже того, наш театр на весь зимний сезон снят Николаевым-Соколовским с русской опереточной труппой, которую он набирает в Москве! Мы не сможем передвинуть великий бенефис!
Эмоции лились на чиновника сыска крутым кипятком. Обжигало и шипело. Что вовсе не добавляло любви к театру.
– У меня в запасе несколько часов, – сказал Ванзаров. – Вечером уезжаю в отпуск. Чем смогу – помогу. Дальше дело будет вести господин пристав.
– Кто? Я?! – поразился Левицкий, будто в участке был другой пристав.
Александров чуть было не брякнул «это конец», но вовремя сдержался.
– Господин Ванзаров, все что угодно, мой театр в вашем распоряжении!
Предложение было заманчивым. Но не настолько, чтобы променять его на отпуск. Ванзаров всего лишь спросил, как быстрее попасть под сцену.
– Варламов, люк! – рявкнул Александров так, что пристав вздрогнул от неожиданности. – Господин Ванзаров, извольте встать вот сюда…
Ему указали на кругляш, вделанный в пол сцены, полтора аршина в диаметре. Ванзаров бесстрашно шагнул в середину. Пол под ним чуть вздрогнул и поехал вниз. Ванзаров начал опускаться, как Каменный гость, который проваливается в преисподнюю, унося с собой погибшую душу Дон Жуана. Или как Орфей, который спускался в ад по своим делам. Хорошо, что Лебедев был занят телом. А не то Ванзарову еще долго пришлось бы выслушивать шуточки о похождениях в загробном мире.
11
Засадой служили кусты. Господин с букетом прятался старательно, не хуже кота, поджидающего птичку. Птичка не желала появиться. Он уже потерял терпение за два часа, что убил в зелени. На всякий звук подъезжающей пролетки высовывал голову, как утопающий над волнами, убеждался, что надежда снова обманута, и скрывался за ветками. Мысль, блестящая и прекрасная, что толкнула на этот поступок после маяты ожиданий, теперь казалась не такой уж блестящей. Кроме разочарования, господина мучил голод. Запахи, что бессовестно неслись с летней веранды ресторана, мутили голову и сводили желудок. Покинуть пост ради жаркого или салатов было крайней низостью. Перед тем, что он хотел осуществить.
Наконец его терпение было вознаграждено. К театру подъехала открытая карета-фиакр с добрыми лошадьми и кучером в модном костюме грума, который держал на манер удочки английский хлыст. В карете была она. В вызывающей шляпке и ярком красном платье. Сердце господина сжалось от счастья, он не мог вздохнуть. Кучер открыл дверцу, сняв цилиндр; она опустила туфельку на подножку, подала руку кучеру, вот она сходит. Да чего же он ждет?!
Господин ринулся из засады с таким рвением, что чуть не пропахал носом газон, только чудом удержав равновесие. Подбежав к даме, упал на одно колено и протянул ей букет.
– О, прекрасная Отеро! – срывающимся голосом провозгласил он. – Вы великая и прекрасная, вы единственная и бесподобная. Вы – звезда! Вы моя звезда! Примите этот скромный дар горячего сердца!
Привычно взяв букет, дама позволила себе победную улыбку.
– Мерси, мон шер, – сказала она, стараясь обойти назойливого господина.
Он рванулся к ней, чуть не разбив колено о камни.
– Еще мгновение, прекрасная Отеро! Знайте, я, Грохольский, завтра умру здесь за вас, за вашу честь, за ваш талант! – Он, как нищий, протянул к ней ладонь.
Отеро чуть заметно поморщилась, букет мешал ей. Переложив его на другую руку, она подала несчастному поклоннику правую. Грохольский припал лбом к шелковой перчатке, не смея коснуться губами. И замер в немыслимом счастье.
Это становилось несносным. Отеро вырвала руку, слегка улыбнулась и пошла к открытым дверям театра.
Там ее поджидал господин моложавого вида, с идеально уложенными усиками и прической, какую мог позволить себе настоящий денди. На происходящее он взирал с нескрываемым цинизмом. Михаил Вронский, известный столичный режиссер, ценил не столько искусство в себе, сколько себя в искусстве. Он умел оказаться полезным хозяину театра. Публика принимала его постановки с неизменным успехом, так что он поверил в свой талант, как в сторублевую ассигнацию. Поверил так искренне, что убедил всех. Тем более что подтверждения получал чуть не каждый день от актрис и певиц, в основном от молоденьких, желавших поступить на сцену. В этом сезоне ему выпал счастливый билет: Отеро пожелала, чтобы концерты и даже великий бенефис готовил именно он. Что подняло Вронского на недосягаемую высоту, с которой он взирал на несчастного поклонника, стоявшего в уличной пыли.
Проходя мимо, Отеро бросила ему букет. Вронский поймал его с изяществом.
– О прекрасная, вы прекрасны, как утро! – сказал он чуть игриво.
– Как надоели эти нищие сумасшедшие! – с сильной экспрессией проговорила Отеро, брезгливо смахнув с перчатки невидимые следы.
Вронский изучил звезду и знал, что это не злость, не обида, не дурной нрав, а обычный испанский темперамент, который в русских условиях казался вулканом страсти. И завораживал публику. Вернее – половину мужской публики. Ту, что любила погорячее. Засунув букет под мышку, Вронский пошел за звездой, которая направлялась к своей гримировальной комнате.
– А у нас новость, – сказал он на совсем недурном французском, говоря на нем увереннее, чем звезда. – Милашка Кавальери созвала репортеров петербургских газет…
Отеро остановилась так резко, что режиссер чуть не наткнулся на нее.
– Какая дрянь! – выразительно сказала она. – У нас был договор, что будем вместе отвечать репортерам!
– Она передумала, – с невинным видом ответил Вронский.
Звезда резко выкинула руку, будто отгоняла муху.
– Она за это заплатит! Я пожалуюсь месье Александрофф! Если он не примет мер, я откажусь от бенефиса!
Вронский комично закрыл глаза ладонями, выронив букет.
– Только не это, прекрасная! Мы, ваши почитатели, этого не переживем! Неужели возвращать билеты? Пощадите!
За что тут же получил легкий шлепок по чисто выбритой щеке.
– Вы гадки, Мигель! Так нельзя!
Сообразив, что позволил лишнего, Вронский поймал ударившую ручку и нежно погладил.
– Прекрасная, как вы могли подумать! Мое сердце целиком принадлежит вашему искусству. И оно страдает от боли!
Она насторожилась.
– Что случилось? Не скрывайте, Мигель!
Вронский огляделся, проверяя, нет ли чужих ушей. И приблизился к прекрасному ушку Отеро.
– Говорят, – понизив голос, сказал он, – что милашка Кавальери получила записку с угрозами. Это большая тайна, но вы понимаете, у нас сразу все становится известным…
Эмоции взорвались без предупреждения.
– Какая тварь! – прорычала Отеро. – Какая подлость! Возбуждать к себе интерес подобным нечестным способом! О, гадина с невинным личиком!
Вронский счел, что самое время подбросить немного уголька в бурлящий котел.
– И это еще не все… Говорят, в театре уже полиция. Не просто полиция, а даже сыскная. Чего доброго, следует ожидать жандармов!
«Уголек» пришелся в самый раз. Отеро разразилась испанскими народными выражениями, которым место не в театре, а на базаре.
– Вот и сейчас по сцене рыскают, – продолжил он раздувать пожар. – Затея милашки удалась вполне.
Поток брани иссяк внезапно. Как и начался. Отеро топнула ногой и, сдвинув густые черные брови, посмотрела перед собой. С решимостью, на какую способна настоящая испанка, пораженная коварством в сердце. Ну, или что-то в этом роде.
– Мигель, я могу рассчитывать на вашу помощь?
– Я ваш раб, прекрасная! – ответил Вронский.
– Ради меня вы готовы на многое?
– Что прикажете, прекрасная!
– Эта ведьма, эта потаскуха должна получить свое! – Отеро схватила режиссера за рукав и увлекла за собой в гримерную. Щелкнул дверной замок. Чтобы непрошеный визит не помешал репетиции режиссера со звездой.
Крепкий дуб двери почти не пропускал звуков. Абсолютно ничего не слышно, если только не приникнуть ухом к замочной скважине. Да и то, кроме частых вздохов, ничего не разобрать. Но кто бы решился подслушивать?!
12
Под сценой хватало места, чтобы Ванзаров не нагибался. Театральный ад, куда проваливались герои трагедий, оказался местом на удивление скучным. Причем пустым. Более всего походившим на сарай. Остерегаясь пожара, которого в театре боялись как огня, Александров запретил хранить под сценой старые декорации и реквизит. На все уговоры Варламова, дескать, столько места пропадает, отвечал решительным отказом. Под сценой разрешалось копиться только пыли. Пыль разрешения не спрашивала, скатывалась клочками. Все, что выбивали ноги актеров из досок сцены, что сыпалось с декораций, неизбежно попадало сюда. Казалось, воздух здесь пропитан пылью. Ванзаров крепился-крепился, но чихнул. Только Варламову было все нипочем.
А еще тут гулял сквозняк. Ощутимый даже теплым августом. Наверное, зимой настоящий ледник. Ванзаров поднял ладонь, чтобы понять направление ветра.
– Откуда тянет? – спросил он.
– Дует и дует во все пределы, – последовал ответ глубокого философского смысла. – Всех щелей не забьешь.
– Но ведь театр новый?
– Театр новый, сцена старая, – с мудростью стоика отвечал Варламов.
Кроме пыли, под сценой спрятаны механизмы, которые приводят публику в восторг. Вернее, зрители восторгаются фокусами, которые производят с помощью механизмов. Подпорка из металла, размером в два обхвата, поддерживала главный поворотный круг. В отличие от других театров, в «Аквариуме» имелся немецкий мотор, который сам, без участия рабочих, крутил сцену. Что было большим прогрессом: сцена могла вертеться довольно быстро. Механизмы люков, в один из которых успешно провалился Ванзаров, виднелись повсюду. Фантазия режиссера могла осуществить провал злодея в любом месте.
Ванзаров указал на дверь, видневшуюся невдалеке.
– Оркестровая яма, – невозмутимо ответил Варламов. – Оркестранты заходят. И дирижер за ними.
Небольшая лесенка вела к отверстию, за ним устроена суфлерская будка.
В замкнутом помещении терялись ориентиры. Не очень понятно, где какая сторона сцены. Варламов отвел сыщика к левой стороне. Туда, где оканчивались механизмы подъемников. Ванзаров присел, чтобы разглядеть устройство. Трос проходил по желобу в стальном колесе, которое было намертво ввинчено в пол на треугольной подставке. Между полом и желобом оставалось достаточно места, чтобы трос с петлями проходил без зацепов. Все шесть механизмов были похожи один на другой.
– Почему расположены так далеко друг от друга?
Наивный вопрос вызвал усмешку.
– Чтобы на всю длину сцены хватало, – снизошел Варламов. – От начала и до конца. Где вздумает господин Вронский, там декорацию и подвесим.
– Вронский – инженер театра?
При выказывании такой дремучести Варламов только вздохнул.
– Режиссер наш главный, знаменитая персона в театральных кругах.
Этой фамилии Ванзаров никогда не слышал. И не сильно страдал по этому поводу. И переместился к крану-подъемнику.
– Давно не пользовались? – спросил он, рассматривая трос и колесо.
– Года четыре. Если не больше. Не нужен, стоит про запас без всякого смысла.
Ванзаров попробовал пальцем желоб колеса.
– Часто смазываете?
Мастер сцены только поморщился.
– Что его смазывать, и так не ржавеет. Только олеонафт переводить.
В угол, где помещался никому не нужный подъемник, света попадало меньше всего. Ванзаров чуть не пропустил мелкие темные детали. За треугольным креплением, на котором крутилось колесо, у самой стены лежал мелкий мусор, не похожий на пыль. Обрывки собрались кучкой. Ванзаров кое-как просунул руку и поднял разноцветные бумажки. Он старательно собрал все, набралось с дюжину. Бумажки оказались правильной формы и сильно напоминали бабочек. Да это и были бабочки, аккуратно вырезанные: с широкой верхней частью крылышек и узкой нижней. Что-то вроде капустницы. Цвета разные: красный, синий, зеленый. Бумага на ощупь плотная. Такую покупают в писчебумажных лавках для рукоделия детей и вырезания елочных гирлянд. Размером бабочки не больше вершка[9]. Находка уместилась в ладони.
Отряхнув колени, Ванзаров подошел в Варламову и разжал ладонь.
– Что это?
Мастер сцены держался независимо. Находка была удостоена незначительного взгляда.
– Бутафория, что же еще… Как конфетти разбрасывают.
– В каком спектакле? Когда?
Вопросы поставили мастера механизмов в тупик. Он поскреб затылок, как полагается мастеру в затруднительных ситуациях.
– Да кто его знает… Не могу припомнить.
– Как бабочки оказались у подъемника?
– Известное дело: на сцену упали, ветром сдуло.
– Все в одно место слетелись?
– Да хоть бы и так, – буркнул Варламов, которому все больше не нравились вопросы. И чего от него хотят? Непонятно. Мусор, он и есть мусор. Мало ли что по углам натыкано.
– Когда под сценой последний раз мели?
– Вот еще не хватало. Само ветром сдует…
Расспрашивать мастера дальше – только злить. Очень кстати в кармане Ванзарова оказалась связка конвертов. Конверты были куплены для того, чтобы из отпуска писать письма-отчеты матушке. Ну и Лебедеву, конечно. Мало ли, может, в Греции почтовых конвертов нет. И вот как пригодились! Путешествие еще не началось, а в один конверт уже попали бабочки. Находку Ванзаров отправил во внутренний карман пиджака к письму «беспощадного мстителя» и греческому списку. Или «Списку Ванзарова». Или плану «Отпуск Ванзарова». Ну, или к вызову «Греция, держись!». Как душе угодно…
– Еще чего изволите?
Варламов был явно не расположен к полиции. Чем-то она ему досадила. Уж не из воровского ли мира он ушел в мир театральный? Уж не понюхал ли по малолетству тюрем или, того хуже, каторги? Нет времени выяснять.
Хоть было и глупо, но Ванзарову захотелось устроить эффектное возвращение. Раз в жизни можно позволить себе шалость. Он встал на люк и попросил его поднять. Варламов буркнул что-то про всяких личностей, которые только время отнимают, но отправился к рычагу и нажал.
Механизм послушался. Незримая сила поднимала Ванзарова. Он еще подумал, какую бы принять эффектную позу, чтобы окончательно сразить Лебедева.
13
Страх прошел. Мысли встали на место. Александров рассматривал со всех сторон случившееся. Чем дольше вертел события так и сяк, тем больше овладевала им настоящая тревога. Как он ясно теперь увидел, последствия могли быть не самые радужные. Начистоту говоря, Александров меньше всего боялся истерик великих звезд. С нервами актрис он умел управляться не хуже доктора. А вот если сыск начнет копать со всем старанием, могут вылезти кое-какие неприглядные делишки. На каждый роток не накинешь платок. Того и гляди, начнут болтать что можно и чего нельзя.
Хозяин «Аквариума» побаивался совсем не того, что вскроется какая-нибудь мелочь, которую пристав покрывает. Нельзя, чтобы чужой нос сунулся в тонкие отношения, какие в частном театре бывают между… как бы это сказать… между актрисами и важными зрителями. Никто не посмел бы назвать «Аквариум» домом разврата, этого, конечно, не было. Но доверительные отношения между некими влиятельными господами и звездочками сцены, конечно, были. Отношения, тщательно оберегаемые Александровым от огласки. Доверие, оказанное ему важными лицами, он ценил и всячески охранял. За что пользовался их негласным покровительством. Ну что, разве плохо, если отец семейства, известный и уважаемый господин, обремененный чинами, возрастом и богатством, получит часок беззаботного счастья с милой актрисой? Кому от этого плохо? Главное, внешние приличия соблюсти. А какие могут быть приличия, когда сыскная по театру рыщет? Того гляди…
Александров теперь уже злился на свой порыв, когда стал умолять сыщика спасти его. Кто только за язык тянул? И ведь задержись пристав минуть на десять, да хоть на пять за столом, выпили бы еще по рюмке коньяка, и все, ничего бы не было. Пусть бы «ведьма» висела себе тихонько, никому не мешала. Может быть, не скоро бы нашлась. Или в прах рассыпалась бы. Левицкого еще за язык дернуло болтать пьяный вздор. А этот, видать, малый не промах: вцепился в пристава, как борзая. Какое ему дело до трупа? Шел бы себе мимо. И тут Александрову пришла в голову простая мысль, которую он сперва-то упустил: а что сыщик делал в театре? Что вынюхивал? Уж не ведется ли тайное расследование? Вот это будет подарочек!
– А что, Евгений Илларионович, знакомый твой – чиновник проворный? – шепотом спросил Александров. Ему показалось, что пристав невольно вздрогнул.
– Такой ушлый, что ты! Говорят, особые полномочия имеет, на самом верху такое покровительство заслужил, что и подумать страшно. Тут не до шуток.
От этих слов страшно стало Александрову. Какие шутки: наверняка что-то вынюхивает по секретному поручению.
Как часто бывает в театре, в тот самый миг, когда помянули Ванзарова, он вознесся из-под сцены, скрестив на груди руки и старательно изображая раздумья. Все для того, чтобы поразить дорогого Аполлона Григорьевича. Жаль, что спина Лебедева, склонившегося над телом, не могла оценить скульптуру Орфея, вернувшегося из Аида. Зато оценил пристав, тихонько присвистнув:
– Мать честная, прямо Наполеон, вылитый Бонапарт…
Александров предпочел бы, чтобы этот великий гений провалился куда поглубже, да там и остался.
Не исполнив «доброе пожелание», Ванзаров направился прямиком к хозяину театра, вынул почтовый конверт, высыпал на ладонь бумажных бабочек и предъявил:
– Не скажете, что это такое?
Пришлось помедлить, чтобы не выдать себя быстрым ответом.
– Какая жалость, даже не могу предположить, что это такое может быть, – отвечал Александров. – Вам лучше спросить у Варламова.
– Уже спросил.
– О, неужели? Что же он вам сказал?
– Вопросы задает сыскная полиция, – последовал ответ, который хлестнул Александрова по самолюбию.
Видя, что друг в беде, Левицкий счел нужным вмешаться. Он значительно крякнул, насупился, взял с ладони Ванзарова бабочку и поднял на свет.
– Экая чушь! – многозначительно произнес он, не зная, что делать с бабочкой. – Где нашли, Ванзаров?
– Вся стопка, – Ванзаров забрал у него невинное создание и вернул к подружкам, в конверт, – оказалась как раз под тросом, на котором была повешенная барышня. Прошу улики занести в протокол осмотра места преступления. Штаб-капитан Турчанович будет вести протокол?
Пристав глянул на Александрова: приятель совсем помрачнел.
– Так точно, – ответил Левицкий и поискал глазами старшего помощника. Штабс-капитан старался быть незаметной тенью, сидя в зрительном зале на крайнем стуле второго ряда. Его заметили и призвали. Турчанович отправился на сцену, как в турецкий плен.
– Пристав, не возражаете, подержу пока у себя? – сказал Ванзаров, пряча конверт. Конечно, пристав не возражал.
Аполлон Григорьевич восстал над телом и стянул резиновые перчатки. Опасная сигарилла все еще торчала у него в зубах.
– Как покатались, друг мой? – спросил он, не обернувшись к Ванзарову.
– Поймал дюжину бабочек.
Сейчас Лебедев совсем не был расположен шутить.
– Опять за психологику взялись? – сухо сказал он.
Ванзаров вновь выпустил бабочек на ладонь.
– Вот такая милая стайка. Что скажете?
Лебедев взял одну. В пальцах криминалиста бабочка казалась мушкой. Повертев, вернул ее обратно.
– Театральный мусор, – последовал вердикт.
Никому не нужные, обиженные бабочки спрятались в дружелюбном конверте Ванзарова.
– В этом меня хотят убедить, – сказал он. – Театр – ложь, да в нем намек…
– Неужели?
– Мне врут в глаза, врут плохо и неумело. Но врут.
– Врут про этот мусор? – Лебедев не скрывал сомнений. – Что мешает вашей логике согласиться с очевидным, друг мой?
– Бабочки лежали как раз и только под тросом, на котором вялилась жертва.
– И что это должно означать, по мнению вашей логики?
– Я не знаю, – ответил Ванзаров, чем вызвал у друга приятные эмоции. Не часто Лебедеву доводилось слышать такое признание.
– Значит, и вы живой человек! – сказал он, легонько похлопав по плечу Ванзарова. От чего другой, менее крепкий чиновник долго лечил бы сломанную ключицу.
– Аполлон Григорьевич, мне нужно хоть что-то…
Фраза, понятная обоим, означала: позарез нужны факты, которые успел обнаружить криминалист.
– Немного, – по-свойски ответил Лебедев. – Ей примерно двадцать два или двадцать три года… Никаких особых примет. Паспорта при ней нет, как понимаете. Барышня нормального сложения. Судя по пальцам, тяжелой работой не занималась. При беглом осмотре следов порезов не нашел. Остальное только после вскрытия. Сразу предупреждаю: на таком сроке получить результаты очень тяжело.
– Поправьте, если ошибаюсь: не припомню заявлений о пропаже схожей барышни.
Лебедев согласился: по заявлениям, которые были в каждом полицейском участке, за последние три месяца не проходило пропавшей барышни схожей комплекции и лет.
– Пропала три месяца назад, и никто ее не искал, никому она не нужна, – сказал Ванзаров.
– То, что вас интересует, тоже могу подтвердить после вскрытия…
Ванзаров был рад, что друг понял ход его мыслей. Не зря столько лет вместе.
– Благодарю, Аполлон Григорьевич… Ее лицо можно привести в состояние, пригодное для опознания?
– Есть у меня составчик, недавно соорудил, не было повода испробовать, – мечтательно произнес Лебедев. – Потребуется отмачивать вашу красотку не меньше недели.
– Нет времени… Более ничего?
Лебедев наклонился и откинул рогожку, прикрывавшую тело, а затем приподнял угол шали, которую развязал. На скромном платье с высоким воротом, дешевого материала, чуть выше груди была приколота брошь. Золотая, в форме бабочки. На крылышках, где у живых бабочек разноцветные пятнышки, сверкали белые камешки. Криминалисту был обращен немой вопрос.
– Брильянты, мелковаты, но чистой воды, – ответит он.
Ванзаров попросил отцепить брошку и спрятал в карман.
– У меня совсем нет времени, вечером поезд. – Развернувшись, он пошел прямиком к приставу.
Левицкий заметил, что к нему приближается неизбежное, хотел было попятиться, но отступать некуда, позади рампа. Если только прыгнуть в оркестровую яму, что подполковнику совсем уж неприлично. Он жалобно глянул на Александрова, словно ища поддержи. Но хозяину театра было совсем не до того.
14
Берлинский поезд прибыл на Николаевский вокзал столицы империи без опозданий. Из вагона второго класса, дешевле в международном вагоне не было, вышел щуплый юноша. Он оглядывался с таким опасением, будто ощущал угрозу от каждого носильщика. Одет он был в длинное, до пят, пальто, не подходящее ни путешествию, ни концу лета в Петербурге, потертое и даже залатанное. Вид его был болезненный, щеки впали, как от недоедания, под глазами светились синяки. Багаж его состоял из ручного чемодана такой старой и тертой кожи, что наверняка служил еще прадедушке. Юноша стоял на перроне и никак не мог решиться, куда двинуться. Вид приехавшего был довольно странен, поэтому некоторые пассажиры оглядывались, что вскоре заметил дежуривший жандарм.
Унтер корпуса жандармов Кокушкин подошел к молодому человеку, строго осмотрел и отдал честь.
– Извольте ваш паспорт, месье, – сказал он по-французски, на языке, которым пользуется любой путешествующий европеец.
Юноша не понял, чего от него хотят. Он видел перед собой человека в военной форме, с шашкой и кобурой, с неприветливым взглядом, левая рука которого предупредительно лежала на эфесе. Юноша слышал, что русские военные отличаются грубостью и невежеством, могут потребовать пить с ними водку и делать безобразия.
– Спасибо, синьор, мне ничего не надо! – ответил он по-итальянски, жестикулируя свободной рукой.
Кокушкину сильно не понравилось такое поведение. Строптивый юнец, хамит на незнакомом языке, рукой отгоняет да еще чемодан к себе притиснул. Вид у него нездоровый и неправильный. Тут Кокушкин вспомнил описания революционеров-бомбистов, про которых им читали на курсах. В самом деле – похож. Студентик, чернявый, как инородец, глаз голодный и затравленный. Одежонка самая плохенькая. И такой прощелыга купил билет на берлинский поезд? Что ему в столице делать? И ведь что подозрительно – вещей мало. А если в чемодане бомба?
Мысль эта, простая и правильная, пронзила Кокушкина в самое темечко. Унтер шагнул назад, выхватил револьвер и дунул в свисток сигнал тревоги: двойной свист.
– Прошу следовать в отделение, и без глупостей!
От пронзительного свиста юноша сжался. Так и есть: стоит приехать в Россию, как сразу набросятся военные, чтобы ограбить. Никто не придет на помощь из граждан. Только стоят и смотрят, как его будут грабить. Как на представление в цирке. Ужасная, дикая страна!
Спасая себя от неминуемого грабежа, юноша прижал драгоценный чемодан к груди и что есть мочи бросился по перрону туда, где должен быть выход. Быть может, там окажется полицейский, который защитит его от жуткого произвола.
Теперь Кокушкин убедился: бомбист! Причем засланный. Удирает, чтобы бросить бомбу в какого-нибудь генерала. Нет, не уйдешь!
Стрелять в толпе унтер не решился, но бросился в погоню, придерживая саблю. Догнать студентика не составило труда. На подмогу Кокушкину, как раз наперерез, бежали дежурные жандармы с других перронов.
Злодей был повален на землю и крепко скручен. Чемодан его Кокушкин нес с замиранием сердца: а вдруг там взрыватель на стеклянной трубочке? Рванет так, что и ошметков не соберут.
15
Александров делал страшные глаза, отчего пристав окончательно растерялся. Военному человеку мучительно трудно делать выбор. Армейские к этому не приучены. Есть приказ – надо выполнить. А выбирать, какой приказ выполнять, – это еще что такое? Не бывает такого. Нельзя так с обращаться с подполковником. Левицкого буквально разрывало на части. Душа его разрывалась.
С одной стороны, он не мог отказать старому другу, от которого, кроме хорошего, бесплатных обедов и мест в партнере, ничего не видел. Пока чиновник сыска о чем-то говорил с ужасным Лебедевым, Александров оттянул пристава в сторону и мрачным шепотом стал просить забрать дело себе. Пристав не смог взять в толк: с чего вдруг такая надобность? Дело и так находится в его участке, а уж розыск вести – это к сыскной полиции. Не будет он розыском заниматься. Александров не отставал, предложил такое, от чего у Левицкого приятно зачесалась ладонь. От него всего-то и требовалось потянуть сегодняшний день, вечером Ванзаров уедет в отпуск, а дальше тихо, не торопясь, можно вести дело. Участковый пристав имеет право сам вести розыск? У Левицкого такое право было. Мог вовсе искать убийцу самолично, не вызывая сыскную. Вот этого Александров и добивался.
Но, с другой стороны, от Ванзарова поступило предложение, от которого пристав не знал, как отказаться. Предложение было неожиданным, странным, но не выходящим за рамки закона. Ванзаров просил у него разрешения провести опознание тела прямо здесь, на сцене. И прямо сейчас. По причине отсутствия у него времени. Пристав не знал, что и сказать. Александров, только услышав эту новость, отошел за спину Ванзарова и оттуда сверлил взглядом, в котором читалась мольба: «Делай что хочешь, но только не это!»
Конечно, Левицкий мог отказаться, что сделал бы любой пристав на его месте. К чему такая спешка? Убийцу по горячим следам не поймать, жертва давно высохла. Куда торопиться? Но почему-то пристав не мог дать окончательный отказ. Он пыхтел, сопел, задавал ненужные вопросы, но решиться не мог. Быть может, сильнее желания получить награду от Александрова оказался страх перед славой Ванзарова. Вдруг у чиновника сыска такие связи, что потом из него душу вынут?
– Спорить больше не о чем, – сказал Ванзаров. – Даете согласие на опознание?
Вот теперь пристава окончательно приперли. Он глянул на Александрова, чуть не вылезавшего из себя, и глубоко вдохнул.
– Даю! – вырвалось из него. Левицкий сам удивился своему поступку, он будто не успел прихлопнуть рот ладошкой. На Александрова он старался не смотреть.
Ванзаров взялся распоряжаться. Было приказано доставить на сцену стол, на который положили тело. Александрову приказали, иначе не скажешь, собрать всех господ, которые знают актрис и служащих театра. Деваться хозяину было некуда, он пошел отдавать распоряжение.
Варламов приволок верстак и вместе с Лебедевым переложил на него жуткую находку, старательно отворачиваясь. После чего долго тер ладони о штаны. Тело было накрыто все той же рогожкой. Пока готовили постамент, Ванзаров давал приставу инструкции. Оказалось, что от него требуется всего лишь исполнение обязанностей: приглашать по одному к телу и отвечать за ведение протокола. Протокол вести будет, конечно, Турчанович.
– А вы что будете делать? – спросил Левицкий, переживая сделанную глупость.
– В сторонке постою.
Пристав подумал было, что над ним подсмеиваются, но непроницаемый лик с усами вороненого отлива к шуткам не располагал…
Трое господ, которым выпала нелегкая доля опознания, теснились стайкой робких пташек у левой арки сцены. Чуть впереди, будто желая закрыть их от опасности, стоял Александров с видом мученическим и раздраженным одновременно. Хозяин театра в своем доме перестал быть хозяином. Ему отдают приказы, и он бежит выполнять, как мальчишка на посылках. От такого обращения он давно уж отвык.
Ванзаров шепнул что-то приставу, тот попросил Александрова представить участников опознания, как требуется для протокола.
Александрову оставалось лишь опять подчиниться.
– Господин Морев Федор Петрович, антрепренер, – начал он с ближнего.
Морев поклонился кивком. Ванзарову было достаточно трех секунд: старше тридцати пяти лет, частенько выпивает, денежные проблемы, не женат, не курит, но нюхает табак (теперь уже редкая привычка), живет в гостинице, больная нога. Психологический портрет, который Ванзаров научил себя составлять за считаные мгновения, говорил о том, что Морев обладает слабым характером, слезлив, может проиграться в карты, неаккуратен и сильно поддается влиянию.
– Глясс Николай Петрович, антрепренер, – Александров указал на сухощавого господина с залысиной во всю голову, моноклем в глазу, затянутого в сюртук немного старомодного покроя, но очень дорогой материи.
Ванзаров увидел в нем все, что хотел.
– И, наконец, наш уважаемый и дорогой Михаил Викторович Вронский, знаменитость и звезда и, главное, режиссер нашего театра, – закончил Александров.
Вронский отвесил шутливый реверанс. Ванзаров видел, что человек этот привык быть в центре внимания, нагловатый, циничный, капризный и неумный. Следит за модой, держит идеальную прическу и форму усов. Набор достоинств человека театра.
– Господина Энгеля, нашего дирижера, сейчас нет, он будет к вечернему представлению, а господин Архангельский, хормейстер, в отпуску, как и весь его хор, – закончил Александров. – Надеюсь, присутствующих достаточно?
Пристав оглянулся, ища поддержки сыщика, и получил ее в виде движения бровей и короткого кивка. Ванзарову было достаточно.
– Господа… – Голос подвел пристава, он прокашлялся и начал снова: – Господа, сейчас будет произведено опознание тела. Прошу смотреть внимательно. Возможно, кто-то из вас опознает в жертве знакомую актрису или пропавшую работницу…
– В театре никто не пропадал! – не выдержал Александров.
– Или зрительницу, – героически продолжил пристав. – В общем, это может быть любая знакомая вам персона… Прошу смотреть внимательно. Лицо несколько, ну… сами увидите. После осмотра прошу подойти к господину Турчановичу, чтобы расписаться…
Штабс-капитан уже развернул на стуле походную канцелярию: папку с бумагами и чернильницу-непроливайку с ручкой.
– Прошу, господа, подходить по одному.
Никто не шелохнулся.
– Господа, еще раз наш уговор: ни слова о том, что здесь произошло и происходит. Сохраните это ужасное происшествие в тайне, – сказал Александров и показал пример. Он шагнул к постаменту и, хоть видел жуткую находку, честно посмотрел в лицо, которое Лебедев открыл под рогожкой. Он мотнул головой и торопливо направился к Турчановичу.
Следом отправился Глясс. Твердой походкой подошел к столу, отвернулся и счел, что с него достаточно.
Вронский незаметно подтолкнул Морева. Но Ванзаров это заметил. Чуть припадая на левую ногу, антрепренер в потертом пиджаке приблизился к телу, заглянул, сокрушенно покачал головой и отошел.
Остался Вронский. Он улыбался, но никак не мог заставить себя двинуться. Знаменитость трусила.
– Прошу не задерживать, – строго сказал Левицкий, которого успокоил размеренный порядок протокольных действий.
Режиссер быстро подошел. Лебедев гостеприимно поднял рогожку. Вронский вздрогнул, отшатнулся, но все же сдержался, чтобы не сбежать, а быстро-быстро направился к стулу Турчановича.
– Что теперь? – тихо спросил пристав.
Ванзаров увидел почти все, что хотел.
– Господин Александров, прошу пригласить вашего племянника…
Предложение вызвало на лице Георгия Александровича плохо скрываемые чувства.
– Пощадите, господин сыщик, он же ребенок!
– Да уж, зачем мальчишку мучить, – тихо согласился Левицкий.
– Как понял, он ваш преемник, знает всех и все в театре, – ответил беспощадный Ванзаров, чем вызвал неодобрение даже у Лебедева. – Он мог видеть жертву. Тем более что вы предлагали любую помощь, чтобы раскрыть это дело.
Александров пробормотал проклятия так, чтобы его услышали, и пошел за племянником.
– Господа, прошу подойти ко мне, – сказал Ванзаров, подманивая к себе людей театра, как белок. Что было вызывающе бестактно.
Антрепренеры и режиссер переглянулись, но приблизились. Ванзаров, как фокусник, вытащил брошь и выставил перед ними.
– Рассмотрите внимательно: кому знакома эта бабочка?
Три пары глаз с интересом разглядывали золотую вещицу с брильянтами. Ванзаров следил за ними.
– Нам эта брошь неизвестна, – сказал Вронский с вызовом. – Так, друзья?
Глясс даже не счел нужным согласиться, повернулся и отошел. Морев же, сокрушенно покивав, последовал за ним.
– Надеюсь, представление окончено? – Вронский отдал салют и более не счел нужным тратить драгоценное время на полицию.
У пристава буквально не было слов: такого обращения со свидетелями, не какими-нибудь мужиками с Сытного рынка, а уважаемыми людьми, он еще не видывал. Верно говорят, что особыми полномочиями Ванзаров обладает.
На сцене появился Александров с Платоном. Юноша был спокоен и строг, как это часто бывает у юношей. Дядя что-то шептал ему на ухо. Вместе они подошли к столу. Александров крепко сжал руку племянника и обнял за плечо.
– Держись, Платоша, это нужно, – громко сказал он. – Не тяните, прошу вас!
Лебедев и не собирался. Он вежливо откинул край рогожки.
Раздался глухой, булькающий звук, как будто внутренности рвались наружу. Платон согнулся, упал на колени и зажал рот руками. Его тело сотрясали судороги рвоты, но наружу ничего не исторг, только хрипел и рычал болью. Дядя обнял его и держал, чтобы Платон не ударился головой.
– Да помогите же! – закричал он.
Проворнее всех оказался Лебедев. Оттолкнув Александрова, как пушинку, принял на себя Платона, держа крепко одной рукой. Другой же поднес склянку к его носу. Платон вдохнул, издал резкий, режущий визг и затих. Следом Лебедев дал ему выпить что-то из запасов своего бездонного саквояжа. Юноша проглотил бесцветную жидкость и смог дышать.
– Благодарю вас, – пробормотал он.
Лебедев, как мог нежно, погладил его по спине.
– Ничего, на опознаниях и не такое бывает. В обморок падают…
В глазах Александрова стояли слезы, а кулаки сжимались сами собой.
– Получили все, что хотели?
Ванзарову оставалось только подавить смущение.
– Примите мои извинения, – сказал он с поклоном. – Пристав, на два слова…
Левицкий, совершенно оглушенный произошедшим, не смея взглянуть на своего приятеля, которому попортил столько крови, поплелся за Ванзаровым. Тот ждал у правой кулисы. И протянул брошь и конверт с бабочками.
– Забирайте.
Пристав машинально принял.
– Дальше розыск вести вам. Тут мне делать больше нечего. Вечером у меня поезд и отпуск.
– Но как же… – растерянно произнес Левицкий, хотя вдруг все сложилось так, как хотел Александров. И за что обещался куш.
– Дело простое и понятное. Один из трех господ – убийца. Вам остается полная ерунда: определить, кто именно. После результатов вскрытия, которое проведет господин Лебедев, задача упростится. Когда установите личность убитой, все окончательно встанет на свои места. Желаю успеха, – и Ванзаров потряс обмякшую ладонь пристава.
Он подошел к Лебедеву, собиравшему саквояж.
– Аполлон Григорьевич, я оставил дело приставу. И уезжаю в отпуск.
– Неужели? – сказал Лебедев так, чтобы было ясно: он не одобряет поступка друга. – Неужели повзрослели?
– Как угодно. Только прошу сделать вскрытие до моего отъезда. Чтобы я знал результат…
– Нет, к сожалению, не повзрослел… Ладно, я вас любым принимаю.
Ванзаров попросил прояснить еще один вопрос, лучше на улице. Лебедеву требовалось еще четверть часа, чтобы закончить здесь дела. Ванзаров готов был подождать. Сцену он покинул с твердым желанием не возвращаться на нее. Никогда. И окончательно прокляв театр.
16
В отделении корпуса жандармов на транспорте при Николаевском вокзале ротмистр Горленко Илидор Владимирович листал паспорт задержанного. Юноша был итальянским подданным, приехал из Рима через Берлин, судя по железнодорожному билету. Недавно ему исполнился двадцать один год. Юношу звали Фабио-Мария-Симон-Паскуале-Винченцо Капелло. Как понял Горленко, кое-как разбиравший итальянский, синьор Капелло проживал с матерью в Риме. При личном обыске в пальто, штанах, жилетке и стареньком пиджачке не было найдено ничего подозрительного: обрывки билетов на трамвай в Берлине, фантики, куриная косточка, моток ниток и около тысячи итальянских лир[10].
Языковой барьер не позволял ротмистру понять, зачем Капелло занесло в Петербург. По виду юноше следует не то что путешествовать через пол-Европы, а сидеть дома да хлебать щи его итальянской мамы. Или что там итальянские мамы готовят любимым сыночкам? Он сидел перед ротмистром на табуретке такой жалкий и поникший, что даже Кокушкин, от которого он попытался сбежать, проникся жалостью.
Жалко не жалко, а добиться, что находится в чемодане, ротмистр не смог. Все-таки была вероятность, что это бомбист, который хитро маскируется. Горленко приказал унтеру открывать. Перекрестившись, Кокушкин поддел ножом хилый замок. И хоть синьор Капелло о чем-то жалобно просил, размахивая руками, унтер вскрыл и второй замочек.
– Чего ждешь, открывай крышку! – приказал ротмистр, невольно уклоняясь к стене.
Кокушкин зажмурился и медленно-медленно приподнял крышку чемодана.
Ничего не грохнуло.
Ничего не бахнуло.
И даже не шандарахнуло.
Синьор Капелло схватился за курчавые волосы и зарыдал так, словно потерял любимого человека. Кокушкин глянул и только крякнул в смущении.
– Что там? – спросил заинтригованный Горленко.
– Извольте сами взглянуть, ваше благородие…
Выйдя из-за стола, ротмистр подошел к табуретке, на которой поместили открытый чемодан. Внутри поверх жалкого бельишка лежала роскошная коллекция фотографий. На всех фотографиях была только одна женщина. Самая прекрасная женщина на земле. Ротмистр обменялся с Кокушкиным понимающим взглядом. Дело обернулось опереткой. Синьор Капелло был вовсе не бомбистом, а несчастным влюбленным, одним из армии таких же сумасшедших. Которые жили одной мечтой и не рассчитывали на большее.
– И этот свихнулся! – с жалостью произнес Кокушкин.
– Кавальерист, что тут поделать, – ответил ротмистр.
При знакомых звуках священного имени сердце синьора Капелло не выдержало. Он бросился к чемодану и закрыл собой прекрасную и недостижимую, рыдая в голос и орошая слезами любимый образ, чьи открытки скупал во всех городах Европы.
Горе синьора Капелло было столь глубоким и искренним, что Горленко распорядился в вокзальном буфете накупить всякой закуски. И даже выдал под это личные деньги. Кокушкин побежал исполнять с большим рвением. Теперь и ему стало жаль глупого влюбленного.
А после ротмистр лично напоил мальчишку чаем и заставил съесть все, что было принесено из буфета. Капелло набросился с такой жадностью, будто не ел три дня. Что было недалеко от правды.
Он еще долго не мог поверить внезапному счастью: страшные русские военные не ограбили его, а накормили, напоили и даже проводили в гостиницу, стоявшую недалеко от вокзала. И, кажется, сунули в карман русские купюры. Чего не случалось с ним ни в одном городе Европы, по которым он слонялся за своей звездой. Что за чудесные и странные эти русские военные! Или они тоже поклонники Кавальери?!
17
Есть люди, каких судьба одарила счастливым даром: они всегда оказываются в нужном месте и в нужное время. Эти счастливчики выигрывают в лотерею, получают наследство, находят старинный клад за печной задвижкой или покупают билет на первый трансатлантический рейс «Титаника». Ванзаров тоже обладал некоторым даром: он вечно попадал туда и тогда, где его никто не ждал. И лучше бы его там вовсе не было.
Вместо того чтобы выйти туда, откуда вошел, то есть через зал, Ванзаров пошел со сцены за кулисы и оказался в актерском коридоре. Как раз в тот ненужный момент, когда Вронский с перекошенным лицом что-то энергично рассказывал даме в красном платье. Заметив Ванзарова, он вздрогнул, бросил быструю фразу, указывая кивком головы на него, и натуральным образом сбежал.
Дама же развернулась к Ванзарову. Уперла руки в боки и посмотрела исподлобья, как тореро смотрит на быка. Дама была красива резкой, жаркой, кричащей, южной красотой цыганки в самом соку. Загорелая кожа спорила с цветом платья и угольно-черными волосами, а пронзительные глазки, с цыганским огоньком, прожгли дырку во лбу Ванзарова. Он, привыкший смотреть в глаза мертвым, не отвел взгляд. Чем вызвал у дамы интерес. Как видно, она считала, что любой мужчина тут же должен упасть к ее ногам. Не на того нарвалась, знаете ли…
И она поманила его пальчиком, украшенным перстнем с рубином.
Вообще в России полицию не принято подзывать пальчиком. А сыскную в особенности. Иностранка, как определил Ванзаров, не знает всех тонкостей русской жизни. И он подошел. Ему протянули для поцелуя руку, чуть более полную, чтобы считаться изящной. Зато беспощадно украшенную кольцами. Ванзаров счел, что простого поклона будет достаточно. Чем позабавил иностранку.
– Что вы здесь делаете? – спросила она по-французски, с грубым, каркающим акцентом, что выдавало в ней испанку. У немок не бывает такой загорелой кожи.
– В России не принято задавать вопросы полиции. Это полиция задает вопросы, – исправил Ванзаров ошибку женщины.
– Так вы из полиции?
– Из сыскной полиции, мадам, – с достоинством ответил Ванзаров.
Он сделал важное открытие для себя: когда красоты слишком много, она будто намазана густым слоем масла да еще с избытком рубинов, волшебства в его сердце не случается. Сердце его остается невозмутимо. Оно не прельстится излишней красотой. И даже полыхающими угольными глазами.
– Великолепно! Вы – сыщик! Как Арсен Люпен или Хэрлок Холмс!
Опять эти надоевшие сравнения. Ванзаров не счел нужным и бровью повести.
– Что вам угодно, мадам? – удивительно холодно спросил он, чем заметно поразил испанку.
– Что угодно мне?! Вы что, не знаете, кто я?!
– Не имею малейшего понятия. Вероятно, актриса или танцовщица. Гастролируете в России сольно или с труппой?
Обжигающая дама, считавшая, что видит мужчин насквозь и даже глубже, не верила очевидному: в Петербурге, где ради нее готовы умирать на дуэли, нашелся какой-то наглец, кто не знает ее! Он не врал, не кокетничал, он действительно не знал, кто перед ним. Но не слышать звездное имя невозможно! О, что сейчас будет!
– Я Каролина Отеро, – сказала она, ожидая, что наглый красавчик (это она отметила) будет повержен.
Ванзаров изобразил мину: дескать, обычное испанское имя, у нас своих Каролин и Катерин хватает, было бы чем хвастаться.
– Родион Ванзаров, – ответил он просто, чем окончательно поразил божественную Отеро. Она поняла, что беспомощна перед этим русским с крепким мужским телом.
– Это вас вызвали, чтобы спасти бедняжку Кавальери от угроз? – спросила она совсем другим тоном.
Ванзаров нахмурился, как подобает суровому русскому полисмену.
– Откуда вам это известно, мадам? Это тайна!
Она легкомысленно махнула пухлой ручкой.
– В театре не бывает тайн, всем и все сразу становится известно. Тем более что крошка Кавальери наверняка сама выдумала смертельную опасность.
– Зачем делать такие глупости?
– Ах, вы не человек театра, как вижу! Ну это же так просто: она получает письмо, якобы с угрозой, и, конечно, держит это в секрете. Но секрет узнают репортеры. Печатают в газетах. Публика приходит в волнение и бежит скупать билеты! Мерзкая и дешевая подлость, чтобы добыть популярность…
– Это ужасно, мадам! – Русский полицейский был самим воплощением закона. – Я был уверен, что ей угрожают неизвестные! Хотя что может угрожать итальянской певице в России, когда мы стоим на страже! Что ж, благодарю, вы облегчили мой труд.
Ванзаров поклонился и уже собрался покинуть прекрасную Отеро, когда в коридор буквально влетел Александров, будто получил пинок под зад.
– Господин Ванзаров! Вы здесь! Какое счастье!
Снова видеть хозяина «Аквариума» в его планы не входило.
– Что вам угодно?
– Господин Ванзаров, прошу простить мою глупость… Я же не знал, что вы… что вас… что защищаете Кавальери… Она рассказала, что вы прибыли помочь… А я-то, дурень, подумал, что… Простите сердечно, не бросайте нас…
Что именно подумал Александров, было понятно без слов, а отчаяние его было столь искренним, что Ванзаров дрогнул.
– С ней что-то случилось?
– К счастью, нет… Она зашла на сцену и увидела… ее… Зовет вас… Умоляю.
Других уговоров не потребовалось, Ванзаров поспешил обратно. А ведь не прошло и четверти часа, как он дал зарок не возвращаться.
Отеро ничего не поняла из нервного разговора, шедшего на русском. Она разобрала только одно ненавистное слово. И тут ее посетила счастливая мысль. Как оружие врага обратить против самого врага.
– Азардов… Из сыскной полиции… Ну, хорошо же, крошка Кавальери… Ты у меня спляшешь тарантеллу… – проговорила она по-испански, чтобы никто не мог понять, и, гордо подняв голову, вернулась в свою гримерную.
18
Она застыла в трагической позе, которая так идет героиням древнегреческих трагедий. Ванзаров на миг залюбовался скульптурной фигурой. Переход после крикливой испанской красоты к тихой красоте скорби был особенно чувствителен для него. Он глянул на Лебедева и получил жестикуляцию: дескать, что хотите со мной делайте, но я тут ни при чем, она сама пришла. Пристав с Турчановичем предусмотрительно скрывались в темноте зрительного зала, наблюдая за особым спектаклем. На такой билеты не купишь: неприкрытая правда жизни на сцене.
Стараясь не испугать мадемуазель, Ванзаров шел шаркая по сцене. И остановился рядом, чуть ближе, чем позволяют приличия.
– Фон-Сарофф! Как хорошо, что вы здесь, – сказала она, не повернув головки.
– Мадемуазель, – только начал он, но ему не дали продолжить.
– Не надо слов, все очевидно…
Кавальери так и стояла, сложив руки на декольте. И упорно смотрела на рогожку, под которой угадывались очертания тела. На немой вопрос: «Она видела?» – от криминалиста было получено немое подтверждение.
– Вы знали несчастную? – произнес Ванзаров то, что обязан был произнести. Раз уж вернулся.
– Что с ней сделали? Какие безжалостные и жестокие люди!
Женщинам нельзя говорить разумные вещи. Они принимают их как личное оскорбление. И итальянки такие же. Ванзаров не стал пояснять, что безжалостный человек всего лишь вздернул барышню на тросе. Остальное довершил равнодушный сквозняк. Разве такое объяснишь красивой женщине. К тому же Ванзаров не знал, как сказать по-французски «сыровяленая».
– Ужасно! – только и выдавил он.
– Это знак мне…
– Что вы, мадемуазель…
– Нет, не спорьте, милый Фон-Сарофф, я знаю, я чувствую. Сначала письмо, а теперь вот это. Они хотят моей смерти.
Набравшись храбрости, Александров подошел и услышал только последние слова.
– Чьей смерти? – спросил он по-русски.
– Госпожа Кавальери боится, что это убийство – предостережение для нее. Дескать, ее хотят убить.
– Господин Ванзаров, спасите меня и театр! – с дрожью в голосе взмолился Александров, подзабыв, как с час тому назад сулил приставу куш, чтобы только чиновник сыска поскорее укатил в отпуск и не сунул нос в грязные делишки. Люди театра такие переменчивые, однако.
– Приставу оставлены точные инструкции.
Александров даже руками всплеснул.
– Ну все, пропал я… Евгений Илларионович мастер в ладоши хлопать, а случись беда, толку с него, как с ребенка.
– Еще раз прошу простить, что так вышло с вашим племянником.
– Не стоит! Платоша быстро оправится…
– У него… падучая?
Георгий Александрович перекрестился:
– Избави Бог! Он с детства не может видеть мертвых… У него на глазах… Ну, это семейная боль наша, позвольте оставить ее в стороне.
– Как видите, истерики, которой вы так опасались, у мадемуазель не случилось.
– Чудо, просто чудо! Вы так на нее положительно влияете…
– Как она вообще на сцене оказалась?
– Да пес ее знает! Как нарочно, унюхала, куда не надо соваться. Ох уж эти итальянки…. Да и испанки тоже хороши. Вот они у меня где, эти звезды, – Александров выразительно показал на горло. – Если бы на русских певиц публика шла, ни за что бы не подписал контракты с этими истеричками. Из наших только Вяльцева залы собирает. Так у нее гастроли на полгода расписаны…
Господа так увлеклись, что позабыли о звезде. Чего делать не следует. Кавальери стоит в трагической позе, а у нее за спиной идет энергичная беседа по-русски, из которой ничего не понять. Мужчины ведут себя неподобающе в ее присутствии!
– Милый Фон-Сарофф! – сказала она, повернувшись и касаясь его руки. – Помните, что обещали защитить меня… Только на вас вся моя надежда.
И она двинулась прочь со сцены. Александров кинулся следом, но был отогнан взмахом ручки.
– Бурная сценическая жизнь у вас, друг мой, – сказал Лебедев, подойдя и помахивая саквояжем. – Что за вопрос был, пока не укатили в свою Грецию?
Ванзаров извлек угрожающее письмо.
– Аполлон Григорьевич, взгляните на почерк. Что скажете?
Прежде чем развернуть, Лебедев достал из глубин пиджака лупу. Какой же криминалист выйдет из дома без лупы? Повернувшись к освещению, он рассмотрел слова через увеличение, поводил лупой по чистой бумаге и, наконец, наставил лист к свету.
– Чудесная угроза, давно так не смеялся, – сказал он, возвращая записку.
– Вердикт?
– Сами что скажете? Вас же водкой не пои, дай только залезть в криминалистику. Что нам скажет по почерку ваша хваленая психологика?
– Проверить хотите? – спросил Ванзаров.
– Хочу, – искренне ответил Лебедев.
– У меня, конечно, нет такой роскошной лупы, как у вас, но и без нее очевидно: рука мужская, молодая, характер резкий, прямой, привыкший к дисциплине и строгости. Вышколенный. Угроза написана изящным, насколько могу судить, французским языком. Что выдает блестящее образование. Ну и любовь к театральным эффектам.
– Кого отнесете к такому набору?
– Военный. Армейский. Не флотский.
– Почему?
– У флотских нет привычки к таким длинным буквам: качка, потому и почерк короткий. Предположу, что разлет штрихов говорит, что это кавалерист.
– Ну и зачем вам я в таком случае? – спросил Лебедев с раздражением.
– Чтобы указать то, чего не вижу.
Лебедев многозначительно поднял палец.
– За что ценю вас, друг мой, так за отсутствие зазнайства. Без старика Лебедева – никуда?
– Никуда, Аполлон Григорьевич.
– Ну так вот… Скажу вам, какого полка кавалерист.
Ванзаров не скрывал легкого недоверия.
– Какого?
– Драгунского Нижегородского. И это – наверняка.
Победа была столь оглушающая, что Ванзарову просто нечем было парировать.
– Неужели научились по почерку полки различать? – только спросил он.
– Не верите? Ну как, лопнула психологика?
Такое нельзя было сносить даже от великого друга. Ванзаров достал листок и стал разглядывать на свет.
– Тут, кажется, от полкового штампа след остался…
Загадка оказалась разгадана так просто, но Лебедев был счастлив: его друг оказался на высоте.
– Вы правы, Ванзаров. Лист свежий, только из типографии. Наш офицер, написав угрозу в стиле опереток, сложил листок пополам. Вовремя сообразил, что подбрасывать письмо со штампом полка – довольно вызывающе. И ровно отрезал штамп. Не заметив, что краска отпечаталась внизу листа. Кто этот отчаянный и глупый герой?
– Понятия не имею, – честно ответил Ванзаров. – Это уже не имеет никакого значения.
Он еще раз повторил просьбу: вскрыть барышню до его отъезда. А напоследок напомнил Лебедеву, в котором часу отходит поезд на Одессу. «Чтоб друг помахал другу платочком на добрую дорогу и обронил слезинку», – как язвительно заметил Аполлон Григорьевич.
Пожелав Левицкому и штабс-капитану Турчановичу больших успехов в деле розыска преступника, а также во всех прочих делах участка, Ванзаров попрощался окончательно. Чем вверг пристава в тяжкие раздумья: как искать убийцу, он не имел ни малейшего представления. Да и желания. Остался единственный выход: искать так долго, чтобы дело закрыли по причине отсутствия обвиняемого. Так Левицкий и решил поступить.
19
Путешественнику со средствами Петербург всегда рад. Извозчик то и дело указывал приятному господину, который согласился на тройную цену, на дворцы и прочие памятники. И нарочно повез от Никольского рынка кружной дорогой. Пан Диамант только улыбался и внимательно запоминал окрестности. Взгляд его цеплял совсем не архитектурные красоты, а такие скучные вещи, как оконные рамы и двери. Судя по простоте и хлипкости запоров, в столице живут беззаботные люди. Можно было неплохо повеселиться, если бы не пан Обух.
На воровского старшину Диамант не обиделся. Он счел отказ личным оскорблением, которое прощать нельзя. И хоть слышал, что происходит с теми, кто ослушается Обуха, но дело шло на принцип. Дело шло о гордости, о шляхетском гоноре, о чести поляка, в конце концов. Мало того, что царица Екатерина родину закабалила, так теперь воровской старшина дозволения не дает! Тут жизни не жалко, чтобы доказать: варшавскому вору, польскому вору никто не посмеет приказывать.
Диамант – птица вольная, как белый орел гербовый. Летит куда хочет. И клюет там, где пожелает. А если за это жизнью заплатит, головы лишится или найдет конец в холодных водах Невы… Что ж, такая уж участь поляка: погибать на чужбине, но не сдаваться! Костюшко погиб в бою, и ему жизни не жалко. Лишь бы потом варшавские воры песни слагали: как пан Диамант в одиночку в столице проклятой империи подвиг беспримерный совершил! Он этих песен, конечно, не услышит. Не дадут ему с добычей добраться до милой Варшавы, где можно залечь на дно так, что не сыщут. Ловить его будут и полиция, и воры. Но ведь один шанс на удачу есть! А один шанс для поляка – это шанс. У русских – авось, у него – удача. Вдруг вывезет?..
Мысли эти приятно бодрили кровь. Извозчик что-то рассказывал про Невский проспект, его магазины и витрины, но пану Диаманту дела до них не было. Он молча улыбался. Пролетка свернула на Михайловскую улицу, к гостинице «Европейская». Где еще жить богатому гостю? Диамант соскочил легко и пружинисто и осмотрелся, пока извозчик возился с чемоданом. Его привлекали не дома, в Варшаве они куда красивее, его внимание привлек парнишка в фуражке, что старательно бежал за пролеткой, а теперь прикрывался углом дома. Парнишку Диамант приметил, еще садясь в пролетку. Не доверяет пан Обух знаменитому вору варшавскому, не поверил, что тот подчинится слову его. Умный, недаром старшиной выбран.
Диамант неторопливо отправился за извозчиком, который не поленился отнести чемодан за щедрую плату. Швейцар уже кланялся и открывал дверь. Диамант расплатился с извозчиком, дав еще чаевые, чтобы все видели, какой щедрый гость пожаловал, и предъявил паспорт портье. Бумагу делали лучшие варшавские мастера на станках, привезенных из Берлина. Качество изумительное. Портье особо не разглядывал гербовую печать и каллиграфический почерк. В книгу прибывших записал господина Витаутаса Смилгу из Вильно, выдал ключ и пожелал приятного пребывания. Диамант сунул под страницу книги синюю купюру, чем завоевал сердце и дружбу портье. Коридорному, который расторопно подбежал к гостю, дал рубль и ключ, чтобы отнес чемодан. Коридорный побежал прытью.
А Диамант, словно осматривая красоты интерьера, подошел к окнам, выходившим на Михайловскую улицу. Парнишка в фуражке грыз семечки и посматривал на двери. Пан Обух взял гостя под плотное наблюдение. Но ничего, еще не знает, с кем имеет дело.











