Читать онлайн Государь
- Автор: Никколо Макиавелли
- Жанр: Зарубежная образовательная литература
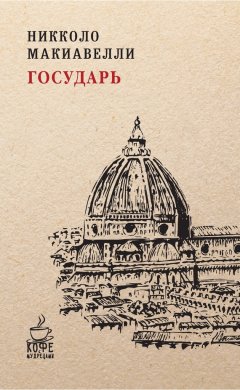
© Г. Д. Муравьева, перевод на русский язык, 1982
© М. Л. Андреев, примечания, 1998
© Р. И. Хлодовский, наследники, перевод, вступительная статья, примечания, 1998
© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017
О Никколо Макиавелли, секретаре Флорентийской республики, гуманисте, историке, авторе комедий, а также поэте трагическом
Езуит Посвин, столь известный в нашей истории, был один из самых ревностных гонителей памяти Макиавеллевой. Он соединил в одной книге все клеветы, все нападения, которые навлек на свои сочинения бессмертный флорентинец, и тем остановил новое издание оных. Ученый Conringius, издавший «II principe» в 1660 году, доказал, что Посвин никогда не читал Макиавелли, а толковал о нем понаслышке.
А. С. Пушкин
Италия! Имя ее издавна было священно одним лишь поэтам. Для того чтобы Италия стала политической идеей, надобен был политик, который сделался бы поэтом.
Р. Ридольфи
Имя для этого времени нашел вовсе не Мишле, а Пушкин. Он едва ли не первый назвал его: «Великая эпоха Возрождения».
На рубеже XV и XVI столетий Возрождение достигло зенита. Никогда в Западной Европе не рождалось столько гениальных художников и великих поэтов. Даже в Италии. Это было время Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи, Рафаэля, Браманте и Микеланджело. В юности Никколо Макиавелли, несомненно, встречал на улицах родного города Анджело Полициано, Луиджи Пульчи, Михаила Марулла и, конечно, Лоренцо ди Медичи, который был не только самым авторитетным политиком Флоренции, но и одним из ее наиболее одаренных лириков. Саннадзаро, Фоленго и Ариосто приходились Макиавелли сверстниками. Сам он тоже писал стихи. Когда Ариосто не упомянул его в «Неистовом Орланде», перечисляя славных поэтов тогдашней Италии, Макиавелли смертельно обиделся.
Надо полагать, создатель «Орланда» не склонен был считать стихи, сочиняемые секретарем Флорентийской республики, подлинной и высокой поэзией. Они были умны, но как-то уж слишком простонародны. Им недоставало изящества, благозвучия и того лоска формы, которым к началу XVI века обладали даже самые посредственные петраркисты. Кроме того, в стихотворениях Макиавелли чересчур часто говорилось о политике, и от многих из них попахивало желчью. Они явно выламывались из ставших к тому времени классическими канонов ренессансной лирики. Макиавелли плохо верил не только в Бога, но и в того абсолютно свободного, божественного человека, о котором неустанно говорили Леон Баттиста Альберти, Марсилио Фичино, граф Пико делла Мирандола и все флорентийские неоплатоники. Вернее, он верил в него совсем по-другому. Индивидуалистическая и антропоцентрическая концепция мира, типичная для гуманистической идеологии Возрождения, у Макиавелли сохранилась, но она претерпела в его произведениях серьезные уточнения. В миропонимании Возрождения Макиавелли – рубеж. У подавляющего большинства гуманистов XV века огромный, всеопределяющий интерес к человеку был интересом к отдельной человеческой личности, изолируемой не только от истории, но и от окружающей его общественной, политической среды. Человек был божественным, гармоничным, всесильным, бесконечно прекрасным и – идеальным. Гуманистический идеал Альберти, Полициано, Боттичелли чрезмерно резко противопоставлялся реальной действительности. Он был утопичен и идилличен.
В произведениях Никколо Макиавелли нравственно-эстетический идеал эпохи Возрождения обрел политическую реальность. Но это вовсе не значит, что Макиавелли перестал быть гуманистом. Обособить его миропонимание от передовой идеологии того времени можно, лишь отъяв гуманизм у Ренессанса. Макиавелли был первым великим писателем Возрождения, который стал изучать человека и человеческие отношения не только с этической и эстетической точек зрения, но также в аспектах социологии. Рядом с проблемой личности в его произведениях встали проблемы народа, сословия, класса, нации, и это привело к существенному сдвигу акцентов. Макиавелли и Ариосто были знакомы, но они плохо понимали друг друга. Макиавелли не понимал, например, как можно беспрекословно восторгаться античным искусством и видеть в изящной словесности высшее проявление свободной человеческой жизнедеятельности. Он с издевкой писал об Италии, которая «воскрешает мертвые вещи: поэзию, живопись, скульптуру» («О военном искусстве», VII). Ему казалось, что воскрешать надо саму Италию. Он, кажется, даже считал, будто пышный расцвет итальянской культуры на рубеже XV и XVI веков был одним из проявлений слабости и нравственной испорченности современного ему общества.
Так же как большинство гуманистов, Макиавелли был моралистом. Но, продолжая и развивая этико-политическую традицию флорентийского гуманизма, являясь ее наиболее ярким носителем, он поднял эту традицию на качественно новую ступень.
Отказывая Макиавелли в праве на титул большого поэта, Ариосто был явно не прав. В XVI веке большая поэзия по-прежнему существовала не только в стихотворной форме. Макиавелли был одним из титанов Возрождения, и именно поэтому он оказался великим художником. Люди того времени, как известно, не стали еще рабами разделения труда. Наиболее проницательные мыслители прошлого не случайно ставили Макиавелли в один ряд не только с Мартином Лютером, но также с Леонардо да Винчи и Альбрехтом Дюрером. Созданная Макиавелли «Мандрагора» оказалась лучшей комедией итальянского Ренессанса. Его «Сказка» о Бельфагоре не уступает самым красочным рассказам Маттео Банделло. А романизированная «Жизнь Каструччо Кастракани из Лукки» имеет ничуть не меньшие права на место в художественной литературе, нежели диалоги Кастильоне или сравнительные жизнеописания Плутарха. Но самым великим поэтическим произведением Макиавелли стал «Государь». Музой Макиавелли была политика.
Нередко говорят, что он отделил политику от нравственности, сделав ее – прежде всего именно в «Государе» – «чистой наукой». На этом особенно настаивал сперва Карл Маркс, а затем Бенедетто Кроче. Это один из исторических мифов. Гуманизм Возрождения, как правило, не был ни аморальным, ни имморалистическим. Макиавелли обособил общественно-политическую проблематику всего своего творчества не от нравственности, а от нравственных догм не вышедшей за Средневековье христианской религии и от той ханжеской, обывательской морали, которая в его время лицемерно апеллировала к этим догмам. В этом он следовал великой традиции итальянского Возрождения, основы которой были заложены Петраркой и Боккаччо. Реализм политических концепций органически сочетался у Макиавелли с мифотворчеством художественного сознания. «Основная черта „Государя“, – писал один из самых оригинальных мыслителей нашего столетия, – состоит в том, что он является не систематизированным трактатом, а „живой“ книгой, в которой политическая идеология и политическая наука сплетаются воедино в драматической форме „мифа“». В отличие от утопии и схоластического трактата, то есть тех форм, в которые политическая наука облекалась вплоть до Макиавелли, такой характер изложения придает его концепции форму художественного вымысла, благодаря чему теоретические и рационалистические положения воплощаются в образ кондотьера, являющийся пластическим и «антропоморфным» символом «коллективной воли».
Именно «Государь» принес Макиавелли всемирно-историческую славу. Она не всегда была справедливой. Книгу эту поняли далеко не все и отнюдь не сразу. Но вовсе не потому, что она написана трудно. Напротив: читателей Макиавелли всегда ослепляла чрезмерная ясность его концепции. Их пугала – и порой до сих пор продолжает пугать – бескомпромиссная смелость выводов. «Государю», так же как и другим произведениям Макиавелли, недоставало не столько божественной гармонии «Неистового Орланда», сколько его идилличности. Создатель «Государя» подписал одно из своих последних писем: «Никколо Макиавелли, историк, автор комедий и поэт трагический». Несмотря на то что ни одной трагедии в собственном значении этого термина Макиавелли не написал, он определил себя здесь чрезвычайно точно. Ариосто и Макиавелли были самыми крупными писателями итальянского Возрождения в ту пору, когда Ренессанс достиг наивысшей зрелости, но они выражали его различные и в чем-то даже противоположные исторические тенденции. В произведениях Макиавелли показана не красота, а дисгармоничность мира. В них полнее, глубже и непосредственнее, чем у кого-либо из современных ему художников, отразилась историческая трагедия его родины.
Современная Макиавелли Италия переживала глубокий политический, социальный и экономический кризис. Надвигалась рефеодализация. Все крупнейшие государства Италии лихорадило. В 1494 году флорентийцы прогнали Медичи и возродили у себя республиканский строй. Однако и после этого Флоренция не успокоилась. Она еще раз сменила политический режим в 1498 году, затем в 1502-м и в 1512-м. Между 1499 и 1512 годами во главе Милана четыре раза появлялась новая власть. В 1509 году Венеция оказалась на краю гибели. В Риме царили бесконечные смуты. В Романье и Марках не прекращалось брожение, Неаполь не раз менял правителей. Ни один государственный строй в Италии – ни в тираниях, ни в королевствах, ни в республиках – не казался надежным и прочным. В то время как Франция и Испания превращались в мощные абсолютистские государства, культурная и все еще очень богатая Италия утрачивала не только гражданские свободы, но свою национальную независимость.
В 1494 году в Италию вторглись полчища французского короля Карла VIII, заявившего династические претензии на неаполитанский престол. Французы прошли по всему полуострову от севера до юга, но не встретили нигде ни малейшего сопротивления. Миланский герцог Людовико Моро, папа Александр VI Борджа и правительство Венеции не сочли для себя выгодным вступиться за Неаполь, потому что они видели в королевстве только лишнего конкурента и соперника. «Все постоянно толкуют мне об Италии, – иронизировал Моро, – а между тем я ее никогда не видел». Это было началом конца. В 1499 году в Италии появилась армия преемника Карла VIII Людовика XII. На этот раз французский король предъявил права не только на Неаполитанское королевство, но и на Ломбардию, и она была тут же присоединена к его владениям. На Неаполь теперь зарилась также и Испания. В 1500 году в только что освобожденной от мавров Гранаде Испания и Франция подписали договор о разделе территорий всей Южной Италии. После этого более пятидесяти лет в Италии не прекращались жесточайшие войны между Испанией, Францией и империей. Итальянские государи и папы принимали в них самое деятельное участие. Рассчитывая округлить собственные владения за счет соседа, они слепо и беззастенчиво торговали землями, кровью и свободой всего итальянского народа.
В этих условиях социальное и идейное размежевание внутри итальянского гуманизма неминуемо должно было принять особенно резкие формы. Писателям Возрождения приходилось теперь либо сознательно закрывать глаза на бушующие вокруг них политические вихри и, все больше отстраняясь от слишком страшной реальной действительности, искать спасения в гавани «чистой поэзии», либо, развивая дальше, углубляя и актуализируя этико-политические концепции Петрарки, Бруни, Поджо, Понтано, стремиться обуздать политическую бурю национального кризиса с помощью тех сил, которые давали им разум и их «studia humanitatis» – «наука о человечности». Макиавелли пошел по второму пути. Вот почему его произведения, отражая глубочайший кризис итальянского общества на рубеже XV и XVI столетий и являясь формой его гуманистического осознания, не были сами по себе выражением кризисности ренессансного мировоззрения. Ни в одном из них невозможно обнаружить панической растерянности пред хаосом бытия. Макиавелли изображал трагическую дисгармонию жизни не во имя эстетического утверждения дисгармоничности как естественного состояния мира, а ради ее этико-политического преодоления. В возможности такого преодоления автор «Государя» никогда не сомневался. Его веру в конечное торжество разума питала связь с наиболее живой частью итальянского общества. Именно политическая мысль Макиавелли, при всем его типично гуманистическом презрении к «черни», явилась, по словам несправедливо забываемого у нас и очень неортодоксального марксиста Антонио Грамши, одновременно и реакцией на гуманитарно-филологическое Возрождение XV века, и «провозглашением политической и национальной необходимости нового сближения с народом». «Установление иностранного господства на полуострове, – писал Грамши, – в XVI веке сразу же вызвало ответную реакцию: возникло национально-демократическое направление Макиавелли, выражавшее одновременно скорбь по поводу потерянной независимости, которая существовала ранее в определенной форме (в форме внутреннего равновесия между итальянскими государствами при руководящей роли Флоренции во время Лоренцо Великолепного), и вместе с тем зародившееся стремление к борьбе за восстановление независимости в исторически более высокой форме – в форме абсолютной монархии по типу Испании и Франции».
Никколо Макиавелли родился 3 мая 1469 года во Флоренции. Род его был старинный, дворянский. У него имелся свой герб: голубой крест на серебряном фоне с четырьмя голубыми гвоздями (clavelli) по краям. Но голубой кровью Макиавелли никогда не кичились. Уже в середине XIII века, когда Флоренцию раздирали распри между гвельфами и гибеллинами, они встали на сторону народа и с тех пор всегда считались «добрыми пополанами». Многие из них были гонфалоньерами и входили в правительство в те годы, когда городом правили богатые купцы и сукноделы, которых именовали тогда «жирный народ». Однако никто из предков Никколо ничем особенным себя не прославил. Богатства они тоже не нажили. Отец Никколо, мессер Бернардо ди Никколо ди Буонисенья, не был уже даже «жирным». Правда, у него сохранилось небольшое имение в Сант-Андреа подле Сан-Кашано, но доход оно приносило мизерный. «Я родился бедным, – скажет потом Макиавелли, – и познал тяготы нужды прежде, чем радость жизни».
Но на книги деньги выкраивались. В доме имелось первое печатное издание «Истории» Тита Ливия, и маленький Никколо читал ее взахлеб. Юстин служил ему учебником. То «постоянное чтение древних», о котором говорится в посвящении к «Государю», началось достаточно рано. Полибий, Аристотель, Макробий, Присциан, а также итальянские историки XV века были усвоены задолго до того, как Никколо Макиавелли с головой погрузился в политику.
Юный Макиавелли любил Данте, Петрарку, Боккаччо и увлекался флорентийским фольклором. Еще при жизни Лоренцо ди Медичи он сочинил несколько карнавальных песен, в которых нетрудно обнаружить влияние литературной манеры этого самого блистательного из всех «хозяев» Флоренции, да, пожалуй, и всей Европы. Но в окружение Лоренцо Макиавелли не попал. И не потому, что он был беден или не обладал нужными связями. Связи как раз имелись. Не было, по-видимому, большого желания служить «тирану», как называли Лоренцо его многочисленные враги и противники. В эпоху Возрождения «История» Тита Ливия воспитывала ярых республиканцев.
Однако и после изгнания Медичи из Флоренции Макиавелли довольно долго оставался не у дел. Джироламо Савонарола, несмотря на все его истерическое народолюбство, большой симпатии у Макиавелли не вызвал. Об этом свидетельствует письмо к Риччардо Риччи, в котором проповеди тогда еще всемогущего правителя Флоренции названы «враками». Савонарола считал себя орудием Бога, и скептику Макиавелли, у которого не было даже собственной Библии, это казалось весьма забавным. Он был уверен, что Савонарола просто хитрит и шарлатанит. Ему импонировали смелые нападки брата Джироламо на папу Александра VI Борджа, на Рим, на попов, но он никогда не мог одобрить ни фанатического стремления Савонаролы превратить Флоренцию в один сплошной доминиканский монастырь, ни тех методов, которыми пытался воздействовать на суеверные народные массы монах-диктатор. В «Государе» и в «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия» Макиавелли будет ссылаться на опыт Савонаролы только как на печальный опыт неудачного политика, «безоружного пророка», не сумевшего в нужный момент опереться на реальную силу, и поэтому «введенные им порядки рухнули, как только толпа перестала в них верить, у него же не было средств утвердить в вере тех, кто еще верил, и принудить к ней тех, кто уже не верил» («Государь», VI).
Падение Савонаролы открыло Макиавелли путь к государственной службе. В 1498 году, когда ему исполнилось двадцать девять лет, он был избран на должность секретаря второй канцелярии Синьории. Должность эта была не такая парадная, как пост первого секретаря республики – канцлера, но важная, хотя и хлопотная. Никколо она дала возможность приобрести тот «большой опыт дел нашего времени», без которого он никогда не стал бы Макиавелли.
Начальник второй канцелярии находился в распоряжении правительственной Коллегии десяти, ведавшей внешними делами республики, дипломатией и военными делами. Макиавелли оказался в самом центре той кухни, где делалась современная политика, и это ему очень нравилось. Еще меньше, чем кто-либо из гуманистов Возрождения, он был кабинетным мыслителем. Флоренция, во главе которой с 1502 года стоял пожизненный гонфалоньер Пьеро Содерини, быстро оценила острый ум, наблюдательность и неутомимость будущего автора «Рассуждений о первой декаде». В течение тринадцати лет Макиавелли посылали с самыми ответственными и вместе с тем наиболее деликатными миссиями. Он почти не бывал дома, и его жена монна Мариетта устраивала в палаццо синьории темпераментные скандалы. Зато он объездил всю Италию, побывал во Франции и Швейцарии и вел переговоры с самыми могущественными людьми тогдашней Европы – с королем Людовиком XII и его всесильным министром д’Амбуазом, архиепископом Руанским, с императором Максимилианом и с воинственным папой Юлием II. В обязанности Макиавелли входило присматриваться к обстановке, распознавать замыслы противника, усыплять его бдительность и регулярно отсылать подробные донесения своему правительству. Но подписывать договоры и соглашения он права не имел. Макиавелли был не послом республики, а ее политическим агентом. Лучшего агента не было, кажется, ни у одного правительства. Впрочем, иногда Макиавелли философствовал и пытался давать советы. Тогда его вежливо одергивали. «Ваш вывод чрезмерно смел, – упрекает Макиавелли его приятель и сослуживец Биаджо Буонаккорси, – излагайте точнее факты, а принимать решение предоставьте другим» (Письма, 28 октября 1502 года). Пьеро Содерини бесконечно доверял Макиавелли, но он считал его слишком большим фантазером и мечтателем.
Именно в те годы, когда Никколо Макиавелли не за страх, а за совесть служил Флорентийской республике, окончательно сложилось его мировоззрение, сформировался метод и выковались многие из тех чеканных идей-формул, жестокая парадоксальность которых до сих пор гипнотизирует исследователей и просто читателей. Проследить, как от соприкосновения с реальной политической действительностью рождались идеи и теории Макиавелли, было бы интересно и со многих точек зрения весьма поучительно. Однако сделать это в пределах одной статьи никак невозможно. Остановимся поэтому лишь на некоторых эпизодах в жизни флорентийского секретаря, наиболее тесно связанных с его художественным творчеством.
В 1502 году Макиавелли побывал в Ареццо, вскоре после того как в Вальдикьяне было подавлено антифлорентийское восстание, поднятое людьми Чезаре Борджа. В том же году он получил возможность лично познакомиться с этим тогда уже легендарным злодеем. Макиавелли был флорентийским представителем при Чезаре Борджа (в то время того чаще звали герцогом Валентино) сперва в Урбино, а затем в Имоле и Синигалье, где стал свидетелем кровавой расправы, учиненной Чезаре над злоумышлявшими против него кондотьерами. Наблюдения над действиями Чезаре Борджа, а также мысли, вывезенные Макиавелли из Ареццо, легли в основу двух литературно-политических очерков: «Описание того, как избавился герцог Валентино от Вителлоццо Вителли, Оливеротто да Фермо, синьора Паоло и герцога Гравина Орсини» и «О том, как надлежит поступать с восставшими жителями Вальдикьяны». Это наиболее ранние художественные произведения Макиавелли. По жанру их, пожалуй, следует отнести к эссе – к тем ренессансным «опытам», которые сделают жанром Монтень и Фрэнсис Бэкон. Если сравнить их с соответствующими донесениями Коллегии десяти, то нетрудно обнаружить, что в очерках Макиавелли не только не стесняется делать смелые философские выводы, впервые формулируя понимание политического искусства как гуманистического подражания древним, но и в какой-то мере искажает факты, стремясь типизировать и по-ренессансному идеализировать описываемые исторические события и характеры, придать им максимальную эстетическую выразительность. «Опыт» о Вальдикьяне предвосхищал историческую концепцию «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия». В нем, а еще больше в «Описании» содержалось «зерно» того мифологизированного образа Чезаре Борджа, который возникнет затем в «Государе».
И вот тут неизбежно возникает вопрос: как могло случиться, что Никколо Макиавелли, которого мы назвали одним из крупнейших гуманистов эпохи Возрождения, превратил Чезаре Борджа в своего рода «положительного героя»? Сделать вид, будто это не проблема, было бы неправильно. На отношении Макиавелли к Чезаре Борджа стоит остановиться. Это может помочь развеять одну из распространенных легенд.
Чезаре Борджа был враг. В 1502 году, когда с ним познакомился Макиавелли, ему было двадцать семь лет. Он был красив, хитер, энергичен и до крайности самоуверен. Судьба улыбалась ему, и он полагал, что ему все дозволено. Король Франции сделал Чезаре Борджа герцогом Валентинуа (по-итальянски Валентино), а его отец, папа Александр VI, назначил его главнокомандующим церкви. В конце XV и самом начале XVI века Чезаре Борджа не без успеха пытался создать в центре Италии сильное государство, изгоняя из городов Романьи мелких и вечно ссорящихся между собой тиранов. Возникновение такого государства на границах Тосканы создавало угрозу свободе всей Италии, но больше всего – Флоренции. Макиавелли это, конечно, понимал. Он знал, что за спиной Чезаре Борджа стоял папа и что победа герцога Валентино означала бы существенное укрепление политических позиций Ватикана. Еще в 1500 году, ведя в Нанте переговоры с кардиналом д’Амбуазом, Макиавелли разъяснял ему, что Людовик XII допускает грубейшую политическую ошибку, поощряя военную экспансию Александра VI и Чезаре Борджа.
Потом, вспоминая об этом, он писал: «Кардинал заметил мне, что итальянцы мало смыслят в военном деле, я отвечал ему, что французы мало смыслят в политике, иначе они не допустили бы такого усиления церкви» («Государь», III).
Мысль о том, что усиление светской, государственной власти католической церкви гибельно для Италии, развивалась многими гуманистами итальянского Возрождения. Макиавелли довел ее до конца и сделал все вытекающие из нее выводы. Он прямо заявлял, что, пока в центре Италии будет существовать папское государство, Италия никогда не станет ни единой, ни сильной, ни свободной. Лучше всего об этом сказано в «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия», в главе «О том, сколь важно считаться с религией и как, пренебрегая этим, по вине Римской церкви Италия пришла в полный упадок». Макиавелли шел гораздо дальше своих предшественников. Те были только антиклерикалами. Макиавелли замахнулся на догмы и нравственные основы христианства. Видя во всякой религии всего лишь орудие политического воздействия на массы, он полагал, что не может быть ничего вреднее и губительнее христианской проповеди. Именно католическая церковь, почитающая «высшее благо в смирении, в самоуничижении и в презрении к делам человеческим», сделала «мир слабым и отдала его во власть негодяям» («Рассуждения», II, глава 2). У Макиавелли получалось, что если не сам Христос, то уж, во всяком случае, современные церковники непосредственно ответственны за мерзостные действия папы Александра VI и его преступного сына Чезаре Борджа. Коли эти два отчаянных негодяя смогли превратить Рим в вертеп и безнаказанно заливать кровью Романью, «то причина этому, несомненно, подлая трусость тех, кто истолковал нашу религию, имея в виду праздность, а не доблесть» (там же).
Нет, никаких симпатий у флорентийского секретаря Чезаре Борджа вызвать не мог. До 1512 года Макиавелли делал все возможное, чтобы сохранить народоправство, возродившееся во Флоренции после 1494 года. Между тем при первом же свидании Борджа без обиняков заявил: «Ваше правительство мне не нравится; я не могу ему доверять, и надо, чтобы вы его сменили». Чезаре Борджа разговаривал с представителем Коллегии десяти как шантажист. Держал он себя на редкость нахально. Однако в первый момент Макиавелли поразила в Чезаре Борджа не только наглость. На какое-то время ему показалось, что Чезаре Борджа является сильной личностью, обладающей большим военным талантом. Как все в то время, Макиавелли находился под впечатлениями стремительного захвата войсками Борджа Урбино и Камерино. Урбино был взят столь молниеносно, что, по словам Макиавелли, «о смерти его прежнего властелина услышали раньше, чем о его болезни».
Побыв немного подле Чезаре Борджа, Макиавелли попросил прислать ему «Сравнительные жизнеописания» Плутарха. В этом проявился типичный гуманист Возрождения. Макиавелли хотелось разгадать секрет успехов Чезаре Борджа, и, видя в политике результат воли отдельной личности, он считал необходимым соотнести определенные качества герцога Валентино с «человечностью» в ее, как казалось гуманистам, наиболее частой, абсолютной форме, то есть с классической древностью. Такова была методика научно-исторического познания будущего автора «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия». Чезаре Борджа отнюдь не очаровал флорентийского секретаря, как это утверждали, а порой и все еще утверждают некоторые историки литературы; Макиавелли просто спокойно изучил заклятого врага своей родины. Ему казалось, что именно таким образом он сможет лучше понять, как помочь республиканской Флоренции.
В начале XVI века форма правления во Флоренции по-прежнему была наиболее демократической в Европе. Но флорентийская демократия с ее правительством, избиравшимся по жребию и меняющимся каждые два месяца, доживала последние дни. Она ослабла как в военном, так и политическом отношении. Даже война против небольшой Пизы оказалась ей не под силу. Если Флоренции удавалось еще кое-как сохранить свободу и независимость, то получилось это только потому, что ее пополаны, которых, видимо, можно назвать средневековой буржуазией, обладали достаточными богатствами, чтобы покупать помощь короля Людовика XII, этого, как выражался Чезаре Борджа, подлинного «хозяина нашей лавочки». Но Макиавелли делал все возможное, чтобы убедить флорентийскую синьорию максимально укрепить свои внутренние и внешние позиции, ибо, «не обладая силой, государства не сохраняются, а катятся к собственной гибели». Это была центральная мысль речи «О денежных запасах». Макиавелли написал ее в 1503 году. Предполагалось, что она будет произнесена Пьеро Содерини. Речь содержала трезвый анализ положения Флоренции, зажатой между Францией, Венецией, папой и войсками герцога Валентино, и побуждала флорентийцев извлечь должные уроки из недавних неудач, когда действия Чезаре Борджа в Романье поставили республику на грань катастрофы. Но ни малейшего намека на желательность каких-либо перемен в государственном строе или хотя бы усиления личной власти пожизненного гонфалоньера в речи не заключалось. Напротив, она заканчивалась словами твердой уверенности в том, что флорентийский народ, держа дело свободы в своих руках, неизменно будет воздавать свободе «тот почет, какой ей всегда воздавали люди, родившиеся свободными и стремящиеся к свободной жизни».
Во всех своих произведениях 1502–1512 годов Макиавелли старался не покидать позиций традиционной и к этому времени в значительной мере устаревшей флорентийской демократии. Однако ради укрепления мощи республики он уже тогда считал оправданными самые крайние меры. В сочинении «О том, как надлежит поступать с восставшими жителями Вальдикьяны» давалась достаточно жесткая формула действий по отношению к тем союзникам Флоренции, которые, отделившись от нее, вздумали бы отстаивать собственную свободу и независимость. Исходя из предположения, что знание истории необходимо людям для того, чтобы «подражать народу, который стал владыкой мира», Макиавелли пытался внушить своим читателям, будто древние римляне, решая судьбу восставших земель, «думали, что надо или приобретать их верность благодеяниями, или поступать с ними так, чтобы впредь не приходилось их бояться; всякий средний путь казался им вредным». «Надо либо облагодетельствовать восставшие народы, либо вовсе их истреблять…»
«Либо – либо» – это уже стиль мысли зрелого Макиавелли. Впоследствии он не раз будет говорить о губительности «средних путей» и политических компромиссов. Однако пожизненный гонфалоньер Флоренции предпочитал как раз «средние пути». Он был человек мягкий и гуманный. Макиавелли ему искренне симпатизировал. Об этом свидетельствуют письма, памятная записка «Паллескам» и многие места в «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия». Но Макиавелли отнюдь не считал пожизненного гонфалоньера политиком на все времена. «Пьеро Содерини, – говорил он, – во всех своих действиях проявлял человечность и терпимость. Пока время соответствовало его образу действий, и он сам и его родина благоденствовали. Но затем настала пора, когда надо было отбросить терпимость и доброту…» («Рассуждения», III, 9) Содерини, возможно, и понимал, что «необходимо убивать сыновей Брута», но сам он оказался на это неспособным (см. «Рассуждения», III, 3). Трагедия эпохи состояла в том, что гуманность оказывалась почти всегда политически вредной и тоже оборачивалась злом и для отдельной личности, и для народа. Идеализированный образ энергичного Чезаре Борджа возник в первых художественных произведениях Макиавелли в значительной мере как антипод терпимому, человечному, но посредственному Пьеро Содерини. Образ этот воплотил в себе гуманистическую и, как это на первый взгляд ни парадоксально, демократическую тенденцию литературы зрелого итальянского Возрождения.
Политические эссе Макиавелли были адресованы – предвосхищая в этом «Государя» – уже не «мудрецам» из флорентийского правительства, требовавшим от своего агента фактов, а не обобщений, но более или менее широкой массе, так сказать, простых и «неосведомленных» читателей. В современной Макиавелли Флоренции «неосведомленным» был «революционный класс того времени, „народ“, итальянская „нация“, городская демократия, выдвинувшая из своей среды Савонаролу и Пьеро Содерини» (А. Грамши). Но городская демократия во Флоренции все дальше и дальше отходила от народных низов. Она становилась властью пополанской верхушки, олигархией «жирного народа», склонной идти на соглашения с феодализмом или, во всяком случае, с Медичи. Макиавелли на каждом шагу убеждался, что ни Савонарола, ни сменивший его Пьеро Содерини не способны осуществить политику, которая обеспечила бы его родине свободу и независимость. Поэтому, стремясь активно воздействовать на действительность и адресуя свои произведения непосредственно народным силам городской демократии Флоренции, он полагал необходимым идеализировать ее, казалось бы, самых смертельных врагов – Чезаре Борджа, а затем Каструччо Кастракани. Можно предположить, что Макиавелли стремится убедить эти силы в желательности сильной власти, в необходимости иметь такого лидера, который знал бы, чего он хочет, и умел бы достигать того, что он хочет, и принять такого лидера с энтузиазмом, даже если его действия поначалу будут противоречить (или казаться противоречащими) общераспространенной идеологии того времени – религии. «„Ярость“ Макиавелли, – справедливо заметил Грамши о Макиавелли, – обращена против пережитков феодального мира, а не против прогрессивных классов. Государь должен положить конец феодальной анархии – и именно это делал герцог Валентино в Романье, опираясь на производительные классы, на купцов и крестьян». Гуманизм Возрождения был идеологией антифеодальной, и Макиавелли не мог не считаться с тем, что Чезаре Борджа пользовался популярностью у народных, крестьянских масс Центральной Италии в той мере, в какой он подавлял власть мелких тиранов, кондотьеров и т. д.
Все это может объяснить, почему Макиавелли создал «Описание того, как избавился герцог Валентино от Вителлоццо Вителли, Оливеротто да Фермо, синьора Паоло и герцога Гравина Орсини», а также и то, почему он придал этому сочинению художественную форму. Но это, конечно, не исключает ни того, что реальный, исторический Чезаре Борджа был изощренным злодеем и деспотом, ни того, что жертвами его деспотизма в итоге оказывались как гуманистическая интеллигенция, так и простой народ. В том, что гуманист и республиканец Макиавелли именно тогда, когда он апеллировал к разуму и чувствам «неосведомленного» читателя, вынужден был эстетически идеализировать врага флорентийского народоправства и «сверхтирана», было заложено глубокое противоречие. Оно было порождено временем и в той или иной мере было свойственно всему гуманизму эпохи Возрождения. Но это нисколько не уменьшало его трагичности.











