Читать онлайн Изобличитель. Кровь, золото, собака
- Автор: Александр Бушков
- Жанр: Исторические детективы
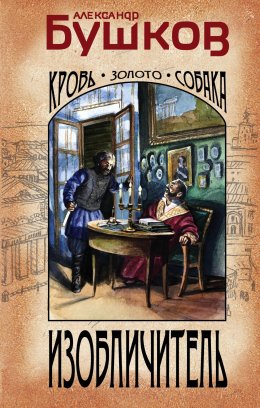
© Бушков А.А., 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
Сны о Шерлоке Холмсе
Неизвестно почему подпоручик Ахиллес Сабуров вдруг вспомнил классические строки:
- На берегу пустынных волн
- Стоял он, дум великих полн…
Решительно не сходилось с окружающей действительностью, что ни возьми. Стоял он не на берегу, а у высоких деревянных перил, ограждавших широкую, добротно вымощенную досками галерею – одно из любимых мест прогулок горожан. Галерея проходила по краю высокого откоса, откуда матушка-Волга и другой берег просматривались на несколько верст в обе стороны. И волны – точнее, безмятежную гладь великой русской реки – никак нельзя было назвать пустынными. Налево глянь или направо – везде увидишь немалое число речных судов и суденышек. Невеликие буксиры деловито тащили вереницы барж, главным образом, тут и гадать нечего, с зерном – Самбарск славился зерноторговлей с давних времен. Солидные грузовые суда, либо причаливавшие к пристани, либо проходившие мимо, непонятные суденышки, куда-то плывшие очень целеустремленно, рыбацкие баркасы, лодки с отправившимися на водную прогулку праздными горожанами из «чистой публики»…
Слева долетала развеселая мелодия из какой-то оперетки – это от пассажирской пристани, шлепая плицами по спокойной воде, отчаливала «Русалка» – большой и красивый пароход, напоминавший Сабурову иллюстрации к одному из романов Майн Рида – разве что не было таких высоких дымовых труб, как на тех американских кораблях, что устраивали лихие гонки по широкой Миссисипи, как пишут в иных журналах, ничуть не уступавшей Волге по шири. Вот только никакого многолюдства на сей раз на палубах не наблюдалось, они были пусты – но граммофон на корме наяривал во всю ивановскую.
Сабуров усмехнулся без всякой зависти. Самбарск, пусть и губернский город одноименной губернии, насчитывал всего-то сорок пять тысяч жителей, и в некоторых отношениях был маленькой деревней, где любая мелкая новость, ввиду отсутствия больших и интересных, очень быстро облетала город из конца в конец. Так и с «Русалкой». Господа купцы, надо полагать, уже уселись за стол и разлили по первой. Один из самых крупных здешних промышленников и зерноторговцев, Борис Викентьевич Зеленов, заключил весьма крупную и крайне выгодную сделку. Не достигший и сорока лет рослый красавец цыганистого облика (сам он любил прихвастнуть, что у него в роду была турецкая княжна – то вроде было чистейшей воды выдумкой) умел и зарабатывать немалые деньги, и отдыхать и телом и душой. Вот и сейчас, откупив «Русалку» на пару деньков для своей компании, он отправился к Жегулевским горам[1] – с дюжиной приятелей, немалым запасом коньяков и вин – а кроме того, некоторым числом молодых красоток не особенно строгих моральных правил. Об этих красотках, всегда сопровождавших Зеленова с компанией, знал весь город, но пересуды касательно «зеленовских наяд» уже давно приелись и прекратились. Общественное мнение в общем ухаря-купца не осуждало – как-никак он давно вдовствовал, так что никакого нарушения супружеской верности не имелось. Ну и кое-кто, как водится, откровенно завидовал, в том числе и некоторые из сослуживцев Ахиллеса. Но не сам Ахиллес – его как-то все это совершенно не трогало: ни нанятая в полную собственность на несколько дней красавица «Русалка», ни зеленовские наяды, ни все прочие атрибуты купеческого роскошества…
Ну и наконец… Никак он не был полон никаких таких великих дум – они были даже смешны у подпоручика захолустного гарнизона, в конце-то концов. Правда, был некогда один подпоручик захолустного гарнизона, как раз одержимый великими думами, впоследствии оказавшимися отнюдь не пустыми мечтаниями: подпоручик стал императором Франции, на что вряд ли в юности рассчитывал в самых дерзких мечтаниях. То, что кончил он печально, – уже другая тема.
Увы, господа мои… Это было очень уж давно. Безвозвратно минули те шальные времена, когда провинциальные поручики становились императорами, а сыновья конюхов и бакалейщиков – маршалами, а то и королями. Времена нынче скучные, благонамеренные, без стародавних феерических карьер…
А впрочем, и мыслей, если можно так выразиться, званием пониже великих дум, у подпоручика Сабурова тоже не имелось. Побуждение у него было одно: вернуться к себе на квартиру, послать Артамошку в портерную за полудюжиной пива, сорвать с пакета (находившегося у него сейчас под мышкой) тугую коричневую ленточку бандероли и, налив предварительно полную кружку (вот пиво здесь, пусть и в захолустье, было отменное), развернуть оберточную бумагу и извлечь книгу, немало его интриговавшую, настолько, что он не стал дожидаться, когда она появится у здешних книготорговцев, а выписал из Петербурга.
Вне всякого сомнения, это была не лубочная подделка наподобие тех, что обожает Артамошка, а настоящий, неподдельный Артур Конан Дойль. Вот только название в газетной рекламе… «Возвращение Шерлока Холмса». Сборник рассказов, как уверяла реклама, переведенный целиком. Но ведь всякому любителю книг о Шерлоке Холмсе прекрасно известно, что прошло уже несколько лет с тех пор, как автор (на что его вольная воля, хозяин – барин) безжалостно убил знаменитого сыщика, погибшего в швейцарских горах, в Рейхенбахском водопаде вместе с заклятым врагом, зловещим профессором Мориарти. И вот – извольте видеть. Тринадцать рассказов, как утверждает реклама, Шерлок Холмс вернулся. Вот только как ему удалось вернуться оттуда, откуда никто еще не возвращался? Такое даже Холмсу было бы не под силу. Но ведь вернулся? Ничего, очень быстро тайна получит объяснение…
– Добрый день, господин подпоручик, – раздался за спиной мелодичный и весьма даже знакомый девичий голос.
Ахиллес обернулся. Ну, разумеется, неразлучная парочка, Ванда Лесневская и Катенька Макеева, пусть и гимназистки последнего класса, но сейчас в модных летних платьях выглядевшие взрослыми барышнями.
Зная язычок Ванды, он ожидал сюрпризов. И не ошибся: Ванда, улыбчиво щурясь, сказала нараспев:
– Любопытно бы узнать, что за философские мысли вас обуревают, Одиссей Петрович… У вас сейчас столь байроновский вид…
Ванда прекрасно знала, как его зовут: они были знакомы и даже танцевали на двух балах в Дворянском собрании. Так что запамятовать или напутать никак не могла, юная чертовка… Развлекалась по своему обыкновению. Не перечесть пострадавших от ее острого язычка. Особенно это касалось тех, кто пытался за ней ухаживать с соблюдением всех приличий – Ахиллес, правда, к таковым не относился, но все равно давненько числился среди жертв.
– Правда-правда. Совершенно байроновский вид, Одиссей Петрович. – Она картинно изобразила смущение, коего не имелось ни капли. – Ой, простите, Ахиллес Петрович! Вечно я путаю имена, географические названия и тому подобное, беспамятная…
Ей было весело. Катеньке тоже. Ахиллесу – ничуть, но он не сердился – не мог он на нее сердиться. Глупо и смешно, в конце-то концов, офицеру российской императорской армии всерьез сердиться на гимназистку, известную на весь город язычком без костей. К тому же… Катенька была хороша, но Ванда – вовсе уж очаровательна, златовласая и сероглазая внучка ссыльного поляка. Временами Ахиллесу думалось, что именно так выглядели красавицы-шляхтенки старинных времен, когда в чистом поле сшибалась бешеная конница, и герои Генрика Сенкевича рубились то с татарами, то со шведами, то с казаками.
Невозможно сердиться на таких красивых – в особенности когда шутки, в общем, безобидны. Хорошо еще, что Ахиллес не был в нее влюблен, а вот поручик Басаргин вздыхал по ней всерьез и однажды даже попытался объясниться, но вернулся мрачнее тучи. Подробностями свидания он ни с кем не делился, даже будучи изрядно пьян – но и так ясно: кончилось все тем, что острый язычок Ванды вновь себя проявил во всей красе, и Басаргин оказался в роли Наполеона. С одним немаловажным уточнением: Наполеона под Ватерлоо…
Ну разумеется, обе проказницы с любопытством наблюдали за его реакцией. Однако Ахиллес не собирался доставлять им такого удовольствия, показывать, что задет. Благо он и в самом деле был нисколечко не задет. Ага, легонькое разочарование в красивых серых глазах – жертва не признала себя жертвой.
– Да, разумеется, – сказал Ахиллес. – Беспамятство ваше хорошо известно… но вам оно идет.
– Вы рассердились? – с самым невинным видом спросила Ванда.
– Ну что вы, нисколечко, – ответил Ахиллес. – Сожалею лишь о том, что я не Байрон…
– Испытываете тягу к стихосложению?
– Нет, никогда за собой такого не замечал, – сказал Ахиллес. – Я о другом. Вспомнилось другое… Я где-то читал, что однажды лорд Байрон самым натуральным образом выпорол розгами некую близкую ему особу. За злой язычок.
Ванда прищурилась:
– Я беспамятная, но не глупенькая, Одиссей Петрович. Намек достаточно прозрачен… Но я-то не близкая вам особа…
Из-под опущенных ресниц она послала Ахиллесу совершенно женский взгляд – томный, обольстительный, многое обещавший. Он даже смутился чуточку: никогда не робел перед прекрасным полом, но такой взгляд у гимназистки, пусть даже последнего, восьмого класса… Времена и нравы нынче наступили свободные, о нынешних гимназистках в газетах можно прочесть немало интересного. И где успела научиться таким вот взглядам? Правда, говорят, женщины этим искусством владеют чуть ли не с колыбели. И если вспомнить не столь уж давнюю историю с настоящей бурей в семействе Шагариных… Нет, ему хотелось верить, что Ванда не такая. Никаких особенных чувств Ахиллес к ней не испытывал, но ему отчего-то хотелось, чтобы красивые девушки оставались чистыми…
И снова две проказницы с любопытством следили за его реакцией. Но не показывать же перед ними смущение? Самому, что ли, попробовать ее смутить?
– Да, действительно, мадемуазель Ванда… – сказал он с самым беззаботным видом. – Однако, ежели поразмыслить, отыщутся другие способы мести за острый язычок, гораздо более безобидные, чем грубые розги, но действенные…
– Интересно, какие же? – вновь по-кошачьи прищурилась Ванда.
– Все очень просто, – сказал Ахиллес с обаятельной улыбкой. – Когда вы закончите гимназический курс, я по всем правилам попрошу у ваших родителей вашей руки[2]. Меня, конечно, никак нельзя назвать «хорошей партией», состояния у меня нет, но я как-никак дворянин и офицер с перспективой военной карьеры. Ваш батюшка, простите за откровенность, тоже не из богачей, по чину не более чем штатский капитан, именьице у вас крохотное. К тому же мы с вами живем, посмотрим правде в глаза, в глухой провинции. Здесь и требования к женихам не столь высоки, как в столицах или городах покрупнее… Словом, ваши родители могут усмотреть во мне подходящую кандидатуру…
– Ах, вот оно что… – протянула Ванда, нисколечко не выглядевшая возмущенной. – А потом, на правах законного супруга, вы получите полную возможность пороть меня розгами? Да? Одиссей Петрович, мы как-никак живем в двадцатом столетии от Рождества Христова, и не где-нибудь в Турции – или где там девушек выдают замуж без их согласия. Я просто откажусь, и все.
– Ну, в этом случае родители все равно будут долго вас уговаривать, а мне почему-то кажется…
– И в этом заключается вся месть? – прямо-таки фыркнула Ванда. – Боже, как мелко… Вам не кажется? – И она послала еще один женский взгляд. – Сдается мне, вы проглядели нечто для вас опасное. А если я возьму и соглашусь? Вы же дворянин и офицер, вам никак нельзя будет отступать, придется венчаться… И кто сказал, что я позволю себя пороть? Может оказаться наоборот – вам придется терпеть мой ужасный характер, я вам буду запрещать не только выпивать, но и курить, требовать каждую неделю новых нарядов, а то и изменять, не особенно и скрываясь, ваша жизнь превратится в ад… – Она звонко рассмеялась. – Ну что, Ахиллес Петрович? Как сказал бы мой дядя, заядлый любитель шахмат, партия сведена вничью?
– Пожалуй, – честно признался он. – Вас не обыграть, мадемуазель Ванда…
– Ну, разумеется, – сказала она вкрадчиво. – Обыграть красивую и неглупую барышню? Беспочвенные мечтания… – и продолжала уже гораздо более естественным тоном: – Ну, не сердитесь, Ахиллес Петрович. Нам с Катей, как иные выражаются, вступать во взрослую жизнь уже через какой-то год. Будем настоящими барышнями. А лучшее оружие барышни – острый язычок. Вот и практикуемся на ком удастся…
– Мне казалось, что лучшее оружие барышни – совсем другое…
– Интересно, какое же?
– Ну, скажем, постоянство, верность…
Ванда звонко рассмеялась:
– Да вы романтик, Ахиллес Петрович! Право слово, романтик! Интересно, что это за почтовый пакет у вас под мышкой? По размерам, похоже, там книга… Уж не поэзия ли? Надсон?[3] Такой романтик, как вы, просто обязан любить душку Надсона…
– Не угадали, мадемуазель Ванда, – сказал он. – Как-то не увлекаюсь я поэзией.
– Ах да, я забыла… Городок наш небольшой, все всё обо всех знают… У вас там, конечно же, очередной роман о проницательных сыщиках и злых разбойниках? На сей раз угадала?
– Угадали.
– Сверкают злодейские кинжалы, палят револьверы… Та же самая романтика, только сугубо мужская…
– Возможно, – сказал Ахиллес. – Вот еще что, мадемуазель Ванда… Я хотел бы спросить из чистого любопытства. Действительно, в нашем городке все всё обо всех знают… С вами вот уже добрых два месяца нет Вари Истоминой. А ведь вы, мне говорили, с первого класса не разлучались, разве что на ночь. Такими закадычными подругами были… Как три мушкетера, только без шпаг и усов. Может быть, вы читали Дюма? «Надобно вам знать, что мы, Атос, Портос и Арамис – Трое Неразлучных, как все нас зовут». Но ее уже два месяца с вами нет…
Ему никак не могло показаться – на оба красивых личика определенно набежала тень.
– Всего хорошего, Ахиллес Петрович, – сказала Ванда сухо. – Простите, но нам пора…
И обе барышни направились прочь. Ахиллес озадаченно смотрел им вслед. Крайне походило на то, что он, сам того не ведая и не желая, ухитрился задеть Ванду, и всерьез. Что у них могло произойти в троице неразлучных? Шерлок Холмс пустил бы в дело свой дедуктивный метод… Поссорились, конечно. Женщины, неважно, в каком они возрасте, если уж ссорятся, то бывают гораздо более непримиримы, чем мужчины. Но из-за чего могли смертельно рассориться девицы, неразлучные с первого класса? Вот вопрос…
Объяснение вроде бы подворачивается. Они уже в том возрасте, когда могут поссориться из-за кавалера, не поделивши такового. Варя – тоже расцветающая красоточка, и за всеми тремя давно уже пробуют ухаживать, в том числе отнюдь не только ровесники…
Нет, это отпадает. Будь здесь одна Ванда или одна Катенька, такое предположение годилось бы. Но он видел совершенно одинаковое выражение на личиках обеих. Значит, здесь что-то другое. Хотя… Кто их поймет, современных девиц. Кто вообще умеет понимать женщин? Быть может, существует некий роковой красавец, в которого влюбились все трое, но завладела им Варя? И Ванда с Катенькой остались подругами, сплоченными общим горем? Или…
– Ну, наконец-то ты в одиночестве! Я уж измаялся, ждавши…
Еще один знакомый голос, моментально оборвавший дедуктивный ход мыслей. Ахиллес повернулся к сослуживцу с некоторым неудовольствием, словно человек, оторванный от серьезного дела, но тут же постарался раздражение отогнать: не столь уж серьезное дело – пытаться дедуктивным методом доискаться, отчего вдруг поссорились три неразлучные прежде подруги-гимназистки.
Поручик Тимошин, с первого взгляда ясно, был вполне доволен жизнью. И, конечно, изрядно пьян, но догадаться об этом можно было лишь по запаху, стоя вплотную. Люди обладают самыми разнообразными талантами. Талант Тимошина заключался в том, что ему, чтобы шататься и молвить заплетающимся языком, требовалось, пожалуй что, не менее ведра, а до такой кондиции поручик никогда не доходил. И этот его талант не столь бесполезен, как может показаться, – наоборот, порой приносит нешуточную выгоду при общении с вышестоящими командирами, полагающими поручика трезвехоньким. Главное, чтобы начальство ничего компрометирующего не унюхало. Если этого не происходит, Тимошин вне подозрений: стоит строго вертикально, речь связная и толковая. А ведь не один младший офицер имел неприятности, будучи застигнут пьяным в неподходящее время…
Оперевшись спиной о высокие перила, Тимошин сунул в рот папиросу, чиркнул спичкой. Все его движения были прямо-таки отточенными, совершенно трезвыми. Многие в полку его таланту завидовали, особенно штабс-капитан Блинов, коего уж угораздило, так угораздило, когда он, перебравши, проводил занятия со своей ротой и был застигнут командиром полка, которого в тот день на занятиях никак не ожидали…
– Любопытно мне знать, Жорж, – сказал Ахиллес с неподдельным интересом, – каково количество нынче принятого? Ведь не спросишь – ни за что сам не догадаешься…
– Пустяки, Ахилл, – махнул рукой Тимошин. – Две бутылочки хлебного вина[4], всего-то. И есть намерение на достигнутом не останавливаться, тем более что обстоятельства благоприятствуют… А ты, я вижу, трезвехонек?
– Ну, мы, в конце концов, пехота армейская, а не уланы, – сказал Ахиллес. – Это у них полагается с утра начинать, а кто у нас с утра не пьян, тот, извините, не улан…
– И книжка под мышкой, ага… Удручаешь ты меня, Ахилл, пока что не пораженный в пятку. Разрушаешь образ бравого русского офицера – пьешь мало, с книжками ходишь. Деды наши тебя бы не поняли решительно. А впрочем… Ты знаешь, оно даже и на пользу. Был я давеча в городском собрании, и сидел там в своей всегдашней компании интеллигент этот, инженер Глумов… ведь подобрал Боженька фамилию по его поганой сути! И разглагольствовал среди своих, как всегда: мол, офицеры наши – бестолочь неотесанная, книгу в руки не возьмут… Ну вот что тут сделаешь? На дуэль вызвать – так ведь не примет вызова, хотя и дворянин, в отличие от меня, сиволапого. Примется ныть: он, изволите видеть, против столь варварских пережитков Средневековья. Попросту брякнуть в личность – так ведь к мировому судье потащит. Да и хил, ледащ больно, как следует ему не брякнешь, а легонечко как-то и смысла нет. Подумал я, подошел к нему и говорю: простите великодушно, господин Глумов, а знаком ли вам подпоручик Сабуров? Заочно, отвечает, наслышан. Вот то-то, я ему говорю. Подпоручик сей из книжных лавок не вылезает, да еще почтою книги выписывает. Не опровергает ли это теории ваши? Можно подумать, у вас, господ инженеров, комнаты Шекспирами и Львами Толстыми завалены. Он и примолк – крыть нечем… А я развиваю успешно начатое наступление. Много ли, спрашиваю, в вашем ведомстве инженеров, чтобы книги по почте выписывали? Сидит он как оплеванный, знатно я его поддел… Ну ладно. Ну их, книги эти. Я видел, ты с очаровательной Вандой ворковал, вот и торчал в сторонке, чтобы не мешать…
– Скажешь тоже, – усмехнулся Ахиллес без всякого раздражения. – Ворковали… Перекинулись парой слов.
– Я ж видел, сколь пламенные взгляды она тебе бросала.
– Это она так проказничает, – сказал Ахиллес. – Гимназистка же, пусть и последнего класса.
– Вот то-то и оно, – сказал Тимошин. – Именно что последнего. Это мы в таком возрасте мальчишки мальчишками, а они… Я бы на твоем месте не терялся.
– Какие пошлости, Жорж…
– Не пошлости, а знание жизни, – энергично возразил Тимошин. – И гимназисток давно уж захлестнула вольность нравов… Ты ведь газеты читаешь поболее моего. То там, то сям гимназистка не то что роман закрутила, но и родила. И не последнего класса гимназистки, Ахиллушка, – иная шестого или даже пятого. А уж что касаемо последнего класса… В Пензенской губернии гусарский корнет застрелил гимназистку последнего класса и сам застрелился тут же, дурень кавалерийский. У них, понимаешь ли, был вполне взрослый амур, но потом красавица ему отставку дала, нашла другого, вот у корнета чувства и взыграли. Да что там далеко ходить… Шагарина и Ниночку Савватееву вспомни, двух месяцев не прошло…
Действительно, забудешь тут… Шагарин, самбарский почт-директор[5], играл в Самбарске роль главного рокового красавца-соблазнителя, а Ниночка, одноклассница Ванды и Катеньки, была дочерью одного из здешних столпов общества, зерноторговца того же полета, что и Зеленов. Эта парочка закрутила отнюдь не платонический роман, неизвестно с каких пор продолжавшийся. Ревнивая супруга Шагарина при любой возможности устраивала ему сцены, а в выслеживании муженька и его очередной симпатии мало чем уступала индейскому следопыту Кожаному Чулку из романов Фенимора Купера. И застала-таки врасплох мужа с соперницей при самых что ни на есть недвусмысленных обстоятельствах, проще говоря, в постели. Не сообразил как-то Шагарин запереть на щеколду дверь черного хода…
Огласки, конечно, не было, но сплетня пронеслась по городу из конца в конец очень быстро. Известно было, что Шагарина сделала скандал Ниночкиным родителям, особенно матери, по ее глубокому убеждению, не сумевшей должным образом воспитать дочку в скромности и благонравии. Разъяренный батюшка долго топал на дочку ногами и даже возопил сгоряча «в монастырь закатаю!», только потом сообразив, что времена нынче все же не те и подобная практика давным-давно отжила свое. Ниночку срочно отправили к родственникам в Казань, где она до сих пор и пребывала, Шагарин на следующий день появился на службе с тщательно запудренным синяком под глазом – что случалось не впервые. На том, собственно говоря, дело и кончилось.
– И вот чтоб ты знал, – безмятежно продолжал Тимошин. – Не далее как две недели назад мусью Зеленов, «король ячменный», предлагал Ванде пойти к нему в любовницы – ну, понятно, в самых что ни на есть культурных выражениях. Бриллиантами обещал осыпать. И будь уверен, осыпал бы – скотина, конечно, но скупердяйством, сам знаешь, никогда не страдал. С любовницами, даже мимолетными, вроде тех, что плывут с ним сейчас к Жегулям, щедр…
– И что? – насторожился Ахиллес.
– Ну что… Отказала очаровательная Ванда крайне решительно, обещала даже пощечин надавать, если еще раз такое услышит. Гордая барышня, горячих польских кровей… А вот с тобой, Ахилл, душа моя, обстоит совершенно иначе…
– Ты что имеешь в виду?
Тимошин загадочно прищурился:
– Есть у меня шпионские сведения… Не буду говорить, как раздобыты, но клянусь моими долгами буфетчику в офицерском собрании – достовернейшие. Несколько уж раз Ванда признавалась закадычным подругам, что ты ей нравишься, и зело. Сетовала даже, что у тебя то ли храбрости, то ли соображения недостает какие-то шаги предпринять – а она гордячка, первой, как Татьяна Онегину, письма писать не будет… Как тебе сведения? Самое время предпринимать наступление, коли уж на театре военных действий самая благоприятная к тому обстановка…
Ахиллес поморщился:
– Пошлости, Жорж…
– Вот уж никоим образом, – серьезно сказал Тимошин. – Разве я говорил, что тебе следует с ней поступать как Шагарин с Ниночкой? И ничего подобного. Я имею в виду самый безобидный флирт, и только. Ты себе сам представь романтические поцелуи в глухом уголке городского парка и всякое такое… Где уж тут пошлости? А что, если это жена твоя будущая? Нам здесь еще стоять и стоять, успеет и гимназию закончить…
– Подожду, когда ты женишься, – сказал Ахиллес шутливо. – А уж тогда и сам под венец…
– Долгонько ждать придется, – серьезно сказал Тимошин. – Натура моя для семейной жизни решительно не приспособлена. Где ты найдешь такую, чтобы согласилась меня терпеть? Я уж и далее мимолетными романчиками буду обходиться, старый усталый от жизни циник (он был всего-то тремя годами старше Ахиллеса)… Ты – другое дело, и натура у тебя другая, романтическая. Решайтесь на атаку, подпоручик. А то знаешь, что я сделаю? Напишу Ванде письмецо, свидание назначу от твоего имени, благо почерка твоего она не знает. И скажу тебе в последний момент, куда явиться надлежит. И никуда ты не денешься, пойдешь. Не станешь же офицерскую честь ронять? Что за офицер, который барышне свидание назначил, но не явился без веских к тому причин?
– А такие фокусы не против офицерской чести?
– Нисколечко, – сказал Тимошин уверенно. – Это ведь будет ради блага вас обоих…
– Видишь ли, Жорж… Ведь ровным счетом никаких чувств я к ней не испытываю при всем ее очаровании…
Столь же уверенно Тимошин ответил:
– Это все оттого, что ты никогда на нее не смотрел как на женщину. Которой ты к тому же очень нравишься. А вот ежели попробуешь с этой точки зрения на Ванду взглянуть, неизвестно еще, что за чувства в тебе и проснутся… Я серьезно говорю. Попробуй представить Ванду в своих объятиях – и всякое может случиться…
– Жорж, только не вздумай…
– Не вздумаю, я ж пошутил. Но ты и в самом деле взгляни на Ванду с точки зрения, что я тебе обрисовал. Я о тебе забочусь. Сколько времени прошло с тех пор, как уехала с труппой та заезжая актрисулечка, с которой ты отнюдь не платонический амур крутил? Месяца три?
– Три с половиной.
– Ну вот. Нельзя же так… монашески. Да знай я, пусть и не романтик, что Ванде очень нравлюсь… Ну ладно, хватит об этом, я ж вижу, что тебе неприятно… Знаешь что, Ахилл? Книжка не волк, в лес не убежит. Пойдем закатимся в собрание, а? Малопросоленная семужка сегодня утром завезена, и говорят уже, весьма недурная. Штабс-капитан Бирюлин там сразу же обосновался. Ты его знаешь, обжору и гурмана – больше ест, чем пьет. Пока не умнет пару фунтов, не уймется… А? Хлебного винца, да под малопросоленную семужку – до чего благостно… Отпразднуем начало месяца блаженного безделья…
– Какого еще безделья?
Тимошин вытаращился на него прямо-таки оторопело, потом без малейшей театральщины хлопнул себя по лбу:
– Да ты ж и не знаешь ничего… Часа три, поди, как из роты?
– Почти даже четыре.
– Тогда все понятно, откуда тебе знать. А я роту покинул час назад… Тут такая история приключилась… Хоть смейся, хоть плачь. В четвертой роте у Свенцицкого вчера еще увезли в лазарет солдатика – свалился, бедолага, с какой-то серьезной хворью. А потом взвились наши эскулапы, как наскипидаренные. У солдата оказалась какая-то заразная и опасная хворь наподобие холеры или чумы. Я и название слышал, но не запомнил, нет у меня памяти на болезни – это ж не названия водок и вин, уж в тех-то я не собьюсь. Из всех болезней помню чуму да холеру, ну и «гусарский насморк»[6], конечно. Одно уяснил: хворь заразная и опасная. Среди горожан тоже есть несколько случаев. После недавней холерной эпидемии и власти и врачи как та пуганая ворона из присказки. Всех, кто обитал в одном помещении с хворым, уже закатали на месяц в карантин, в городскую больницу. Пришел приказ командира дивизии: полк вывести из казарм и на тот же месяц разместить в палатках под городом, рассредоточив поротно. При ротах остаются только ротный командир и фельдфебель. Остальные офицеры за совершеннейшей в них в этом случае ненадобности пребывают в городе, обреченные на полное безделье, что вряд ли кого огорчит. Каково?
– Да уж, сюрприз…
– А главное, все законно: месяц безделья с сохранением полного жалованья. Это нам эскулапов следует благодарить. Они сказали: избегать всякой скученности. Чем меньше народу теснится в одном месте, тем лучше. Они сейчас, говоря нашим языком, боевую тревогу сыграли, подкрепление получили, бдят и в городе, и в ротах наших будут бдить. Ну а мы совершенно не у дел. Хоть неделю напролет в офицерском собрании сиди за бутылочкой…
Ахиллес присмотрелся к нему:
– Однако ты вроде бы и невесел, Жорж? Хотя радоваться должен такой оказии…
– Да понимаешь ли, Ахиллушка… Безделье – это ведь не только беззаботное бытие, это еще и раздумья. А они, признаюсь тебе по совести, с некоторых пор тягостные. Теперь уже не сомневаюсь, что не моя это дорога – военная стезя. Войн, где можно выдвинуться, никак не предвидится. На японскую кампанию мы с тобой опоздали по молодости лет. И ясно теперь, что всю оставшуюся жизнь придется мыкаться по захолустным гарнизонам. Много лет – а ты останешься вечным поручиком, пожилым и лысым, вроде поручика Агатова. Вот только податься-то, снявши погоны, некуда, куда ж подаваться-то, никакого другого ремесла более не зная? – Он мечтательно протянул: – Устроиться бы частным приставом[7], только не в этой глуши – в столицах, либо большом губернском городе. Живут они, я наслышан, как сыр в масле катаясь. Кое-кому по выходе в отставку такое удавалось – но у них имелись связи и протекция, а у меня ничего подобного нет… остается тянуть лямку… – Он махнул рукой с видом унылым и безнадежным. – Так ты идешь в собрание? Нет? Ну, воля твоя, а я направляю туда стопы… Счастливо оставаться.
И он удалился совершенно трезвой походкой, глянуть со стороны – бравый. Ахиллес, постояв недолго, тоже направился к дому, порой раскланиваясь со знакомыми, коими успел обзавестись в изрядном количестве.
Покусывало легонькое уныние. Тимошин разбередил душу, высказав вслух его собственные мысли, пришедшие в голову не вчера и не позавчера. Дело даже не в том, что для него, сибиряка, Самбарская губерния казалась какой-то кукольной. А считать так были все основания: он был уроженцем Енисейской губернии, раскинувшейся на двух с лишним миллионах квадратных верст. Один Минусинский округ, где он родился, чуть ли не вдвое превышал Самбарскую губернию размерами, так что чиновничек самого низшего класса распоряжался на территории вдвое большей, чем подвластная здешнему губернатору. А полицейский урядник, по эту сторону Уральского хребта фигура мелкая, прямо-таки ничтожная, был царем и богом в округе, где вольно разместились бы Бельгия с Голландией и еще осталось бы немного места.
Не в том дело, вовсе не в этом…
Мечта Ахиллеса была – стать сыщиком. Еще в младшем гимназическом возрасте пристрастился к уголовным романам, особенно Эмиля Габорио с сыщиком Лекоком, но более всего увлекался Шерлоком Холмсом. Его прямо-таки заворожил невозмутимый английский джентльмен, раскрывавший самые запутанные дела исключительно силой ума. Ну и, разумеется, никак нельзя пройти мимо записок «русского Шерлока Холмса» Ивана Путилина.
Так вот, мечты эти ничуть не ослабли и позже, когда он закончил гимназию и готовился вступить во взрослую жизнь. Стало окончательно ясно, что это не просто мальчишеские фантазии, а нечто более серьезное.
Вот только отец, услышав, о каком поприще Ахиллес мечтает, едва ли не рассвирепел и воспротивился категорически. В его представлении сыщики были фигурами ничтожными и даже презренными, хуже городового на перекрестке – городовой по крайней мере говорил отец, ходит в мундире, обществу он необходим и при ревностном выполнении своих обязанностей пользуется уважением. Меж тем как сыщики – суетливые типчики в партикулярном, шныряющие там и сям, подсматривающие, подглядывающие, вынюхивающие, стоящие не то что на нижней ступеньке общественной лестницы, а у ее подножия.
Такое у него сложилось представление о сыщиках. Все попытки Ахиллеса его переубедить оказались бесполезны. Ссылки на Шерлока Холмса не помогли. Отец сказал как отрезал: во-первых, Шерлок Холмс – литературный персонаж, продукт писательского воображения. Во-вторых, в каждой избушке – свои погремушки. Где Россия, а где Англия. Нравы везде свои. Может, в Англии сыщики и числятся среди джентльменов, а вот в Российской империи такого что-то не наблюдается. И добавлял с победительной улыбочкой: он тоже прочитал пару книг о Шерлоке Холмсе. Не согласится ли Ахиллес, что Шерлок Холмс – любитель, на службе не состоящий, а вот сыщики государственной полиции изображены сэром Конан Дойлем как личности прямо-таки мелкие и ничтожные, особого уважения не заслуживающие. Ну а сыщиков-любителей наподобие Холмса в России как-то не водилось исстари. И у Ахиллеса не было логических аргументов, чтобы возразить толково.
Он пробовал сослаться на Ивана Дмитриевича Путилина. Родившийся в семье небогатого обер-офицера, закончив даже не гимназию, а уездное училище, не имея ни связей, ни протекции, карьеру он сделал в сыскном ремесле феерическую. В отставку вышел с поста начальника Санкт-Петербургской сыскной полиции, штатским генералом, получил немало орденов, в том числе две звезды, три перстня и портсигар, всё с императорскими вензелями, не раз удостоен высочайшего благоволения.
Отец и этот выпад отпарировал без особых раздумий. Путилин, сказал он, уникум, исключение из правил. Действительно, торговец пирожками Александр Данилыч Меншиков карьеру сделал еще более феерическую, нежели Путилин, – вот только все остальные торговцы пирожками так и остались в первобытном[8] состоянии.
Состоялся семейный совет, и решающим оказалось мнение дяди, полковника в отставке, обладателя немалого числа орденов и других отличий, участника турецкой кампании и среднеазиатских походов Кауфмана, Троцкого и Скобелева. Выслушав прежде все прочие мнения и подымив трубочкой, он заключил: коли уж Ахиллес к инженерному делу – да и другим требующим высшего образования профессиям – не испытывает ни малейшей тяги и склонности, следует его направить по военной линии. Офицер – персона уважаемая, к тому же можно рассчитывать на неплохую карьеру.
Вот эта мысль отцу крайне понравилась – и Ахиллес был отправлен в военное училище. И вот уже год с лишним ходил в золотых погонах. Однако сами по себе они радости и жизненных выгод принесли мало. Дядя, как со многими пожилыми людьми случается, судил обо всем по меркам своего времени, когда военные кампании шли прямо-таки чередой, и выдвинуться, заслужить чины и ордена мог молодой офицер без всяких связей, лишь бы не кланялся пулям и первым ходил в атаки – как с дядей и обстояло.
Увы, времена стояли другие. Как верно подметил Тимошин, на японскую кампанию они по молодости лет опоздали, а других определенно в ближайшее время не предвиделось. Так что впереди была реальная перспектива провести много лет в захолустных гарнизонах, в лучшем случае получив еще пару звездочек на погоны, и не более того… Тянуть лямку, как тянут ее простые солдаты – с той лишь разницей, что солдат, отслужив свой срок, становится вольной птицей, а они с Тимошиным такой роскоши лишены.
В отставку подать нетрудно, а что потом? Поехать в одну из столиц, явиться в сыскную полицию и заявить, что он хочет поступить в сыщики? В гимназии это казалось удачной идеей, а теперь, когда он несколько повзрослел, вызвало большие сомнения: возьмут ли? Вряд ли в сыщики зачисляют всех, изъявивших к тому желание, это было бы слишком просто, а жизнь наша простоты лишена.
Тогда? Жениться разве что на богатой наследнице и зажить словно кум королю? Во-первых, Ахиллесу такое казалось жуткой пошлостью, а во-вторых по его наблюдениям, отцы здешних богатых наследниц отнюдь не горят желанием выдавать дочерей за офицериков без состояния и карьерных перспектив. У всех еще на слуху печальный пример поручика Желихова, посватавшегося к дочери одного из здешних крупнейших торговцев шерстью, полета Зеленова, только в другой области. Пылкой любви там не наблюдалось, однако девушке поручик был отнюдь не противен. Вот только ее родители имели на сей счет свое мнение, и Желихов, попович без гроша в кармане, был в моральном плане прямо-таки с лестницы спущен… Одним словом, полный жизненный тупик. Тоска заедает, когда представишь, что на долгие годы будет одно и то же: занятия в роте, выпивка в офицерском собрании, провинциальные балы… Даже если его куда-то и переведут, то наверняка в такое же захолустье, если не хуже. Здесь как-никак губернский город – а можно угодить и в жуткую дыру, вроде столь живописно описанной литератором Куприным в его недавно вышедшем романе «Поединок». Словом, куда ни кинь – всюду клин…
В безрадостных раздумьях он и не заметил, как дошел до места своего расквартирования. Открыл калитку и вошел во двор солидного дома с мезонином, когда-то сложенного на века из необхватных бревен, возле которого скромненько приютился снятый им флигелек. С его деньгами Митрофан Лукич Пожаров давно мог бы возвести хоромы и кирпичные, но он упорно держался за дедовское домовладение и новшеств, как многие его собратья по ремеслу, не любил.
Здоровенный лохматый Трезор, гремя цепью, бдительно вылез из будки, но узнал Ахиллеса и, вильнув хвостом, вновь вернулся в свою резиденцию. А на лавочке у крыльца, такой же старой, из потемневших плах, восседал сам хозяин. Завидев Ахиллеса, он воззвал доброжелательно:
– Ахиллий Петрович, отслужили? Турецкую папиросу не желаете ли?
Именно так он весь этот год имечко квартиранта и произносил. Ахиллес давно притерпелся – тут не было, в отличие от Ванды, ни вышучивания, ни насмешки. Ну вот никак не удавалось Митрофану Лукичу, гимназий не кончавшему, правильно выговорить, и все тут. Благо хозяева относились к Ахиллесу со всем радушием, частенько звали обедать и ужинать, обижаясь в случае отказа, приглашали всякий раз, когда отмечали праздники. Он понимал, в чем тут дело: единственный сын Пожаровых давно вырос и довольно успешно занимался коммерцией в далеком Ташкенте, молодой человек в доме – ну, пусть во флигеле – им сына малую чуточку заменял. Лукерья Федоровна его откровенно опекала и даже дважды пыталась подыскать невесту из своего, купеческого сословия.
Словом, с хозяевами он жил душа в душу. А потому охотно присел на нагретую клонящимся к закату солнцем скамейку, и Митрофан Лукич протянул ему раскрытую деревянную коробочку:
– Вот, угощайтесь, Ахиллий Петрович, вчера получены…
Прикурив, Ахиллес присмотрелся к хозяину. Если применить дедуктивный метод, можно сделать интересные выводы…
– Как у вас дела в полку? – поинтересовался купец.
Небеден был Митрофан Лукич, ох небеден. В миллионщики не выбился, но его бакалейная лавка выглядела большим магазином не только по здешним меркам, да вдобавок купец имел долю в одном из первогильдейских товариществ, торговавших поташом на широкую ногу.
– Да все как обычно, в общем, – сказал Ахиллес, пуская дым колечками. – А вы, Митрофан Лукич, простите великодушно, крепко проигрались, я вижу? Пану Пшевскому или Арнаутову?
Такой вот любопытный нюанс: в отличие от большинства собратьев-купцов, Митрофан Лукич почти что не пил. Главной его страстью был бильярд в городском собрании, где давно уже сложилась троица лучших игроков: Митрофан Лукич, пан Пшевский, состоявший в немаленькой должности у Зеленова, и адвокат Арнаутов. Эта троица и сражалась с переменным успехом – но победителя пока что не находилось, все оставались на одном уровне. Ни малейшей бестактности Ахиллес не допустил: купец охотно рассказывал как о победах, так и поражениях, поскольку последние случались все же реже, чем выигрыши. Вот и сейчас он охотно ответил, потеребив роскошную, истинно купеческую бородищу:
– Пану, чтоб его черти взяли. Отвернулась от меня сегодня планида, а вот ему улыбалась во весь рот. Хорошо все же играет полячишка, даром что граф, может статься, и самозваный. А может, и нет. У них там граф на графе, самые что ни на есть настоящие – вот только в карманах у большинства ветер свистит, так что служить приходится… И ведь никак его нечестной игрой не попрекнешь, что обидно! В карты, сами знаете, всегда можно передернуть, кости иные умельцы как-то так свинцом заливают, что они ложатся исключительно к их выгоде, а вот в бильярде, хоть ты лоб себе разбей, ни за что не смошенничаешь. Самая что ни на есть честная игра, всё от своей собственной руки да глаза зависит. Продулся, а как же, срезал меня пан на карамболях в конце концов. Сижу вот, домой идти не тянет. Снова начнет Лукерья свет Федоровна неудовольствие подпускать. Она и так-то… Однажды сказала: лучше б ты, Митроша, пил да в карты дулся. От этого, конечно, говорит, жене тоже одно беспокойство и тягость, но карты с водкою – это как-то более для нашего сословия привычно, чем шары палкой гонять. Я ей говорю: матушка, так ведь игра благородная, еще при Екатерине Великой ею очень даже высокие господа забавлялись. Вот то-то, говорит она, что высокие господа. А ты, говорит, держался бы привычного, не лез в господские благородные забавы. Что они понимают, бабы… А вы, Ахиллий Петрович, так к бильярду и не пристрастились? Бывали у нас пару раз, да что-то давненько вас не видать…
– Да вот не пристрастился как-то, – сказал Ахиллес.
– Зря, зря. Увлекательнейшая, я вам скажу, игра, все от тебя самого зависит… – Он вдруг замолчал, уставился на Ахиллеса чуточку ошарашенно. – Погодите, погодите… Это откуда ж вам стало известно, что я нынче продулся вдрызг? Расскажи вам кто, вы б точно знали, кому я проигрался, пану Пшевскому или Арнаутову. А вы знаете, что я продулся, но не знаете кому. Что-то тут не складывается, воля ваша…
Купец, сам того не ведая, владел дедуктивным методом. Что ж, подобно многим и многим его коллегам по сословию, образованием он был не отягощен вовсе, но ум имел острый, иначе не сколотил бы капитальца…
– Ваша правда, Митрофан Лукич, – сказал Ахиллес, поневоле улыбаясь. – Ни с кем я о вашей неудаче не говорил. Дошел исключительно собственным разумением. Не в том даже дело, что вид у вас подавленный. Рукав сюртука, хоть вы его и чистили, сразу видно, все еще в мелу – значит, играли на бильярде. И в азарте, намеливая кий, рукав перепачкали изрядно. И вместо вашего роскошного золотого портсигара, я вижу, простая деревянная коробочка, а это опять-таки о чем-то говорит…
– Вот оно что, – шумно вздохнул Митрофан Лукич. – Умственно расчислили, значит… Простое дело, коли тебе объяснят, в чем тут фокус. А я уж, грешным делом, подумал всякое. Вы уж не обижайтесь, Ахиллий Петрович, но давно уж говорят, что у вас в Сибири колдун на колдуне сидит и колдуном погоняет. Вот я и подумал: а вдруг вы тоже… того…
– Вздор, Митрофан Лукич, – рассмеялся Ахиллес. – Я, как коренной сибиряк, не стал бы к колдунам несерьезно относиться и утверждать, что их нет вовсе. Люди, вполне заслуживающие доверия, разное рассказывают… Только вот сидят они по глухим углам, ни одного в жизни не видел, хоть и хотелось порой…
– Да я понимаю. Это значит, умственный расчет, как в тех книжках про сыщиков, что Митька у вас читать берет? Я его от нечего делать как-то расспрашивал, про что книжки, он мне и рассказал… Дюди… дяди… словом, какой-то там дядин метод.
– Есть такой, – сказал Ахиллес. – Дедуктивный. Особый вид, как вы выражаетесь, умственного расчета. И научиться ему можно, как бухгалтерии.
– Дивны дела твои, Господи, чего только люди не придумают… Это что же, вы вот так на человека глянете – и все про него узнаете? Как на ладони человек будет?
– Ну, не так все просто, – сказал Ахиллес, улыбаясь. – Нужно еще, чтобы было к чему присмотреться. А если присмотреться не к чему, то и умозаключений не сделать… Понимаете?
– Ну, это нам понятно. Это, стало быть, вроде того, как у охотников: охотник опытный след углядит там, где невежды вроде нас с вами ничего и не усмотрят. А коли следочка нет, то и охотник ничего не определит. Правду говорит этот ваш дядин метод. Игра у нас всегда идет без кредита, на наличные. Ну, я в азарте, бумажник опустошивши, портсигар-то буфетчику и заложил. Он, бестия продувная, с нами, игроками, давно привык к такому. И дает мало – распрекрасно знает, что бильярдист в азарте, отыграться рвется и малым доволен будет. Ну, это не беда, портсигар-то я нынче же вечером назад выкуплю. То досадно, что проиграл. Ничего, мы с паном еще сквитаемся, не впервой. Помню…
Легонько скрипнула дверь, и на крылечке появился Митька, племянник Пожаровых, гимназист пятого класса. Его отец, родной брат Митрофана Лукича, в отличие от старшего, был далеко не так благоразумен и удачлив: дела в лавке вел спустя рукава, пил без меры, частенько устраивал дома скандалы и поколачивал домашних. Митрофан Лукич, когда-то пытавшийся младшего брата вразумить, давно махнул на него рукой, осознав бесплодность всех увещеваний – и Митька много времени проводил у дяди с тетей, охотно его привечавших. Давно уже сложилось так, что он брал у Ахиллеса читать книги, в основном о Шерлоке Холмсе, к которому питал то же пристрастие, что и Ахиллес.
Митька сбежал с крыльца. Гимназические уставы кое в чем не уступают строгостью военным – так что на нем, как предписывалось, была одежда «летней формы» – парусиновые штаны и такая же рубаха установленного фасона, а дома лежала фуражка с гербом учебного заведения. Именно в таком виде гимназисты обязаны были появляться на улице в каникулярное время – рискуя в противном случае заработать крупные неприятности.
– Дядя Митрофан, – сказал он, подойдя к скамейке. – Тетя Лукерья вас очень просила не рассиживаться далее, а в дом идти, так и сказала… Просила незамедлительно.
– Грехи наши тяжкие… – проворчал купец, вставая. – Ну вот, Ахиллий Петрович, начинается смятение… Хозяюшка моя вашим дядиным методом не обладает, однако ж, как и вы, отсутствие портсигара заметила и выводы сделала. Грядут попреки… Ничего, отобьемся, не впервой нам такое…
Он, переваливаясь по-медвежьи, ушел в дом. Гимназист с любопытством уставился на лежащий рядом с Ахиллесом сверток. Ахиллес улыбнулся, отвечая на немой вопрос:
– Не просто книга, Митя, а чертова дюжина новых рассказов о Шерлоке Холмсе. Вернулся он, представь себе…
– Ух ты! – На лице мальчишки радость мешалась с несказанным удивлением. – Как же ему далось? Он же в водопаде утонул. Может, это опять присочинил кто-то?
– Не похоже, – серьезно сказал Ахиллес. – Издательство солидное, то самое, что и прежде не одну книгу о Холмсе напечатало. Не стали бы они связываться с нашими доморощенными сочинителями. Так что и писатель настоящий, и Холмс…
– Да как же?
– А вот этого я и сам пока не знаю, – сказал Ахиллес. – Но как-то же должен был спастись… А впрочем, Шерлок Холмс на многое способен. Не смотри так страдальчески, Митя. Как только прочитаю, тут же дам и тебе. А прочитаю я быстро, оказалось вдруг, что свободного времени у меня в избытке…
Он кивнул малолетнему собрату по обожанию Шерлока Холмса, забрал пакет, встал и пошел к себе во флигель.
В крохотной прихожей, едва он вошел, Артамошка проворно вскочил и замер по стойке «смирно», вытянув руки по швам. Воинские уставы вовсе не требовали от денщика вытягиваться дома во фрунт при появлении своего офицера, однако Артамошка, наверняка в жизни не раскрывший Воинский устав Петра Великого, держался в точности согласно одной из его статей, гласившей, что подчиненный перед начальством должен иметь вид лихой и придурковатый. Неглуп и хитер был персонаж, до того, как угодить под воинскую повинность, служивший приказчиком у купца в губернском Орле. Хорошо еще, что при этом не вороват и исполнителен – очень не хотелось ему в строй, так что из кожи вон лез, чтобы до окончания срока службы отсидеться в денщиках. В принципе, Ахиллес им был доволен.
Он присмотрелся. Ну, разумеется, в правой руке у Артамошки была тоненькая книжечка наподобие брошюрки, в яркой, аляповатой обложке. Усмехнувшись, Ахиллес сказал:
– Вольно. Дай-ка сей источник знаний…
Артамошка подал ему книжку. Ну, конечно же… Денщик Ахиллеса тоже был почитателем Шерлока Холмса, но на свой лад. Читал не подлинного сэраКонан Дойля, а эти вот лубочные подделки, какие бедные студенты сочиняют десяток за трешницу. В овале – силуэт человека с кривой трубочкой во рту. «Похождения Шерлока Холмса. Кровавая месть». И обложка соответствующая – на ней изображен усатый тип с невероятно злодейской физиономией, заносящий длинный кинжал.
– Артамошка ты, Артамошка, – беззлобно сказал Ахиллес. – Я ж тебе давал настоящего Шерлока Холмса. И еще давал бы – читаешь ты аккуратно, страницы не мусолишь, книжку не треплешь… Что ж ты этим увлекся? Это ведь такая же подделка, как фальшивое вино, что в казачьих областях фабрикуют…
– Да понимаете ли, ваше благородие… Что-то мне ваша книжка, хоть и настоящая, на душу не легла. Он там все умствует и умствует, скука подступает. Зато здесь… Дозвольте?
Ахиллес вернул ему книжку. Сноровисто найдя нужную страницу, Артамошка прочитал вслух с дурной мелодраматичностью провинциального актера третьеразрядного театрика:
– «Когда Кровавый Билль, размахивая длинным сверкающим кинжалом, ринулся на великого сыщика из-за портьеры, словно разъяренный тигр, Шерлок Холмс ни на миг не потерял присутствие духа. В мгновение ока он выхватил свой испытанный револьвер «Бульдог» и метким выстрелом поразил злодея, выронившего кинжал». Вот это, ваше благородие, за душу хватает, с чувством написано…
– Кто бы спорил, – усмехнулся Ахиллес. – Будь я сам бедным студентом в ожидании трешницы, я бы, может статься, тоже душу вкладывал бы… Ладно. На вкус и цвет товарища нет, читай себе дальше. За ужином в собрание сходишь в обычное время…
Он прошел в свою комнату, повесил фуражку на крючок, снял ремень, одернул летнюю рубаху[9] и устроился в единственном кресле, старом, но прочном и удобном. Разорвал указательным пальцем тугую ленточку бандероли, развернул бумагу. Нетерпеливо раскрыл книгу.
«Пустой дом». «Весной 1894 года весь Лондон был крайне взволнован, а высший свет даже потрясен убийством юного графа Рональда Адэра, совершенным при самых необычайных и загадочных обстоятельствах…»
Он читал, не видя и не слыша ничего вокруг, и потому не сразу обратил внимание на деликатное покашливание в кулак – это Артамошка стоял в дверях, пытаясь привлечь его внимание.
– Ну, что там еще? – спросил Ахиллес без особого раздражения – он как раз успел дочитать до конца первый рассказ и знал теперь, как вышло, что Шерлок Холмс спасся в безвыходной, казалось бы, ситуации, погубив при этом злодея-профессора.
– Там к вам хозяйский племянник, ваше благородие…
– Ну, давай его сюда, – распорядился Ахиллес.
Митька с порога впился заинтересованным взглядом в книгу в руках Ахиллеса, не без труда отвел взгляд и сказал с видом посла, прибывшего к иностранному монарху для вручения верительных грамот:
– Ахиллес Петрович, дядя Митрофан очень просил, если вы не заняты делами, зайти к нему прямо сейчас. У него к вам какое-то серьезное дело. Так и сказал: «Крайняя у меня в нем нужда».
Ахиллес встал. Разгадку спасения Холмса он уже знал, и теперь было любопытно, что же это за серьезное дело у хозяина может к нему быть. Никакие деловые отношения их не связывали и связывать не могли – очень уж разными были их занятия, ничуть меж собой не соприкасавшиеся.
Он и подумать не мог, выходя из флигеля, что с этой минуты его жизнь и судьба совершили решительный поворот.
Три надежных приказчика
Купец расположился за столом в маленькой гостиной уже по-домашнему – без перепачканного мелом сюртука, в шелковой русской рубахе с крученым пояском с кистями. Супруги его Ахиллес так и не увидел – видимо, печально сидела в задних комнатах после обычной в таких случаях перепалки.
А на столе красовалась узкая высокая бутылка шустовского коньяка, две рюмки и тарелочки-блюдца с разнообразными закусками. Ахиллес чуть удивленно поднял брови: не было у его квартирного хозяина обычая усаживаться с гостем за бутылочку, когда до ужина было еще далеко…
Митрофан Лукич уже старательно расчесал волосы на прямой пробор и смазал репейным маслом, привел в порядок раскосмаченную бороду, но вид у него был понурый, даже печальный.
– Вот уж обязали, Ахиллий Петрович! – воскликнул он с неподдельной радостью. – Я уж думал, не придете, не уважите старика, что вам до моей лавки и торговых купеческих дел…
– Сколько вас знаю, Митрофан Лукич, изволите прибедняться, – усмехнулся Ахиллес, усаживаясь после приглашающего жеста хозяина. – Ну, какая же у вас лавка? Даже по столичным меркам – весьма даже большой магазин…
– И, батенька… – махнул рукой купец. – Мы люди старомодные, за старину держимся, как при отцах и дедах. «Лавка» – слово привычное, уж и неизвестно, с каких времен пошло. А магазин – словечко новомодное, совсем недавно в употребление вошло, а до того, сами знаете, означало «воинский склад». Так что мы уж по-прадедовски. Так что мы уж по старинке… – Он ловко наполнил рюмки. – Ну что ж, во благовремении?
И одним духом осушил свою. Ахиллес последовал его примеру, успев подумать, что на сегодня с чтением покончено – хлебосольство купца он знал и не сомневался, что выйдет из-за стола не раньше, чем бутылка опустеет. Коньяк, впрочем, был хорош, последний раз он выпивал в офицерском собрании четыре дня назад, впереди предстоял месяц безделья, так что можно было и оскоромиться…
– Вот такие вот дела, грехи наши тяжкие, – со вздохом произнес купец, глядя куда-то в окружающее пространство. – Ахиллий Петрович, так уж дела сложились, что я к вам за помощью обращаюсь. Никто, кроме вас, пожалуй что, и не поможет. Не согласитесь ли? На вас вся надежда. Живем мы с вами душа в душу, ни от вас беспокойства нет, ни вам от меня никаких ущемлений, верно?
– Верно, – кивнул Ахиллес.
Ему и в самом деле повезло с хозяевами. Даже плату за наем флигеля купец брал вдвое меньше, чем кто-нибудь другой на его месте, так что, если хозяин и в самом деле угодил в неприятности…
Он добавил:
– Вот только не пойму, Митрофан Лукич, чем смогу быть вам полезен. Уж не секундант ли на дуэли вам понадобился?
– Боже упаси! – даже замахал на него купец руками. – Богомерзкое, уж простите, занятие: сойдутся два нормальных человека и давай по обоюдному согласию друг в друга палить или саблями пыряться… И если бы одни офицеры или другие благородные господа – им как-то и положено. Так нет, месяц назад стрелялись двое нашего сословия: молодой Чикин – не изволите знать? – и Ванюшка Луферов, немногим его старше. Все как у благородных – поехали за город, пистолеты взяли, секундантов… Хорошо еще, стреляют оба плохо. Чикину руку чуть поцарапало, а сам он и вовсе промахнулся. А все из-за барышни, да-с… Нет, не купеческая эта забава, хоть зарежьте. Этак чего доброго, на них глядя, и приказчики дуэлить начнут… – Он вновь наполнил рюмки. – Вот о приказчиках у нас с вами разговор и пойдет. Понимаете, Ахиллий Петрович, с некоторых пор начались у меня в лавке кражи из кассы. Дурные кражи притом. Позвольте, я вам обскажу, как с кражами в лавках дело обстоит? Вы человек несведущий…
– Сделайте одолжение, – сказал Ахиллес (все равно вечер с книгой любимого писателя, уже ясно, бесповоротно пропал).
– Надобно вам знать, купеческие приказчики завсегда крали. Началось это испокон веков и продолжаться будет до скончания веку. Ну, вот прямо-таки обычай такой – не может приказчик не подворовывать. – Он фыркнул с некоторым смущением. – По совести признаюсь, я и сам в молодости, служа в приказчиках, того-с… Не всегда и удерживался. Не мы это завели, не на нас и кончится… Вот только есть два способа хозяйскую денежку себе в карман смахивать – умный и дурной. Умный приказчик так дело поставит, что берет помаленьку: скажем, пятачок с рубля, но постоянно. И денежка небольшая, и хозяин далеко не сразу заметит, а если так вот смахивать в карман понемножку, пятаки в «катеньки»[10] складываются. И знаете что? Толковый купец, даже если и заметит такие вот шалости, глядит на них сквозь пальцы. Если приказчик толковый и тороватый, можно и притвориться, что ничего знать не знаешь. Во-первых, хозяину от него будет гораздо больше пользы, что от этих уплывающих пятачков, а во-вторых, выгони его да возьми нового – еще неизвестно, как этот себе карман набивать станет. Глядишь, и убытку от него обнаружится не в пример больше. Так вот, Ахиллий Петрович, у меня с некоторых пор завелся воришка именно что дурной. Они, все трое, и раньше, точно знаю, моими пятачками мимо своего кармана не промахивались, да я терпел – все трое люди тороватые, жаловаться не на что. Пусть их, думаю, молодость свою вспоминая небезгрешную… Ну вот. А с некоторых пор пошла дурь. В позапрошлом месяце сорока рублей недосчитался, в прошлом уже шестидесяти, и что в этом будет – и думать боюсь. Уж если нацелился так хапать, не перестанет, это как с горьким пьяницей, что от бутылки оторваться не способен…
– И не удается выяснить, кто именно? – не без интереса спросил Ахиллес.
– Вот то-то и оно! Все трое у меня не первый год служат, подозрений вроде и класть не на кого. К кассе доступ имеют все трое. Кого-то одного за двумя другими следить не поставишь – а если он вор и есть? Положеньице… Вы ж их видели, всех троих, вы ко мне в лавку не раз заходили.
– Признаться, я на них особенного внимания не обращал, – сказал Ахиллес. – Приказчики и приказчики. Запомнилось, что все проворные, оборотистые, ремесло знают…
– Вот то-то, – с горечью сказал купец. – А один, получается, особенно оборотистый, стервец… И ничего тут не поделать, не могу же я сам в лавке круглый день сидеть надзирателем, у меня других дел невпроворот, один поташ сколько времени отнимает… Словом, пиковое у меня положение. Такой уж если начал, так не остановится…
– А в полицию обратиться не пробовали?
– Думал я над этим, – грустно признался купец. – Да что толку? Обычная полиция ничем не поможет, а сыскное… Нету на него никакой надежды, между нами-то говоря. Начальник, Иван Евлампиевич, человек, скажу вам, хороший, однако ж хороший человек – это еще не ремесло. Хорош он, когда на бильярде с ним играешь или бутылочку-другую раздавишь. А что до дела… Вы с ним не знакомы?
– Видел мельком.
– Так вот, хороший человек Иван Евлампиевич, но мыслями он давненько уж вне службы. Неполный год ему остался до отставки с пенсией… а человек, сами, может быть, знаете, при таком обороте начинает работать спустя рукава, чуть ли даже не из-под палки. Такова уж натура человеческая. Положа руку на сердце, вы у себя в полку с таким не сталкивались?
– Сталкивался, – вздохнул Ахиллес, припомнив подполковника Коншина.
– Вот видите. Везде, по-моему, одинаково. Это наш брат, купец, от дел не отойдет, пока ноги таскает и мысли не путаются. А человек на государевом жалованье склонен иначе мыслить. Вот и Иван Евлампиевич, точно вам говорю, мыслями уже не на службе, а в раздумьях о благоустройстве именьица, на теткино наследство недавно купленного. У него там прудик, только и разговоров, как станет гусей и прочую водоплавающую птицу выращивать с большим прибытком. Книжки разные выписывает почище вашего, только вы – романы про сыщиков, а он – насчет разведения птиц. Ну, каков поп, таков и приход, уж между нами говоря. Подчиненные у него – байбак на байбаке, прости Господи. Ни единого молодого, с соображением и ловкостью. Мелкую шпану ловить только и способны, да и то оттого, что с давних пор в подозрительных трактирах и прочих заведениях «слухачей» своих держат. Можно сказать, состарились вместе, хе-хе. Мелкое-то они враз через этих хитрованцев раскроют, а уж что посерьезнее… Заглянет к нам кто посерьезнее наших доморощенных мазуриков – и пиши пропало. Серебро купчихи Кусатовой год найти не могут, она и к городничему ходила, и денежную награду предлагала – без толку. Четыреста рублей золотом у зеленовского артельщика попятили – тоже не нашли, как Зеленов ни ругался. А кража со взломом денежного ящика в Кредитном обществе? Всякий раз ходили наши сыскные с видом умным и глубокомысленным, кучу народу допросили, объявили даже, что на след напали, – да все пшик. След в каталажку не упрячешь… А уж мне-то они и вовсе ничем помочь не смогут. – Он наполнил рюмку, глянул на Ахиллеса как-то загадочно, заговорил осторожно, словно боялся, что его могут в любой момент оборвать. – Вот я о вас и подумал. После той шутки, когда вы враз определили, где я был, и вывели, что я проигрался… Может, поможете по дружбе?
– Как это? – искренне удивился Ахиллес. – Я ведь не сыщик?
– Сыщик-то не сыщик, зато как точно про меня вы расчислили – одним умственным усилием и этим… дядюшкиным методом. Сами же мне сказали давеча, что этакому умственному усилию научиться можно. Вот и Митька, все ваши книжки перечитавши, иногда как отчебучит что-нибудь этакое… Колдун, да и только. Выходит, от таких книг и польза бывает? Ахиллий Петрович, помогите! Ведь присосался ко мне этот лиходей, как пиявица, и что-то плохо мне верится, что перестанет… А самое-то печальное – что всем троим верить перестаешь, смотришь на каждого и думаешь: уж не ты ли? Вот как в таких условиях дело вести? В прошлом году у меня бухгалтер – тот, что книги насчет поташа вел, – начал было в свою пользу счета и расходы подчищать. Только там проще было: заподозрил я неладное, позвал другого кассира, столь же ловкого, он в три дня все махинации – за ушко да на солнышко, а тут у меня руки опускаются… Помогли бы, Ахиллий Петрович? По гроб жизни благодарен был бы.
Предложение было настолько неожиданным, что Ахиллес не сразу нашелся, что ответить. После недолгого раздумья сказал:
– Никак не получится, Митрофан Лукич. Нельзя же вот так просто, сидя у себя во флигеле и трубочку покуривая, «умственно исчислить» виновного. Никак нельзя. Нужно все видеть своими глазами – и тех, кого подозреваешь, и место, и поговорить с людьми. Я же офицер. Что люди скажут, если я начну слоняться по городу, заходить не в самые пристойные заведения, где офицеру и бывать неуместно, высматривать и выспрашивать, а то и следить за кем-то… С вами я все определил, потому что видел вас своими глазами… И люди будут удивляться, и начальство, когда узнает, взгреет так, что мало не покажется.
– Оно так… – пробормотал купец. – Оно, конечно… В самом деле, как вам, офицеру при мундире, за такое дело браться? Все равно что я начну выслеживать тех мазуриков, что на ярмарке часы и кошельки таскают… Спятил, скажут, Лукич на старости лет… А у вас еще и мундир императорской армии… Никак невместно… – Он долго сидел над своей пустой рюмкой, печально в нее уставясь, потом поднял голову, и его лицо форменным образом просияло. – Ахиллий Петрович! А что, ежели вам помощников взять? Они и будут высматривать да выспрашивать, а вы будете слушать, что принесли, да умственным образом рассчитывать? Митька рассказывал, что в романах ваших этот Чирок Хомс так и действует.
– Где же я таких помощников возьму? – пожал плечами Ахиллес.
– А их и искать не надо! – вот возьмите моего Митьку – чем не помощник? Только от него и слышу, что после гимназии хочет не в коммерческое, а в сыщики поступить. Уж он-то с превеликим удовольствием помогать вам возьмется – последить за кем, скажем. Уж его-то ни в чем таком не заподозрят – мало ли гимназистов по улицам болтается, последние каникулярные денечки догуливая? – Он не на шутку увлекся собственной идеей. – Никто и знать не будет, чем он на самом деле занимается. И вот что еще… Артамошка ваш – парень хитрый, тот еще ухарь, сам говорил, что приказчиком служил. Ежели его, скажем, одеть под мастерового да запустить в тот трактир, где Колька Егоров бывает, самый для меня подозрительный из трех… Вот кому деньги нужны – женой не обзавелся, по портерным болтается, опять же насчет женского пола дерзок на руку, горничным головы дурить мастер, а такие похождения денег требуют: где супир[11], где платочек, где еще какой подарочек… Что скажете?
– Вообще-то это против всех воинских уставов – отпускать одетого в партикулярное солдата в питейное заведение…
– А кто узнает-то? – с жаром возразил купец. – Воинские патрули у нас по улицам не ходят. Да и выводят ваш полк, я слышал, за город в целях карантина. Горстка офицеров в городе остается… да и не ходят господа офицеры в дешевые портерные. Кто опознает? А ежели что – вытащу. Ваш командир полка, скажу по секрету, мне намедни четыреста рублей проиграл, и не похоже, что у него в скором времени будут деньги, чтоб отдавать. Придумаю что-нибудь, не брошу вашего Артамошку, мое вам купеческое слово. Поговорю сегодня же с Никифором Артемьичем Лягиным, что ношеным платьем торгует на широкую ногу, подберем вашему Артамошке надлежащий наряд: чтобы и справным мастеровым смотрелся, и оборванцем не выглядел. А уж я, со своей стороны, еще и денег ему дам. Долго ли такому хвату с Колькой познакомиться и в друзья-приятели набиться? С такими-то помощниками вы, Ахиллий Петрович, враз мне прохвоста умственно вычислите! Что скажете?
Ахиллес внезапно поймал себя на том, что эта идея вовсе не выглядит чем-то фантасмагорическим и в глубине души ему нравится. Расследование совершенно в духе Шерлока Холмса – и хороший способ проверить себя: годен ли он на что-то как сыщик? Авантюра чистейшей воды… а может быть, и нет? Как еще проверить, есть ли у него способности, чтобы стать сыщиком, или все было пустыми юношескими мечтаниями, как те, что его обуревали в гимназические годы, а сейчас обуревают Митьку?
И неожиданно для самого себя сказал:
– Я согласен, Митрофан Лукич. Артамошку бы еще уговорить надежно, ведь заупрямиться может…
Ухмыльнувшись, купец полез в карман шаровар, достал старомодный кошелек с большими медными застежками и, громко прищелкивая монетами, выложил на стол пять золотых червонцев:
– А вы ему вот это дайте, Ахиллий Петрович. И обещайте смело, что при удаче еще столько же получит. Никаких денег не пожалею, чтобы этого прохвоста ущучить. Давненько уж меня так нагло не обкрадывали… Ну что, за успех предприятия?
– Давайте за что-нибудь другое, – серьезно сказал Ахиллес. – Из чистого суеверия. А пока что… Митрофан Лукич, можете мне рассказать побольше об этих троих, сколько знаете?
– С полным нашим удовольствием! Считай, чуть ли не все время у меня на глазах, стервецы…
…Покуривая кривую трубочку, Ахиллес вольготно расположился в кресле, тщательно перебирая в памяти все, что узнал.
Если начать с самого молодого…
Итак, Колька Егоров, двадцати двух лет. Воинскую повинность не отбывал. Классический ухарь-приказчик из карикатур сатирических журналов – чуб наподобие казацкого, фатовские усики, лихо заломленный картуз, лакированные сапоги с напуском. Одевается со всем пошловатым шиком, присущим его профессии. Любит поиграть на гармошке в дозволенных полицией местах, хотя особым искусством и не отличается. Лукич у него – третий хозяин, причем Колька везде числился на хорошем счету. Любит бывать в портерной Волжина, что на Губернаторской. Выпить не дурак, но всегда уходит на своих ногах, в скандалах и драках не замечен. А впрочем, их там почти и не бывает – портерная числится среди приличных заведений, куда заглядывают и парикмахеры, и приказчики, даже мелкие чиновники с репутацией и молодые купцы невысокого полета. Вообще свободное время делит меж портерной и юными девицами себе под стать: горничными, служанками, кухарками помоложе, незамужними мещаночками. Постоянством не отличается. Несколько раз был бит ревнивыми соперниками, что воспитательного действия не оказало, разве что заставило быть чуточку осторожнее. Живет один в крохотном домике на набережной, доставшемся от покойных родителей, что позволяет приводить домой очередную симпатию. С деньгами расстается легко, хотя в долгах вроде не увязает. В картишки поигрывает, но не особенно завзято.
Терентий Якушев, во многом полная противоположность Коленьке. Восемью годами старше, послужной список, говоря военным языком, безупречен. У купца служит семь лет, трижды получал прибавку к жалованью. В трактирах, портерных и прочих заведениях такого рода практически не бывает. В карты не играет. Женат на дочери околоточного надзирателя здешней части, у тестя и снимает полдома, где обитает с женой и двумя детьми, шести и десяти лет. Старший обучается в реальном училище[12]. Пользуется репутацией скряги и скопидома, каждую копеечку несет в дом – где, по сплетням, пребывает под каблуком у жены. В то же время те же сплетни гласят, что примерно раз в месяц посещает известное заведение мадам Архипцевой, где особенной любовью пользуется, потому что обожает торговаться.
И, наконец, самый старший из них – Антон Качурин. Самая, пожалуй, интересная биография. Отец – торговец шерстью средней руки, восемнадцать лет назад, когда сыну было пятнадцать, обанкротился так люто и качественно, что застрелился с горя. Мать тогда же от переживаний скончалась апоплексическим ударом, родных не было, так что гимназист шестого класса остался один-одинешенек, без всяких средств к существованию. Учился скверно, а потому на бесплатное обучение никак не мог рассчитывать, и гимназию пришлось бросить. Единственное, что удалось уберечь от кредиторов – флигелек одного из отцовских домов, где парнишка и поселился. Вскоре по протекции кого-то из отцовских знакомых получил место переписчика в одной из торговавших шерстью контор. Поступил в сухопутные войска вольноопределяющимся[13] – и после возвращения со службы все это время был приказчиком, сначала у Зеленова, потом у Митрофана Лукича.
Был женат, жена скончалась родильной горячкой вместе с младенцем. Живет все в том же флигеле, ведет крайне замкнутый образ жизни, с людьми «своего круга» общается мало, порой недвусмысленно высказывая свое над ними превосходство, что порой служило причиной легких конфликтов. Иногда посещает ресторан «Париж» (самый доступный для человека его положения и доходов), но в чрезмерном употреблении спиртного не замечен – как и в отношениях с женщинами (как приличными, так и теми, о которых в обществе вслух не говорят). В общественном мнении имеет репутацию чудака или, как сказали бы англичане, эксцентрика (правда, в чем эта чудаковатость заключается, внятно никто еще не объяснил). Ходят слухи, что потихоньку дает деньги в рост, желая сколотить какой-то капиталец и завести свое дело.
Ахиллес до того несколько раз бывал в лавке Митрофана Лукича и легко сопоставил данные купцом описания с обликом всех трех приказчиков. Все сходилось: Колька являл собой классический образец ухаря-приказчика, грозы юных непритязательных девиц, Якушев выглядел разобиженным на весь белый свет ипохондриком, Качурин, в глубине души чувствовалось, зол на судьбу и на каждого персонально покупателя. Правда, внешне это никак не сказывалось – как и остальные двое, он был с посетителями вежлив и предупредителен – но избегал той чуточку лакейской услужливости, отличавшей Кольку. Правда, упрекнуть его не в чем – исправный приказчик. Митрофан Лукич им доволен.
Вообще Лукич, надо отдать ему должное, умеет подбирать толковых приказчиков. За двадцать лет пятеро из них, уйдя от хозяина, завели свое дело (наверняка живя по системе «пятачок с рубля» и прослужив достаточно долго). Один в конце концов разорился, проторговался и вынужден был вернуться в приказчики (но уже не к Лукичу – стыдновато, должно быть, было возвращаться туда, откуда ушел, исполненный амбиций). Зато трое стали вполне благополучными лавочниками средней руки, а пятый даже поднялся на пару ступенек повыше, чем они, занявшись не только бакалейной торговлей, но и шерстью. За те же двадцать лет один-единственный раз случился приказчик, взявшийся воровать крупно, но был вскоре вышвырнут с треском. Лукич поступил так, как принято не только в купеческой среде, огласки не последовало, но всем собратьям по купеческому делу было втихомолку сообщено, за что сей персонаж выгнан. Так что работы он не нашел и в конце концов куда-то запропал…
Итак… Применяя дедуктивный метод, какие логические выводы можно сделать из того, что Ахиллес узнал?
Ему было прекрасно известно, что есть душевная болезнь с красивым латинским названием «клептомания» (все болезни имеют загадочные для непосвященных латинские названия, так уж исстари повелось). И подвержены ей люди из всех слоев общества, вплоть до высших. Человек ворует (иногда – что попало, совершеннейшие пустяки) без малейшего расчета на выгоду – просто потому, что воровать его заставляет мозговая хворь…
Вряд ли это подходит для данного случая. Что-то не слышно было о приказчиках, подверженных клептомании. Тут уж единственный мотив – выгода. Воровство происходит всегда для чего-то, ради неких потребностей.
Есть в этой ситуации прелюбопытная деталь. Все трое приказчиков служат у Лукича не один год, без сомнения, смахивают в карман монетки с каждого рубля, но вот крупного кассокрадства (можно употребить такое словечко по аналогии с казнокрадством) не случалось ни разу. И вдруг дважды за два месяца из кассы улетучились не такие уж мелкие денежные суммы, превышающие, к слову, офицерское жалованье Ахиллеса. Этому должна быть причина.
Над ней не нужно ломать голову, она лежит на поверхности. Кому-то из троицы деньги понадобились срочно, причем не трешница и даже не червонец – гораздо больше. Внезапно возникла неотложная потребность. Ничего нового и удивительного – с теми, кто ведал в армии полковыми финансовыми средствами, тоже порой случалось нечто выламывавшееся за рамки регулярного не особенно крупного казнокрадства.
Что же могло произойти? И с кем? Подозревать следует всех троих. И на первом месте, безусловно, – Колька. Именно его образ жизни может привести к неожиданным финансовым осложнениям, требующим срочного покрытия.
Карты? Лукич говорил, что в карты Колька поигрывает не особенно и завзято – но ведь во время этого занятия у него никогда не стояли за спиной соглядатаи купца. Вполне могло случиться, что Колька все же поддался азарту в каком-то месте, ускользнувшем от внимания сплетников, взялся играть по крупной – и проигрался крупно, а платить нечем. Общество, в котором он вращается, пусть и не босяцкое, но и никак не благородное. За неоплаченный карточный долг – в особенности крупный – могут в темном переулке не просто ребра поломать, но и булыжником по голове почествовать.
Есть и другой мотив, пожалуй, гораздо более вероятный. Когда человек вроде Кольки ведет жизнь ловеласа, меняя полюбовниц как перчатки, частенько возникают самые разные коллизии (что, между прочим, касается людей всех сословий, не одних приказчиков).
Вариантов тут несколько. Может случиться так, что как-то Колька оказался неосторожен, и теперь его очередной пассии понадобились медицинские услуги, как бы поделикатнее выразиться, по прерыванию нежелательных последствий. Проще говоря – понадобилось срочно абортироваться. Очень часто по ряду самых разных причин такое делается подпольно, в глубокой тайне, а потому врач не особенно строгих моральных правил за свои услуги требует не такие уж маленькие деньги – подпольные аборты Уголовным уложением Российской империи преследуются, и рисковать за рублишко эскулап не будет, прекрасно понимая, что положение у пациентки безвыходное: скажем, незамужняя, а если замужем, то «последствия» по каким-то причинам законному мужу приписать нельзя.
Еще один вариант. Житье-бытье записного ловеласа, что скрывать, во многих отношениях протекает приятно, но всегда существует риск стать обладателем какой-нибудь нехорошей хвори из тех, что поименованы в честь древнегреческой богини любви Венеры (что богиню, существуй она на самом деле, вряд ли порадовало бы). Лечение таких хворей опять-таки сплошь и рядом протекает потаенно, а значит, обходится недешево.
Теперь – еще одна вероятность…
Опять-таки во всех слоях общества случается, что от очередной пассии, с которой кавалер решил расстаться, приходится форменным образом откупаться. Иногда обходится, как бы это сказать, единовременной выплатой, а иногда брошенная пассия начинает шантажировать и деньги тянет регулярно. Так могло случиться и теперь. Краж из кассы было две. Толкований тут два: либо сумму, которую дева запросила, Колька не смог заплатить сразу, и пришлось это делать в два приема, либо все же начался шантаж…
Теперь – Якушев и Качурин. У них тоже могли случиться какие-то жизненные коллизии, потребовавшие внезапно денег. У обоих вроде бы не замечено пороков, требующих особенных расходов. Якушев заведение мадам Архипцевой посещает регулярно, но деньгами отнюдь не швыряется, наоборот. В обычных отношениях со жрицами продажной любви как-то не случается ситуаций, когда приходится от них откупаться. Ну, разве что одна из них стала свидетельницей того, как тихий Якушев кого-то зарезал, но это уже из области самой дурной фантазии…
Качурин вообще не замечен в связях с женщинами. Однако есть две весьма существенные оговорки, которые никак не следует отбрасывать. Во-первых, и за ним никогда не ходили по пятам соглядатаи, и полного его жизнеописания не составляли. Так что могло в глубокой тайне происходить что-то, о чем те самые сплетники опять-таки не узнали, и касается это обоих подозреваемых. Во-вторых… Это уже касается одного Качурина. Порой человек, упорно не желающий иметь дело с женщинами, обладает кое-какими противоестественными наклонностями, тоже преследуемыми Уголовным уложением. И здесь возможны самые разные ситуации – от шантажа до попыток щедрыми подарками удержать предмет своей страсти. Газеты на этот счет пишут всякое…
И больше ничего на ум не приходит, как ты ни ломай голову. Вполне возможно, и Шерлоку Холмсу в такой вот ситуации не пришло бы. Выводы? Они просты: нужно действовать в этих направлениях. Плохо, что помощников у него не трое, по числу приказчиков, а только двое (да и Артамошка к тому же еще не дал согласия, а ведь вполне способен струсить и отказаться). Так что…
Он прислушался. В прихожей тяжело протопали солдатские сапоги, знакомо скрипнула дверь крохотной кухоньки. Конечно же, это Артамошка вернулся с ужином. Ну да, конечно: вскоре он возник на пороге и доложил:
– Ужин на столе, ваше благородие!
– Зайди-ка, – сказал Ахиллес. Когда денщик вошел, встал и подошел почти вплотную. Спросил напрямик: – Артамон, вот скажи ты мне… Когда служил в приказчиках, у хозяина подворовывал?
Артамошка состроил неописуемую гримасу, непонятно что и выражавшую, завел глаза к потолку.
Ахиллес, давно изучивший своего денщика, подпустил металла в голос:
– Уж не захотел ли ты, Артамон, назад в строй? Уладить недолго, сам знаешь… И придется тебе полгода служить, как все; а ты от этого давно отвык в денщиках, чего доброго, будешь от фельдфебеля Рымши зуботычины ловить, ты ж его натуру знаешь… Попусту оплеухами не кормит, но за нерадивость в службе способен…
– Ваше благородие! – едва ли не возопил Артамошка. – Да чем же я вас прогневил? Вот сами скажите: с тех пор как я у вас в денщиках, хоть копеечка или папироска пропала?
– Не было такого, – согласился Ахиллес. – Только ты не передергивай на манер карточного шулера. Я не про воровство у меня говорю. Я тебе ясный и конкретный вопрос задал: когда был приказчиком, у хозяина приворовывал? – И добавил помягче: – Ровным счетом никакого вреда тебе от чистосердечия не будет. Против тебя это никоим образом не направлено – мне твой хозяин не сват и не брат, я его вообще в глаза не видел, да и не увижу, скорее всего. Просто… Просто мне нужно одну историю прояснить. К тебе она никакого отношения не имеет, а вот твой жизненный опыт мне поможет… Ну?
Помявшись и откровенно повиливая взглядом, Артамошка в конце концов признался:
– Было такое дело, ваше благородие. Вы только не подумайте, что у меня натура воровская. У кого стороннего я и копеечки не украл и грошового гребешка чужого не прикарманил бы. А вот что до приказчиков… Верно вам говорю: все до единого приказчики воровали, воруют и воровать будут, не нами заведено, не на нас и кончится. Испокон веков это идет, и будет так, по моему разумению, до скончания времен, пока будут купцы и приказчики. А что до хозяев – они и сами… Те, кто не в наследство дело получил, а начинал с низов, сами приворовывали поголовно. На том торговое дело стоит, на том и стоять будет… Ежели не верите, могу порассказать такого…
– Верю, – сказал Ахиллес. – А вот любопытно, как ты действовал? По пятачку с рубля, а?
– Да по-всякому. Когда алтын, когда пятачок, а когда рублишек вдруг пойдет много, можно и по гривенничку. Ежели не зарываться и отщипывать помаленьку, хозяин, если и заметит, может глаза закрыть, потому как…
– И это знаю, – сказал Ахиллес. – Помню, ты говорил, что служил в приказчиках четыре года. За это время из алтынов, пятачков и гривенников неплохие денежки скапливаются, а?
– Не великие капиталы, однако ж, ваше благородие, денежки и впрямь солидные…
– И куда ж ты их девал? – с любопытством спросил Ахиллес. – Развлекался – картишки там, симпатии? Или как?
– Если и развлекался, то самую чуточку, – серьезно ответил Артамошка. – Когда молодая натура требовала – вовсе без этого и нельзя обойтись. Только меру соблюдал строго, деньгами не швырялся. Большую часть в сберегательную кассу складывал. – В его голосе определенно появилась мечтательность. – Давно у меня задумка, ваше благородие: открыть свою лавочку по скобяному делу. Разобрался я в этом хорошо, будучи в приказчиках. И девица есть, подходящая не просто в жены, а в тороватые хозяйки. Пишет, обязательно дождется, полгода-то и осталось. Вот только на хорошую лавочку – а у нас в городе есть несколько на примете – рублей двести недостает. Ну да отслужу, пойду опять в приказчики, может даже к старому хозяину…
– Дай тебе Бог удачи, – усмехнулся Ахиллес. – А теперь вот что… Я тебе задам как бы задачку, а ты мне ответ найти попытаешься. Служат у купца три приказчика, долго служат, не один год. Наверняка и приворовывают – коли уж испокон веков заведено… Но аккуратно приворовывают, мелочишку с рубля, ни разу не уличены. И вдруг как громом с ясного неба – пропадает из кассы сразу сорок рублей, а еще через месяц – и вовсе шестьдесят… Что бы ты по этому поводу сказал?
Артамошка, сразу видно, задумался всерьез, с лица исчезла наигранная придурковатость, лишний раз можно было убедиться, что малый ох как неглуп. Может, и не прогорит – будучи с лавкой и тороватой хозяйкой.
Думал денщик недолго. Решительно сказал:
– Тут, ваше благородие, ответ может быть один-единственный. Кому-то из троих деньги понадобились ну как есть до зарезу. Мало ли зачем – столько всякого в нашей жизни случается. Только так и обстоит: вдруг нежданно-негаданно попал человек в такой оборот, что либо кради, либо иди топиться. Оно с любым может случиться, не только с приказчичьим сословием. Вон в книжке про Шерлока Холмса не приказчик, а целый граф…
– Ладно, помолчи, – сказал Ахиллес.
Он был доволен: по всему выходило, что рассуждения двигались по верному пути: кто-то из троих попал в положение, когда или кради с немалым риском, или топись. Прав Артамошка: и с графами всякое случается, не то что с мелкотой приказчичьей, даже короли старинных времен, как он прекрасно помнил из гимназического курса истории, в лютые долги к ростовщикам влезали…
Потом ему пришло в голову, что он, возможно, упустил еще одно направление в едва начатом расследовании. Предположим, кто-то из двоих старших решил завести собственное дело, не откладывая, и подвернулось ему что-то крайне заманчивое: может, лавка, способная при умелом ведении дела принести хозяину неплохой доход, может, возможность выгодно вложить деньги в прибыльное предприятие вроде скупки шерсти у татар из местечек поглуше – они не так искушены в торговле, как их соплеменники, обитающие поближе к цивилизации в лице Самбарска, могут отдать гораздо дешевле. Загвоздка в одном: имеющихся в наличии денег недостаточно и для первого и для второго. Быть может, и нужно было иметь еще сотню, но не было ее, вот и пришлось рискнуть. Стоит, пожалуй что, поискать и в этом направлении – тут уж придется действовать через Митрофана Лукича, превеликого знатока торговых дел города, как любой здешний купец, и такого простой слежкой не откроешь…
Артамошка смотрел на него выжидательно, не без любопытства – чуял некоторую необычность такого разговора.
– Слушай внимательно, – сказал Ахиллес. – Хочу я дать тебе одно поручение…
В отличие от Митьки, принявшего поручение прямо-таки с восторгом, Артамошка оказался орешком покрепче. Ахиллес с ним возился более четверти часа, уламывал, как говорится, и крестом и пестом. Хитрый, неглупый малый такого всерьез опасался – к чему, надо признать, имелись все основания. Нижний чин, переодетый в партикулярное платье, приловлен в питейном заведении или просто встречен на улице кем-то из офицеров его полка… При самом худшем исходе попахивало и арестантскими ротами…
Ахиллес изощрялся в красноречии так, что сам себе удивлялся.
Напоминал, что полк выведен из города и в Самбарске осталось лишь малое число офицеров, которые никогда не посещают питейные заведения вроде тех, в котором предстоит действовать Артамошке. К тому же все будет происходить вечерней порой, когда женатые офицеры сидят либо дома, либо в собрании, да и холостые не имеют привычки расхаживать по улицам – разве что пойдут прогуляться с барышней, что не редкость здесь. Однако в этом случае они никак не станут приглядываться к прохожим настолько уж внимательно, чтобы опознать в очередном молодце, одетом приказчиком или мастеровым, Ахиллесова денщика. Все внимание будет уделено как раз барышне.
Потом Ахиллес клялся словом офицера, что в случае каких-то неприятностей они с Митрофаном Лукичом из кожи вон вылезут, чтобы Артамошку выручить. Убедительная ложь уже подготовлена и продумана – это не Артамошка проказил, это Ахиллес его принудил так поступить – чтобы последить за одним из приказчиков Лукича, который, есть серьезные подозрения, украл у Ахиллеса из флигеля серебряный портсигар.
Потом вновь пригрозил возвращением в строй, где, забыв о привольной, что там, жизни денщика, придется еще полгода тянуть наравне со всеми нелегкую солдатскую лямку, от которой Артамошка как-то уже отвык и всерьез рискует налететь как на взыскания, так и на затрещины фельдфебеля Рымши. А ведь Ахиллес может его и специально попросить быть с его бывшим денщиком, оказавшимся ленивым и вороватым, построже. (Он, конечно, никогда бы не поступил так гнусно, но Артамошка-то об этом не знал…)
Очень похоже, окончательного успеха он добился, когда отдал денщику те пять червонцев и сообщил, что Артамошка, независимо от исхода дела, получит еще столько же – так что ровно половина из недостающей для покупки скобяной лавки суммы уже в наличии. Да вдобавок, если благодаря Артамошке выяснится что-то полезное, Лукич может и дополнительное вознаграждение выдать, он не скряга…
Так что в конце концов Артамошка сдался и согласился взять на себя роль помощника сыщика, то бишь в данном случае Ахиллеса. Что любопытно: когда они уже обсуждали детали и подробности, у Артамошки, такое впечатление, прорезался некий азарт. Ахиллес подозревал, что проистекает это из той же любви к похождениям Шерлока Холмса, что имела место быть и у Митьки, и, что греха таить, у него самого. Разве что азарт этот выражен не столь явно и бурно, как у Митьки – Артамошка, в конце концов, не мальчишка-гимназист. То, что у них с Митькой был один Шерлок Холмс, а у Артамошки другой, надо полагать, дела не меняло…
…Митрофан Лукич, подобно многим славным полководцам прошлого, промедления допускать не собирался. Назавтра уже утром, когда Ахиллес едва успел позавтракать, Митька притащил большущий узел с необходимой экипировкой для Артамошки. Уединившись с ним у себя в комнате, Ахиллес в подробностях объяснил гимназисту задание. Дело было нехитрое и отняло-то всего пару минут: после закрытия лавки Митьке предстояло проследить за Якушевым: куда он пойдет и что станет делать. То, что в качестве объекта слежки выпал именно Якушев, было чистой случайностью. Артамошка должен был заниматься исключительно Колькой, третьего помощника не имелось, а разорваться Митька, конечно же, не мог. Так что Ахиллес поступил незатейливо: попросту бросил монету. Полтинник упал портретом государя императора вверх – так что Митьке достался именно Якушев, ну а на другой день придет черед и Качурина… Шерлок Холмс, конечно, подобных методов в жизни не применял, но ему было гораздо легче: поскольку помощников имелось в избытке, вроде «нерегулярных полицейских сил с Бейкер-стрит», то есть целой ватаги уличных мальчишек. Наконец, он сам, переодевшись, а порой и загримировавшись, мог следить за подозреваемым.
Увы, Ахиллес подобной роскоши был лишен. Это британский джентльмен мог следить за кем-то, будучи переодетым, но оставаясь британским джентльменом – а вот офицеру российской императорской армии такое никак не подобало. И опыт «нерегулярных полицейских сил» нельзя было применить в условиях нашего богоспасаемого Отечества: уличных мальчишек в Самбарске хватало, но офицер, нанимающий их для слежки за кем-то, – картинка, мягко говоря, из ряда вон выходящая. Хотя… Кто сказал, что это вообще невозможно? Если преподнести этим сорванцам убедительную ложь, очень похожую на правду… Скажем, молодой подпоручик подозревает свою симпатию в неверности и имеет основания полагать соперником приказчика Качурина… Можно сделать и лучше: к самбарским гаменам отправится одетый приказчиком Артамошка и даст то же поручение, но исключительно от своего лица… В конце концов, не такая уж необычная ситуация, наоборот, вполне житейская. Следует держать ее в резерве, в зависимости от того, как развернутся события…
Когда Митька ушел, Ахиллес велел Артамошке переодеться, чтобы посмотреть, как тот будет выглядеть. И остался вполне доволен: Артамошка ничуть не выглядел ряженым, он наверняка таким и был, служа в приказчиках: не особенно дорогой, но вполне приличный костюм, лаковые штиблеты, шляпа-канотье, все не поношенное, но ношеное. Налицо все аксессуары не особенно и далекого, откровенно вульгарного приказчика: пестрый жилет, чересчур яркий галстук, заколотый булавкой с большущим «брильянтом» стеклянного происхождения, поперек живота – массивная часовая цепочка из «самоварного» золота да вдобавок легкомысленная тросточка с рукояткой в виде лежащей в игривой позе обнаженной женщины. Ни малейшего изъяна. Подобных персонажей в российских городах – и в Самбарске тоже, естественно, – видимо-невидимо на вечерних улицах, в городских парках, ресторанах и питейных заведениях не самого высокого класса, но все же тех, куда не пускают «простонародье», «мастеровщину», «деревенщину». Особенно рябит от них в глазах в воскресные и праздничные дни народных гуляний. Так что с этой стороны все в порядке… Интересно, что Артамошка, полностью облачившись и привычно вертя тросточкой, смотрел на себя в зеркало с некоторой тоской, явно вспоминая жизнь до воинской службы, когда он по праздничным дням таким вот франтом и разгуливал под ручку с девицей. Ну, что бы там ни было, а сыграть должен убедительно – в сущности, самого себя…
Незадолго до закрытия лавки Пожарова разведчики Ахиллеса отправились туда, исполненные столь нескрываемого азарта, что Ахиллес настрого им велел держаться скромнее. Самому ему оставалось только ждать, покуривая трубочку. Нельзя сказать, чтобы он очень уж волновался, но некоторое смятение чувств все же присутствовало. Впервые в жизни он оказался в роли настоящего сыщика, ведущего настоящее расследование. Если что-то пойдет не так – правда, плохо представляется, что именно, – он окажется как бы виноватым перед Митрофаном Лукичом, всерьез поверившим в его таланты сыщика… Неудобно как-то получится, право слово…
Примерно через полчаса к нему неожиданно заявился Митрофан Лукич. Он ничего не объяснил, но так основательно устроился на стуле, что стало ясно: купец твердо намерен дожидаться здесь возвращения Митьки с Артамошкой и выслушать их вместе с Ахиллесом. Что ж, если рассудить, он имел на это право. Были к тому же и приятные обстоятельства: из необъятного кармана поддевки Лукич извлек бутылку шустовского, а из другого – кулек с изюмом и завернутый в восковую бумагу кусок свежайшего швейцарского сыра – все происходило, и гадать нечего, из его лавки.
Так что ожидать возвращения следопытов стало веселее. Коньячных рюмок, правда, у Ахиллеса в хозяйстве не имелось, но русских офицеров, как и русских купцов, такие мелочи не напрягали нисколечко. Имелись чайные стаканы, и этого было достаточно. Наливали, правда, понемногу и пили скупыми глотками – чтобы сохранить ясную голову до той поры, когда придет время выслушивать доклады.
Первым, как и следовало ожидать, вернулся Митька – на него была возложена гораздо более простая задача, чем на Артамошку.
Возбужденно поблескивая глазами, он уселся у стола, рассеянно забросил в рот и прожевал несколько изюмин из придвинутого купцом блюдечка, потом сказал, обведя их взглядом:
– Ахиллес Петрович, дядюшка… Все вроде бы удачно прошло, но не совсем…
– Митя, не говори загадками, – сказал Ахиллес. – Давай сразу к делу.
– Инструкции ваши выполнил в точности, Ахиллес Петрович. Там неподалеку от лавки уличные мальчишки играли в свайку, вот я и притворился, что наблюдаю за ними с большим интересом. Гимназическим уставам такое не противоречит, там и парочка взрослых приказчиков стояла, даже спорили на деньги, кто из мальчишек выиграет. Обычная для Самбарска уличная картинка. Ну вот… А потом, когда Якушев вышел, я за ним двинулся, вроде бы лениво прогуливаясь. И в этом ничего необычного не было. Шел он спокойно, уверенно, ни разу не оглядывался, с таким видом, словно и не думал, что за ним могут следить. И шел он в сторону, совершенно противоположную от своего дома. И вышел прямиком к Французскому кварталу… – Митька чуть покраснел, замялся. – Мне пришлось так и остаться на Оренбургской – гимназистам ведь настрого запрещено во Французский квартал заходить, под угрозой даже не карцера или взыскания, а исключения с «волчьим билетом»… Но я видел со своего места, как он вошел… – гимназист окончательно смутился и замолчал.
Ну что же, всего-навсего пятый класс… Никаких разъяснений тут не требовалось – и Митрофан Лукич, и Ахиллес прекрасно все понимали. В квартале меж Оренбургской и улицей Перовского как раз и сконцентрировались самбарские злачные места: то самое заведение мадам Аверинцевой, парочка других пониже классом и несколько домов свиданий[14].
Французским кварталом его прозвал в незапамятные времена какой-то острослов, и оно прижилось.
– Митя, он ведь к мадам Аверинцевой зашел? – спросил Ахиллес.
Митька кивнул, все еще с пунцовыми щеками. Поднял глаза:
– Я бы придумал, как побыть поблизости, не вызывая подозрений и не нарушая правил поведения. Вот только запретное время близилось, я едва домой успевал, пришлось уйти. «Аспиды» стаями на охоту должны были выйти. «Аспиды», Ахиллес Петрович, – это…
– Не надо объяснять, Митя, – с улыбкой сказал Ахиллес. – Я же полный гимназический курс кончил. У нас все то же самое было. Только звали мы их не «аспидами», а «лайками». Лайка, Митя, – это охотничья собака. Здесь, в России, их нет, а у нас в Сибири имеются во множестве. И по следу хорошо ходит, а уж если в зверя вцепится, даже в медведя, не отдерешь…
Действительно, к чему пояснять то, что прекрасно знакомо любому гимназисту, пусть бывшему, давно окончившему курс? Жизнь гимназиста кое в чем похожа на жизнь солдата, ибо опутана множеством ограничений. Ношение форменной одежды необходимо и во внеурочное время, находиться на улице после определенного часа запрещено, настрого запрещено посещение театров (кроме специальных детских представлений) и прочих увеселительных заведений, вполне респектабельных. Гимназические инспектора и классные наставники только тем и заняты, что в гимназии следят, чтобы поведение учеников было самым благонравным, – а во внеурочное время, особенно ближе к вечеру, прямо-таки рыщут по городу, старательно охотясь на нарушителей гимназических уставов. Карцер и розги, правда, отменены, но не так уж и давно…
Однако… Как выразился какой-то острословец, законы издаются для того, чтобы их нарушать. Второгодничество в гимназиях не редкость, так что среди старшеклассников не так уж и редки персонажи лет восемнадцати, а то и девятнадцати. Главным образом они, одевшись во взрослое платье, и проникали не только в театры и кафешантаны с ресторанами, но и в публичные дома. И попадались далеко не все. Тут уж свою роль играли чисто арифметические пропорции: великовозрастные нарушители гимназических уставов многократно превосходили числом инспекторов и классных наставников, да и удача играла свою роль…
– Ну что же, ступай, Митя, – подумав, сказал Ахиллес. – Упрекать тебя не в чем, и ты сам себя не упрекай. Сделал все, что мог.
Митька пошел к двери крайне неохотно, скорее уж побрел. У порога обернулся:
– Ахиллес Петрович, но ведь дело на том не кончится?
– Безусловно, Митя, – сказал Ахиллес. – В самом скором времени тебе за Качуриным следить. Может, выйдет что-то поинтереснее…
Когда за Митькой закрылась дверь, купец плеснул коньяку в тонкие стаканы и сказал не без угрюмости:
– Митьку, конечно, упрекать не в чем, только получается, что ничегошеньки мы не узнали. Что Якушев похаживает к Аверинцевой, и так многие знают. Я вам сразу могу сказать то, чего Митька узнать не смог: в заведении он проведет не более часа и помчится домой, чтобы супружница чего не заподозрила. Она, вот смех, до сих пор как-то не проведала, хотя баба ушлая. И очень даже корпусная, что твой гренадер. За волосья, случалось, драла, когда провинится. Ничегошеньки нового. Сыщик у нас вы, а не я, однако ж приказчиков своих я знаю подолее вашего… Что-то мне сомнительно, чтобы это Якушев окаянствовал. Для борделя ему лишние денежки не нужны, он, скупердяй, теми, что располагает, обходится. В карты, уж точно известно, не играет. Начинал в свое время, но такое уж было у него невезение, что проиграл пару раз подряд. За что был супружницей так трепан и даже бит, что напрочь карты забросил. Оно, конечно, самые тихие и благонравные на вид люди втайне самым разным развлечениям предаются, от гимназисток из хороших семей до столпов общества, но этот, прости Господи, мышонок очень уж на виду, очень уж супружницы боится. Главный доход у них в семействе – не его жалованье, а проценты с жениных денежек, что были даны в приданое и в Русско-Азиатский банк положены. Вот она всем и заправляет, а он трепки сносит со всем смирением, аки древний христианский мученик – прости, Господи, за этакое сравнение…
– Ну, мы же еще только начали, Митрофан Лукич, – сказал Ахиллес, подумав. – Глупо ведь думать, что в таком деле виновный с маху сыщется.
– Да я понимаю. И все равно, уныло как-то…
– Митрофан Лукич, – сказал Ахиллес, оживившись от только что пришедшей в голову мысли. – Ну хорошо, Кольку на себя Артамошка взял, его-то, в отличие от гимназистов, определенное время пребывания на улице не ограничивает. А вот за Качуриным Митьке наблюдать… Вдруг да наклюнется что интересное, а Митьку вновь уставы ограничат.
– Куда вы клоните, Ахиллий Петрович?
– Я вот подумал… Можете вы, вот хотя бы завтра, лавку закрыть на день? Если это все же Качурин, и есть у него что-то потаенное, нешуточных расходов требующее… Чует мое сердце, он неожиданно доставшийся вольный день как раз на это и использует. Я бы на его месте так поступил. – Он усмехнулся. – Да, собственно, так и обстоит. Господа офицеры наши, оказавшись перед лицом месяца полного безделья на совершенно законных основаниях, такой подарок судьбы, между нами говоря, вовсю используют…
– Это чтобы прохвоста этого определить? Да хоть на неделю! Особенных убытков не понесу, зато, смотришь, вытянем воришку за ушко да на солнышко… А обставить все это, не вызвав у ворюги нашего подозрений, проще простого. Прекрасный есть повод. Пора уже лавку закрывать и на пару дней вызывать крысоловов. Крысы опять расплодились, спасу нет. Котов у меня там целых два, да не справляются, крыса нынче пошла такая здоровущая и наглая, что не каждый кот ее уконтрапупит. А я уж, не сочтите за хвастовство, товар держу самый доброкачественный. Зачем мне, чтобы крысы его портили? Вот и приходится этак раз в год крысоловов звать. После их трудов на какое-то время благолепие наступает – а потом новые набегают, не получится же их во всем городе враз истребить… Я на той неделе собирался, но ради дела завтра начну. Торговлю прекращаю, приказчикам – вольный день, крысоловы пару дней поработают… Годится?
– Как нельзя лучше, – кивнул Ахиллес.
За окнами темнело, и он встал, зажег керосиновую лампу с синим фарфоровым абажуром. Резко повернулся к двери – в прихожей что-то стукнуло, громко покатилось по полу пустое ведро. Ага. Определенно Артамошка вернулся. Вряд ли он так уж пьян, но света в прихожей нет, вот он впотьмах ведро и опрокинул. Рановато что-то вернулся, с хороших трактирных посиделок гораздо позже приходят…
Дверь распахнулась, и в комнату вошел Артамошка, привычно – и, как всегда, без всякой надобности вытянулся во фрунт, что при его наряде приказчика выглядело несколько уморительно.
– Вольно, – столь же привычно распорядился Ахиллес. – Проходи к столу, садись. Рассказывай. Что-то ведь да узнал?
Присмотрелся внимательно. Денщик, конечно, трезвостью никак не мог похвастать, но в общем и целом выглядел удовлетворительно – сидел все же в портерной, где крепче пива ничего не подают, да и не так уж долго сидел. Выглядел вполне годным для толкового рапорта.
– Значит, так, ваше благородие, ваше степенство… – начал Артамошка вполне рассудочно, никак не заплетаясь языком. – Пошел он, когда лавку заперли, прямиком в портерную Калабоцкого. Я за ним следом, присел за тот же столик – полупустая была портерная, народец, отработавши свое, только начал собираться, а ходит туда, можно сказать, публика чистая, весь день где-нибудь на службе занятая, галахов[15] молодец Калабоцкого, что стоит на входе, и на крыльцо не пускает. Ну, я кружечку выпил – вашими щедротами, Митрофан Лукич, – Колька кружечку выпил, а там, как у русских людей заведено, знакомиться стали, разговоры разговаривать. Я ему изложил в точности то, что вы наказывали, ваше благородие…
Сегодня в обед, после совета с Ахиллесом, Лукич объявил приказчикам новость. Нижний этаж дома на Полицейской занимала не одна его лавка, но и немаленькая квартира чиновника из губернской канцелярии. Лукич на нее давно точил зуб – чтобы купить и расширить в лавку на весь этаж. Цену он давал неплохую, но чиновник оказался упрямцем и твердил, что деньги у него у самого есть, пусть и не грандиозные, а к этой квартире, где родился, он очень уж привык и менять ее не собирается. Вот Лукич и объявил всем трем приказчикам: сладилось наконец с упрямцем. Через какую-то неделю ему выходить в отставку, и он еще с полгода назад приобрел под Самбарском небольшое, десятин в полсотни, но уютное именьице, куда и намерен перебраться коротать оставшуюся жизнь. Так что квартиру он продает, лавка в ближайшее время будет расширяться, и понадобится четвертый приказчик. Адресовалось это в первую очередь Кольке. Которому Артамошка и изложил сочиненную Ахиллесом и выглядевшую вполне убедительно сказочку: он, мол, в силу жизненных причин – ничуть не позорного вида! – перебрался сюда из родного города, где не один год прослужил приказчиком. Каковым ремеслом намерен зарабатывать и здесь, потому что ничего другого, собственно говоря, и не умеет. В портерной на пристани кто-то ему сказал, что купец Пожаров будет расширять лавку и искать еще приказчиков, а Пожаров, говорят, хозяин хороший, не в пример иным. Не знает ли чего об этом Колька?
– Поверил? – спросил Ахиллес.
– В лучшем виде, – ухмыльнулся Артамошка. – Так и возопил: да ведь я и есть пожаровский приказчик! Я, понятно, сделал вид, что жутко обрадовался, стал его угощать, пива велел подать, дюжину раков. И стал, как настоящий приказчик в поисках места, его о том и о сем расспрашивать… – Артамошка вновь усмехнулся, на сей раз с некоторым превосходством. – Приказчик он, может, и тороватый, только болтун несказанный, язык без костей. Столько всякого выложил, душу передо мной, можно сказать, распахнул. Встречались мне такие простаки, его только нужно поворотить в должную сторону, и он столько всякого выложит… Очень он о вас, Митрофан Лукич, хвалебно отзывался – не хозяин, говорит, а золото. Только он от вас все равно скоро уйдет…
– Та-ак… – протянул Митрофан Лукич. – Это с какого перепугу, если я для него – золото?
– Вот и я то же самое спросил, ваше степенство. Он все, как на духу, и выложил. Простак-то он простак, первому встречному собутыльнику душу распахивает, как ворота в лабазе, но житейская сметка, ничего не скажешь, имеется… Сказал, что девичьим вниманием не обижен и погулял немало, однако ж пора жизнь всерьез устраивать. Короче говоря, собрался он в близкое время венчаться с дочкой Кузьмы Иваныча Данилова. Знаете такого?
Митрофан Лукич особо не задумывался:
– Встречались пару раз. Второй гильдии, но оборотистый. На пристани держит трактир «Волга», вполне приличный, чистой публикой посещаемый, на трех пассажирских пароходах буфеты держит. До меня ему, предположим, далеко, но на ногах стоит основательно. Ну да. Из трех дочек только Наденьку замуж выдать и осталось. А дело не ладится, она уж скоро в перестарки попадет – двадцать один год девице на Рождество стукнет. Не то чтобы обезьяна в юбке, но и красавицей никак не назовешь. Да и приданое, я слышал, не такое уж заманчивое…
– Кому как, ваше степенство, – сказал Артамошка. – Кольке вот как раз заманчивое. Кроме перин-подушек – триста рублей деньгами, да вдобавок Данилов обещал на зятя буфет на «Ласточке» переписать.
– От хитрован! – хлопнул себя по колену Митрофан Лукич словно бы не без восхищения. – Из его буфетов самый доходный на «Генерале Скобелеве», за ним идет тот, что на «Аравии», а вот «Ласточкин» в хвосте плетется, хоть и не убыточный… Хитрова-ан! Уважаю.
– Кольке заманчиво, – повторил Артамошка. – Все лучше, чем в приказчиках. Буфетчиком на пароходе стоять, говорит, все лучше и легче, чем в лавке суетиться. Потом ведь, говорит, тесть будущий не вечен, рано или поздно Надежде доля в наследстве достанется. Да он уже и сейчас подумывает, что можно вскорости и буфет на «Князе Игоре» откупить: и женино приданое будет, и… – тут он ухарски так подмигнул – на службе некоторые сбережения сделал… Ну, мы ж с вами, ваше степенство, понимаем, что за сбережения такие…
– Да уж… – фыркнул Митрофан Лукич. – Но отшелушивал, стервец, в меру, не упрекнешь… Коли уж испокон веков заведено… Ишь ты… Простак-то он простак, да губа не дура. Буфет на «Князе Игоре» весьма даже доходен, особенно когда его Зеленов или Артюхов нанимают для увеселительных плаваний. Ну да, хозяин стал стар, на покой собирается… Ну, Колька, хват… И дальше что было?
– Вот он мне и говорит: Артамоша, друг – я у него как-то сразу в друзья попал, – даже если лавка не расширится, можешь попытаться на мое место поступить. – Артамошка хитро улыбнулся. – И вот тут уж нам Бог велел его как следует порасспрашивать: а что за народ остальные приказчики? С кем, если сладится, бок о бок служить придется? Вот он и порассказывал подробно… Трений меж ними никаких нет, чего нет, того нет, – но вот и дружбы, в противоположность тому, что бывает меж приказчиков в других лавках, – тоже нет ни малейшей. Якушев скучный, как чернильница, не интересный, ни в хорошем трактире с ним душевно посидеть, ни в картишки сыграть, ни уж тем более вдвоем за девицами приударить. У жены не то что под каблуком – под двумя. Разве что пару раз в неделю в превеликой тайне к Аверинцевой в бордель шныряет, да и то не более чем на часок, чтобы жена не заподозрила…
– Приворовывает? – спросил Митрофан Лукич.
– А как же без этого, уж простите, ваше степенство… Но умно – по монеточке… А вот с Качуриным, Колька рассказывал, у него не ладится дружба совсем по другим причинам. Тот на Кольку смотрит свысока, будто не приказчик, а барин какой. Мол, Колька – мизерабь[16] с четырьмя классами начальной школы, а Качурин шесть классов гимназии окончил, а потом поднапрягся и сдал за полный курс экстерном. В Казани – потому и не знал тут никто.
– Вот не знал… – протянул Митрофан Лукич.
– Теперь понятно, – сказал Ахиллес. – А я-то голову ломал: как он сумел попасть в вольноопределяющиеся, не имея полного курса? Вот оно что…
– Только он отчего-то скрывает, что у него полный курс, – сказал Артамошка. – И что он – «ваше благородие», тоже скрывает. Всем говорил, что он экзамен на офицерский чин, как вольноопределяющиеся имеют право, в полку сдавать не стал, а на самом деле сдал. В Казани, где и служил. Так что он теперь – прапорщик запаса, полноправное его благородие, хоть звездочка и одна, да погоны золотые, случись война, не винтовку таскать будет в серой шинельке…
– Чем дальше, тем интереснее… – сказал Ахиллес. – Вы, Митрофан Лукич, выходит, ничего этого не знали?
– Видит Бог, не знал! – заверил Митрофан Лукич и даже размашисто перекрестился. – Нешто я вам не сказал бы, если б знал? Я ж понимаю – в таком деле о человечке надо всю подноготную выкладывать. И ведь никто не знал! Никаких разговоров не было, иначе мимо меня бы не прошло! А Кольке-то как удалось выведать?
– А он мне и это выложил, простая душа, – ухмыльнулся Артамошка. – Был у него мимолетный амур с одной барышней с телефонной станции. Хватает таких барышень: вся из себя приличная, а вот втихомолку оч-чень далеко с кавалерами заходит. Перебрала она как-то шампанского вина, да и рассказала Кольке: был у нее с полгода амур и с Качуриным. Вот именно, ваше благородие, ваше степенство. Опять-таки все полагают, что Качурин женщин избегает, а на деле вовсе даже наоборот. И к мадам Аверинцевой он частенько заглядывал, и вообще во Французском квартале свой человек, и приличных внешне барышень не пропускал. Только потом они из-за чего-то с той барышней рассорились смертно. Знала она о нем немало, но помалкивала: говорила, он ей при окончательном разрыве пригрозил, что убьет, если какие сплетни о нем пустит. И револьвер под нос ткнул, маленький, блестящий. Может, она, перепив, и присочинила, а может, и нет. Такой может и револьвером пригрозить…
– Как же никто ничего не знал про Французский квартал? – в совершеннейшей растерянности вопросил Митрофан Лукич. – Коли он там завсегдатай?
– А тут самое интересное, ваше благородие, ваше степенство! Ходил он туда всегда загримированный, как актер. Ей-богу! Так Кольке та барышня рассказывала. Свои волосы у него русые, и стрижен, как приказчику надлежит, вообще человеку приличному. А туда он надевал парик с черными кудрями до плеч, усики приклеивал на манер тех, что у французского комического актера синематографа Макса Линдера, надевал этакую блузу, вместо галстука бант повязывал. И так умел держать обхождение, что все его принимали за художника, под городом живущего… Ну мало ли кто в веселые дома ходит, не стали б за ним следить… А вот барышня та, с телефонной станции, можно сказать, послеживала. Колька говорит, у него впечатление осталось, что хотела она о нем собрать что-то неприглядное, да и пустить в оборот сплетникам нашим. Крепенько он ее чем-то обидел, чем, правда, не говорила. Колька по некоторым признакам полагает, что Качурин ей всерьез жениться обещал, а потом пошел на попятный, из-за такого девицы любых сословий сплошь и рядом, извините на грубом слове, стервенеют. И частенько мстить пытаются. Только ничего у нее не вышло. Месяца два назад он во Французском квартале перестал появляться – как отрезало. След простыл. Почему так, она не знает, но уверяла, что так оно и есть… Потом Колька, снова про револьвер вспомнивши, Христом-Богом меня молил никому про это не рассказывать – трусоват малый. Тебе ж, говорит, Артамоша, очень даже возможно, с ним бок о бок служить придется, а человек определенно непростой… Из тех, от кого не бывает ничего хорошего, кроме плохого…
– А потом? – спросил Ахиллес.
– А потом на этом все и кончилось. Сидели мы так, говорили, потом он часы достал и заторопился: у него, сказал, сейчас как раз свидание с нареченной Наденькой, опаздывать никак нельзя… – Артамошка улыбнулся чуть смущенно. – Уж извините, ваше благородие, я еще чуток посидел, кружечку заказал, раков доел. Когда еще придется, думаю, такая фортуна? И сидишь, приказчиком одетый, никем не узнанный, в хорошей портерной, и деньги не свои, а щедротами Митрофана Лукича на дело выданные. Извините, ваше благородие…
– Да ладно, ладно, – махнул рукой Ахиллес. – Заслужил. Вообще хвалю, Артамон, – сам признался, а мог бы промолчать, кто б уличил… Ну, ступай. Завтра, очень может быть, опять на нашем частном театре сыграть придется…
Когда он вышел, Митрофан Лукич и Ахиллес какое-то время смотрели друг на друга. Потом купец разлил коньяк, поболее прежней порции, одним глотком разделался со своей и то ли удивленно, то ли оторопело вопросил:
– Это кого ж я на груди пригрел, получается?
– Представления не имею, – честно признался Ахиллес. – Одно не подлежит сомнению, по-моему: перед нами человек с двойной жизнью, с двойным дном… Вот же черт! – воскликнул он. – Я его решительно не понимаю! Обычное дело, когда человек старается скрыть некие неприглядные факты из своего прошлого. Дело, можно сказать, житейское. Но зачем ему понадобилось скрывать, что он имеет полный гимназический курс и чин прапорщика запаса? Это ведь его нисколечко не порочит, совсем наоборот! С гимназическим курсом и чином он давно мог бы найти не в пример лучшее место, нежели прозябать в обычных приказчиках. А ведь он умен – сдача экзамена экстерном и экзамена на чин глупому не под силу…
– Все вы правильно говорите, Ахиллий Петрович, – мрачно поддержал Митрофан Лукич. – И на казенную службу мог бы поступить с неплохим жалованьем, и у кого-то из купеческих воротил недурно устроиться. Те же Зеленов с Истоминым, денежные мешки наши, и сейчас подходящих управляющих подыскивают – с образованием. А уж у них-то толковый управляющий как сыр в масле катается… Мне тоже решительно непонятно, отчего он этак играет. Но ведь должно же за этим что-то стоять? Неспроста все…
– Безусловно, – сказал Ахиллес. – Ну что же, уделим ему с завтрашнего дня особенное внимание…
…Ахиллес, согласно старому присловью, с утра сидел как на иголках, и чем ближе время приближалось к полудню, тем больше этих иголок становилось. Так что, всерьез волнуясь, он даже несколько грубовато отбил атаку поручиков Тимошина и Бергера, явившихся звать его на очередную воинскую кампанию против горячительных напитков путем их безжалостного истребления елико возможно больше. Впрочем, поручики, добродушные, в сущности, люди, нисколечко не обиделись, лишь высказали вслух предположение, что Ахиллес явно собрался в монахи-схимники – и удалились воевать.
Когда минула половина двенадцатого, во флигель заявился дворник Лукича, угрюмый крещеный чуваш Никодим, заросший до глаз буйной бородищей мужик. Господских этикетов вроде стука в дверь он, безусловно, не знал, а посему ввалился совершенно неожиданно, пробасил:
– Ваше благородие, там у ворот галах малолетний трется. Говорит, нужда у него в вас, с посланием вашему благородию от Митрофана Лукича. Оно так и может быть или мне его от ворот метлой шугануть?
– Никаких шуганий! – вскочил Ахиллес. – Так оно и должно быть…
На сборы он не потратил даже секунды – еще с утра, выпив чаю и отправив Артамошку с Митькой куда следует, сидел подпоясанный, так что осталось лишь, проходя мимо вешалки, снять с нее фуражку и надеть на ходу.
У ворот торчал босоногий персонаж парой лет помладше Митьки, не то чтобы совершенный оборвыш, но и в штанах, и на рубахе имелись прорехи и заплатки.
– Вы будете господин подпоручик Сабуров? – спросил он независимым тоном, без особого почтения – именно такой стиль был свойствен этому юному племени.
– Я, – кратко ответил Ахиллес.
Мальчишка почесал правой ногой левую и старательно, явно повторяя данное ему словесное поручение, проговорил:
– Его степенство господин Пожаров, Митрофан Лукич, велели передать вашему благородию, что дело закончено, все идет своим чередом, а сами они вскорости прибудут, – и после паузы добавил тоном взрослого опытного извозчика: – На чаек бы с вашей милости. Велено было нестись во всю прыть, я и несся, аж употел…
Усмехнувшись, Ахиллес достал портмоне и подал посланцу Лукича гривенник. Тот высоко подбросил монетку, ловко поймал и преувеличенно низко раскланялся:
– Премного благодарны, ваше благородие! Салфет вашей милости, красота вашей чести! И невесту вам с хорошим приданым!
И припустил прочь по немощеной улице, вздымая пыль босыми ногами. Ахиллес с улыбкой смотрел ему вслед. Занятный был народец – эти самбарские гамены. В отличие от взрослых босяков у каждого из них имелось и жилье, и родители (ну, или один родитель того или иного пола). Однако и родители и жилье были столь убоги, что малолетние оборвыши (часто не обремененные и классом-другим начальной школы) с рассвета и до заката вольно обитали на городских улицах. Что любопытно, у них имелся своеобразный кодекс чести: воровали они что угодно и где придется, но вот поручения с платой вперед выполняли исправнейше: передать что-то на словах, отнести записку, еще что-нибудь в этом роде. Можно было дать такому не то что рубль – червонец и послать за пачкой папирос. Сдачу он приносил до копеечки, из каковой и вознаграждался. Так что, возникни такая необходимость, их можно было в два счета приспособить для слежки по примеру Шерлока Холмса…
Возвращаться во флигель не хотелось, и он остался стоять у ворот, покуривая папиросу. Улочка была тихая, за все время по ней лишь с деловитым видом прошел куда-то чиновник губернской управы да медленно прошествовал караван из дюжины верблюдов, нагруженных громадными тюками, и «караван-баши», татарином, на переднем. Ахиллес и не обратил внимания – это в первые месяца два своего здесь житья-бытья он чуть ли не таращился на это диковинное для его родных мест зрелище, но потом привык ввиду его обыденности. Караван то ли шел в Среднюю Азию с товаром, то ли оттуда. У здешнего извозного промысла была своя специфика: русские (а также чуваши и мордва) возили по губернии всякие грузы на телегах, а вот татары занимались исключительно верблюжьими караванами, ходившими в Среднюю Азию и обратно.
Из калитки, ворча в бородищу, вышел Никодим с метлой и большим совком, принялся привычно собирать оставленные верблюдами пахучие памятки. Конечно, строго в невидимых границах, продолжавших по улице купеческое домовладение, – когда это дворник трудился за соседских?
Ахиллес уже собрался было вернуться во флигель, но тут из-за угла показался извозчик, отсюда было видно, что в пролетке восседает Митрофан Лукич. Это означало, что поездке придается особая важность – купец скрягой не был, но по делам несрочным и второстепенным предпочитал ходить пешком, объясняя это тем, что концы в Самбарске приходится отмахивать, в общем, невеликие, а он еще, слава богу, ногами крепок. И вообще, пешком ты ходи или для любой надобности бери извозчика, финал для всех один: каждому да придется однажды помимо желания совершить поездку – на похоронных дрогах. Митрофан Лукич, как иные его собратья по ремеслу, был в некоторых смыслах доморощенным философом…
Бросив извозчику монету, он с юношеским проворством выскочил из пролетки и кивнул Ахиллесу:
– Пойдемте во флигель, Ахиллий Петрович!
Сразу было видно, что и его крепенько разбирает азарт. В комнате Ахиллеса он, не успев еще толком усесться, выпалил:
– Все идет, как рассчитано, Ахиллий Петрович! Бредешок заброшен, осталось налима ждать!
– Налим – рыба скользкая… – задумчиво сказал Ахиллес. – Из рук запросто выскальзывает. Я их лавливал в Сибири, знаю…
– Так его ж, скользкого, можно и под жабры! – азартно пробасил купец. – Тогда и не выскользнет, зараза!
– Да, в этом случае, пожалуй… – так же рассеянно отозвался Ахиллес. – Главное, чтобы удалось – под жабры…
Пока что все происходило согласно расчету. Это означало, что Митрофан Лукич поручил всем трем приказчикам привести лавку в порядок, то есть убрать в лари и мешки товар, которому не следовало эту пару-тройку дней валяться на прилавках и в витринах. К полудню они справились, а там на двух пролетках и крысоловы прибыли со всем своим инструментарием вроде набора отрав и капканов. Оставив главнонаблюдающим за военными действиями против хвостатых захребетников Кольку, остальных двух Лукич отпустил по домам, наказав, чтобы завтра на смену Кольке явился Якушев, а Качурин – послезавтра. По его словам, подозрений это у главного лица, на котором сосредоточилось расследование, не должно было вызвать ни малейших – подобная процедура происходила не впервые и сегодня началась без малейших новаций.
Артамошка и Митька к тому времени уже с четверть часа обосновались на отличном наблюдательном пункте, расположенном чуть наискосок от лавки Пожарова, – в одной из кофеен давным-давно обрусевшего немца Ивана Людвиговича Шлетте. Как и большинство его соплеменников, вовсе не обидное прозвище «колбасник» Шлетте носил чисто по старой русской традиции[17]. Таких уж больших капиталов немец не нажил, но едва ли не монополизировал кофейное дело в Самбарске, держа более дюжины заведений. Предназначались его кофейни исключительно для «чистой публики», а потому числились среди тех заведений, которые учащимся посещать не возбранялось. Каковым разрешением они пользовались вовсю (пирожные у немца были свежайшие и вкусные, а их ассортимент богат) – главным образом, конечно, гимназистки, но и гимназист, и приличный на вид явный приказчик ни малейших подозрений или недоумения ни у кого не вызывали.
Все вроде бы было рассчитано и предусмотрено несколько вариантов развития событий – но это, Ахиллес прекрасно знал, еще не служило заведомой гарантией успеха. Порой самые лучшие планы губятся самыми непредвиденными случайностями либо неожиданным поворотом обстоятельств. Не зря в одной из самых известных солдатских песен поется:
- Гладко было на бумаге,
- да забыли про овраги —
- а по ним ходить…
Так что легонькое волнение присутствовало по-прежнему…
Серьезных тем для разговора не имелось, планы обсуждены до малых деталей – и потому они с Митрофаном Лукичом напряженно молчали, истребляя папиросу за папиросой в чрезмерном для обычного дня количестве. Несмотря на оба распахнутых окна, в комнате хоть топор вешай…
Окна выходили на забор – по-купечески высоченный, в добрых три аршина[18], так что они не видели, что происходит на улице. Однако прекрасно расслышали, как у ворот остановилась, судя по звуку колес, извозчичья пролетка, как извозчик громко командует: «Тпрру!» И увидели, как в калитку с незаложенной щеколдой прямо-таки влетает Артамошка, и при молчании давным-давно свыкшегося с ним пса едва ли не бежит к флигелю.
Обводя тем же азартным взглядом Ахиллеса и Лукича, денщик выпалил с порога:
– Пошли дела, ваше благородие, ваше степенство!
– Садись, – сказал Ахиллес. – И нечего было бегом бежать, тут всего-то два шага…
– Так пошли же дела, ваше благородие!
Теперь Ахиллесу было совершенно ясно, что и в Артамошкином случае, как у него самого и Митьки, нешуточную роль сыграли рассказы о Шерлоке Холмсе – и совершенно неважно, что они с Митькой поглощали настоящие, а Артамошка – поддельные. Денщик был охвачен тем же азартом сыскной лихорадки – яркими и интересными событиями на фоне скучных будней, размеренного бытия офицера и его денщика.
Да и Митрофан Лукич, отроду не читавший ничего, кроме торговых книг и Евангелия, был захвачен азартом.
– Болван я беспамятный! – воскликнул он вдруг. – В горячке этой сыскной и забыл! Ахиллий Петрович, еще утром раненько, когда я снимал кассу, обнаружилось: недостает пятидесяти рублев…
– Логично, – сказал Ахиллес сквозь зубы. – Новый месяц начался, вот он ежемесячный побор и взимает. Не намерен останавливаться, я смотрю… Ну, Артамон, отдышался? Рассказывай по порядку.
– Якушев пошел себе, как всегда, явно в сторону своего дома – налево свернул. Соберись он к мадам Аверинцевой, повернул бы направо…
– А чего ему там делать? – фыркнул купец. – Он туда по расписанию шмыгает, вчера только был… А Качурин чего?
– А с Качуриным вышло интересно, – продолжал Артамошка. – Никуда он сначала не пошел. Достал блокнот с отрывными листками, написал что-то на верхнем, оторвал, свернул и пошел к уличным мальчишкам – их там неподалеку целая ватага в бабки играла, да на крысоловов глядела за отсутствием более интересного зрелища. Дал одному листок свернутый, монету – тот и припустил со всех ног. Тут уж мы с Митькой ничего поделать не могли. Ваше благородие, тут не наша нерадивость, а трезвый расчет: никак мы не могли бежать за ним столь же резво в целях слежки. И он бы нас заметил, неизвестно как поступив бы, и мы бы ненужное внимание привлекли. Бежит уличный мальчишка со всех ног, а за ним тем же аллюром – гимназист с приказчиком… да впрочем, бежать следовало бы кому-то одному из нас, а второму оставаться, за Качуриным следить. Все равно, кто бы ни побежал, получилось бы нескладно, ведь не заорешь: «Держи вора!» Вот мы на месте и остались, уж не сердитесь…
– Не за что сердиться, – подумав, сказал Ахиллес. – Совершенно правильно действовали, с полным учетом окружающей обстановки… Ну а дальше? Раз Митьки нет, он за Качуриным пошел?
– Решили, что ему идти, – кивнул Артамошка. – Ваше благородие, уж простите великодушно – струхнул я идти, каюсь. Вечером в портерной сидеть – еще куда ни шло, а вот средь бела дня по главным улицам расхаживать… Да к тому же на улице самый натуральный военный патруль объявился – фельдфебель Будим, тот еще аспид, и с ним двое солдат, винтовки с примкнутыми штыками. Незнакомые какие-то, кажется, из второй роты…
– Эт-то еще что за сюрпризы? – искренне удивился Ахиллес. – С чего бы ему объявляться? Оснований нет. Все роты вместе с фельдфебелями – за городом рассредоточены.
– Не могу знать, ваше благородие, почему и отчего, но так и было – шагал Будим с двумя солдатиками, и вид у них был самого натурального военного патруля. Вот я и струхнул малость. Да и какой от меня толк, если Митька шустер? Мы с ним – сыщики одинакового мастерства, то есть, честно говоря, никакущего, но ему безопаснее. Вот я и взял извозчика, велел у пролетки верх поднять и к вам поехал. А Митька за ним пошел. Он ничего, не оглядывался, не брел беспечно, как бездельник на прогулке, а этак уверенно зашагал, словно куда-то конкретно направился…
– В какую сторону? – вмешался Митрофан Лукич.
– То-то и оно! – с не угасшим азартом воскликнул Артамошка. – Пошел влево, на перекрестке свернул налево, на Губернаторскую. А чтобы домой, ему следовало в обратную сторону, вы сами объясняли…
– Вот именно, – мрачно кивнул Митрофан Лукич. – В обратную…
– Рубите мне голову, он с кем-то должен встретиться, – сказал Ахиллес. – Записку послал, пошел отнюдь не в сторону дома… Ну а если у него встреча в ресторане или в другом из тех мест, куда гимназистам входить воспрещается, мы и это предусмотрели…
В самом деле, обдумывая вчера сегодняшние действия, как воинскую операцию, они предусмотрели и такую возможность: что, если Качурин соберется с кем-то встретиться, и это окажется ключиком? Неважно, мужчина это будет или дама, выбор мест для встречи невелик: ни в Городское, ни в Купеческое собрания (не говоря уж о Дворянском) приказчикам доступа нет. Следовательно – ресторан, приличная портерная, городской сад, набережная… В двух последних вариантах Митька сможет за ними следить невозбранно, если выпадет первый или второй – ничего не поделаешь, в роли сыщиков придется выступать самим. Здесь нет ничего несовместимого с офицерской честью или купеческим положением – они ведь не по улице пойдут, следя за дичью. Нет ничего странного в том, что почтенный купец и его квартирант-подпоручик зашли пообедать в ресторан или посидеть душевно в приличной портерной…
Так что Митька загодя получил соответствующие инструкции (от Ахиллеса) и три рубля серебряной мелочью (от дяди). Окажись Качурин в недоступном для Митьки месте, ему следовало немедленно взять извозчика и мчать для доклада. На извозчиках гимназистам ездить не запрещено… Ахиллес отослал Артамошку, чтобы тот вернулся в прежний обычный облик, и они с Митрофаном Лукичом вновь сидели, нещадно паля папиросы. В конце концов купец не выдержал:
– Не в обычае у меня пить в полдень, да когда такое… Ахиллий Петрович, у вас коньячок вроде оставался? По глотку для успокоения нервов, а? Если у вас закончился, я из дому принесу. Не поверите, нервишки аж звенят…
– У меня нечто схожее, – признался Ахиллес. – Наконец началось что-то, хоть и непонятно пока что… Осталось у меня немного, не утруждайтесь…
В самом деле, нашлось с полбутылки. Ахиллес принес те же чайные стаканы и после короткого размышления над пределами разумной для успокоения нервов дозы наполнил их так, что вышло менее трети, но более четверти – если подсчитать, именно та винная порция, что ежедневно выдается матросам на военном флоте. Развел руками:
– Вот закусить у меня совершенно нечем. У барышни непременно нашлись бы в комнате конфеты либо пряники, но я ж не барышня…
– Обойдемся, – махнул рукой Митрофан Лукич. – Подумаешь, глоток… Когда я в Москве или Петербурге, завершив дела, принимался со знакомыми душой расслабляться, всякое случалось. Однажды, выехавши за город, пришлось два часа шустовский морковкой заедать, на ближайшем крестьянском городе воровским образом надерганной. Ну выехали мы уж хороши, корзинка с провизией незаметным образом из экипажа и выпала. Зато корзинка с коньяком, все время особому вниманию подвергаясь, уцелела. Уж бутылку русский человек никогда не потеряет, верно вам говорю! И ничего, в лучшем виде прошло, душевно до рассвета на сене посидели – с коньячком и охапкой моркови, коей запас еще раз пополнили. – Он фыркнул в бороду. – На рассвете хозяин огорода объявился, начал ходить поблизости и бурчать про всяких, которые безобразят – да мы ему рот-то золотым червонцем запечатали, так что он нам сам еще надергал… Коньяку у нас тогда было много, а здесь и пить-то нечего, даже морковки не надо…
– У нас тоже всякое случается, – сказал Ахиллес. – Иные пьют и под собачий брех вдали, и под выглянувшую из-за облаков луну, да мало ли подо что…
Разделавшись со своей дозой в два глотка, они самым небрежным тоном говорили о всяких пустяках – отгоняя волнение. Сидеть молча было бы чересчур тягостно.
– А вот еще, мне туляки рассказывали, с тараканом пьют, – сообщил Митрофан Лукич. – Ловится, стало быть, таракан поздоровше, привязывают его ниткой за лапу, отпускают и стопку – хлоп! «За отъезд!» А потом таракана назад за ниточку притянут: «За приезд!»
– Ну, это и у нас в ходу, – усмехнулся Ахиллес. – Сам не участвовал, но наблюдал однажды…
– А вот еще рассказывали архангельские, что у них…
Он замолчал, и оба повернулись к забору. Точно так же, как совсем недавно, застучали колеса пролетки, послышалось громкое «Тпрру!» – и в калитку влетел Митька, отсюда видно, с лицом радостным и возбужденным. Как давеча Артамошка, он чуть ли не бегом припустил во флигель. Чуть ли не закричал с порога:
– Ахиллес Петрович, дядюшка, я его берлогу нашел!
– Стоп! – сказал Ахиллес резким командным голосом. – Отставить! Сесть и успокоиться!
Он давно уже усвоил, еще со времен училища, что именно такой тон как нельзя лучше унимает излишнее возбуждение. Подействовало и теперь: Митька замолчал, послушно присел на старенький венский стул. Когда Ахиллес счел, что мальчишка успокоился в должной степени, сказал уже штатским голосом:
– Рассказывай, Митя. Итак, пошел ты за ним…
– Не далеко и не близко, – сказал Митька. – Он, правда, оглянулся, один раз за всю дорогу, только я и не подумал стушеваться – как шел не торопясь, словно бездельем маюсь, так и шел. Потом он уже и не оглядывался. Шел недолго. Пришел на Пироговскую и вошел в подъезд доходного дома Кафтанова, с таким видом, словно бывал здесь не впервые – уверенно, не мешкая…
Ахиллес поднял ладонь:
– Минуту, Митя, – повернулся к Митрофану Лукичу. – Я в городе достаточно долго живу, чтобы знать: Пироговская так поименована отнюдь не в честь каких-то пирогов, а по имени великого нашего хирурга Пирогова. Но не такой уж я старожил, чтобы знать, что собой представляет доходный дом Кафтанова. Не объясните ли?
– Доходные дома бывают разные, – сказал Митрофан Лукич. – Бывают приличные, а бывают и такие, что туда и городовые только гурьбою идут. Кафтановский – из приличных, для чистой публики… ну, не самой зажиточной, однако ж – чистой. Большинство квартир сдается надолго – людям главным образом семейным. Чиновники средней руки, не самые богатые доктора, торговый люд не особенно высокого полета. Даже офицер вашего полка квартирует.
– А, ну да, – кивнул Ахиллес. – Штабс-капитан Веденеев с женой и дочерью. Бывал я у него однажды в гостях в том самом доме, только представления не имел, что это и есть доходный дом Кафтанова – на доходных домах любого класса вывесок ведь не вешают. Пироговская, номер двадцать пять, ну да… Три этажа, немаленький, в порядке содержится… В самом деле, приличный, не дорогой, но и не дешевый. Что было дальше, Митя?
– А дальше я дверь приоткрыл тихонечко и вошел на цыпочках, – сказал Митька. – Дом приличный, но все же не такой респектабельный, чтобы в подъезде швейцар имелся. Поднялся я на первый этаж, слышу – в двери справа ключ в замке поворачивается. Осторожненько так на второй этаж поднялся – никого. Это он своим ключом дверь отпер и вошел. Раз так, то в квартире, кроме него, никого нет – иначе бы позвонил. Второй этаж, направо, пятнадцатая квартира. Раз у него есть свой ключ, он там и живет, быть может?
– Не по приказчичьему жалованью там все же квартиры снимать, – сказал Митрофан Лукич и покривился. – А может, туда-то мои денежки и уходят…
– Возможно, – сказал Ахиллес. – Или он в столь хороших отношениях с нанимателем… или нанимательницей, что имеет свой ключ… Митька, выйди-ка на минутку, в прихожей посиди, – неожиданно распорядился Митрофан Лукич.
Митька улыбнулся чуточку смущенно:
– Да я, дядюшка, и так в классе наслушался…
– Все равно изыдь! – взревел купец так, что Митька опрометью вылетел в прихожую. – Вот, изволите видеть! Уже в ихнем сопливом классе болтают! А старшие, точно знаю, похаживают тайком в те дома, что и выговорить противно… А все почему? Не дерут их больше. Во времена моей юности гимназеров и розгами драли, и в карцер сажали. А этим устроили… либерализьм. Вон Истомин образование получил, в разных заграницах бывал, так я сам слышал в Купеческом собрании: рассказывал, в Англии до сих пор порют, и не одной розгой – целым пучком. И не где-то там в приходской школе, а в университетах, где обучаются дети самой что ни на есть титулованной аристократии. Ничего, на пользу идет. Вон какую империю себе англичашки сколотили, на полмира. Потому что, если юнца с детства драть, приучается…
– Митрофан Лукич, – удивленно сказал Ахиллес. – Вы что же, хотите сказать, что и у Кафтанова… дом свиданий? Мне его дом показался очень приличным…
– Ну, не целиком чтобы… – сказал Митрофан Лукич, морщась. – Но с полдюжинки квартир и он держит для этих самых целей. Кафтанов – тот еще жук и выгоды своей не упустит. Их же, квартирки такие, можно сдавать, в отличие от обычных жилых, и вовсе поденно. Кумекаете выгоду? И бывает там самая чистая публика, каковой в местах попроще никак нельзя себя обозначать… Это значит, Антон Качурин, своровавши сотни полторы, решил, что он в чистую публику пролез? Ну, я ему, аспиду…
– Митрофан Лукич, – твердо сказал Ахиллес. – Давайте-ка Митьку вернем. Может, у него еще что-то интересное…
– И точно. – Купец немного успокоился. – Митька! – взревел он. – Как лист перед травой!
Вошел Митька, все еще отводя взгляд.
– Вызнал чего еще? – спросил Митрофан Лукич.
– А ругаться не будете, дядюшка? – поинтересовался шустрый отрок.
– Не буду, – сказал Митрофан Лукич. – Если что толковое узнал.
– То-то и оно, что узнал! – Митька повеселел. – Дом приличный, но все ж не настолько, чтобы в подъезде швейцар торчал. А вот дворник, я так рассудил, непременно есть, как же в таком доме без дворника? Обошел я дом, и точно – на задах, рядом с сараями, дворницкая. И дворник там. Ну, поговорили мы с ним про ту квартиру и жильца, можно сказать, по душам… Два месяца назад снял эту квартиру господин Чудов. Литератор. Сказал, что дома ему писать хлопотно – дети малые, младшенький и вовсе еще ползает, кричит целый день, сосредоточиться мешает. Вот он и будет сюда три раза в неделю приходить – поработать без помех часов несколько. Так что вид на жительство в часть являть не следует[19]. Есть такое подозрение, что дворнику он изрядно на лапу сунул, только молчит, борода-лопатой. Мне, сказал, что? Я, как положено, околоточному доложил, тот подумал и говорит: такой Чудов в числе разыскиваемых лиц не значится, так что пусть себе живет. Только, говорит, поглядывай, Ефим. А Ефим мне жалуется: как тут поглядывать, когда он приходит, и верно, по три раза в неделю, но вовсе не в определенные дни. Не торчать же из-за него весь день во дворе как пришитый, своих забот хватает.
Митрофан Лукич вкрадчиво спросил:
– Это что он так с тобой разоткровенничался? Денег я тебе давал не особенно много, на извозчика разве что…
– А ругать не будете?
– А полезное еще есть?
– Есть, – уверенно сказал Митька.
– Тогда не буду. Вали как с моста.
Митька уставился в потолок:
– Да понимаете, дядюшка, Ахиллес Петрович… Я ему сказал, что жильцом этим Охранное отделение интересуется. Многозначительную такую физиономию состроил, про Сибирь намекнул, если станет болтать. Тут он и пустился в откровенность…
Казалось, Митрофана Лукича сейчас хватит удар, но он как-то овладел собой. Страшным шепотом произнес:
– Выдеру, как бог свят… Ты на что замахнулся? Это ж Охранное…
– А кто узнает? – пожал плечами Митька со всей юной беззаботностью. – Не Ефим же расскажет – он напуган был насмерть, не сразу я добился членораздельных показаний… А что? У нас многие в гимназии знают, что старшеклассников порой Охранное за-аген-ту-ри-ва-ет. – Он с явным удовольствием произнес словечко из лексикона настоящих сыщиков. – А мне не раз говорили, что старше своих пятнадцати выгляжу, не пойдет же он туда выяснять, служит при них такой или нет. Вы б его видели… Зато кое-что да узнал. И более того…
Митрофан Лукич, явно собиравшийся все-таки дать племяннику нахлобучку, мгновенно, сразу видно, от этого намерения отказался.
– Что? Более того? – практически хором спросили они с Ахиллесом.
Смущение на Митькином лукавом лице на сей раз явно было наигранным, тут и гадать нечего.
– Вы, дядюшка, ругайте не ругайте, но коли уж я про тот дом и так слышал… верней, о некоторых его квартирках… Вот и стал рассуждать дедуктивным методом. Если и эта квартира – такая, то дама либо там его ждала, либо сама подойти должна… ну, или подъехать. Вышел я со двора, перешел улицу… А там, сами знаете, охотничий магазин Палкина. В витрине всякие ружья, иностранные в том числе, чучела уток для приманки, рыболовные снасти… И стекло зеркальное. Там не только мальчишки торчат и глаза таращат, но и взрослые иногда останавливаются. Вот уж где стоять можно сколько угодно, не вызывая подозрений… И оглядываться не надо – в зеркальное стекло подъезд видно. Стоял я так, стоял… Сколько времени точно прошло, не знаю, но поменее четверти часа. И не зря стоял. Подкатил извозчик, и сошла с него дама… а может, девица. В белом платье, вуалетка густая, так что лица не видно совершенно. И в подъезд. Я снова следом, на цыпочках. Слышал, как она на втором этаже позвонила в ту самую квартиру. Ну, и припустил докладывать, все равно ничего больше не узнать…
– Так… – протянул Митрофан Лукич. – Вот так… Вуалетка… Вот что, Митька, беги за угол, на Поварскую, там всегда возле трактира пара-тройка извозчиков торчит – заведение приличное, клиент солидный… Пригони одного сюда, живо! Одна нога уже там!
Митька проворно выскочил.
– Что вы намерены делать, Митрофан Лукич?
– Да ничего особенного, – сказал купец, злорадно улыбаясь. – Помчу я туда, что твой Сивка-Бурка, да зацапаю молодчика на горячем. Посмотрим, на кого он мои денежки мотает…
– Митрофан Лукич! А если там… дама из общества? Всякие бывают амуры…
– Ну и что? – фыркнул купец. – Ежели дама и впрямь из общества, да еще замужем, ей огласка будет хуже смерти. Промолчит, как миленькая. А уж я этого сукина сына в толчки… О! – Он повернулся к окну, поднял указательный палец. – Колеса стучат, Митька быстро расстарался. Ну оголец! Охранное отделение приплел… Вы со мной, конечно, Ахиллий Петрович? Прижмете его вашим дядюшкиным методом – у меня-то никак не получится, мы люди простые, а он склизок, как налим…
– Я?! – удивился Ахиллес. – А уместно ли мне будет…
– А что ж тут неуместного? – возразил Митрофан Лукич. – Я своего вороватого приказчика уличать отправился, вас вот по дороге встретил, вы со мной по благородству духа и отправились, узнав, в чем дело, – чтоб, зная мой крутой нрав, не допустить смертоубийства или там калеченья… И что здесь противного офицерской чести? Ну, Ахиллий Петрович! Дело вы распутали, как заправский Шерлок Холмс, а конца своими глазами и не увидите? Ничего тут неуместного! Никаких нарушений Уголовного уложения, верно вам говорю. Сколько уж таких голубков накрывали в самый неподходящий момент… Что же, не хотите увидеть результат успешного сыска вашего? Все уместно!
Ахиллес поднялся, одернул летнюю рубаху. Ему и в самом деле чертовски хотелось увидеть плоды своих трудов – когда это Шерлок Холмс не появлялся на сцене в финальный момент и не вносил полную ясность? И потом, если подумать… Пожалуй, это как нельзя лучше подходило под категорию офицерских проказ, ни один ревнитель чести не придерется…
…Митрофан Лукич грузно выпрыгнул из пролетки первым и направился во двор, цедя сквозь зубы:
– Есть ли тут черный ход, как не быть… Все устроим в лучшем виде, в точности как мадам Шагарина…
– А если у него черный ход на щеколду заперт? – отчего-то тихо спросил Ахиллес, чувствуя, как и его начинает охватывать охотничий азарт.
– Вышибу, – веско сказал купец. – Силушку подрастерял, но все ж окончательно ею не обижен, на дверь хватит. Это парадные двери делают на совесть, а на черных ходах они хлипконькие.
Он тихонько, на цыпочках, поднялся первым по узкой лестнице, пропахшей кошками и еще чем-то дрянным. Остановился перед нужной дверью, обернулся и вовсе уж шепотом спросил:
– Ахиллий Петрович, а вы револьвер-то взяли?
– Нет, конечно, – сказал Ахиллес, поморщился. – К чему такие крайности, Митрофан Лукич?
– А помните, что Колька вашему Артамошке рассказывал? Про девицу с телефонной станции? У него ж при себе револьверчик, он ей под нос совал, стращал… Вдруг палить начнет…
– Вздор, – сказал Ахиллес, чуть обдумав. – Средь бела дня, в центре города почти? Да и дело, уж простите, довольно-таки копеечное, из-за таких в людей не стреляют…
– Копеечное… а ежели каждая копейка тяжко достается? – проворчал купец. – А так-то вы правы, с чего б ему, не варнак с каторги… Сызмальства в нашем городе обитает, личность всем знакомая… Ну, благословясь…
Он осторожненько потянул на себя двумя пальцами деревянную ручку двери – и она стала отходить, даже не скрипнув. Обернувшись к Ахиллесу и победно ухмыльнувшись, купец вошел первым. Они, стараясь ступать как можно тише, миновали опрятную кухню (сразу видно, давно не использовавшуюся по назначению), купец так же тихо открыл вторую дверь, уже выглядевшую вполне «господски». Ну да, «чистая половина», нечто вроде прихожей, куда выходили три двери. Оба старательно прислушались, потом Пожаров кивнул на одну из дверей, самую близкую. Там, и точно, слышался тихий разговор, какое-то движение.
Митрофан Лукич влетел в дверь первым. Ахиллес вошел следом.
Спальня, как и следовало ожидать, небольшая, но уютная. Раздался женский визг, и лежащая в постели проворно прикрылась простыней до глаз. Качурин так и остался стоять, остолбенело взирая на ворвавшихся – без пиджака и жилета, в расстегнутой рубашке. Разумеется, он был без парика и усиков на манер французского комика, но, как и по прежним наблюдениям Ахиллеса, выглядел этаким роковым красавчиком с экрана синематографа или сцены захолустного театра.
Опомнился он очень быстро. И улыбнулся даже как бы и нагловато:
– Ах, вот это кто… Его степенство Митрофан Лукич… И квартирант его, изволите ли видеть… Ай-ай-ай… Негоже почтенному купцу первой гильдии вот так вламываться разбойничьим манером в чужую квартиру, а уж господину подпоручику тем более…
Странное дело, но он выглядел чертовски спокойным. Быть может, это и есть его подлинное лицо, подумал Ахиллес, а в лавке он не более чем играет классический образ приказчика – как, без сомнения, и в заведении мадам Аверинцевой играет какую-то третью роль…
– Да я тебе сейчас… – грозно сказал купец, набычась.
Лежащая в постели женщина вдруг форменным образом взметнулась, кутаясь в необъятную белую простыню, придерживая ее на груди, спрыгнула на пол и встала, заслоняя Качурина.
Ахиллес оторопел. Перед ним стояла не кто иная, как Варенька Истомина, но в таком облике он ее никогда не видел – хоть вакханку[20] с нее пиши; черные волосы разметались по плечам, серые глаза пылают яростью, так и кажется, что сейчас бросится, вцепится всеми десятью коготками. Варенька Истомина, бывшая закадычная подруга Ванды и Катеньки Макеевой, два месяца назад отчего-то покинувшая «тройку неразлучниц». «Все сходится, – подумал он. – У меня крутилось в голове треть и два месяца. Два месяца назад начались кражи в лавке, два месяца назад Качурин снял эту квартиру. Два месяца назад меж девицами пробежала черная кошка. Все сходится. Вряд ли дело тут в ревности – скорее всего, разоткровенничалась с подругами, а те не одобрили ее выбор, и она на них обиделась смертельно.
Нет, не похожи треть и два месяца на простое совпадение, так не бывает, не зря же у них были такие лица…»
Да, вот именно, Варенька Истомина. Благонравная доченька одного из местных крезов[21], если и отстававшего в неких скачках от Зеленова или Шлегера, то не более чем на голову…
Он оторопел, совершенно не представляя, что тут можно сказать. Покосился вправо, Митрофан Лукич тоже стоял в полном оцепенении.
– И что же это за фокусы? – прикрикнула Варенька, сделав шаг вперед (к чести Ахиллеса, он не отступил, хотя оставалось впечатление, что в него хотят вцепиться всеми коготками). – Как вы смеете вот так врываться к влюбленным? Вот уж от вас никак не ожидала – офицер, подпоручик… И вы, господин Пожаров… Что за поведение? На шантажистов вы никак не похожи. И вряд ли бы мой отец, озабоченный моей нравственностью, отправил бы следить за мной именно вас… Объяснитесь, наконец!
– Извините, Варвара Игнатьевна… – не сказал, а промямлил Митрофан Лукич и сделал шаг назад, чуть подтолкнув локтем Ахиллеса. – Честное благородное слово, квартирой ошиблись…
– Интересно, интересно… – прищурилась Варенька. – Это что же у вас за загадочные дела такие, что вы преспокойно намеревались ворваться в чью-то квартиру черным ходом? Надо полагать, на третьем этаже над нами, больше здесь этажей и не имеется… Ну, у Ахиллеса Петровича, полгорода знает, голова забита романами о сыщиках, но вы-то, купец первой гильдии… Вот бы не подумала, что и вам такое свойственно…
– Извините великодушно, – мямлил Митрофан Лукич, отступая к двери бочком-бочком и увлекая за собой Ахиллеса. – Квартирой ошиблись…
Глянув через его плечо, Ахиллес перехватил взгляд Качурина – самодовольный, триумфальный даже, наглый. И начал кое-что соображать в происходящем.
– Минуту! – остановил их прозвучавший резко голос Варечки. – Я надеюсь, вы не намерены сплетничать моему отцу, – и она улыбнулась прямо-таки обворожительно. – Это все равно бессмысленно, мы намерены обвенчаться в самом скором времени… Не смею вас более задерживать, господа… а вам, Ахиллес Петрович, не стоит читать столько уголовных романов, они на вас вредно действуют. Уделите лучше внимание Ванде, она от вас без ума. Может, и перестанете врываться в чужие спальни…
Она добавила что-то еще, язвительное, насмешливое, но Ахиллес уже не разобрал слов, – Митрофан Лукич уже форменным образом выдернул его, как морковку из грядки, на лестницу черного хода и, вцепившись в локоть, потащил вниз. Лицо у него было потерянное. Заговорил он только на улице:
– Надо же так обмишуриться на старости лет… Но кто ж знал-то…
И он прямо-таки побрел со двора. Ахиллес шагал следом, и в мыслях у него был совершеннейший сумбур. Наконец промолвил:
– Что же вы ему не сказали ничего?
– А смысл? – угрюмо отозвался Митрофан Лукич. – Слышали, что она поначалу крикнула? Влюбленные! – горько передразнил он. – Но отрубите вы мне дурную седую голову, а влюбленный там только один… точнее, одна. Видели эту рожу? Альфонс, как есть альфонс[22]. Да нет, пожалуй, он повыше метит, слышали, эта дуреха про венчание говорила? И ведь может выгореть у прохвоста. Ей уже семнадцать с тремя месяцами, из «малолетних» вышла, перешла в «несовершеннолетние в тесном смысле», больше прав получила, еще легче обвенчаться будет. И вот-с, пожалуйте в дамки! – Он грустно рассмеялся. – Единственная наследница всего истоминского. Он, предположим, далеко не стар, помоложе меня будет – ну да такие ждать умеют. Игнатий Аркадьич наследства наверняка ее не лишит, он человек новой закваски, не то что мы, старики, да и обожает ее безмерно. Посердится, да и смирится. Была бы жива покойница супруга… А так… – Он безнадежно махнул рукой. – Еще чего доброго придется мне с этим прохвостом в Купеческом собрании раскланиваться, да за одним столом обедать…
А что тут можно сделать? – уныло продолжал Митрофан Лукич. – Игнатий Аркадьич все равно еще неделю в Париже пробудет, да пока вернется, еще время пройдет. Телеграмму отбивать? Нет уж, не хочу срамиться на старости лет. Да и потом… За руку-то я его у кассы не ловил. Что бы мы Игнатию Аркадьичу не сказали, она, паршивка этакая, будет твердить, что мы на него клевету возводим, а он любимой доченьке поверит скорее, чем нам, – давно его знаю, в делах жесток, а вот что до дочки… А уж она что-нибудь придумает. Вот возьмет да скажет, что все эти поклепы вы из ревности затеяли. Вы ее, стало быть, склоняли к разным непристойностям, как давеча Зеленов Ванду – наслышаны, как же, – а она, любя своего милого, вам отказала категорически, вот вы и решили отомстить… Скажете, не может такого быть?
– Может, – со вздохом ответил Ахиллес. – От женщин и не такого можно ждать.
– И ничего-то ей не докажешь, – вздохнул Митрофан Лукич. – Ум у нее отцовский – так они же, влюбившись без памяти, всякий ум теряют, как пьяный шляпу…
– Знаете, что мне пришло в голову? Может быть, он оттого и скрывал, что кончил гимназию, пусть экстерном? Что получил чин прапорщика запаса? От всех скрывал, но не от нее…
– А зачем?
– Девицы в этом возрасте любят чувствительные романы, – сказал Ахиллес. – По своей сестре знаю. А там всякие страсти бывают намешаны. Скажем, юный граф, бедный как церковная мышь, вынужден служить простым официантом в таверне…
– Таверна – это что?
– Трактир по-нашему, – сказал Ахиллес. – Только заграничный. Может, он ее на этом и подсек? Юноша из почтенной семьи после разорения родителя впал в житейское ничтожество, вынужден был простым приказчиком на жизнь зарабатывать. Но рук не опустил, и гимназию окончил, и золотые погоны заработал… На романтических девиц такое действует…
– Самое печальное, что и на Игнатия Аркадьича может подействовать, – понурился Митрофан Лукич. – Подумает: не ветрогон какой, упрямый молодой человек, вон чего своими руками добился… Он, конечно, как любой на его месте, думал о гораздо более выгодной партии, но коли уж так все обернулось – за неимением гербовой пишут на простой… А уж если она ему в ноги кинется и зарыдает: папенька, у меня дите под сердцем… У этого прохвоста ума хватит ее и так подучить…
– Что же, ничего нельзя сделать? – спросил Ахиллес, такое впечатление, самого себя.
– А что тут поделаешь? Это вон в романах да на сцене, Ахиллий Петрович, добродетель всегда торжествует, а порок наказан бывает. В жизни оно далеко не всегда так благостно складывается. Хорошо вы поработали, ничего не скажешь, да, выходит, впустую. И так в жизни не все на свете от тебя зависит.
«Ванда с Катенькой? – подумал Ахиллес. – Они определенно что-то знают. Нет, не годится их привлекать к такому скандалу, никак нельзя, не по-мужски выйдет, не по-офицерски…»
– На дуэль его вызвать, что ли? – вслух предположил Ахиллес.
– А что, сможете человека так вот убить? – прищурился Митрофан Лукич.
– Не знаю, – честно признался Ахиллес.
– А этот, чует мое сердце, убьет и не поморщится. И никому от этого легче не будет. И не поморщится, – повторил он. – Когда на карте такая ставка…
– Да, сболтнул не подумавши, – сказал Ахиллес. – Он ведь может вызова и не принять. Будь он на службе, там никаких двусмысленностей – или принимай вызов, или подавай в отставку. А так… – И он с тяжким вздохом повторил: – Что же, ничего нельзя сделать? И достанется этому скоту и девица, и все остальное…
– Вот крутится что-то такое в голове, – сказал Митрофан Лукич с видом напряженного раздумья. – Только сам не пойму что. С отцом дьяконом посоветоваться разве? У него ума палата, языки иностранные знает, в церковных делах дока, не то что мы, грешные… А знаете что? Все равно отец дьякон сейчас в Казани. Пойдемте в ресторан, хотя бы к Агафошину, а? Оба мы с вами сегодня, выходит, от дела лытаем, так не завить ли по-русски горе веревочкой? Не шибко усердствуя, этак на пару узелков? Глядишь, и отпустит?
– А пойдемте, пожалуй, – вздохнул Ахиллес.
Кровь, золото, собака
Под утро снилась какая-то фантасмагорическая ерунда: беготня, топот копыт, чьи-то испуганные крики, и над всем этим стоял надрывный женский плач. Ахиллес пытался в полудреме отогнать эти видения – и не сразу понял, что это ему не снится. Что не так уж и далеко разносятся женские рыдания, копыта уже не стучат, но неподалеку слышен конский храп и громкие – чересчур громкие для утренней улицы – разговоры. И колеса простучали мимо забора. И кто-то что-то покрикивал фельдфебельским тоном.
У кого-то из соседей что-то, безусловно, стряслось, и вряд ли приятное, судя по громким женским рыданиям – прекратившимся, впрочем, когда Ахиллес вышел в прихожую (где не обнаружил Артамошки). Такое впечатление, что женщина голосила во дворе, а сейчас ее увели в дом.
В кухоньке Артамошки тоже не наблюдалось – ну конечно, глазел на то, что произошло. Ахиллесу тоже было интересно, что случилось совсем рядом с местом его постоянного расквартирования, но несолидно было как-то выскакивать на улицу, уподобившись денщику. Он тщательно умылся, гремя соском жестяного рукомойника (цивилизация в виде водопровода в этот околоток еще не добралась), почистил зубы, сноровисто зажег бульотку, достал из хлебницы большой бублик, намазал свежайшим вологодским маслом. Сегодня можно было побаловать себя и кофе – вчера пришли деньги от дядюшки. Дядюшка аккуратно высылал пятнадцать рублей в месяц, в свое время Ахиллес пробовал протестовать, упирая на то, что он теперь человек взрослый и самостоятельный, на что получил ответ: «Хотя ты и взрослый, да не более чем субалтерн. А уж я-то знаю, каково жалованье субалтерна». Да вдобавок приписал, что недавно составил завещание, где назначал Ахиллеса единственным наследником (он был бездетным). Новость эта Ахиллеса ничуть не обрадовала – дядюшку он любил не меньше, чем отца с матерью, и предпочел бы это наследство получить как можно позже. Но мать в последнем письме сообщала, что дядя плох и без палочки на улицу уже не выходит, да и ноги порой отнимаются, особенно правая, по которой когда-то хлестнула хивинская картечь, да так, что ногу едва не отняли…
Он уже допивал кофе, когда появился Артамошка, вытянулся с виноватым видом:
– Ваше благородие, простите уж, что кофию не сварил, но вы ж обычно встаете попозже…
– Ладно, один раз прощается, – отмахнулся Ахиллес. – Шум какой-то на улице разбудил. Что стряслось? Ты ж, ясно, туда уже бегал.
Артамошка зачем-то понизил голос:
– Так что, изволите знать, ваше благородие, у соседей беда, у его степенства Фрола Титыча Сабашникова. То ли смертоубийство, то ли сам зарезался, никто пока толком не знает… Доподлинно известно только, что мертвехонек и нож в нем торчит…
Дела, покрутил головой Ахиллес. Сабашников, сокомпанеец и приятель Пожарова, обитавший от него через дом, частенько заходил к Митрофану Лукичу погонять чаи за самоваром, а то и отведать чего покрепче. В таких случаях Пожаровы всегда приглашали за стол Ахиллеса, и он никогда не отказывался, чтобы не обидеть хозяев. Слушать Сабашникова всегда было интересно – он в свое время, еще молодым, поставлял провиант на театр военных действий во время турецкой кампании и рассказывал много любопытного – как в прошлый раз, не так уж давно, на Петровки[23]. Хотя ему и стукнуло шестьдесят, старик был крепкий, женат по вдовству вторым браком на довольно красивой офицерской дочке более чем вдвое себя моложе – и супружница, по мнению Ахиллеса, никак не выглядела недовольной семейной жизнью.
Невозможно было представить этого кряжистого, жизнерадостного человека мертвым, с ножом в груди… И уж тем более самоубийцей. Что до убийств, то Ахиллес за год с лишним здешнего обитания слышал только об одном, случившемся в босяцких трущобах. А самоубийств на его памяти не случалось вообще. Как-то редки были в этом захолустье и убийства, и крупные грабежи, и серьезные кражи – хотя мелких хватало, в основном трудами тех же галахов…
Он туго подпоясался, надел фуражку и неторопливо вышел за ворота. Посмотрел направо, стараясь не показывать особенного интереса – несолидно для офицера уподобляться зевакам. А они были тут как тут – перед воротами стояли человек пятнадцать и таращились на высокий забор так, словно надеялись увидеть сквозь него что-то интересное. У ворот – три шага влево, три вправо – степенно расхаживал осанистый усатый городовой, с тем загадочно-многозначительным видом, какой принимают низшие полицейские чины, когда им и самим ничего толком не известно. Зеваки состояли главным образом из простого народа, или «серой публики», как ее еще иронически называли в отличие от публики «чистой». И, конечно же, половину зевак составляли вездесущие уличные мальчишки – и подходили новые. Тут же, у ворот, стояли две пролетки, явно не извозчичьи.
Стукнула калитка, вышел человек и скорым шагом, чуть ли не как егерь на марше, направился в сторону Ахиллеса. Тот удивленно поднял брови: за все время, что он был знаком с Пожаровым, впервые видел, чтобы Митрофан Лукич показался на улице без сюртука, в одной расстегнутой жилетке поверх синей шелковой косоворотки – в отличие от дельцов, если можно так выразиться, новейшей формации вроде Зеленова и Истомина, Пожаров в одежде был крайне консервативен, даже старомоден, а в ответ на беззлобные подначки более, так сказать, прогрессивных коллег по гильдии только фыркал: «Вы меня еще на моторе прокатите или в этот ваш сунематограф сводите! Деды ничего такого не знали, а с грошика миллионные дела возводили…» Появиться для него в таком виде на улице было все равно что Ахиллесу заявиться в полк в полной форме, но с котелком на голове. Не на шутку взволнован, отсюда видно…
– Беда какая, Ахиллий Петрович, голубчик! – выдохнул он, ухватив Ахиллеса за локоть крепкими пальцами и едва ли не втолкнув во двор. – А ведь сколько лет были приятели… Слышали уже?
– Артамошка говорил, – сказал Ахиллес. – То ли убийство, то ли самоубийство, верно?
– Вот насчет самоубийства я б говорить поостерегся, – уверенно сказал Митрофан Лукич. – Фролушка был человеком верующим, истовым, ни за что б не пошел на смертный грех – руки на себя накладывать. Однако ж дело запутанное, как клубок, с которым котенок игрался… Не понимаю я…
– Чего?
Пожаров придвинулся вплотную и азартно зашептал:
– Ахиллий Петрович, милый, драгоценный мой, яхонтовый! Уважьте старика, что вам стоит? Мы ж столько лет были с ним приятели, должен я знать, что стряслось! Вон как вы лихо с Качуриным, как все у вас ловко вышло. Может, и тут дядин метод попробовать? Ну что вам стоит? Все равно в службу не ходить, нечем вам заняться… А? Ахиллий Петрович, ну хотите, я пред вами на коленки встану?
Ахиллес форменным образом оторопел:
– Вы что же, предлагаете сыск вести?
– Да вот именно! Пойдемте, пока Фрола в мертвецкую не увезли, а то ведь, доктор сказал, подъедут скоро…
– Но позвольте! Это дело полиции…
– Толку от нее как от козла молока, – сердито сказал Пожаров. – Пристав с околоточным только и умеют, что по торжественным дням спозаранку с поздравлениями являться[24]. Едва рассветет, уж тут как тут, праздничные денежки грести… Приходил Фомичев, что в нашей части сыскной комнатой заведует, – барсук старый, в отставку сто лет пора… И агенты там у него начальству под стать… Провинция, Ахиллий Петрович, глухомань! Раз в сто лет случится что-то серьезное, и то много. Вот и разленились, давным-давно нюх потеряли, только и умеют, что галахов по мордасам щелкать, если поймают на мелочи.
– И что?
– Да ничего. Покрутился он там, лобик с умным видом нахмурил, да и пошел восвояси, сказав напоследок: след, мол, имеется…
Ахиллес улыбнулся:
– Помню, в одном романе герой говорил: след на виселицу за убийство не вздернешь…
– Святая правда! Умный человек был сочинитель, сразу видно. Только никакого следа у него нету, по роже унылой видно было… Ахиллий Петрович, золотой мой, ну пойдемте! У вас же метод… и хватка, я уж убедился, имеется. Вдруг да усмотрите то, чего этот байбак не сообразил на заметку взять? Христом Богом прошу!
Ахиллесом владели самые противоречивые чувства, с одной стороны, в отличие от случая с Качуриным, перед ним было самое настоящее убийство (в самом деле, какой искренне верующий на самоубийство пойдет?). Что греха таить, чертовски хотелось оказаться в положении Шерлока Холмса – может быть, это и мальчишество, но тянуло страшно, словно пьяницу к кабаку. С другой… История с Качуриным, самому себе можно признаться, вовсе не сделала его настоящим сыщиком. Так что велик риск опозориться. Разговоры пойдут, насмешки, сплетни, до полкового начальства рано или поздно дойдет. Взыскания можно запросто дождаться, если решат, что он поступил против офицерской чести, Шерлока Холмса вздумал разыгрывать… Очень уж чревато.
Но Митрофан Лукич смотрел так умоляюще, заискивающе даже – и ведь неплохой человек, как к родному относится… Ахиллес сделал слабую попытку удержать последний рубеж обороны (ох, эта тяга испытать все самому!):
– Кто же мне разрешит? Там наверняка пристав…
– И околоточный тоже, куда ж без него…
– В конце концов, так не полагается… Какое я имею право? Они же будут препятствовать…
– Пристав с околоточным? – Пожаров уставился на него как на несмышленыша. – Я им воспрепятствую! Вот они у меня где! – Он вытащил из кармана старомодных шаровар в полосочку толстенный бумажник и звонко им шлепнул по левой ладони. – Вот тут пристав, а тут и околоточный. Один миг – и навытяжку стоять будут, любое ваше указание выполнят, а потом забудут начисто все, что было. Им со мной еще жить да жить, а над ними над всеми полицеймейстер есть, с коим Митрофан Лукич Пожаров знаком накоротке, порою в ресторане сидит, благостынями не обходит… Они ж это отлично знают, кошкины дети!
– Ну хорошо, – все еще чуть нерешительно сказал Ахиллес, обуреваемый теми же противоречивыми чувствами. – Только, Митрофан Лукич, я вас душевно прошу: если что-то не сладится, как бы сделать, чтобы никто не узнал? Меня ж на посмешище выставят… Сплетни в этом городке лесным пожаром разлетаются…
– Ни боже мой! – заверил Митрофан Лукич. – Все прекрасно понимаю, не два года по третьему. Честное купеческое вам даю: если что не сладится, ни одна живая душа словечка не пискнет! Идемте, значит?
– Идемте, – вздохнул Ахиллес.
– Минуточку погодите только! Я схожу себе авантажный вид придам самым срочным образом. Они меня знают, и я их, каналий, знаю как облупленных, да все равно, при авантаже как-то сподручнее…
– Да, конечно, – сказал Ахиллес. – Я тоже возьму кое-что…
Он быстрым шагом прошел к себе во флигель и достал из старенького комода большую лупу, купленную в последнем классе гимназии, когда мечта стать сыщиком еще не была безжалостно сокрушена родителями и дядей. Отличной германской работы фирмы «Карл Цейсс», чуть ли не с чайное блюдце величиной, двояковыпуклая, с отливавшим синевой стеклом, в бронзовой оправе с узором и вовсе уж роскошной бронзовой ручкой. Возможно, и это было чистейшей воды мальчишество, но когда это Шерлок Холмс обходился без лупы?
Митрофан Лукич уже нетерпеливо топтался у крыльца. Что ж, авантажу он себе, безусловно, придал: парадный черный сюртук, по животу толстенная часовая цепь из натурального, не дутого золота, все три награды при нем: медаль в память коронации ныне здравствующего императора, серебряная, на Андреевской ленте, медаль Красного Креста в память японской кампании (за щедрые денежные пожертвования на одоление супостата) и, наконец, большая золотая шейная «За усердие» на Станиславской ленте. Что ж, авантажно. Ахиллес ощутил даже легкую зависть – у него самого на рубахе имелся лишь знак Чугуевского военного училища, который мог быть принят за награду лишь людьми несведущими.
Они вышли из ворот. К дому Сабашникова как раз подъехала пролетка, из которой ловко спрыгнул высокий молодой человек, одетый с некоторым вкусом. На правой руке у него белела повязка, охватывавшая ладонь, котелок чуточку ухарски сдвинут набекрень.
– Ага, явился наконец, – сказал Пожаров. – А то Ульяна Игнатьевна там с бабами да с полицией… Паша Сидельников, главноуправляющий у Фрола. Голова-а…
– Подворовывает, а? – с улыбочкой поинтересовался Ахиллес.
– Уж наверняка, – серьезно ответил Митрофан Лукич. – Куда ж без этого на такой должности? Но за руку не пойман, так что, следует быть, меру знает. Но голова-а… Ценит его Фролушка… Ценил, – поправился он и помрачнел.
Зеваки с должным почтением расступились, давая им дорогу. Проживший на этой улице больше года Ахиллес прекрасно знал городового у ворот – Панкрат Кашин, всего-то годами пятью старше Ахиллеса, в японской кампании выслужившийся в унтера (о чем свидетельствовали лычки на полицейских погонах), а на груди у него красовалась медаль «В память русско-японской войны» и солдатский Георгий четвертой степени. Как пару минут назад, Ахиллес ощутил легкую зависть – Панкрат-то из-за разницы лет как раз успел…
Как полагается, Кашин отдал ему честь, но тут же сделал робкую попытку заступить дорогу, начав было:
– Ваше благородие, не положено, потому как…
Не вдаваясь в дискуссии, Митрофан Лукич ожег его взглядом, какой и у фельдфебеля Рымши не всегда получался в отношении проштрафившегося солдата, так что Кашин смиренно отступил, и они прошли в калитку. Дом Сабашникова чем-то напоминал пожаровский, хоть и был построен чуточку иначе – те же потемневшие бревна чуть ли не в два обхвата на каменном фундаменте, мезонин под высокой двускатной крышей, флигель, дворницкая…
Их встретил заливистый лай – лаз в большущую конуру был надежно задвинут толстой доской, но сверху осталась небольшая щель, и в нее безуспешно пыталась просунуться оскаленная, пенная собачья морда. Пес надрывался, грыз и без того изгрызенный край доски.
– Хорош, зверюга, – покосился в ту сторону Пожаров. – Это он на вас так, чует свежего человека. Ко мне-то он попривык, и к Паше тоже, а вот попадись ему кто незнакомый – косточек не соберешь… Здравствуй, Паша.
Спустившийся с крыльца Сидельников сказал:
– Утро доброе… – Осекся, махнул рукой. – Какое уж там доброе, Митрофан Лукич, когда такое… Извините уж, руки не подаю – ошпарился вчера по нечаянности, когда самовар гасил, не ладонь, а сплошной волдырь…
И с вполне понятным удивлением уставился на Ахиллеса. Тот неловко поклонился.
– Это, Паша, Ахиллес Петрович, – сказал Пожаров и зашептал управляющему что-то на ухо, отчего тот посерьезнел и глянул на Ахиллеса, полное впечатление, уважительно. – Доктор не уехал еще?
– Нет, еще бумаги пишет с приставом и околоточным.
– Ульяна Игнатьевна как?
– А что ж вы хотите… В задних комнатах. Марфа говорит, с утра водой отливали. Сейчас вроде притихла… В дом пойдемте?
– Подождите, Павел… – сказал Ахиллес и посмотрел выжидательно.
– Силантьевич.
– Павел Силантьевич, кто сейчас обитает в доме?
(Ему пришло в голову, что Шерлок Холмс в первую очередь задал бы именно этот вопрос.)
– Ульяна Игнатьевна, понятно, – охотно ответил молодой человек. – Марфа, кухарка. Дуня, служанка… Дворника Фому считать прикажете? Он не в доме обитает, понятно, а у себя в дворницкой, но тоже постоянный житель…
– Считаем и Фому, – сказал Ахиллес. – Что же, пойдемте в дом?
Управляющий предупредительно пошел впереди. Они оказались в большой комнате, явно игравшей роль гостиной, она же и обеденный зал – старый массивный стол, за которым могло разместиться не менее дюжины человек… ага, стульев, столь же массивных и старых, как раз дюжина. Керосиновой лампы под потолком нет, но по всем стенам – большие кенкеты[25] (и электричество сюда пока что не добралось).
За столом сидели двое – частный пристав, румяный здоровяк лет тридцати, судя по темляку на сабле, пришедший в полицию из армии с офицерским чином (вот она, мечта Тимошина… а впрочем, провинция его не прельщает с точки зрения службы в частных приставах) и лысоватый человек лет пятидесяти в темном костюме, с чеховской бородкой, при пенсне на черном шнурке. Пристав что-то неторопливо писал, а доктор (даже с расстояния в три аршина чувствовался слабый запах аптечных снадобий) наблюдал за ним скучающе, явно считая задачу выполненной. Третий, околоточный надзиратель, стоя лицом к окну, заложив руки за спину, смотрел на двор так, словно там происходило что-то крайне интересное. Похоже, ему тоже нечего было больше здесь делать, и он откровенно скучал.
Пристав удивленно поднял глаза на вошедших – и Митрофан Лукич, явно не намеренный допускать ни малейшего промедления, шагнул вперед, сказал со спокойной властностью человека, знающего цену и себе и окружающим:
– Виктор Олегович, дело у меня к вам – ну просто неотложное. Не выйти ли нам на минутку в соседнюю комнату? Просто безотлагательное дело…
– Ну что ж, извольте… – Пристав встал, такое впечатление, послушно. – Коли безотлагательное…
Подал голос доктор:
– Я так полагаю, господин пристав, я вам более не нужен? По-моему, в дальнейшем моем пребывании здесь нет нужды…
Ахиллес вежливо сказал:
– Я бы убедительно попросил вас, доктор, все же задержаться на некоторое время. Сдается мне, есть еще нужда в вашем пребывании…
Доктор воинственно выставил бороденку:
– А по какому праву вы, милостивый государь, здесь распоряжаетесь? Насколько я разбираюсь в ваших… нарядах, вы не принадлежите ни к полиции, ни к жандармерии…
Ахиллес тоскливо вздохнул про себя. С первого взгляда угадал тот крайне несимпатичный ему тип русского интеллигента, который хамство в адрес людей в мундирах отчего-то полагает признаком свободомыслия и либерализма. Ну да, тон у него такой, что ошибиться невозможно. Несмотря на молодость, он уже сталкивался с этой породой людей, все свободомыслие которых сводится к пустопорожней болтовне за водочкой в компании себе подобных и критике абсолютно всего, что бы правительство ни предпринимало…
Он сказал прямо-таки кротко:
– Сейчас господин пристав вам все объяснит…
Пристав с Митрофаном Лукичом уже скрылись в соседней комнате.
Доктор вновь уселся и, все так же воинственно задрав седеющую бородку, демонстративно стал смотреть куда-то в угол, мимо Ахиллеса с видом несчастного узника зловещей испанской инквизиции, которого сейчас станут рвать по живому раскаленными клещами или учинять что-нибудь не менее зверское. Околоточный, наоборот, отвернувшись от окна, откровенно уставился на Ахиллеса с нешуточным любопытством. Ахиллес это перенес стоически: как гласит пословица, за погляд денег не берут.
Пристав с Пожаровым вернулись уже минуты через три – причем оба выглядели крайне удовлетворенными. За спиной пристава Митрофан Лукич ухарски подмигнул Ахиллесу и похлопал по карману шаровар, где у него обычно лежал бумажник. Но и без того сразу видно, что дело устроилось наилучшим образом.
– Понимаете ли, Всеволод Викентьевич, я бы убедительно попросил вас задержаться еще на некоторое время. Дело в том, что господин подпоручик… словом, некоторым образом принимает участие в расследовании. Подробностей, увы, привести не могу – секрет-с. Вы с нами не первый год, можно сказать, работаете в тесном соприкосновении, сами знаете, есть некоторые тонкости и специфика…
– Ну, коли вы настаиваете… – не без язвительности произнес доктор тоном человека, вынужденного сдаться превосходящим силам врага исключительно оттого, что на него с разных сторон нацелена добрая дюжина винтовок и, пожалуй что, даже пушка.
– Есть ли надобность во мне, господин подпоручик? – осведомился пристав столь учтиво, что Ахиллес подумал: нет, «катеринкой» тут явно не обошлось, поднимай выше…
– Пожалуй, нет, – столь же учтиво ответил Ахиллес. – Но вот господина околоточного я бы попросил остаться. И оставить городового у калитки.
Он и сам не знал, отчего так поступает – по какому-то наитию, действуя наугад, словно ищет что-то в темной комнате.
– Слышал, Сидорчук? – повернулся пристав к подчиненному. – Остаешься в распоряжении господина подпоручика. Кашину я сам дам распоряжение.
– Слушаюсь! – браво рявкнул Сидорчук.
Пристав совершенно по-военному прищелкнул каблуками, поклонился коротким офицерским поклоном:
– Честь имею, господа!
Должно быть, он покинул армию не так уж и давно и не отвык от прежних движений. Когда он вышел, Ахиллес повернулся к доктору:
– Как состояние хозяйки?
– Я ей дал брому, – ответил доктор, на сей раз без прежнего ерничанья. – Состояние у нее, конечно, далеко от полного спокойствия, но обмороков с отливанием водой, уверяю вас, не будет.
– Значит, во врачебной помощи она не нуждается?
– Пока что, – сказал доктор. – А когда пройдет действие лекарства – трудно сказать. Переживания не из каждодневных.
– Понятно… А поговорить с ней можно?
– Сиречь допросить? – ядовито бросил доктор.
Он снова валял дурака, но Ахиллесу было решительно наплевать. Он лихорадочно искал ту печку, от которой следовало танцевать. С совершенно неуместной в данных обстоятельствах веселостью (тут же отогнанной) он подумал, что, пожалуй, находится даже в лучшем положении, нежели Шерлок Холмс. У Шерлока Холмса никогда не громоздился за спиной толстосум, способный в мгновение ока уладить все, как только что уладил Пожаров, убрать с дороги полицейского чина. Вот только положения Ахиллеса это нисколечко не облегчает: он стоял перед загадкой, не проникнув в нее ни на шажок…
– Ну зачем вы так, доктор? – спросил он вполне миролюбиво. – Просто поговорить.
– Поговорить? Но вы же всегда допрашиваете. Всегда и всех.
– А вас что, когда-нибудь допрашивали, доктор? – спросил он с преувеличенным участием, в котором лишь глупец не опознал бы иронии.
– Имел когда-то счастье общаться с вашими… коллегами, – сухо бросил доктор.
Так-так-так, сказал себе Ахиллес. Если прикинуть его возраст…
Все сходится. Нельзя исключать, что наш ехидный эскулап в юности, во времена Александра Второго Освободителя, был среди той горластой студенческой братии, что буянила на улицах и в учебных корпусах – сплошь и рядом без мало-мальски серьезного повода, просто шлея под хвост попала, как мужички наши выражаются. За кого он меня в таком случае принимает – за переодетого жандарма? Не исключено. А впрочем, он мне почти что и не нужен – так, найдется пара вопросов…
– Вы можете определить время… смерти, доктор? – спросил он.
– С большой долей вероятности – меж полуночью и половиной первого, как показывает ригор мортуис… посмертное окоченение тела, – пояснил он с явным превосходством над очередным солдафоном, попавшимся на жизненном пути.
– Понятно… – повторил Ахиллес. – Я думаю, Всеволод Викентьевич, нет нужды напоминать, что все здесь прозвучавшее должно оставаться сугубо между нами…
– Будьте благонадежны-с! Не первый год взаимодействуя с конторою вашею… точнее, с полицией, успел сие уяснить. Нем, как могила.
Положительно, он меня принимает за переодетого жандарма, подумал Ахиллес. Черт, неужели в этой глуши не сыскалось нормального полицейского врача?
Повернулся к околоточному (как ему показалось, взиравшему на доктора с хорошо скрытой насмешкой):
– Теперь вы… Сидорчук… А по имени-отчеству?
Как-никак околоточный на время службы в полиции получал классный чин и приравнивался к армейскому прапорщику. Не стоило ему тыкать и называть «братец», как обращался бы к своему солдату или городовому.
– Яков Степаныч, господин подпоручик.
А он не лишен некоторой гордости, подумал Ахиллес. Не «ваше благородие», а «господин подпоручик» – как и обратился бы к нему прапорщик армейский. Вряд ли старше Кашина, наград нет, но на погонах тоже унтер-офицерские лычки. И лицо смышленое. Как вышло, что мы не виделись раньше? Год здесь живу, но ни разу не видел, а ведь околоточный надзиратель в силу обязанностей по своему околотку колесит денно и нощно, ежедневно исполняя массу всевозможных дел.
– Вас, Яков Степанович, недавно сюда перевели?
– Угадали, господин подпоручик.
– Да просто подумал, что живу тут год с лишним, Кашина видел каждый день, а вас – ни разу… Яков Степанович, господин пристав со всеми тремя женщинами говорил?
– Конечно. И с Фомой-дворником тоже.
– А… покойный так и лежит?
– Так и лежит. Пока-то дроги из мертвецкой прикатят…
– Ну что же, – сказал Ахиллес. – В таком случае – пойдемте к покойному.
Митрофан Лукич прочно уселся в неподъемном кресле и решительно сказал:
– Я уж вас тут подожду. Надобности во мне никакой, а Фролушку я уж видел и во второй раз в этаком виде лицезреть не хочу. Тяжко…
– Подождите, господа, – сказал Ахиллес, которому пришла в голову неожиданная мысль. – Митрофан Лукич, Павел Силантьевич… Вы в последнее время не усматривали в покойном какой-нибудь неожиданной подавленности? Угнетенности? Или чего-то подобного?
– А ведь усматривал! – воскликнул Пожаров. – Последнюю неделю как в воду опущенный ходил. Пробовал я расспросить, что к чему, только он отмахнулся, сказал: чудится тебе, Митроша, все. А как же чудится, когда я его сто лет знаю? Грызло его что-то, грызло…
Сидельников произнес почтительно, но твердо:
– Митрофан Лукич, уж простите великодушно… Я к вам отношусь с несказанным уважением, но не могу не отметить… Вы с Фролом Титычем имели все же общение редкое и большей частью случайное, а вот я три года, смело можно сказать, при нем находился неотлучно. От рассвета до заката, если можно так выразиться. И в настроениях его разбираюсь… разбирался прекрасно. Честью вам клянусь: не усматривал в последнее время в его поведении никакой такой подавленности или там угнетенности. Если бы его что-то, как вы изволили выразиться, «грызло», я бы непременно заметил. Но он в последнее время держался совершенно как обычно, никаких отличий.
– Вот то-то – три года, – буркнул Пожаров. – А я Фролушку с малолетства знал. С тех пор, как оба босиком бегали. Мне виднее.
– И все же…
– Господа, господа, – торопливо сказал Ахиллес, чтобы погасить в зародыше начавшуюся перепалку. – Это, право же, не самая важная сейчас тема… Пойдемте?
Ахиллес к мертвым относился совершенно спокойно, как к чему-то неизбежному в нашей жизни, вроде какого-нибудь явления природы. Покойники были, есть и будут. Он видел однажды двух утопленников, прохожего, насмерть затоптанного на красноярской улице понесшей лошадью, сгоревшего в собственном домишке портного – вернее говоря, обгореть он нисколечко не обгорел, но тушившие пожар из домика его вытащили уже бездыханным – наглотался угарного газа. И всякий раз никаких особенных эмоций не испытывал.
Однако сейчас на душе лежала тяжесть, некая смесь тоски и даже некоторого тревожного страха. Впервые в жизни он видел мертвым хорошо знакомого человека – еще считаные дни назад шумного, громогласного, веселого, сыпавшего прибаутками и занятными случаями «из старой жизни». И впервые в жизни ощутил, насколько человек подвержен внезапной смерти. В том числе и он сам. И это вовсе не обязательно смерть на войне, которой пока что-то не предвидится. Достаточно нелепой случайности – та же понесшая лошадь, пожар, пьяный босяк с ножом, – чтобы и он лег вот так. Мысли эти неприятно царапали душу.
Постаравшись их отогнать, Ахиллес подошел вплотную к широкому кожаному дивану, старому, но, несомненно, уютному. Сабашников лежал навзничь, совершенно спокойное лицо уже приняло восковой цвет, на котором не особенно и выделялись уже изрядно тронутые сединой волосы и борода. Волосы в совершеннейшем порядке, ничуть не растрепаны. На покойном – шаровары, синяя косоворотка и халат – не вполне обычный, туркестанский, желтый в синюю узкую полоску. Ничего необычного: учитывая тесные и регулярные торговые связи губернии с Туркестаном, сюда в немалом количестве попадали самые разнообразные туркестанские товары, от сластей до…
Да, несомненно… Аккурат напротив сердца торчала рукоять ножа – без перекрестья, белая, костяная, покрытая мастерски вырезанными восточными узорами, в которые была столь же мастерски забита золотая проволока.
Это был пчак – туркестанский нож. Никаким следом он оказаться не мог – пчаки широко продавались в Самбарске. Полгода назад Ахиллес и сам купил такой, послал в подарок на день рождения младшему брату. Правда, тот был гораздо менее роскошно исполнен, подешевле, узоры не золотом инкрустированы, а украшены стойкой синей, зеленой и красной краской.
Сабашников был в одних носках, домашние разношенные туфли аккуратно стояли у дивана. Ну что же… Очень похоже, удар ножом в сердце вызвал мгновенную смерть, а судя по спокойному лицу мертвеца, он дремал… или хорошо знал убийцу и настолько ему доверял, что не ожидал такого поворота событий.
Ахиллес спросил:
– Павел Силантьевич, вы, надо полагать, часто бывали в доме?
– Смело можно сказать, что часто. И по делам, и к обедам-ужинам не раз был зван, и на праздничные застолья…
– Видели вы раньше этот нож?
Сидельников присмотрелся, мотнул головой:
– Я, собственно, бывал лишь в гостиной, когда там накрывали стол, да здесь, в кабинете. В гостиной видеть не приходилось, да и здесь тоже. Впрочем, он мог и в ящике стола лежать. Тут уж ничем не могу быть полезен… Для разрезания бумаги у Фрола Титыча был другой нож, самый обыкновенный, никак не подходящий для орудия убийства… вон он, кстати, лежит.
Ахиллес смотрел на столик у дивана – такой же старый, массивный, основательный, как вся виденная им здесь мебель. Там стояла откупоренная бутылка с этикеткой «Столовое вино № 21»[26], из которой, сразу видно, отпито не более полустакана. Здесь же – массивная серебряная чашка и глубокая тарелка с целой горой царьградских стручков. Оригинальные вкусы были у Сабашникова – никакой другой закуски не видно. А впрочем, на вкус и цвет товарища нет.
Бергер любит закусывать хлебное вино грецкими орехами и бисквитом, приговаривая: «Было бы что выпить, а закусить можно чем угодно». А купец Чекмарев обожает пиво с пельменями – тоже вроде бы неподходящее сочетание…
Повернувшись к околоточному, Ахиллес спросил, понизив голос (при покойнике испокон веков разговаривают вполголоса):
– Яков Степанович, вы знаете, что такое дактилоскопия?
– Конечно, господин подпоручик, – словно бы даже с некоторой обидой ответил тот. – Я, угодно вам знать, полицейскую службу начинал в уезде. Когда вернулся с действительной, становой пристав меня и уговорил. И послали меня в Пермскую школу урядников, а уж там учили на совесть. В уезде, надо сказать, дактилоскопия никакого применения не имеет, это не город. Но сказали нам так: вы, господа, будущие урядники, к месту службы не намертво пришиты. Неизвестно, где придется служить. Так что учили и про дактилоскопию.
– А что это за зверь такой? – вырвалось у Сидельникова.
– Я вам потом объясню, – сказал Ахиллес. – Пока что это не существенно. Яков Степанович, а в самбарской сыскной полиции дактилоскопический кабинет имеется?
– Имеется, как же. Вот только… – Он замялся, словно бы чуть смутившись.
Доктор ехидно сказал:
– Вот только там давным-давно все пылью покрылось на вершок и паутиной заросло. Я бы с превеликим удовольствием, господа, поменялся местами хоть с заведующим сим полезнейшим учреждением Жевакиным, хоть с его помощником. Это же надо представить такую синекуру: годами означенные ученые мужи в шашки дуются да за пивом в трактир посылают, что и является их единственным занятием. А жалованье идет аккуратно, каждое двадцатое число. И ведь не придерешься, в плохой работе не упрекнешь, потому что нет работы. Приятная синекура-с! Завидую!
Ахиллес вопросительно глянул на околоточного. Тот с тем же легким смущением сказал:
– Господин доктор, конечно, зол на язык, но так оно и обстоит, господин подпоручик. Что поделать, если в нашем захолустье попросту не случается дел, требовавших бы дактилоскопии. Мелок наш преступный люд… да и хорошо, по-моему. А уж босяцкие шалости и вовсе дактилоскопии не требуют…
– Ну вот и появилось дело, – решительно сказал Ахиллес. – Господин доктор, попозже, когда я все закончу, извлеките нож со всеми предосторожностями, чтобы не касаться рукоятки, насколько удастся. А вы, Яков Степанович, с теми же предосторожностями упакуйте нож и, доложившись господину приставу, отнесите его в дактилоскопический кабинет.
Он отвернулся от дивана и стал разглядывать комнату. С первого взгляда было видно, что это именно кабинет: массивный двухтумбовый письменный стол, помнивший, быть может, времена государя Николая Павловича, рядом с ним – столь же массивное опрокинутое кресло. В правом углу – высокий, по грудь Ахиллесу, несгораемый шкаф. Стойка с толстыми книгами – по виду конторскими или бухгалтерскими. Подошел к столу, присмотрелся. Там почти что ничего и не было. Справа – большие счеты с костяными кругляшками, в центре – стопа чистой бумаги, лежавшая у дальнего конца стола, и справа же – полная чернил кубическая стеклянная чернильница, прикрытая медной крышечкой. Все выглядело так, словно хозяин собирался что-то писать, да так и не начал… или не успел. Хотя…
Присев на корточки, Ахиллес вытащил из-под стола скомканный лист бумаги, как две капли воды похожий на те, что лежали аккуратной стопкой. Расправил, выпрямившись. Аккуратным «старообрядческим» почерком – каждая буква выведена отдельно – там было написано что-то непонятное. Всего одна строчка: «Мустафа в апреле». И дальше – непонятный рядок чисел, отделенных друг от друга запятыми. И всё, ничего больше. Пожав плечами, Ахиллес положил лист на стол. И обратил внимание, что счетами явно пользовались – примерно половина костяшек стояла у левой стороны счет, группами, в разных количествах. Меж тем, он знал, человек, закончивший расчеты, как-то машинально наклоняет счеты, и все костяшки ссыпаются вправо. Возможно, это означало, что Сабашников намеревался продолжать расчеты, но решил сначала вздремнуть и употребить малую толику смирновской. А зачем вообще заниматься расчетами за полночь, что за такая спешная потребность?
– Вот с крючком непонятное… – подал голос околоточный.
Оглянувшись на массивный, по виду бронзовый крючок, Ахиллес спросил:
– А что с ним не так?
– Вы не знаете? – удивленно воззрился на него околоточный.
– Яков Степанович, я, можно сказать, ничего не знаю, – ответил Ахиллес. – Мне лишь сказали, что Сабашников то ли убит, то ли сам зарезался, и это все, что мне известно.
– Так ведь изнутри была заперта дверь, – сказал околоточный. – Когда случился… переполох и мы прибыли, заперто на щеколду, хотели уж позвать еще городовых и дверь ломать. Только Дуня, служанка, сказала, что никакой щеколды там нет, а есть крючок. Ну, это было проще: щель меж дверью и косяком имеется, хотя и узенькая. Попросили ее принести два кухонных ножа потоньше, один сломали сгоряча, а вторым удалось крючок поднять. Изнутри он был накинут, вот ведь какая оказия…
– Оказия, говорите… – рассеянно пробормотал Ахиллес и подошел к распахнутой настежь двери.
Крючок не болтался свободно – он стоял вертикально, под углом почти в девяносто градусов, словно приклеенный к двери некой неведомой силой. Ахиллес пошевелил его указательным пальцем, для чего понадобилось некоторое усилие. И крючок упал влево, повис.
Не было никакой неведомой силы. Просто-напросто крючок был прибит настолько тесно, что, не будучи вставлен в кольцо, не болтался, а прилегал к темным доскам.
И тут у него мелькнула идея, показавшаяся сначала вздорной – но, в конце концов, при неудаче он все равно не выставил бы себя на посмешище…
Закрыв дверь, он установил крючок в прежнее положение, так же вертикально, под углом почти девяносто градусов, примерился и резко потянул дверную ручку на себя. Дверь легонько стукнула, крючок упал, оказавшись точнехонько в кольце.
Обернулся. Присутствующие, не исключая доктора, взирали на него как на циркового фокусника, на глазах почтеннейшей публики извлекшего из пустой вроде бы стеклянной вазы букет цветов – видывал он такое в Чугуеве, когда туда приехал цирк и юнкерам дозволили организованное посещение.
– Вот вам, господа, и «запертая изнутри» дверь, – сказал он без особого торжества – рано было торжествовать, если вообще придется…
– Вот, значит, как… – протянул околоточный.
– Именно, – сказал Ахиллес. – Достаточно было легко дернуть дверь на себя… или толкнуть ее снаружи. Хотя нет, если здесь был убийца, все мы видим, каким путем он ушел…
И подошел к окну, выбитому почти начисто – только редкие зазубренные осколки торчали по всему периметру рамы. Под сапогами противно хрустнуло стекло. Он внимательно посмотрел себе под ноги – и, обернувшись, встретил какой-то странный взгляд околоточного, пытливый, хмурый. Интересно, очень интересно…
Околоточный уже открыл было рот, но Ахиллес остановил его выразительным взглядом, моментально понятым околоточным, так и не произнесшим ни слова. Еще раз глянув на кучку битого стекла на полу у подоконника, стараясь, чтобы это выглядело небрежно, вновь повернулся к остальным:
– Если допустить, что убийца был… И явно поджидал здесь, а не вошел, когда Фрол Титыч уже прилег отдохнуть… А так оно, судя по всему, и было, иначе господин Сабашников хоть чуточку, да изменил бы позу – Митрофан Лукич мне говорил, что спал он чутко, исстари имел такую привычку… Как он покинул кабинет, мы все видим. А вот где мог прятаться… Вроде бы и негде. Хотя… – Он подошел к несгораемому шкафу, стоявшему отнюдь не вплотную к стене. Да, там имелось пустое пространство, вполне достаточное, чтобы…
Туда даже не пришлось протискиваться – Ахиллес залез довольно свободно, огляделся, присел на корточки и громко позвал:
– Яков Степанович! Видно меня?
– Нисколечко, господин подпоручик!
– А теперь подойдите вплотную к столу.
– И так – нисколечко…
Вылезши из-за несгораемого шкафа, Ахиллес хотел отряхнуть рубаху, но на ней не оказалось ни пылинки: еще не виденная им Дуняша, судя по всему, была прилежной, убирала пыль со всем усердием и за шкафом.
– Ну что же, – сказал он. – Что мы можем с уверенностью предположить? Мы знаем, где мог прятаться убийца, знаем, как он придал двери вид «запертой изнутри», каким путем ушел. Одного не знаем, для чего ему понадобилось идти на убийство?!
– То есть как? – недоуменно воскликнул Сидельников. – А десять тысяч?
– Какие десять тысяч?
– Вы и этого не знаете?!
Ахиллес произнес чуть резко:
– Я же говорил, что ничего не знаю. Кроме того, что господин Сабашников лежит в своем кабинете с ножом в груди. Что за десять тысяч?
Сидельников прилежно пояснил, словно исправный солдат на уроке словесности[27]:
– Вчера Фрол Титыч взял из Русско-Азиатского банка десять тысяч. Собирался послать очередной караван в Туркестан. Туда он должен был идти с разными ходкими у туземцев товарами, а назад – со скупленной у них же шерстью. Половина суммы была в ассигнациях, половина – в золоте, в червонцах и пятирублевиках.
– Зачем понадобилось тащить такую тяжесть? – искренне удивился Ахиллес, быстренько произведший в уме несложные расчеты – с математикой у него всегда обстояло хорошо и в гимназии, и в училище. – Пять тысяч золотом – это почти десять фунтов. К чему лишняя тяжесть, когда есть ассигнации?
– Тонкости торгового дела, господин подпоручик, – так же старательно сообщил Сидельников. – Большую часть шерсти предполагалось закупать не в городах – там свои перекупщики, к чему переплачивать? – а в тамошней провинции. В больших городах туземные торговцы давно пообтесались, прекрасно знают, что ассигнации надежны, не хуже золота, – да и имеют свободный размен на золотую монету без ограничения суммы, что на каждой и напечатано. А в глухомани, в провинции тамошней, народец диковатый… да как в любой провинции, и у нас тоже. Золото они понимают, а вот «бумажкам» совершенно не верят. Не бывало у них бумажных денег испокон веков – одна звонкая монета. Вот и приходится порой к таким тащить, как вы справедливо изволили выразиться, лишнюю тяжесть. Однако тяжесть не столь уж велика – для верблюда лишние десять фунтов не груз, а выгода от подобных сделок ощутимая…
– Понятно, – сказал Ахиллес. – Ну что же, убедительный повод. Людей, случалось, за пару рублевиков и дырявые сапоги убивали, а уж за десять тысяч, из которых к тому же половина золотом… Иной зарежет и не поморщится. Да, это повод… Каковой, думается мне, резко суживает круг подозреваемых… Кто знал, что из банка взяты деньги, что они пойдут с караваном?
– Дайте подумать… – наморщил лоб Сидельников. – В первую очередь я, конечно. Кассиры в Русско-Азиатском банке – но они знали лишь, какая сумма взята и кем. Что до тех, кто знал, куда деньги отправляются… В конторе нашей – человек пять, из тех, что как раз и занимаются такими вот караванами. И уж конечно, Мустафа Габдулаев. Один из караванов он и водил, двадцать верблюдов держит. Ну, положим, деньги должен был везти не он, а Прохор Загарин – есть у нас такой приказчик, малый поднаторелый, не первый год туда ездит, к верблюдам привычен, на двух туркестанских языках болтает бойко.
Но все равно, Мустафа должен был знать…
Ну что же, подумал Ахиллес, круг подозреваемых не столь уж и широк… Человек около десяти. Правда, тут есть свои тонкости. Трудно себе представить обычного банковского кассира или приказчика, сумевшего как-то проникнуть в дом незамеченным, хладнокровно вогнать нож купцу в сердце и уйти незамеченным. Впрочем, он мог подрядить на это дело какого-нибудь отпетого головореза… но сыщутся ли такие в Самбарске, где он слышал неоднократно, что здешний воровской народец мелок?
– Господин подпоручик! – с явственным азартом в глазах воскликнул Сидельников. – А что, если Мустафа? От этих нехристей всякого можно ждать. Несколько лет уж водил для господина Сабашникова караваны, знал, что Загарин всегда с деньгами, да вот прежде суммы были не такие уж великие – тысяча там, две-три. А тут – сразу десять, причем половина в золоте, каковое в отличие от ассигнаций номеров и серий не имеет. Вот и соблазнился. А? Мужик ловкий, хваткий, жилистый – в таком ремесле увальню делать нечего. Видывал виды, а этим магометанам что человека зарезать, что барана…
Ахиллес подумал и сказал:
– Что-то плохо верится. Можно было и по-другому, гораздо проще, если допустить, что он соблазнился… Ваш Загарин, я так предполагаю, единственным русским с караваном ездит?
– Совершенно верно. Остальные все – татары Мустафы.
– Можно было бы гораздо проще, – повторил Ахиллес. – Где-нибудь посредине пути, лучше уже в туркестанских областях, почествовать вашего Загарина ножичком, а то и двумя-тремя, забрать деньги и скрыться. В том же Туркестане, среди единоверцев. Пока здесь узнали бы, пока приняли меры – ищи ветра в поле… Вот, кстати. Допустим, это Мустафа… или иной душегуб. Неважно, кто. Перед любым стояла бы еще и задача деньги из сего вместилища извлечь, – он кивнул на несгораемый шкаф. – А я что-то на нем не вижу следов взлома. Ключи подобрали? Трудновато было бы.
– Нет у нас таких штукарей, – поддакнул околоточный. – Несгораемый шкаф подломать – для наших дело неподъемное.
– Так ведь деньги не в шкафу лежали! – воскликнул Сидельников. – А в столе, вон в том, в правом ящике, бумагами только прикрытые. А ящики у стола без замков.
– Вот именно, – сказал хмуро околоточный. – И нет там сейчас денег. Мы с господином приставом и ящики стола обыскали, и шкаф. В столе – одни бумаги да всякие мелочи. В шкафу – тоже бумаги, надо полагать, гораздо более важные, которые следует под крепким замком держать. Еще старый «Смит-Вессон» с патронами, незаряженный и, судя по состоянию, давно там пролежавший без надлежащего ухода, чистки и смазки.
– Это с тех времен, когда Фрол Титыч сам по торговым делам ездил в рисковые места вроде Туркестана, – пояснил Сидельников. – Только уж больше десяти лет, как перестал.
– Все бумаги мы с господином приставом просмотрели, – старательно сказал околоточный. – Ровным счетом ничего, что помогло бы следствию. Разнообразные деловые бумаги, и только. Да, еще там коробочка с серьгами – брильянты немаленькие.
– Фрол Титыч, должно быть, подарок супруге готовил, – сказал Сидельников. – У нее на будущей неделе день ангела.
– Так… – сказал Ахиллес. – Думаю, в таком случае мне и смысла нет самому еще раз бумаги пересматривать. Да и что там могло быть такого, полезного для следствия – обычные купеческие бумаги…
– Самые обычные, – заверил околоточный.
– Что же вы так… – вздохнул Ахиллес, глядя на Сидельникова. – Такие суммы держали, можно сказать, под подушкой, когда несгораемый шкаф – вот он…
– Да уж таков был Фрол Титыч… – понурился Сидельников. – Я ему не раз говорил про шкаф, говорил, что так надежнее. А у него характер – кремень. Уперся, и никаких: всю жизнь меня, говорил, не грабили, в дом не забирались, так что теперь Господь убережет. Не уберег вот… Больно уж места у нас тихие, господин подпоручик, сущее сонное царство. Сколько живу, на моей памяти подобного не случалось. Разве что опоят дурманом на ярмарке недотепу с тугим бумажником и избавят от всего ценного – но и там таких денежных сумм не стригли.
– Совершенно верно, – поддержал околоточный. – Ярмарке нашей далеко, скажем, до Нижегородской, Ирбитской или, скажем, Лебедянской. Мазуриков, грабителей, карточных шулеров и продажных девок слетается немало, даже из соседних губерний, да все равно – не тот размах, не та добыча. Чтобы взять аж десять тысяч…
– А почему бы не допустить и такой оборот дела? – вмешался Сидельников. – Стекло оконное тихонечко выбить никак не получится. Пришел на шум Фрол Титыч, и, видя пропажу денег, впал в крайнее расстройство и лишил себя жизни…
– Сомнительно что-то, – решительно сказал околоточный. – Не по-купечески как-то. Нас учили… Каждому сословию присущ обычно свой способ лишать себя жизни. Дамы чаще всего пьют отраву, студенты и офицеры стреляются, а вот купец наверняка стал бы вешаться. Бывают отличия – скажем, с моста в реку прыгают, под поезд кидаются, однако все равно плохо верится, чтобы купец зарезался…
Всякое бывало. Один из учителей в Чугуевском был юнкерами любим гораздо более других преподавателей – что греха таить, за то, что на каждом уроке раза три отвлекался ненадолго на вольные темы, не имевшие никакого отношения к его предмету. Он как-то рассказал и такое: в Англии, в начале прошлого столетия, стало прямо-таки традицией для решивших покончить с собой джентльменов перерезать горло бритвой. Причем так поступали и офицеры, у которых всегда был под рукой пистолет, а то и не один (впрочем, то же было и у штатских). Что было странно и непонятно: все решившие добровольно расстаться с жизнью должны были прекрасно понимать, что выстрел в висок или в сердце приносит смерть моментальную и легкую, а человек с перерезанным горлом еще долго будет агонизировать, пока не истечет кровью. И тем не менее, за редкими исключениями, в ход шла именно бритва.
Ну, во-первых, где Россия, а где Англия, а во-вторых, и для Англии это – дела давно минувших дней, преданья старины глубокой. И все же проверить следовало досконально любое, самое шальное предположение…
– Я вас оставлю на пару минут, господа, – сказал Ахиллес решительно. – Прошу вас, оставайтесь пока здесь.
При его появлении в гостиной Пожаров прямо-таки рванулся из-за стола, развернув тяжеленное кресло, словно дачный плетеный стульчик, выдохнул с яростной надеждой в глазах:
– Ну что?! Прояснили дело?
Ахиллес вздохнул:
– Не так все быстро делается, Митрофан Лукич. Но появились уже серьезные надежды на скорое прояснение дела. Вы мне вот что скажите… Мог Сабашников зарезаться, обнаружив, что у него украли десять тысяч?
– А что, украли?
– Именно.
– Ни в жизнь!
– Ну, быть может, в крайнем расстройстве чувств из-за потери денег…
– Говорю вам, Ахиллий Петрович, ни при каких видах! В третьем годе Фролушка оплошку дал, из-за одного варшавского афериста лишился безвозвратно не то что десяти тысяч, а сорока – и на старуху бывает проруха… Не то что резаться не стал, даже и не напился до положения риз, чтобы горе размыкать, как на его месте многие бы сделали, да и я, многогрешный, тоже… Стиснул зубы, аж скрипнуло, и сказал: «Ништо! Бог даст, еще наживем». Вот такой он был человек. А уж чтоб резаться… Вздор! Он ведь, я уже говорил, верующим был истово, и на смертный грех не пошел бы, прекрасно знающи, куда души самоубийц после смерти попадают… Да и десять тысяч для него – не столь уж велик убыток. Не миллионщик был, Фролушка, конечно, но капиталец в банке у него лежит немалый.
Вернувшись в кабинет, Ахиллес спросил Сидорчука:
– А как вы с приставом в несгораемый шкаф попали? Ключами открыли, я так полагаю?
– Ключами, конечно. Вскрыть такой без ключей – дело нешуточное.
– А где были ключи?
– При покойном, – ответил околоточный. – У него в халате внутри потайной карман пришит. Это уж он сам, конечно, распорядился сделать – туркестанцы в халатах карманов не имеют, да и вообще карманов не знают, что им нужно носить с собой, либо в пояс заворачивают, либо за пазуху кладут. Видывал я их в Самбарске. А у покойного этак примерно на ладонь пониже… ножевой рукояти халат так оттопыривался, что сразу ясно было: лежит там что-то большое. Мы осторожненько пощупали, достали – она самая, большая связка ключей. Два к несгораемому ящику подошли. Вон она, связка, на столе. Не желаете посмотреть?
– Да нет, не вижу необходимости, – сказал Ахиллес. – Вот что, Яков Степанович… Вы ведь с приставом весь дом осмотрели?
– На всякий случай. Как положено.
– Есть тут какая-нибудь комнатка, где я мог бы с обитателями дома поговорить с глазу на глаз?
– Найдется. Вон в ту дверь пройдемте.
Планировка купеческого дома была нехитрая, часто не встречавшаяся; от входной двери примерно на две трети ширины протянулся коридор, в который выходило несколько дверей. За той, что распахнул перед Ахиллесом околоточный, оказалась средних размеров комната, где, судя по обстановке, обитал мужчина, но отчего-то она с первого взгляда производила впечатление нежилой, хотя прибрана была чисто. Ага, два стула у небольшого письменного стола – то, что надо.
– Здесь, я узнал, когда-то жил сын господина Сабашникова, – сказал Сидорчук. – Единственный. Других детей Бог не дал. Только он погиб лет двенадцать тому, при крушении парохода, уж не помню названия, меня тогда здесь и близко не было, я действительную в Уссурийском крае служил. Незадача какая – Горный институт закончил, плыл к отцу из Нижнего, а пароход ночью на полном ходу на камни налетел. Говорили, то ли рулевой пьян был, то ли капитан… Много народу погибло. Ну вот… С тех пор здесь и не живет никто, но комнату по-прежнему покойный велел убирать со всем прилежанием…
– Ну что же… – сказал Ахиллес. – Поступим так. Доктора отправьте в гостиную, пусть там ожидает. И приглашайте остальных сюда по очереди. Сначала Сидельникова, потом хозяйку, кухарку… как ее, Марфа?
– Марфа.
– Ее. И напоследок служанку. Как только очередной… или очередная отсюда выйдут, препровождайте их в гостиную, пусть все там и сидят И чтобы никто отсюда не выходил. Займите пост в коридоре так, чтобы и возле моей двери стояли, и дверь в гостиную видели.
– Понял. А насчет дворника Фомы как? Он у себя таки сидит, вид будто со страшного похмелья.











