Читать онлайн Париж
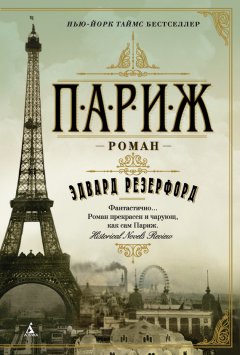
Эта книга посвящается памяти моего кузена Жана Луи Бризара, который работал педиатром в больнице Божон, в Британском госпитале и в Американском госпитале в Париже
Глава 1
Париж. Город любви. Город огней. Город роскоши. Город святых и ученых. Город веселья.
Гнездо порока.
За две тысячи лет Париж видел все.
Не кто иной, как Юлий Цезарь, первым разглядел преимущества местности, которую сделало своим домом скромное племя паризиев. К тому времени средиземноморский берег Южной Галлии уже не первый человеческий век являлся римской провинцией; и когда Цезарь решил присоединить к империи беспокойные кельтские племена Северной Галлии, ему не понадобилось на это много времени.
Римляне быстро сообразили, что во владениях паризиев логично заложить город, так как сюда свозилась продукция с огромных плодородных равнин Северной Галлии; кроме того, через эти земли протекала судоходная река Сена. На юге истоки Сены сухопутными тропами соединялись с могучей Роной, которая вела к оживленным портам Средиземного моря. На севере Сена впадала в узкое море, за которым лежал остров Британия. Это была великая система водных путей, соединявшая южный и северный миры. Греческие и финикийские торговцы пользовались ею еще до рождения Рима. Место было выбрано идеально. Сердце земель паризиев находилось в широкой неглубокой долине, где Сена делала несколько изящных поворотов. В средней части долины река расширялась, и в этой красивой излучине в направлении восток-запад лежало несколько больших заиленных участков и островов, похожих на огромные баржи, бросившие якорь посреди потока. На северном берегу вдаль и вширь тянулись луга и болота вплоть до края низкой гряды пригорков и утесов, окаймляющей долину. Кое-где склоны были покрыты виноградниками.
А на южном берегу – левом, если двигаться вниз по течению, – возле реки мягко вздымалось низкое, плоское возвышение наподобие стола, поставленного у воды. Именно здесь заложили римляне свой город: большой форум и главный храм, амфитеатр неподалеку, сеть улиц вокруг и дорогу, идущую с севера на юг прямо сквозь центр города, по мосту через реку к самому крупному острову, который был тогда пригородом с прекрасным храмом в честь Юпитера, и по второму мосту на северный берег. Сначала город назвали Лютецией. Но также его знали и под другим, более внушительным именем: город Паризиев.
В Темные века после падения Римской империи германское племя франков завоевало эту территорию и основало Франкское государство. Позднее его стали называть Францией. На эти изобильные края совершали набеги и гунны, и викинги. Однако остров на реке, обнесенный деревянными укреплениями, похожий на старое, побитое бурями судно, выжил. В Средневековье этот остров превратился в крупный город с лабиринтом из готических церквей, высоких деревянных домов, опасных проулков и зловонных подвалов. Со временем город выплеснулся на оба берега Сены, и уже в таком виде его обнесли высокой каменной стеной. Украшением острова стал величественный собор Нотр-Дам. Здешние университеты пользовались уважением всей Европы. Но затем пришли англичане и покорили Париж. Он мог навсегда остаться английским, но появилась чудесная дева Жанна д’Арк и прогнала их.
Старый Париж: это был город ярких огней и узких улочек, город карнавалов и чумы.
А потом родился новый Париж.
Перемена совершалась медленно. Со времен Ренессанса в темном средневековом городе стали появляться более светлые зоны в духе классицизма. Королевские дворцы и благородные площади придали ему новое величие. Через старые перенаселенные районы пролегли широкие бульвары. Амбициозные правители создали городские перспективы, достойные древнего Рима.
Париж изменял свой облик, чтобы соответствовать сначала великолепию Людовика XIV, а потом изяществу Людовика XV. Век Просвещения и новая республика, возникшая после Французской революции, поощряли классическую простоту, а эпоха Наполеона оставила наследникам имперскую пышность.
Затем процесс перемен ускорился благодаря новому градостроителю – барону Осману. Его грандиозная система бульваров и длинных прямых улиц, обрамленных конторскими и жилыми зданиями, была настолько основательна, что густая мешанина Средневековья исчезла из некоторых районов Парижа почти полностью.
И тем не менее старый Париж не пропал бесследно, он живет почти за каждым углом, навевая воспоминания о прошедших столетиях и прожитых жизнях, что повторялись из поколения в поколение, как старая полузабытая мелодия; сыгранная вновь – в другую эпоху, в другом ключе, на арфе или шарманке, – она все равно узнаваема. И в этом непреходящее обаяние города.
Обрел ли наконец Париж покой? Он страдал и выживал, видел взлеты и падения империй. Хаос и диктатура, монархия и республика – Париж перепробовал их все. Что же ему понравилось больше остального? О, это вопрос… Несмотря на свой возраст и опыт, город, кажется, так и не разобрался.
Недавно он пережил еще одну ужасную катастрофу. Четыре года назад его жители ели крыс. Сначала их унизили, затем обрекли на голод. А потом они двинулись друг на друга с оружием. Прошло совсем немного времени с тех пор, как похоронили мертвых, с тех пор, как развеяло ветром запах смерти и растаяло за горизонтом эхо расстрелов.
Сейчас, в 1875 году, он восстанавливается. Но еще много насущных проблем ждут своего решения.
Маленькому мальчику, светловолосому и голубоглазому, было всего три года. Кое-что он уже знал. О другом ему пока еще не рассказывали. И конечно, кое-что хранилось в тайне.
Отец Ксавье задумчиво посматривал на ребенка. До чего же он похож на мать! Отец Ксавье был священнослужителем, но любил эту женщину. Себе он признавался в своей страсти, однако самообладание его было безупречным, и никто не догадывался о его чувствах. А что касается мальчика, то, конечно же, у Господа имеется насчет него высший замысел.
Возможно, ему суждено быть принесенным в жертву.
Стоял солнечный денек. В фешенебельном саду Тюильри няни присматривали за играющими детьми. Отец Ксавье – духовник семьи, друг в нужде, священник – привел сюда мальчика на прогулку.
– Ну-ка, скажи, как тебя зовут? – с улыбкой спросил он ребенка.
– Роланд д’Артаньян Дьедонне де Синь. – Ребенок уже знал все свои имена наизусть.
– Браво, молодой человек.
Отец Ксавье Парль-Ду был невысоким, жилистым человеком сорока с чем-то лет. Когда-то очень давно он служил в армии, но падение с лошади на всю жизнь одарило его кинжальной болью в спине. Знала об этом лишь горстка людей.
Солдатская жизнь оставила после себя еще один важный след. Он воевал, как того требовал долг. Он видел, как убивают. Он видел кое-что похуже, чем смерть. И в конце концов ему стало казаться, что жизнь не может сводиться только к войне и страданиям, что в ней должно быть что-то более чистое и возвышенное. В ужасном мраке земного мира должно гореть где-то неумирающее пламя света и любви. И он нашел это пламя в Святой церкви.
А еще он был монархистом.
Семью мальчика он знал на протяжении всей своей жизни и теперь смотрел на милое дитя с нежностью, но также и с жалостью. У Роланда нет ни братьев, ни сестер. Его мать, прекрасная душа, та женщина, на которой священник сам хотел бы жениться, если бы не избрал иной путь, имела слабое здоровье. Будущее рода, возможно, будет зависеть целиком и полностью от маленького Роланда, а это тяжкое бремя.
Отец Ксавье понимал, что, будучи священником, должен смотреть на вещи шире. Как говорили иезуиты? «Дайте нам ребенка до семи лет, и он будет нашим на всю жизнь». Какой бы путь ни предначертал мальчику Бог, Ксавье поведет Роланда по этому пути независимо от того, послужит это к счастью или нет.
– А в честь кого тебе дали имя?
– В честь древнего героя Роланда. – Ища похвалы, малыш поднял на своего наставника глаза. – Мама читала мне про него. Он мой предок, – сказал он торжественно.
Священник улыбнулся. Широко известная «Песнь о Роланде» была романтической поэмой, повествовавшей о временах тысячелетней давности. О том, как рыцарь Роланд, друг императора Карла Великого, оказался отрезанным от основных сил войска в горном ущелье. Он протрубил в рог, призывая помощь, но было поздно, и сарацины зарубили его, и потом император оплакивал героя. Утверждение семьи де Синь, будто она ведет свой род от Роланда, было необоснованно, но привлекательно.
– Некоторые твои предки были рыцарями-крестоносцами, – одобрительно кивнул отец Ксавье. – Но это естественно. Ты принадлежишь к благородному роду. – Он помолчал. – А кем был д’Артаньян?
– Славным мушкетером. Он тоже мой предок.
И действительно, прообразом героя «Трех мушкетеров» послужил реально живший человек, а один из мужчин семьи де Синь во времена правления Людовика XIV женился на аристократке с тем же именем. Правда, отец Ксавье сомневался, что до выхода в свет романа Дюма этот факт кого-либо интересовал.
– В тебе течет кровь д’Артаньянов. Они были воинами, которые служили своему королю.
– А Дьедонне? – спросил мальчуган.
Отец Ксавье чудом сумел удержать уже готовые вырваться слова. Нужно быть осторожнее. Способен ли ребенок осознать весь ужас эпохи гильотины, который скрывается за этим его именем?
– Это имя твоего дедушки, и оно замечательно. Оно означает «дар Бога». – Священник задумался на мгновение. – Рождение твоего деда было… я не скажу чудом, но оно точно было знамением. Важно другое, Роланд, – продолжал наставник. – Ты знаешь девиз своего рода? Нужно всегда следовать ему. «Selon la volonté de Dieu» – «Согласно Божьей воле».
Отец Ксавье обратил взгляд на окружающий их пейзаж. На севере поднимается Монмартр, где шестнадцать веков назад римские язычники обезглавили святого Дионисия. На юго-западе, за башнями Нотр-Дама, вздымается над левым берегом холм, где неутомимая Женевьева просила Бога отвратить гуннские орды Аттилы от города и где ее молитвы были услышаны.
Раз за разом, думал священник, Господь защищал Францию в час нужды. Разве не послал Он отважного полководца, деда Карла Великого, разбить мусульман, когда они впервые налетели из Африки и Испании и могли бы завоевать всю Европу? Разве не подарил Господь Франции деву Жанну д’Арк, чтобы она повела свою армию к победе, когда англичане в долгой борьбе с французскими королями стали хозяевами средневекового Парижа?
Но что важнее всего, Бог дал Франции королевскую семью, ветви которой – Капетинги, Валуа и Бурбоны – тридцать поколений возглавляли, объединяли и прославляли эту священную землю.
И на протяжении веков де Сини преданно служили этим помазанным на царство королям.
Таково наследие этого мальчика. Со временем он все поймет.
Пора было идти домой. За спиной, там, где заканчивался сад Тюильри, раскинулось открытое широкое пространство – площадь Конкорд. Еще дальше протянулась живописная магистраль – Елисейские Поля, через три с небольшим километра приводящая к Триумфальной арке.
Мальчик был еще слишком мал, чтобы понимать значение площади Конкорд в своей судьбе. Что же касалось Триумфальной арки, то при всем ее величии отец Ксавье не очень-то почитал сей монумент, как и другие республиканские памятники.
Вместо этого взгляд священника был направлен на холм Монмартр – туда, где раньше стоял языческий храм, где закончил жизнь мученик Дионисий и где во время недавних беспорядков в городе разворачивались жуткие сцены. До чего же разумно принятое в этом году решение возвести там, рядом с ветряными мельницами, новый храм – в честь католической Франции. Непорочно белый купол базилики Сакре-Кёр – Святого Сердца, – словно голубь, будет сиять над городом.
Вот храм, где мальчику следует служить. Господь сохранил эту семью не случайно. Мальчик должен будет искупить стыд, восстановить веру.
– Хочешь еще немного погулять? – спросил отец Ксавье.
Роланд кивнул. Священник с улыбкой наклонился и взял ребенка за руку.
– Может, споем песенку? – предложил он. – Например, «Frère Jacques»?
И вот так, держась за руки и напевая, священник и маленький мальчик пошли из сада, сопровождаемые взглядами нянь и их юных подопечных.
Когда Жюль Бланшар достиг конца Елисейских Полей со стороны Лувра и двинулся дальше к церкви Мадлен, он с полным на то основанием мог назвать себя счастливцем. У него уже было два сына, оба – отличные мальчуганы. Но он всегда мечтал о дочери, и вот сегодня, в восемь часов утра, жена подарила ему дочку.
Была всего одна проблема. Ее решение требовало определенной деликатности, и вот поэтому-то он и шел сейчас на встречу с дамой, которая не являлась его женой.
Жюль Бланшар был крепко сложенным, энергичным мужчиной с солидным фамильным состоянием. Веком ранее, когда очаровательная, в стиле рококо, монархия Людовика XV столкнулась с великими идеями Просвещения и Французская революция перевернула мир с ног на голову, его предок был книготорговцем радикальных взглядов. Сын книготорговца, дед Жюля, стал лекарем, чье искусство во время революции заметил набирающий популярность генерал Наполеон Бонапарт, и с тех пор дела деда шли прекрасно. Успешно практикуя как при наполеоновской империи, так и при сменившей ее монархии Бурбонов, он отошел от дел в преклонном возрасте и поселился в Фонтенбло. Этим загородным домом семья владела до сих пор. Жена доктора была из сословия коммерсантов, и в следующем поколении отец Жюля также подключился к этому делу. Специализируясь на оптовой торговле зерном, к середине XIX века он сколотил приличный капитал. Жюль пошел по стопам отца, и теперь, в возрасте тридцати четырех лет, был готов возглавить семейное дело, как только его отец, достойный во всех отношениях человек, решит отправиться на покой.
У церкви Мадлен Жюль взял правее. Ему нравился этот бульвар, потому что он вел к новому огромному оперному театру. Здание Парижской оперы, спроектированное Гарнье, было достроено только в начале этого года, но уже стало достопримечательностью. Оно вмещало множество чудес, вроде гениально устроенного искусственного озера в подвалах, с помощью которого контролировался уровень грунтовых вод под строением. Но и снаружи театр поражал обилием декоративных деталей и, в том числе благодаря своей куполообразной крыше, напоминал Жюлю огромный кремовый торт. Парижская опера была пышной, роскошной, она воплощала дух времени – по крайней мере, для счастливчиков вроде самого Бланшара.
И вот впереди показалось место встречи. «Английское кафе» располагалось на углу, всего в нескольких шагах от Оперы. В отличие от театра, оно обладало ничем не примечательным фасадом. Но внутри – совсем другое дело. Заведение было достаточно роскошным даже для принцев. Несколько лет назад здесь ужинали императоры России и Германии, и тот легендарный пир длился восемь часов.
Куда же, как не сюда, приглашать Жозефину?
Для их сегодняшнего обеда открыли отдельный кабинет, обшитый панелями, известный как «Большой Шестнадцатый». Войдя в ресторан мимо кланяющихся официантов, золоченых зеркал и растений в горшках, Жюль сразу увидел ее.
Жозефина Тессье относилась к тому типу дам, которых метрдотели всегда усаживают в центре зала, если только сама дама не заметит вполголоса, что не желает привлекать внимание. Одетая дорого и элегантно, Жозефина была прелестна в бледно-сером шелковом платье с кружевным рюшем у горла и кокетливой шляпке с большим пером.
Его встретил шорох шелка и головокружительный аромат. Он коснулся ее руки легким поцелуем, сел и попросил официанта принести шампанского.
– Мы празднуем? – спросила дама. – У тебя хорошие новости?
– У нас девочка.
– Поздравляю. – Она улыбнулась. – Я так рада за тебя, мой дорогой Жюль, ты ведь всегда хотел дочку.
Ему исключительно повезло, размышлял Жюль, что он успел побывать в любовниках Жозефины, пока они оба были молоды. Теперь он при всем своем достатке не смог бы позволить себе такую дорогую куртизанку. Нынче ее содержал очень богатый банкир. Тем не менее их отношения Жюль считал вершиной того, о чем может мечтать мужчина. Раньше она была его любовницей, а с годами стала доверенным лицом и другом.
Принесли шампанское. Они подняли тост в честь новорожденной, затем заказали еду и поболтали. Только с появлением легкого прозрачного супа Жюль наконец заговорил о том, что занимало его мысли:
– Есть одна проблема.
Жозефина ждала продолжения. Лицо Жюля помрачнело.
– Жена хочет назвать девочку Мари, – выговорил он наконец.
– Мари… – Его подруга подумала. – Неплохое имя.
– Я обещал тебе, что, если у меня будет дочь, я назову ее в твою честь.
– Это было так давно, мой дорогой. – Она подняла на него удивленный взгляд. – Для меня это не важно.
– А для меня важно. Я хочу назвать ее Жозефиной.
– И что же будет, если твоя жена свяжет это имя со мной?
– Она не знает о нас, я уверен. И буду настаивать. – Жюль с невеселым видом отпил шампанского. – Ты действительно считаешь, что есть риск?
– Я ничего ей не расскажу, можешь не сомневаться. Но кто-нибудь другой мог бы… – Жозефина покачала головой. – Ты играешь с огнем.
– Я все продумал, – стоял на своем Жюль. – Скажу, что хочу назвать девочку в честь императрицы.
Жозефина – прекрасная жена Наполеона, любовь всей жизни императора. В какой-то степени – романтическая легенда.
– Но она прославилась своими изменами, – заметила Жозефина. – Вряд ли ее можно считать хорошим примером для девочки.
– Я надеялся, ты мне посоветуешь что-нибудь.
– Нет. – Жозефина опять качнула головой. – Мой друг, это очень плохая идея. Назови дочь Мари, и пусть твоя жена будет довольна. Это все, что я могу сказать тебе.
Следующим подали заливного омара – еще одно фирменное блюдо ресторана. Они побеседовали о старых друзьях и опере. Только когда на десерт подали фруктовый салат, Жозефина, внимательно посмотрев на Жюля, снова заговорила о его семейных делах:
– Дорогой, ты хочешь огорчить свою жену? Она чем-то провинилась перед тобой?
– Вовсе нет.
– Ты неверен ей?
– Нет.
– Она тебя удовлетворяет?
– Более-менее. – Жюль пожал плечами.
– Жюль, ты должен научиться быть счастливым, – сказала Жозефина со вздохом. – У тебя есть все, что ты хочешь, включая жену и дочку.
Жозефина не испытала потрясения и даже не удивилась, когда Жюль объявил о намерении жениться. Избранница приходилась ему кузиной по материнской линии, за ней давали большое приданое. Как выразился в те дни сам Жюль, две части семейного состояния снова нашли друг друга.
Однако сейчас Жюль продолжал хмуриться.
За свою жизнь Жозефина Тессье изучила множество мужчин. Это было ее профессией. С ее точки зрения, мужчины испытывали недовольство судьбой зачастую оттого, что род их занятий не подходил складу характера. О других можно было сказать, что они родились в неподходящее для них время – например, прирожденный рыцарь, запертый в современном мире. Но Жюль Бланшар был идеально скроен для XIX века.
Когда Великая французская революция свергла власть короля и аристократия – ancien régime – уступила место богатой буржуазии, Наполеон создал собственную версию Римской империи, со своими триумфальными арками и своим путем к славе, но в то же время озаботился тем, чтобы привлечь на свою сторону крепкий средний класс. Его падение не отразилось на положении буржуазии в обществе.
Некоторые консерваторы стремились вернуть ancien régime, но в тот единственный раз, когда в 1830 году восстановленная монархия Бурбонов попыталась это сделать, парижане вышвырнули короля Бурбона из города и посадили на трон Луи-Филиппа, королевского кузена Орлеанской ветви, в качестве конституционного и буржуазного монарха.
С другой стороны, были и радикалы, даже социалисты, которые ненавидели новую буржуазную Францию и жаждали очередной революции. Однако, когда они в 1848 году вышли на улицы, думая, что настало их время, возникло не социалистическое государство, а консервативная республика, за ней последовала пышная буржуазная империя Наполеона III – племянника великого императора, – которая снова благоприятствовала банкирам и биржевикам, богачам и крупным торговцам. То есть людям вроде Жюля Бланшара.
То были мужчины, которые катались со своими шикарно одетыми женщинами в Булонском лесу на западной окраине города или собирались для приятного времяпрепровождения в огромном новом оперном театре. Любили там показываться и Жюль с женой. Жозефина нисколько не сомневалась: Жюль Бланшар получил все самое лучшее, что только мог дать текущий век.
Да что там – у него даже была она.
– В чем дело, мой друг? – спросила Жозефина.
Жюль не сразу ответил. Он понимал, что ему до сих пор очень везло. И он ценил то, что имел. Он любил старый семейный дом в Фонтенбло, с внутренним двориком, дедовской мебелью времен Первой империи и книгами в кожаных переплетах. Любил элегантный королевский замок в городке, куда более старый и скромный, чем громадный Версальский дворец. Летом по воскресеньям он гулял в лесу Фонтенбло неподалеку или в карете ездил в деревню Барбизон, где Коро писал пейзажи, наполненные ускользающим светом Сены. В Париже ему нравилось вести торговлю на огромном средневековом рынке Ле-Аль среди ярко окрашенных прилавков, толкотни, ароматов сыра, пряностей и фруктов со всех концов Франции. Он гордился близким знакомством с древними городскими церквями и столь же древними трактирами с глубокими винными подвалами.
И все же этого было недостаточно.
– Мне скучно, – сказал он. – Я хочу заняться чем-то новым.
– Чем же, мой дорогой Жюль?
– У меня есть план, – признался он. – Ты будешь потрясена. – Он сделал широкий жест. – Новая торговля для нового Парижа.
Когда Жюль Бланшар говорил о новом Париже, то имел в виду не только широкие бульвары барона Османа. Еще со времен великих готических соборов Парижу нравилось считать себя законодателем мод – по крайней мере, в Северной Европе. Парижане почувствовали себя обойденными, когда четверть века назад Лондон фигурировал во всех международных новостях благодаря дворцу из стекла, построенному для Всемирной выставки всего, что было в мире нового и удивительного. За Лондоном вскоре последовал Нью-Йорк. Но к 1855 году Париж был готов ответить на этот вызов, и новый император, Наполеон III, открыл Всемирную парижскую выставку трудов промышленности, сельского хозяйства и изящных искусств в потрясающем воображение Дворце индустрии из металла, стекла и камня на Елисейских Полях. Дюжину лет спустя Париж повторил свой успех, теперь уже на парадных просторах Марсова поля, что раскинулось на левом берегу. Эта выставка 1867 года стала крупнейшей в мире на тот момент и продемонстрировала множество технических новинок, включая электрическую динамомашину Сименса.
– Я хочу открыть универмаг, – сказал Жюль.
В Нью-Йорке уже были универмаги, например «Мейсис», который рос и процветал. В пригородах Лондона функционировал «Уайтлис» и еще несколько кооперативных магазинов, но пока ничего выдающегося не возникло. Париж уже опережал соперников и количеством, и стилем со своими «Бон-Марше» и «Прентамом».
– Это будущее, – провозгласил Жюль. И начал описывать магазин, каким он его себе представлял: дворец, способный вместить множество покупателей, где продаются всевозможные товары. – Стиль, умеренные цены, с расположением в центре города, – объяснял он с растущим энтузиазмом Жозефине, которая завороженно слушала его.
– А я и не знала, что ты можешь быть таким страстным, – заметила она.
– Гхм…
– Я имею в виду – в голове, – улыбнулась Жозефина.
– А-а.
– Что говорит по этому поводу твой отец?
– И слушать не желает.
– Что будешь делать?
– Ждать. – Он вздохнул. – Что мне остается?
– Ты не рискнешь начать это дело самостоятельно?
– Трудно. Деньги контролирует отец. И к тому же вносить раздор в семью…
– Ты ведь любишь отца?
– Конечно.
– Тогда будь добр к отцу и к жене, мой дорогой Жюль. И наберись терпения.
– Да, наверное, это самое правильное. – Он помолчал. Затем лицо его прояснилось. – Но дочку я все равно хочу назвать Жозефиной.
Затем, сказав, что ему нужно спешить к жене, он поднялся. Жозефина остановила его прикосновением руки:
– Ты не должен этого делать, мой друг. В том числе и ради меня. Прошу тебя.
Но Жюль, ничего не обещая, расплатился с официантом и заторопился к выходу.
После его ухода Жозефина осталась сидеть в задумчивости. Неужели он в самом деле намеревается назвать малышку ее именем? Или, вспомнив глупое обещание, данное много лет назад, всего лишь разыграл красивую сцену, имевшую целью добиться свободы от взятого обязательства? Она улыбнулась про себя. Все это не имело значения. Даже если верно второе, со стороны Жюля это был умный и изящный ход.
Ей нравились умные мужчины. И она так и не поняла, как он в конце концов поступит, – это ее забавляло.
Высокая костлявая женщина остановилась. Рядом с ней замер темноволосый мальчик девяти лет, с коротко подстриженными волосами и широко расставленными умными глазами.
Вдове Ле Сур было сорок лет, но то ли из-за невзрачной одежды, висевшей мешком на ее тощем теле, то ли из-за того, что ее длинные седые волосы были не прибраны, то ли из-за неприступного выражения лица выглядела она гораздо старше. Она казалась мрачной, и на то у нее была причина.
Прошлым вечером сын задал ей некий вопрос – уже не в первый раз. И сегодня она решила, что пришло время поведать ему правду.
– Пойдем, – сказала она.
Кладбище Пер-Лашез занимало склоны холма примерно в пяти километрах к востоку от сада Тюильри, где часом ранее гуляли отец Ксавье и маленький Роланд. Это старинное место захоронения в последнее время приобрело популярность. Здесь нашли свой посмертный приют самые разные знаменитости – политики, воины, художники и композиторы, и к их могилам приходило много посетителей. Но вдова Ле Сур привела сюда своего сына не ради надгробных памятников.
Они вошли через ворота со стороны города, у подножия холма. Во всех направлениях, петляя между усыпальницами, тянулись аллеи и мощеные тропинки, словно римские дороги в миниатюре. Было тихо. Кроме смотрителя у ворот, в этот час мать и сын были почти единственными живыми людьми на кладбище. Вдова точно знала, куда идти. Мальчик же не имел представления, зачем они здесь.
Сначала, почти сразу возле входа, они ненадолго замедлили шаг, чтобы осмотреть памятник справа, который сделал кладбище известным: высокий мавзолей средневековых влюбленных Абеляра и Элоизы. Но здесь они не задержались. Вдову не интересовали ни прославленные маршалы Наполеона, ни свежая могила художника Коро, ни даже изящная скульптура, посвященная памяти композитора Шопена. Все это им только помешает. Прежде чем сказать сыну правду, она должна подготовить его.
– Жан Ле Сур был отважным человеком, – заметила она.
– Знаю, матушка.
Его отец был героем. Каждый вечер перед сном он мысленно повторял все, что помнил о высоком добром человеке, который рассказывал ему сказки и играл с ним в мяч. Который всегда приносил к столу хлеб, даже когда в Париже свирепствовал голод. А если воспоминания со временем тускнели, на помощь приходила фотографическая карточка, с которой на мальчика смотрел красивый мужчина – темноволосый и с широко расставленными глазами, как у него самого. Иногда он видел сны, и в них они с отцом отправлялись за приключениями, а однажды даже бок о бок сражались в уличном бою.
Мать молча вела его вверх по склону. Немного не доходя до вершины, она свернула направо и пошла по длинной аллее. Потом она снова заговорила:
– Твой отец обладал благородной душой. – Она посмотрела на сына. – Как по-твоему, Жак, что значит быть благородным?
– Ну, по-моему, это значит… – Мальчик подумал. – Это значит быть смелым, как рыцари, которые сражались во имя чести.
– Нет, – возразила она. – Те рыцари не имели ничего общего с благородством. Они были ворами, тиранами, которые забирали себе столько богатства и власти, сколько могли. Сами они называли себя благородными, чтобы им было чем гордиться, и делали вид, будто их кровь лучше нашей и дает право творить все что заблагорассудится. Аристократы! – Она скривилась в гримасе ненависти. – Это фальшивое благородство. И хуже всех – король. Все это грязный заговор, которому уже многие сотни лет.
Юный Жак знал, что его мать благоговела перед Французской революцией, однако после смерти отца стала избегать любых разговоров о событиях тех лет, словно они принадлежали какому-то темному миру, куда она не желала возвращаться.
– Почему же он до сих пор не раскрыт?
– Потому что существует преступная сила, еще более отвратительная, чем король. Ты знаешь, что это за сила?
– Нет, матушка.
– Это Церковь, Жак. Король и его аристократы поддерживают Церковь, а церковники велят людям слушаться власть имущих. Таков сговор старого режима. Такова чудовищная ложь, в которой мы живем.
– Разве революция ничего не изменила?
– В тысяча семьсот восемьдесят девятом году случилось нечто большее, чем революция. В том году родилась свобода. Свобода, Равенство, Братство – вот самые благородные идеи, которые только могут быть у человечества. Старый режим боролся с ними, и поэтому революции пришлось рубить головы, это было абсолютно необходимо. Но что еще важнее, революция выпустила нас из тюрьмы, которую выстроила Церковь. Власть священников была подорвана. Люди получили право отрицать существование Бога, отринуть суеверия и следовать разуму. Это был величайший шаг вперед для всего человечества.
– Что случилось со священниками, матушка? Их тоже убили?
– Некоторых. – Она пожала плечами. – Этого оказалось недостаточно.
– Священники и сейчас есть.
– К несчастью, да.
– Значит, все революционеры были атеистами?
– Нет, но лучшие – да, они были атеистами.
– А ты не веришь в Бога, матушка? – спросил Жак. Его мать покачала головой. – А мой папа верил? – продолжал расспрашивать мальчик.
– Нет.
– Тогда и я не буду, – сказал Жак, минуту подумав.
Тропа поворачивала восточнее, выводя к внешнему краю кладбища.
– Так что же произошло с революцией, матушка? Почему она закончилась?
– Люди не смогли во всем разобраться. – Вдове опять пришлось пожать плечами. – К власти пришел Наполеон. Он был наполовину революционером, а наполовину императором наподобие римских. Он завоевал почти всю Европу, прежде чем потерпел поражение.
– Он тоже был атеистом?
– Кто знает. Церковь так больше и не сумела вернуть утраченную власть в полной мере, однако Наполеон считал, что она может быть ему полезна, как была полезна всем правителям до него.
– И после Наполеона все опять стало как раньше?
– Не совсем. Монархи Европы дрожали от страха перед революцией. Тридцать лет им удавалось сдерживать силы свободы. Во Франции консерваторы – старые монархисты, богатые буржуа, все те, кто боялся перемен, – поддерживали консервативные правительства. Народ не имел никакой власти, бедные становились все беднее. Но дух свободы не умер. В тысяча восемьсот сорок восьмом году по всей Европе прогремели революции, и в нашей стране тоже. Старый толстый Луи-Филипп, король буржуазных классов, так перепугался, что сел в наемную карету и сбежал в Англию. Мы снова стали республикой и выбрали племянника Наполеона, чтобы он возглавил ее.
– Но он сделал себя императором.
– Он очень хотел быть таким же, как его дядя. После двух лет во главе республики он провозгласил себя императором, а поскольку у Наполеона был сын, который умер, то он взял себе имя Наполеон Третий. О да, он умел производить впечатление. При нем барон Осман перестроил Париж. Появился новый замечательный оперный театр. Прошли выставки, на которых побывало полмира. Но беднякам не стало легче жить. А потом он совершил глупую ошибку. Он начал войну с Пруссией, но полководцем не был и потому проиграл.
– Я помню, как прусские армии подошли к Парижу.
– Они смяли наши войска и окружили город. Осада продолжалась несколько месяцев, мы едва не умерли от голода. Ты этого не знал, но те похлебки, которыми я кормила тебя, были сварены из крыс. Тебе было всего пять лет, но, к счастью, ты оказался крепким мальчиком. Наконец прусские войска открыли пальбу из тяжелых орудий, и нам больше ничего не оставалось делать. Париж сдался. – Вдова вздохнула. – Немцы вернулись в Пруссию, но сначала отобрали у нас Эльзас и Лотарингию – прекрасные области вдоль нашего берега реки Рейн, где на склонах гор разбито множество виноградников. Франция была унижена.
– А после этого папу убили. Ты всегда говорила мне, что он погиб в сражении. Но я так и не могу понять. В школе учителя говорят…
– Не важно, что они говорят, – перебила его мать. – Я расскажу тебе, как все случилось. – Тем не менее она умолкла. Ее суровое лицо на мгновение осветилось проблеском нежной улыбки. – Знаешь, – заговорила она снова, – когда я захотела выйти за него замуж, мои родители не обрадовались. Наша семья была весьма бедна, но отец преподавал в школе и хотел, чтобы я стала женой образованного человека. Жан Ле Сур родился в трудовой семье и почти не ходил в школу. Он работал в типографии наборщиком. Но при этом он был очень любознательным.
– И что же дальше?
– Мой отец решил восполнить пробелы в образовании будущего зятя, и тот был совсем не против. Жан оказался способным учеником и вскоре уже читал все, что попадалось ему в руки. В конце концов он, должно быть, прочитал больше всех, кого я знала. Однако чтение и размышления над прочитанным привели его к тем убеждениям, за которые ему пришлось отдать жизнь.
– Он верил в революцию.
– Твой отец сумел понять, что даже Французской революции было недостаточно. Когда родился ты, Жан уже знал, что единственный способ двигаться вперед – это установить абсолютную власть народа и уничтожить частную собственность. Так же считали и многие другие отважные люди.
Справа от тропы, за деревьями, виднелось ограждение кладбища. Мать и сын были почти у цели.
– Четыре года назад, – продолжала вдова, – показалось, что момент настал. Наполеон Третий был свергнут. Управление страной сосредоточилось в руках Национального собрания, которое сбежало из города в Версальский дворец. Депутаты были настолько консервативны, что вполне могли бы создать еще одну монархию. Они боялись Парижа, потому что у нас была собственная гвардия и много пушек на Монмартре. Они послали войска, чтобы захватить артиллерию. Но солдаты перешли на нашу сторону. И внезапно это случилось: в Париже установилось самоуправление. Это и была Коммуна.
– Мои учителя говорят, что с Коммуной ничего не получилось.
– Они лгут. Та весна была прекрасна. В городе работали все службы. Коммуна объявила церковное имущество народной собственностью. Женщинам стали предоставлять права наравне с мужчинами. Мы подняли народный красный флаг. Люди вроде твоего отца превращали целые районы в государство трудового народа. Национальное собрание в Версале тряслось от ужаса.
– А потом версальцы напали на Париж?
– Они окрепли. С ними была военная мощь. Пруссия даже вернула пленных, чтобы усилить версальскую армию для борьбы с народом. Это было отвратительно и подло. Мы защищали ворота Парижа, строили баррикады на улицах. Бедняки сражались как истинные герои. Но все-таки враги оказались слишком сильны. Последняя неделя мая – Кровавая неделя – была страшной…
Вдова Ле Сур на некоторое время умолкла. Они подошли к юго-восточному углу кладбища, где тропа круто брала вверх, изгибаясь влево к вершине холма. Справа от мощеной тропы, ниже по склону, тянулась голая серая стена. А перед ней лежал небольшой треугольник пустой земли. Невзрачный, неприметный уголок кладбища даже не имел собственного названия.
– Дольше всех, – тихо заговорила вдова, – перед натиском версальцев продержался бедный квартал в Бельвиле, совсем недалеко отсюда. Там сражались и некоторые из наших людей. В конце концов все рухнуло. Последние полторы сотни коммунаров попали в плен. Среди них и твой отец.
– Ты хочешь сказать, его отправили в тюрьму?
– Нет. Офицер, который командовал войсками версальцев, велел привести всех пленных вот сюда. – Она указала на каменную стену. – Потом он выстроил своих солдат и приказал стрелять в пленных. Прямо так, без суда. Вот где погиб твой отец, и вот как это было. Теперь ты знаешь.
И вдруг высокая, тощая вдова Ле Сур заплакала прямо на глазах у сына. Но вскоре она взяла себя в руки и с замкнутым лицом несколько минут смотрела на пустую стену, у которой закончилось ее супружество.
– Пойдем, – наконец сказала она.
И они двинулись в обратный путь. Впереди уже показались ворота кладбища, когда Жак вывел мать из задумчивости вопросом:
– Что стало с тем офицером, который приказал расстрелять коммунаров?
– Ничего.
– Ты точно это знаешь? И ты знаешь, кто это?
– Да, я выяснила. Он аристократ, как ты и сам мог бы догадаться. Их до сих пор в армии множество. Его зовут виконт де Синь. – Она пожала плечами. – У него есть сын по имени Роланд, он моложе тебя.
Жак Ле Сур помолчал.
– Когда-нибудь я убью его сына. – Это было сказано тихо, но решительно.
Мать ответила не сразу, продолжая молча идти. Велит ли она ему выбросить мысли о мести из головы? Вовсе нет. Ее любовь была страстной, а страсть не берет пленных. Праведники должны сразить своих врагов-грешников. В этом их предназначение.
– Будь терпелив, Жак, – сказала она. – Дождись подходящего момента.
– Я подожду, – ответил мальчик. – Но Роланд де Синь умрет.
Глава 2
День начался плохо: пропал младший брат Люк.
Тома Гаскон любил свою семью. Его старшая сестра Адель вышла замуж и уехала из родительского дома, а младшая, Николь, была неразлучна со своей подружкой Иветтой, и их болтовня Тома не интересовала. Зато Люк был особенным – самый младший в семье, очаровательный мальчик, которого все любили. Тома было почти десять, когда родился Люк, и с тех самых пор он стал для братика опекуном, наставником и другом.
В действительности Люк не вернулся домой еще вчера вечером. Но поскольку их отец был уверен, что сын пошел к кузенам, которые жили примерно в полутора километрах, то никто не забеспокоился. Только утром, когда Тома уже собирался отправиться на работу, он услышал, как мать воскликнула за стенкой:
– Так ты не знаешь, он на самом деле у твоей сестры?
– Разумеется, там, – донесся из родительской спальни голос отца. – Люк пошел к ним вчера после обеда. Где еще ему быть?
Месье Гаскон был беспечным человеком. Он зарабатывал на жизнь в качестве водоноса, но чувством ответственности не отличался. «Он работает ровно столько, сколько необходимо, – говаривала его жена, – и ни секундой дольше». И тот соглашался, поскольку считал, что это единственно разумный подход. «Жизнь – чтобы жить. Если мужчина не может присесть и выпить стаканчик вина…» – отвечал он и красноречивым жестом изображал бесполезность всех остальных занятий. Пил он не так уж и много, но возможность спокойно посидеть была для него превыше всего.
Отец появился из спальни, одеваясь на ходу, – босой, небритый, готовый спорить. Но жена не дала ему сказать и слова.
– Николь, – распорядилась она, – немедленно беги к тете и проверь, там ли Люк. – Потом, обернувшись к мужу, сказала: – Спроси у соседей, может, кто видел твоего сына. Позор тебе! – гневно добавила она.
– А что мне делать? – спросил Тома.
– Ты иди на работу, конечно.
– Но… – Тома не хотел уходить, не удостоверившись, что с братом ничего не случилось.
– Ты что, хочешь опоздать и потерять место? – сердито прикрикнула на него мать, но затем смягчилась. – Тома, ты добрый мальчик. Скорее всего, твой отец прав и Люк остался на ночь у тети. – Сын продолжал колебаться, и она добавила: – Не волнуйся. Если что-то окажется не так, я пошлю за тобой Николь. Обещаю.
И Тома побежал вниз по крутым улочкам Монмартра.
Как ни беспокоился он о брате, но оказаться без работы не хотел. Перед тем как стать разносчиком воды, его отец был поденщиком и перебивался случайными заработками. Мать захотела, чтобы Тома овладел каким-нибудь ремеслом, и он научился работать с металлом. Чуть ниже среднего роста, Тома был крепким и сильным и отличался хорошим глазомером. Учился он быстро и, не достигнув еще двадцати, заслужил одобрение опытных мастеров, которые были рады взять его в бригаду и подсказать тонкости ремесла.
Стояло чудесное весеннее утро. Тома был одет в свободную блузу и куртку. Мешковатые штаны поддерживал широкий кожаный пояс; тяжелые рабочие ботинки поднимали дорожную пыль. Ему нужно было пройти всего четыре километра.
Топография Парижа была проста. Начавшись с древнего, овального по форме поселения на берегах Сены вокруг центрального острова, город со временем разрастался. Несколько раз его обносили стеной, и с каждым разом концентрические овалы становились все шире. К концу XVIII века, перед самой революцией, город обзавелся новой, так называемой таможенной стеной, отстоявшей от Сены примерно на три километра. У многочисленных ворот появились будки с ненавистными сборщиками пошлин. За пределами этого большого овала лежало кольцо пригородов и деревень, включая Пер-Лашез на востоке и холм Монмартр на севере. После революции проклинаемую всеми таможенную стену снесли, и выстроенная перед войной с Пруссией протяженная линия внешних оборонительных укреплений охватила даже самые дальние пригороды. Но многие из них, особенно Монмартр, до сих пор казались старинными деревушками, каковыми, по сути, и являлись.
У подножия Монмартра Тома пересек старую неопрятную площадь Клиши и оказался на широком бульваре, который шел на юго-запад примерно там же, где раньше проходила таможенная стена. По левую руку разбегались в разные стороны городские улицы, а по правую лежала бурно растущая деревня Батиньоль, недавно присоединенная к Парижу. Время от времени мимо медленно проезжал конный трамвай, но, как и большинство трудового народа, Тома редко раскошеливался на конку или омнибус, тем более что лошади двигались не намного быстрее энергичного молодого мужчины.
Спустя полчаса он увидел слева от себя красивую кованую решетку, за которой виднелись зеленые просторы парка Монсо. Бывший ранее герцогским владением, этот живописный сад теперь стал общественным, но внутри его, у южной границы, сохранился закрытый уголок, где разместились резиденции богатейших буржуа. Однако самая очаровательная достопримечательность парка Монсо находилась здесь, у решетки вдоль северной границы.
На вид это был маленький круглый римский храм, а на самом деле – бывшая будка сборщика податей. Чтобы скучное, сугубо функциональное строение соответствовало благородному окружению, его снабдили куполообразной крышей идеальных пропорций и обвели строем классических колонн. Тома с удовольствием остановил взгляд на безупречном маленьком храме, который также означал, что путь подходит к концу.
Перейдя бульвар, Тома прошел пятьдесят метров на север и свернул налево, на улицу Шазель.
Всего одно поколение назад это был скромный райончик из небольших мастерских и огородиков. Затем стали появляться виллы в два этажа, с мансардами под крышей. После того как барон Осман начал прорезать город сетью проспектов, по соседству выросли длинные шестиэтажные многоквартирные здания.
Объект, над которым теперь трудился Тома Гаскон, находился на северном конце улицы и вздымался над крышами соседних вилл. Это была гигантская фигура, выполненная пока только до середины корпуса, укутанная металлической драпировкой и обнесенная лесами, настолько высокая, что ее было видно от самого парка Монсо.
То была статуя Свободы.
Мастерские Гаже и Готье занимали обширный участок, который простирался до соседней улицы. Там стояло несколько больших, высоких ангаров, литейный цех и передвижной кран. Посреди участка высился огромный торс.
Сначала Тома зашел в ангар по левую сторону от входа. Это был цех, где за длинными столами трудились ремесленники, создавая декоративные фризы для головы и факела. Ему нравилось наблюдать за их работой, но сюда его привело желание сказать вежливое «С добрым утром!» старшему мастеру, лысому толстяку, который по утрам обычно бывал здесь, и тем самым напомнить всемогущему распорядителю о своем существовании.
Однако этим утром старший был занят. В мастерскую прибыл месье Бартольди. Автор статуи Свободы выглядел именно так, как и подобает настоящему художнику: красивое, тонко очерченное лицо, широкий лоб и завязанный пышным бантом шарф. Идею памятника Бартольди вынашивал не один год. Изначально он задумал установить подобную статую на Суэцком канале – у ворот на Восток, но от этого проекта отказались. Затем появилась другая замечательная возможность. Народ Франции, собрав средства от пожертвований и лотереи, заказал статую в качестве подарка Америке. Для нее выбрали место в нью-йоркской гавани, то есть у ворот на Запад. Вот так месье Бартольди стал одним из самых известных скульпторов в мире.
Не смея мешать ему, Тома торопливо покинул цех и вошел в соседний ангар.
Бартольди придумал грандиозную статую, но оставалась серьезнейшая проблема: как ее, черт побери, изготовить? Первый план предложил великий французский архитектор Виолле-ле-Дюк, и он состоял в том, чтобы дать фигуре опору в виде огромной каменной колонны. Но когда архитектор умер, никаких точных инструкций не нашлось и никто не знал, что делать. И когда некий мостостроитель заявил, что соорудит для статуи каркас, его тут же назначили руководителем всего проекта.
Инженер приступил к задаче точно так же, как взялся бы за строительство очередного моста. Статую он замыслил пустотелой. Вместо каменной колонны сердцевиной будет служить столб из металлических балок. Внешняя рама – нечто вроде гигантского скелета из металлоконструкций. А уже на этот скелет будут крепиться тонкие медные пластины. Внутренняя винтовая лестница позволит посетителям забираться на обзорную площадку в диадеме статуи.
Идея инженера имела и дополнительное преимущество: она допускала строительство разных частей статуи одновременно. Правая рука Свободы вздымала к небу факел, а в левой она должна была держать скрижали, на которых будет выбита дата принятия Декларации независимости США. Вот над этой-то левой рукой и трудился Тома в составе небольшой бригады.
В тот день рабочих, кроме него, было двое, оба – бородатые, серьезные мужчины на пятом десятке. Они вежливо поздоровались с Тома, и один спросил, как поживает его семья.
Рассказывать о пропаже младшего брата Тома показалось неуместным. И еще он подумал, что болтовней может накликать беду. Если ты что-то сказал вслух, это запросто может случиться на самом деле.
– В семье все в порядке, – ответил он и решил сосредоточиться на работе.
Рука статуи была огромной. Человек десять могли бы усесться на раскрытой ладони и пальцах. Внутренний каркас был собран из толстых металлических балок, а сверху обмотан длинными тонкими полосами меди, будто лентами. Шириной эти полосы были всего по пять сантиметров, они плотно прилегали друг к другу и точно следовали контурам модели Бартольди. Так что потом, когда их все прикрепят к каркасу, будет казаться, что это рука огромного плетеного человека.
Прикрепление полос на место требовало точности и терпения. Более часа трое мужчин молча трудились, лишь изредка перекидываясь парой слов. Их никто не отвлекал – вплоть до утреннего визита старшего мастера.
С мастером по-прежнему находился месье Бартольди, и к ним присоединился еще один человек.
По большей части надзор за выполнением работ осуществлял помощник инженера, однако сегодня с визитом пожаловал он сам.
Как Бартольди был художником до мозга костей, так и внешность инженера полностью соответствовала его профессии. В отличие от тонкого продолговатого лица скульптора, вся голова инженера была как будто выкована в кузнице бога Вулкана и потом обжата тисками. В нем все было компактно и аккуратно – коротко подстриженные волосы и борода, одежда, движения – и при этом исполнено энергии. А в его ясных, слегка выпуклых глазах угадывалась мечтательная душа.
Несколько минут он и Бартольди осматривали огромную руку, постукивая по тонким полоскам металла, измеряя что-то тут и там, и наконец одобрительно кивнули старшему мастеру и подытожили:
– Отличная работа, месье!
Они уже двинулись к выходу, когда инженер обратился к Тома со словами:
– Вы тут новичок, кажется?
– Да, месье, – сказал Тома.
– И как же вас зовут?
– Тома Гаскон, месье.
– Гаскон, вот как? Ваши предки, значит, были родом из Гаскони?
– Я не знаю, месье. Полагаю, что да.
– Гасконь. – Инженер подумал о чем-то, затем улыбнулся. – Это же древняя римская провинция Аквитания. Теплый юг. Край вина. И бренди тоже: не будем забывать об Арманьяке.
– Или о «Трех мушкетерах», – подхватил Бартольди. – Д’Артаньян ведь был гасконцем.
– Вот именно! И что же мы можем сказать о характере ваших сородичей, месье Гаскон? – задал шутливый вопрос инженер. – По-моему, они славятся отвагой и преданностью своей чести?
– Говорят, что они любят похвастаться, – вставил старший мастер, не желая отмалчиваться в сторонке.
– Вы хвастливы, месье Гаскон? – поинтересовался инженер.
– Мне нечем хвастаться, – просто ответил Тома.
– А! – воскликнул инженер. – В этом я смогу вам помочь. Как по-вашему, почему мы конструируем статую именно таким образом?
– Мне кажется, – сказал Тома, – чтобы можно было потом разобрать ее на части и перевезти через Атлантику.
Он знал, что, когда статуя будет завершена здесь, на улице Шазель, и ее медная кожа будет прикреплена к телу временными заклепками, всю конструкцию разберут и вновь соберут уже в Нью-Йорке.
– Верно, – сказал инженер. – Но есть и еще одна причина. Этот памятник будет стоять над водой, в бухте Нью-Йорка, где ничто не защитит его от ветров, которые будут дуть в него, как в парус. Если бы статуя была монолитна, она стала бы испытывать неимоверные нагрузки. Изменения температуры также будут воздействовать на металл, заставляя его то сжиматься, то расширяться, и тогда медная кожа могла бы треснуть. Поэтому, во-первых, я построил внутренности статуи так же, как металлический мост: они подвижны – чуть-чуть, но достаточно, чтобы ослабить напряжение. А во-вторых, настоял на том, чтобы пластины меди, которые покрывают статую, словно кожа, были прикреплены к металлическим балкам каждая по отдельности. То есть пластины приделаны к каркасу, но не соединены между собой. И в результате они могут скользить относительно друг друга – опять же чуть-чуть, но благодаря этому покрытие не потрескается. Человеческий глаз не сможет этого заметить, но статуя Свободы будет шевелиться. Вот что значит хороший инженерный проект. Все понятно? – (Тома кивнул.) – Хорошо, – продолжал инженер. – Теперь я скажу вам, чем вы сможете хвастаться. Благодаря своей конструкции и вашей тщательной работе по ее сборке эта статуя будет жить много столетий. Бессчетные миллионы людей увидят ее. Определенно, мой юный друг, это будет самая известная работа, в которой удастся поучаствовать вам или мне в течение всей жизни. Стоит этим похвастаться, как вы думаете?
– Да, месье Эйфель, – сказал Тома.
Эйфель улыбнулся ему. Бартольди тоже. Даже старший мастер улыбнулся, и Тома Гаскон почувствовал себя на седьмом небе от счастья.
И в этот самый миг увидел, что в дверях ангара стоит его сестра Николь.
Она старалась привлечь его внимание, но внутрь войти боялась. Сейчас сестра находилась в той фазе роста, когда ноги кажутся тонкими, как палки, а бледное лицо и большие глаза придавали ей ранимый вид. Если мать послала ее в такую даль, это могло значить только одно: Люк пропал. Или случилось кое-что еще страшнее.
Но в какой неудачный момент она появилась! Если бы только сестра дождалась, когда старший мастер с посетителями уйдут! Несмотря на мольбу в глазах сестры, Тома сделал вид, будто не замечает ее.
Но старший мастер никогда ничего не упускал. Он увидел, что Тома на секунду отвлекся, и тут же развернулся и уставился на Николь:
– Кто это?
– Моя сестра, господин старший мастер. – Обманывать было бесполезно.
– Почему она мешает нам?
– Сегодня утром пропал мой младший брат. Думаю, что он… Я не знаю.
Старший мастер был недоволен. Переведя взгляд снова на Николь, он поманил ее и спросил резким тоном:
– Ну, в чем дело?
– Моя мать послала меня за Тома, месье. Мы никак не можем найти младшего брата Люка. И даже вызвали полицию.
– В таком случае Тома вам не нужен. – Взмахом руки он велел ей уходить.
У девочки вытянулось лицо. Тома невольно двинулся к ней, чтобы утешить, но сдержал свой порыв и остался на месте.
Ни в коем случае нельзя потерять эту работу. Может, старший мастер действительно слишком уж резок, но он рассуждает логично. Вот если бы Тома обратился к нему с глазу на глаз… Но в присутствии месье Бартольди и месье Эйфеля начальник должен был следить за дисциплиной с особой строгостью, это понятно.
Николь следовало в тот же момент уйти. Поскорее. Но она не уходила. Ее лицо сморщилось. Неужели она собирается разреветься?
– Что передать маме? – Она посмотрела на старшего брата.
Он собирался сказать ей, чтобы уходила, но его опередил месье Эйфель:
– Думаю, что в данном случае, в виде исключения, наш юный друг может оставить мастерские и отправиться на поиски брата. Но завтра утром, месье Гаскон, вы должны быть здесь, чтобы продолжить нашу великую работу. – Он повернулся к мастеру. – Вы согласны?
Старший мастер пожал плечами, но кивнул.
– Иди, – сказал он Тома.
Тот хотел бы должным образом выразить начальнику благодарность, но Николь уже исчезла за дверью, и пришлось спешить вслед за ней.
Если смотреть издалека, то со времен Римской империи холм Монмартр почти не изменился. На протяжении столетий здесь произрастал виноград, за которым в Средние века ухаживали монахини; нынче же он в основном одичал или погиб, хотя в отдельных местах еще сохранились виноградники. Но одна приятная глазу перемена все же произошла: у самой вершины появилось несколько деревянных ветряных мельниц. Когда их громоздкие лопасти вращались, холм выглядел весьма живописно.
А вблизи становилось понятно, что на Монмартре царит хаос. Барон Осман не смог приручить его по причине крутизны склонов, и потому холм оставался наполовину сельским. В отдельных местах Монмартр как будто хотел принарядиться, однако оставил попытки на полпути: кривые улочки и крутые аллеи обрывались, превращаясь в тропинки между деревянными хижинами и лачугами, разбросанными как попало.
Посреди этого хаоса самой сомнительной репутацией пользовались трущобы на северо-западном склоне чуть пониже вершины. Их называли Маки. Это слово означает заросли кустарника, дикую местность или даже район притонов. Дом Гасконов был одним из самых презентабельных здесь: простой каркас, обшитый досками, венчался балкончиком на втором этаже, который придавал строению отдаленное сходство со швейцарским шале. Семья занимала верхний этаж, куда вела наружная лестница.
– Где вы искали? – спросил Тома, как только добрался до дому.
– Везде, – сказала мать. – И полиция приходила.
Она пожала плечами, давая понять, что полиция ей особых надежд не внушает. Месье Гаскон сидел в углу. Его коромысло лежало перед ним на полу. С виноватым видом он смотрел себе под ноги.
– А ты иди работай, – негромко сказала ему жена.
– Ничего, пусть подождут, – ответил он, хорохорясь. – Обойдутся без воды, пока не найдут моего сына.
И Тома догадался: отец считает, будто маленький Люк мертв.
– Вчера после обеда твоя тетя подарила Люку воздушный шар, и он отправился домой, – рассказала мать старшему сыну. – Но сюда так и не пришел. Никто из школы Люка не видел. Сначала один мальчик сказал, будто видел, но потом передумал. Может, кто-нибудь и знает что-то, но все молчат.
– Я пойду искать, – сказал Тома. – Какого цвета был шарик?
– Синего, – сказала мать.
Выйдя на улицу, Тома остановился. Сумеет ли он найти брата? Он внушал себе, что да. Обыскивать Маки заново не имело смысла. Под холмом городские окрестности тянулись дальше на север к пригороду Сен-Дени. Но насколько Тома знал, маленький Люк никогда не ходил в ту сторону. Школа, куда мать отдала Люка, и большинство известных мальчику мест располагались выше по склону. Тома туда и направился.
Сразу за Маки находился ресторанчик «Мулен де ла Галетт». На самом деле раньше это была одна из двух мельниц, которыми владела предприимчивая семья. Им пришло в голову устроить на первом этаже небольшой танцзал и при нем закусочную. Горожане приходили сюда выпить дешевого вина и насладиться сельским очарованием. Люк постоянно околачивался около этого заведения: пел клиентам песенки, за что они бросали ему монетки.
– Полиция уже побывала здесь, – сказал официант, подметавший пол. – Вчера вечером Люк к нам не заходил.
– У него мог быть синий воздушный шар.
– Никаких шаров тоже не было.
Тома обошел несколько улиц, останавливаясь то там, то здесь и расспрашивая прохожих, не видел ли кто мальчика с шариком днем ранее. Но напрасно. Трудно было не поддаться отчаянию, но он продолжал поиски. Через полчаса безрезультатных блужданий Тома вышел на большой плоский участок, с которого открывался вид на весь Париж. Здесь, за высоким деревянным забором, строили огромную базилику Сакре-Кёр.
Во время осады Парижа Тома было семь лет. Он помнил, как на холме стояли большие пушки, как за них сражались, как из Версаля прибыли правительственные войска и расстреляли коммунаров. Его отец старательно держался в стороне от неприятностей – или просто был слишком ленив. Но, как и большинство рабочих, он недолюбливал этот тяжеловесный триумфальный памятник католицизму, который решила воздвигнуть на вершине холма, над всем городом, новая консервативная республика. А вот Тома был зачарован базиликой – не столько ее религиозным смыслом, сколько размахом стройки.
Но сейчас, обводя взглядом огороженную площадку на вершине Монмартра, он не мог не испытывать леденящий страх.
Холм в основном был сложен из мягкой осадочной породы – гипса, а гипс обладает двумя свойствами. Во-первых, он постепенно растворяется в воде и потому является непрочным основанием для крупных строений. Во-вторых, при нагревании он теряет воду, после чего его легко превратить в порошок, из которого затем производят штукатурку. По этой причине люди веками рыли в недрах Монмартра карьеры, добывая гипс. Эти каменоломни со временем столь прославились, что белую штукатурку стали называть парижской.
А строители Сакре-Кёр, приступив к работе, скоро обнаружили, что почвы под будущим храмом не только мягкие, но и изъедены вдоль и поперек шахтами и туннелями – чему не стоило удивляться. Если огромное здание поставить прямо на землю, то весь холм неизбежно обрушится, а церковь окажется на дне колоссальной воронки.
Найденное решение было поистине французским: в нем изящная логика сочеталась с величием. Выкопали восемьдесят три шахты, каждая более тридцати метров глубиной, и заполнили их цементом. На эти мощные колонны легла крипта – огромная коробка, почти равная по высоте стоящей на ней, как на платформе, церкви. Только на этот этап ушло почти десять лет, и к моменту его завершения даже те, кто ненавидел стройку, говорили с насмешливым изумлением: «Не Монмартр поддерживает церковь, а церковь поддерживает Монмартр».
Каждую неделю Тома ходил смотреть, как продвигается строительство. Иногда какой-нибудь добродушный рабочий соглашался показать ему глубокие шахты и каменную кладку вблизи. Даже когда началась работа над самим храмом, строительная площадка представляла собой непролазное болото грязи, испещренное ямами и канавами. Теперь же, пока Тома стоял перед высоким забором, ему в голову пришла чудовищная мысль: а что, если тело его несчастного брата выбросили где-то на стройке? Может пройти не один день, прежде чем его обнаружат, а то и вообще могли уже засыпать чем-нибудь. Что, если Люка затащили в лабиринт туннелей и шахт? Попасть туда довольно легко, но, оказавшись внутри, найти выход почти невозможно. Неужели Люк сейчас там, внизу, в подземных полостях холма?
Нет, сказал себе Тома. Нельзя даже думать о таком. Люк жив. Он жив и ждет, когда его найдут. Все, что требуется сейчас, – это хорошенько подумать. Где он может быть?
Тома дошел до угла и остановился. Перед ним внизу лежал весь Париж. Сияли кое-где золоченые купола, вздымались над крышами шпили церквей. Выше всех тянулись башни собора Нотр-Дам на главном острове Сены. А над городом властвовало голубое небо, чистое и ясное. Небо молчало.
Парень попробовал помолиться. Но Бог и Его ангелы тоже безмолвствовали.
Так что пришлось Тома двигаться дальше без чьей-либо помощи, и он зашагал на запад по улице, огибающей холм. Люди здесь обитали более зажиточные, чем в Маки, с маленькими садиками вокруг домов. Потом дорога пошла вниз. По правую руку Тома показался высокий гребень, густо поросший кустами, а наверху тянулась огораживающая чей-то сад стена.
– Ш-ш-ш… Тома! – послышался шепот откуда-то сверху.
Молодой человек замер. Сердце чуть не выскочило из груди. Но как ни всматривался он в кусты, ничего не мог разглядеть.
– Ты один? – Это был голос Люка! – На улице никого нет?
– Никого, – ответил Тома.
– Я спускаюсь…
Через несколько секунд Люк уже стоял рядом с ним.
У них обоих были карие глаза. Но если Тома Гаскон был широк и коренаст, то его девятилетний брат был тонок и гибок. Черты загорелого лица молодого рабочего были прямыми и лаконичными, а его коротко остриженные каштановые волосы уже начинали редеть. Кожа его младшего брата была бледнее, волосы темнее и длиннее, нос с более выраженной горбинкой. Его можно было бы принять за итальянца. Эту внешность он унаследовал от бабушки по отцовской линии, которая приехала в Париж из Тулона.
Тома окинул брата быстрым взглядом: грязный и взлохмаченный, в остальном он был цел и невредим.
– Я голоден, – первым делом пожаловался Люк. Оказалось, что он прятался в кустарнике всю ночь. – Хотел дождаться вечера и спуститься с холма, чтобы встретить тебя, когда ты пойдешь с работы.
– Почему ты не пошел домой? Мать и отец страшно переволновались.
– Они сказали, что будут ждать меня. – Люк затряс головой. – Сказали, что убьют…
– Кто?
– Братья Далу.
– А-а.
Дело было серьезным. В Маки действовало несколько подростковых банд, но братья Далу отличались особой жестокостью. Если они пообещали убить Люка, то можно было не сомневаться, что его как минимум сильно изобьют. И они вполне были способны караулить жертву всю ночь.
– Чем ты им досадил? – спросил Тома.
– Тетя Лилли подарила мне шарик. Я шел по улице домой, а они мне навстречу. Антуан Далу сказал, чтобы я отдал ему шар. Я сказал «нет». Тогда Жан Далу ударил меня и забрал шарик.
– Что потом?
– Я огорчился и заплакал.
– И что?
– Когда они уходили, я швырнул в шар битую бутылку, и он лопнул.
– Зачем ты это сделал?
– Чтобы шар им не достался.
– Это было большой глупостью. – Тома покачал головой.
– Потом они бросились на меня, и Антуан Далу подобрал несколько больших камней, чтобы кинуть в меня, и я побежал. Один раз он в меня попал, в спину, но я все равно убежал. Только они не успокоились. Жан Далу крикнул мне вслед, что они убьют меня и что домой я живым не попаду. Поэтому я не приближался к дому. Но на тебя они не нападут. Побоятся.
– Я отведу тебя домой, – сказал Тома. – Но что будет дальше?
– Не знаю. Может, мне уехать в Америку и остаться там навсегда?
– Нет. – Тома не был согласен с таким планом. – Пойдем.
Как только Люк оказался дома и в безопасности, Тома снова отправился в путь.
Братьев Далу он нашел быстро. Малолетние разбойники околачивались на задворках своей хижины на другом краю Маки. Там были почти все: Антуан – ровесник Люка, с узким лицом хорька; Жан – более симпатичный на вид и на пару лет старше, главарь шайки; Ги – один из отпрысков семьи Нуар, кузен братьев Далу, подросток с унылым лицом, который злобно кусался в драке, и еще двое-трое их приятелей.
Тома взял быка за рога.
– Люку не следовало бросать в шар бутылку, – сказал он Жану Далу. – Но отбирать у него шар было некрасиво. – (Все молчали.) – В общем, – продолжал Тома, – делу конец, а брата моего оставьте в покое, или я рассержусь.
Жан Далу ничего на это не ответил, зато заговорил Антуан:
– Вот эта бутылка, которую бросил Люк. И она прилетит обратно, прямо ему в лицо!
Тома инстинктивно двинулся на маленького подонка, но в тот же миг Жан заорал:
– Бертран!
Дверь хижины распахнулась, и оттуда выскочил парень. Тома выругался про себя: он совсем позабыл о старшем из братьев.
Бертран Далу был ровесником Тома и время от времени нанимался поработать на стройки. Шевелюра его была сальной и запыленной, потому что мылся Бертран только в исключительных случаях. Он яростно воззрился на Тома, пока Жан взахлеб излагал жалобу:
– Его брат швырнул в Антуана разбитую бутылку, а теперь и он сам хочет ударить Антуана!
– Врун! – воскликнул Тома. – Мой брат всю ночь прятался, его искала полиция, потому что эти мальчишки пообещали, что убьют его! Я пришел сказать им, чтобы они его не трогали. Или вы хотите, чтобы вместо меня сюда пришла полиция?
Бертран Далу сплюнул. Не важно, на чьей стороне правда, и они оба это знали. На кону стояла честь. А в Маки вопросы чести решались лишь одним способом. Бертран начал двигаться по кругу, и Тома оставалось только последовать его примеру.
С Бертраном ему еще не приходилось драться, но, поскольку тот носил фамилию Далу, приемов от него стоило ждать самых грязных. Вопрос был в том, много ли он умеет?
Его первый выпад не отличался тонкостью. Бертран бросился вперед, выдвинул кулак в сторону лица Тома, чтобы заставить противника откинуть голову, и замахнулся ногой, целясь в пах. Но вместо того чтобы блокировать пинок коленом, Тома отскочил, поймал ногу Бертрана в верхней точке амплитуды и дернул на себя, так что старший Далу рухнул наземь. Но Далу был быстр. Тома едва успел пнуть его разок, а он уже опять вскочил на ноги.
Через мгновение они сцепились. Бертран пытался швырнуть Тома на землю, но тот держал равновесие и сумел нанести короткий сильный удар чуть пониже сердца, которой потряс парня достаточно, чтобы Тома смог произвести захват. Тома сжимал противника изо всех сил. Однако действовал он не очень осторожно, и Далу так сильно ударил его в глаз, что Тома разжал руки.
И вновь они медленно закружились друг против друга. В подбитом глазу Тома пульсировала кровь, скоро начнется отек. Нужно бы завершить драку побыстрее.
Следующий ход Бертрана был хитрее. Набычив лохматую голову, он опять наскочил на Тома, словно намеревался боднуть его в живот и сбить с ног. Только в последний миг Тома увидел, как к его лицу метнулась рука с двумя вытянутыми пальцами, – попади она в цель, он остался бы без глаз. Тома молниеносно закрыл лицо кулаком, и пальцы Бертрана с размаху воткнулись в его костяшки.
Наблюдая за перекосившей лицо Далу гримасой, Тома гадал, что последует. Ему не пришлось долго пребывать в неведении: рука Бертрана вдруг исчезла в кармане. Тома видел, как рука врага начинает обратное движение, и знал, что это означает. Если он не хочет, чтобы дело приняло действительно скверный оборот, то у него есть всего секунда и нет права на ошибку. Рука вновь появилась из кармана. Блеснуло лезвие.
Тома нанес удар ногой. Слава богу, двигался он быстро. Рука Далу дернулась, и лезвие взвилось в воздух. С криком боли Бертран поднял глаза, следя за полетом ножа. И это предопределило исход драки.
Пора было заканчивать. Еще один пинок – хороший такой, точный. С идеальной скоростью и координацией Тома нанес удар. Тяжелый рабочий ботинок впился в пах Бертрана с такой сокрушительной мощью, что старший из братьев Далу подлетел в воздух и на мгновение завис там, словно тряпичная кукла, после чего упал.
Тома обошел вокруг него, готовый добавить, но это было излишне. Посрамленный Бертран Далу лежал без движения.
Все закончилось. Порядок – или то, что подразумевалось под этим словом в Маки, – был восстановлен. Банда Далу больше не будет приставать к его младшему брату.
В тот вечер в семействе Гаскон царило счастье. Когда Тома вернулся днем домой, мать запричитала над его глазом, который заплыл уже почти наполовину. Но отец все понял.
– Вопрос решен? – спросил он и, получив в ответ утвердительный кивок, больше ни о чем не расспрашивал.
Потом мать объявила, что приготовит на вечер что-нибудь вкусное, и ушла вместе с Николь на рынок. Люк прилег поспать несколько часов.
К концу дня их жилье наполнилось головокружительным запахом рагу, и они сели за стол раньше обычного. Ужин удался на славу. Луковый суп, хоть и считался пищей бедняков, был бесподобен, а свежие багеты благоухали и хрустели. Рагу мадам Гаскон обычно готовилось из свиных ног, овощей и тех приправ, что находились у нее в буфете, и представляло собой дешевое, но сытное блюдо. Но в этот день в соусе, густом как никогда, попадались даже кусочки говядины. На десерт мать побаловала их и камамбером, и козьим сыром, и зрелым грюйером, и запивалось все дешевым красным вином.
Люк совсем оправился после своего приключения и так искусно изобразил перед семьей Антуана Далу, что они хохотали до слез. Тома потом поведал о своей беседе с месье Эйфелем и о том, что́ инженер рассказал ему о статуе Свободы. И тут Люк снова заявил:
– Я хочу жить в Америке.
Это было встречено протестами.
– Как же ты будешь там один, без нас? – спросила его мать.
– И вы все со мной поезжайте, – сказал Люк.
Но больше никому в Америку не хотелось.
– Америка – прекрасная страна, в этом нет никакого сомнения, – заговорил месье Гаскон, разгоряченный вином. – Там есть все. Большие города, но не такие большие, как Париж, разумеется. А еще огромные озера, и горы, и прерии, которые тянутся, насколько хватает глаз. Если твоя родина не так хороша… Если ты англичанин, или немец, или итальянец – мы сейчас не о богачах говорим, конечно… Тогда… тогда в Америке, пожалуй, тебе будет лучше. Но у нас во Франции и так все есть. Горы – Альпы и Пиренеи, великие реки – Сена и Рона, бесконечные поля и пастбища, густые леса. У нас есть города, соборы и на юге – римские развалины. У нас имеются зоны самого разного климата. Лучшие вина в мире, три сотни разных сыров. Чего еще можно желать?
– У нас нет десертов, папа, – заметила Николь.
– Верно, – засмеялся Тома.
– Главное, что в Америке люди не дерутся друг с другом, – с чувством произнес Люк.
– О чем это ты? – вскричал отец. – Да они в Америке все время воюют. Сначала они сражались с англичанами. Потом с индейцами. Потом друг с дружкой. Они еще хуже, чем мы.
– Так что оставайся с нами и будь благодарен судьбе, – посоветовала своему младшему госпожа Гаскон.
– Ну ладно, – согласился Люк. – Останусь, пока Тома будет меня защищать.
– А! – Господин Гаскон с гордостью посмотрел на старшего сына. – За это стоит выпить!
И они выпили.
На следующее утро, проснувшись, Тома пошел к брату.
– Знаешь, – сказал он, – ты умеешь быть забавным. Вот и забавляй людей, заставляй смеяться. Тогда даже братья Далу полюбят тебя.
Когда он пришел на работу, его сразу разыскал старший мастер:
– Ты нашел брата?
– Да, месье.
– Ты сможешь работать с таким глазом? – Старший мастер посмотрел на синяк под глазом Тома.
– Да, месье.
Начальник кивнул. Выходцев из Маки не принято расспрашивать о подобных вещах.
Тома спокойно проработал весь день. Господин Эйфель в мастерские не заглядывал.
На следующий день была суббота. Тетя Элоиза стояла на большой площади перед собором Нотр-Дам, смотрела на троих детей Бланшар, выстроившихся перед ней в ряд, и думала о том, что ее брат Жюль и его жена неплохо потрудились.
Старший, Жерар, достигший уже шестнадцати лет, был целеустремленным юношей с квадратным жестким лицом, который имел все задатки для того, чтобы в недалеком будущем стать партнером отца в семейном торговом деле. Однако Элоиза предпочитала младшего брата, Марка, – высокого и красивого, как отец, но более тонкого сложения. В нем ощущался интеллект и воображение, и потому он был ближе Элоизе по складу ума. Увы, школьные его занятия не приносили стабильных успехов, и он был склонен к мечтательности. «Беспокоиться не о чем, – убеждала она Жюля, когда тот делился своими опасениями. – Тринадцатилетние мальчики должны мечтать. Кто знает, может, когда-нибудь он создаст в искусстве или литературе нечто такое, что прославит нашу фамилию».
И наконец, была еще маленькая Мари. Вряд ли можно судить о характере человека восьми лет от роду, рассуждала тетя Элоиза. Но девочка росла доброй и милой – это уже было очевидно. И разве можно было не любить эти голубые глаза, и массу золотых кудряшек, и очаровательную пухлость детского тельца, которое однажды превратится в прекрасную женскую фигуру?
Тем не менее тете Элоизе казалось, будто у одного из этих троих детей имелся недостаток. Не слишком серьезный, но тревожный. Пока она держала свои подозрения при себе, рассчитывая, что даже если она права, то недостаток этот исправим. Кроме того, напоминала она себе, никто не идеален.
Собственную роль в семье тетя Элоиза видела в том, чтобы пробудить в детях как можно больше даров духа. Вот почему сегодня утром, во время прогулки на остров Сите, она перво-наперво привела их к прелестной церкви Сент-Шапель.
В тете Марку нравилась элегантность и то, что она знает чрезвычайно много интересных вещей. Они стояли в высокой капелле, залитой теплым светом, падающим через огромные окна, и, задрав голову, смотрели на высокие готические своды синего и золотого цветов. От этой красоты у Марка захватывало дух.
– Похоже на драгоценную шкатулку, правда? – негромко сказала тетя Элоиза. – Шесть веков назад король Людовик Девятый, мы зовем его Святым Людовиком, отправился в Крестовый поход, и император Византии, которому очень нужны были деньги, продал ему несколько самых ценных христианских реликвий, включая частицы святого креста и даже терновый венец. Для хранения сокровищ Людовик и выстроил эту церковь, то есть по сути это огромный реликварий. На строительство соборов вроде Нотр-Дама уходили века, а вот Сент-Шапель закончили всего за пять лет, и поэтому она вся выдержана в едином стиле. Вот почему она так прекрасна.
– Какие еще святыни тут хранятся? – спросил Марк.
– Гвоздь распятия, хитон, который носил младенец Иисус, копье, которое пронзило Его бок, несколько капель Его крови, молоко Пресвятой Богородицы. И еще жезл Моисея.
– Вы думаете, все это настоящее?
– Не мне судить. Однако церковь – красивейшая в мире! – Тетя Элоиза восхищенно помолчала. – Правда, во время революции это замечательное строение было полностью разорено. Революционеры, которые не отличались религиозностью, разграбили и уничтожили все, что смогли. От Сент-Шапель остались только стены. О революции можно сказать много хорошего, но разрушение этой церкви к этому не относится. – Она обернулась к Марку и подняла указательный палец. – Вот почему, Марк, так важно, чтобы всегда, особенно в военные или смутные времена, в обществе были культурные и образованные люди, которые смогли бы защитить наше наследие.
Почему она всегда адресовала подобные замечания ему, Марку, а не его старшему брату? Жерар, заметил он, со скучающим видом поднял глаза к потолку. Однако Марк знал, что на самом деле тот не скучает, а завидует тому, что тетя Элоиза более высокого мнения о Марке, чем о нем.
– К счастью, красоту не так-то легко уничтожить, по крайней мере во Франции. – Тем временем красноречие тети Элоизы лилось рекой. – Архитектор Виолле-ле-Дюк полностью восстановил Сент-Шапель во всем ее великолепии, какое мы сегодня видим. Она прекрасна… Она волшебна… – Тетя Элоиза вновь с одобрением посмотрела на Марка. – Вот видишь, мой дорогой, какой бы трудной ни казалась нам ситуация, мы никогда не должны сдаваться. Чудеса возможны при условии, что среди нас есть художники и архитекторы и их покровители, а ты можешь стать одним из них.
Теперь они стояли перед мощными башнями Нотр-Дама, возле огромной конной статуи императора Карла Великого. Тетя Элоиза чувствовала, что во время экскурсии в Сент-Шапель она не уделила достаточно внимания старшему племяннику, и поэтому новую тему начала с замечания о том, что средневековые парижские постройки на площади снесли только перед самым рождением Жерара.
– А раньше, Жерар, собор Нотр-Дам окружали деревянные домики с остроконечными крышами да темные переулки, как это описывает Гюго в «Соборе Парижской Богоматери», – сказала она с улыбкой.
– Вот и хорошо, что их все снесли, – буркнул Жерар в ответ.
Тетя Элоиза обдумала фразу и тон, которым она была произнесена. Не послышался ли ей вызов в голосе племянника? Не считает ли он, будто она влюблена во все живописные остатки Средневековья? Не хочет ли показать ей, что с удовольствием расправился бы со всеми ее восторгами – примерно как барон Осман расправился с кривыми улочками и канавами?
– Вполне согласна с тобой, Жерар, – улыбнулась она ему. – Ведь раньше перед собором была лишь крошечная незастроенная площадка, и та сплошь заставленная лотками торговцев. Кроме того, старые дома на момент сноса находились в ужасном состоянии – прогнили до основания, и люди жили в них, как крысы. Теперь же… – Тетя Элоиза обвела площадь широким жестом. – Теперь мы восхищаемся и собором, и пространством перед ним.
На это племянник ничего не сказал. Пора было уделить внимание и маленькой Мари. Но когда тетя Элоиза направила взгляд на девочку, то заметила, что та чем-то огорчена.
– Что случилось, дорогая? – спросила она.
– Ничего, тетя Элоиза, – сказала Мари.
Ужасное событие свершилось сразу после завтрака. Мари понимала, что виновата она сама, – до чего же глупо с ее стороны было оставить дневник на столе в своей комнате! Обычно она держала его в ящике, запирающемся на ключ. И все равно: по какому праву Жерар зашел в ее комнату, пока Мари там не было, и взял то, что ему не принадлежало?
Можно было бы не расстраиваться так сильно, если бы не одно «но»: Мари только что доверила дневнику секрет, который никто не должен был знать. Она влюбилась. В школьного приятеля Марка.
– Ну-ну, сестренка, – издевательски прищурился Жерар. – А у тебя, оказывается, уже тайны завелись.
– Тебя это не касается! – вскричала Мари, алая от смущения.
– Да ладно, – сказал брат, небрежно возвращая ей дневник. – У всех есть секреты, но твой не очень-то интересный. Может, когда подрастешь, в твоем дневнике найдется кое-что получше.
– Не смей никому рассказывать! – потребовала она со слезами в голосе.
– Кому? – пожал он плечами. – Кто захочет об этом знать?
– Убирайся! Ненавижу тебя!
Когда пришла тетя Элоиза, чтобы повести юных Бланшаров на прогулку, Мари только-только успела осушить слезы ярости и горькой обиды.
Тетя Элоиза перебирала в уме темы, которые могли бы заинтересовать Мари. Ей припомнилась одна история – не совсем подходящая для благовоспитанной девочки восьми лет, но если ее чуть-чуть подправить…
– Прямо на этом месте, Мари, когда-то разыгралась любовная драма. Тебе знакома история Абеляра и Элоизы?
Мари отрицательно мотнула головой.
– Хорошо. – Тетя многозначительно глянула на двух мальчиков. – Я сейчас расскажу кое-что, а вы, Жерар и Марк, не перебивайте меня и ничего не добавляйте. Вам понятно? – Она снова повернулась к Мари. – Давным-давно, – начала она, – в Средние века, до того как был выстроен великий Нотр-Дам, здесь стояла большая старая церковь, совсем не такая красивая, как этот собор. И на этом же месте было еще нечто, не менее важное. Кто-нибудь знает, что это было?
– Университет, – сказал Марк.
– Верно. Пока его не перевели на левый берег – в тот район, который мы сейчас называем Сорбонной, – Парижский университет в основном был учебным заведением для священников и занимал на острове Сите несколько зданий рядом с той старой церковью. В университете преподавал философ Абеляр, и лекции его были столь интересны, что послушать их приезжали студенты со всей Европы.
– Он был старым? – спросила Мари.
– Нет. – Тетя Элоиза улыбнулась. – Он поселился в доме одного важного священника, каноника по имени Фульбер, и там же жила племянница каноника Элоиза.
– Она была красивой? – захотела узнать Мари.
– Несомненно. Но что более важно, эта девушка была исключительно умной. Она умела читать по-латыни, по-гречески и даже на иврите. Училась она у Абеляра. И нет ничего удивительного в том, что два этих необыкновенных человека полюбили друг друга. Они тайно поженились, и у них родился сын Астролябий.
– Астролябий?
– Астролябия – это инструмент для наблюдения за звездами. Соглашусь, имя немного странное, но оно показывает, что любовь Абеляра и Элоизы была поистине космической. Однако дядя Элоизы, Фульбер, очень рассердился. Он наказал Абеляра и заставил влюбленных расстаться. Абеляр уехал, но продолжил изучать и преподавать философию. Элоиза стала монахиней, а потом настоятельницей монастыря. В дальнейшем она и Абеляр писали друг другу восхитительные письма. Элоиза была одной из величайших женщин своего времени.
– И они всегда любили друг друга? – спросила Мари.
– Со временем чувства Абеляра несколько охладели. Мужчины не всегда бывают добры.
– Это правда! – с жаром подхватила Мари, глянув на Жерара.
– Но их похоронили вместе, и теперь их могила находится на кладбище Пер-Лашез.
– И вас назвали в честь той Элоизы? Вы такая же, как она?
– Нет, меня назвали в честь моей бабушки. – Тетя Элоиза улыбнулась. – И моя жизнь сложилась совсем иначе. Но история любви этих двоих стала знаменитой на весь мир, и она показывает, что, даже если мы не можем быть все время счастливы, мы все равно можем прожить жизнь полную и богатую во всех отношениях.
Марк слушал тетю внимательно. Он отметил, что она обошла молчанием яркую и жуткую деталь: как именно Фульбер наказал Абеляра. Каноник нанял головорезов, и те кастрировали великого философа. Разумеется, такие подробности не для ушей маленькой Мари.
И еще кое в чем тетя Элоиза отклонилась от истины. Год назад отец сказал Марку: «Твоя тетя хотела выйти замуж за человека, который сейчас стал популярным писателем; к сожалению, он женился на другой. Не говори тете, что я рассказал тебе об этом. Ей делали предложения другие мужчины, однако ее больше никто не заинтересовал в достаточной степени. Она привлекательная женщина, но слишком независимая» – так заключил отец, пожимая плечами.
Марк знал, что среди друзей тети много писателей и художников. Когда у него самого обнаружились способности к рисованию, он всегда хотел слышать именно тетино мнение о своих успехах. Он с легкостью мог представить тетю Элоизу в роли настоятельницы средневекового монастыря или одной из тех дам XVIII века, которые держали салоны, посещаемые великими деятелями Просвещения. Были ли у нее любовники? Если и да, то в респектабельной семье Бланшар никто никогда и словом о них не обмолвился.
До Малого моста было рукой подать. Они смотрели через воду на левый берег. Тетя Элоиза попробовала опять вовлечь в разговор Жерара:
– Остров Сите – совсем как корабль на реке, тебе не кажется?
– Наверное…
– А ты знаешь, Жерар, что на одном из гербов Париж изображен в виде корабля? Помнишь старый девиз города на латыни? «Fluctuat nec mergitur». «Качается, но не тонет». Этот девиз очень подходит Парижу.
Жерар пожал плечами. Большинство парижан гордились своим городом и его сокровищами, посмотреть на которые съезжались люди со всего света. Но Жерару, если честно, было все равно. Он догадывался, что тетя Элоиза и Марк презирают его за это. И маленькая Мари тоже со временем станет смотреть на него свысока. Ну и пусть. Жерар знал, чему будет посвящена его жизнь. Он станет главой семейного дела.
Кроме него, никто не сможет занять место отца. И дедушка понимал это с самого начала. «У Жерара трезвая голова», – заявил он родне, когда внуку было всего десять лет. От Марка не будет никакого толка, он ведь такой же, как тетя Элоиза: его занимают бесполезные идеи и понятия. Маленькая Мари – девчонка, ее вообще не стоит принимать в расчет. И даже отец не лучшим образом распоряжался доставшимся ему наследством.
Жюль Бланшар дождался смерти отца и только после этого осуществил свою мечту. Три года назад открылся его великолепный универмаг. Жюль довольно дерзко расположил его на бульваре Османа позади Парижской оперы и всего в двух шагах от прославленного универмага «Прентам».
Подобно «Прентаму», в универмаге Бланшара предлагалась высококачественная одежда по фиксированной цене, доступной среднему классу. На ряд товаров он обладал монополией. Свой магазин Жюль назвал «Жозефина».
Почему «Жозефина»? – спрашивали его близкие. В честь императрицы Жозефины, разумеется, – так объяснял он. Она была женой Наполеона и необыкновенной женщиной и, несмотря на все свои недостатки, всегда отличалась элегантностью. Лучше названия не придумать, убеждал всех Жюль.
Ему пришлось влезть в долги, чтобы профинансировать свое предприятие, но потом ему чертовски повезло. Всего через год после открытия «Жозефины» ее главный соперник, универмаг «Прентам», погиб в страшном пожаре, и новое здание взамен сгоревшего еще строилось. В «Жозефине», за отсутствием конкуренции, пусть и временном, дела пошли бойко. «Суши сено, пока светит солнце», – весело приговаривал Жюль.
Но на Жерара успех универмага не произвел никакого впечатления. Он ненавидел розницу. Настоящие деньги приносила оптовая торговля, которую, хвала небесам, отец сохранил; розничная пожирала прибыль. Оптовики давали в долг; розничные торговцы занимали. Местом оптовой торговли было простое, функциональное здание, которое простояло века и простоит еще столько же. Универмаг же напоминал театральные декорации. Его брат обожал яркий, радующий глаз магазин, и Жерар втайне опасался, что в один прекрасный день Марк захочет стать управляющим. Это нужно предотвратить во что бы то ни стало.
План Жерара был прост. Рано или поздно отец отойдет от дел или умрет, и тогда, если универсальный магазин еще не разорит их, Жерар избавится от него. По возможности продаст, а если покупателя не найдется, то просто закроет.
Глава 3
Была весна 1261 года от Рождества Христова, на французском троне восседал король Людовик IX. Занимался рассвет, когда с тюфяка на полу поднялась молодая женщина.
Между деревянными ставнями пробивалась тонкая полоска света. Внизу, во дворе, еще стояла полная тишина, но из флигеля напротив слышался звучный и ритмичный храп дяди – примерно с таким же хриплым лязгом поднимали решетки на городских воротах.
Все еще обнаженная, Мартина подошла к ставням и надавила на них ладонью. Они с треском распахнулись. Дядин храп прервался на несколько секунд, и она затаила дыхание. Затем хрип и лязг возобновились, благодарение Господу.
Нужно быть осторожней. Нельзя, чтобы ее поймали.
Мартина оглянулась на тюфяк. Молодой человек, лежащий на нем, еще спал.
Вплоть до прошлого года Мартина была невесткой зажиточного торговца. Но муж подхватил лихорадку и умер, оставив ее вдовой в двадцать лет. Конечно же, в самом ближайшем будущем она снова выйдет замуж. Но до тех пор, думала она, можно поразвлечься. Только чтобы никто не узнал!
Если она попадется, то, скорее всего, дядя высечет ее, а то и выгонит из дому… Мартина не знала точно, чем ей это грозит, однако рисковать не могла: ей нужна была не только крыша над головой, но и добрая слава, коли она собиралась найти себе богатого мужа.
Юноша на матрасе был беден. А еще – честолюбив. И ему предстояло немало узнать об искусстве плотской любви. Так почему же она его выбрала?
На самом деле это он первым подошел к ней, и случилось это десять дней назад, в соборе Нотр-Дам. Новый храм строили уже без малого столетие, и вот наконец он почти завершен. Однако чтобы сделать его еще более красивым, было решено перестроить поперечные нефы в соответствии с новейшими веяниями архитектурной моды – превратить их стены в великолепные витражи, такие же, как в новой королевской церкви-реликварии. Мартина рассматривала огромное круглое окно-розу в северном нефе, когда появился этот молодой человек в студенческой робе и с выбритой тонзурой: в то время студенты Парижского университета считались клириками.
– Оно восхитительно, не правда ли? – заметил он с фамильярной любезностью, словно они были давно знакомы.
– Месье?
Мартина окинула его неодобрительным взглядом. Юноша был приличного роста, стройный, темноволосый. Бледная гладкая кожа, длинный тонкий нос. Совсем недурен. На год или два моложе ее самой.
– Прошу простить меня. Роланд де Синь, к вашим услугам. – Он вежливо поклонился. – Я хотел сказать, что Нотр-Дам подобен прекрасной женщине, которая, взрослея, становится краше с каждым прожитым днем.
– Что же будет, когда она состарится? – Мартина чувствовала, что нужно как-то ответить.
– А-а… – Он помолчал. – Мне известен один секрет этой дамы, и я могу поделиться им с вами. В восточном углу я только что обнаружил крошечные трещины и небольшой прогиб стены, и это означает, что уже в скором времени нашей красавице понадобится незаметная поддержка. Думаю, ее снабдят подпорными арками – контрфорсами, как их называют архитекторы.
– Вы сведущи в делах поддержки дам?
Она заметила, что первым его побуждением было похвастаться, но он сумел сдержаться.
– Я всего лишь студент, мадам, – сказал он скромно.
Это сочетание игривости и рыцарской сдержанности показалось Мартине весьма соблазнительным. Молодой человек, несомненно, обладал даром изысканно выражать свои мысли и тем произвел на нее впечатление.
Однако ее дядя был бы иного мнения. «Болтовня, – презрительно отмахнулся бы он. – Эти проклятые студенты больше ни на что не способны, могут только болтать, напиваться да нападать на достойных людей. Их почти всех приговорили бы к порке, если бы не защита короля и Церкви».
Поскольку университетом управляла Церковь, то группа студентов, напившихся и устроивших в таверне дебош, отвечала только перед церковным судом, который в большинстве случаев оставлял дело без последствий. Поэтому не было ничего удивительного, что парижане возмущались такой привилегией студентов. Что же касается благочестивого короля Людовика IX, который добавил святости столице и династии, поместив в новой роскошной церкви священные реликвии, то он понимал, что настоящий блеск Парижу придает университет. Может, сто лет назад Абеляра критиковали, но нынче его помнили как величайшего философа своего времени, и в университет, где он когда-то преподавал, съезжались молодые ученые со всей Европы.
– Куда вы направляетесь после осмотра собора? – поинтересовался юноша.
– Я пойду домой, месье, – твердо заявила она.
Какая самонадеянность!
– Позвольте сопровождать вас. – Он снова склонился перед ней. – На улицах не всегда безопасно.
Ей было трудно не рассмеяться при этих словах, произнесенных среди бела дня неподалеку от королевской резиденции.
– Вам от этого никакого проку не будет, – предупредила она.
Они быстро преодолели небольшое расстояние до северной стороны острова. Немного ниже по течению на правый берег был перекинут мост. Когда они пересекли его, Мартина спросила:
– Ваша фамилия имеет приставку «де». Означает ли это, что вы благородного происхождения?
– Да. Рядом с нашим фамильным замком было озеро, на котором жило так много лебедей, что его назвали Лебединым – Лак-де-синь. Правда, в нашей семье также живет поверье, будто это имя дали нашим прародителям за их лебединую стать и силу. Меня назвали Роландом в честь моего предка, известного героя «Песни о Роланде».
– Вот оно что. – История уже более столетия была популярна в народе, однако Мартине и в голову не приходило, что можно познакомиться с настоящим потомком Роланда. И опять он сумел произвести на нее впечатление. – Тем не менее вы приехали сюда в качестве скромного студента?
– Имение унаследует мой старший брат. Так что мне предстоит усердно учиться и стремиться к духовной карьере.
Когда они вновь двинулись вверх вдоль течения Сены, Роланд поведал Мартине о своем родовом имении. Оно находилось на западе, в низовьях своенравной Луары, то есть уже после поворота ее мощного русла к Атлантическому океану. Студент говорил о родных местах с любовью, чем еще больше понравился Мартине. Тем временем они приблизились к портовому району и большой рыночной площади, известной как Гревская.
Среди прилавков рынка на просторной Гревской площади всегда было оживленно. На речном берегу разгружались судна и баржи, доставляющие вина из Бургундии и зерно с восточных равнин. По другую сторону площади протянулся квартал прядильщиков, а за ним – квартал стеклодувов. Дом дяди Мартины стоял на улице дю Тампль, которая шла на север, разделяя два этих квартала.
Так как Мартине не нужны были сплетни, она решила, что пора распрощаться со знатным спутником.
– Благодарю вас, месье, и прощайте, – сказала она вежливо.
– Завтра у меня занятия, – сказал Роланд, – но через день, примерно в это же время, я собираюсь посетить Сент-Шапель. Возможно, мы сможем увидеться с вами там.
– Сомневаюсь, – ответила она, уходя.
Однако два дня спустя отправилась в Сент-Шапель.
Прошло совсем немного времени с тех пор, как набожный король Людовик воздвиг роскошную церковь для хранения реликвий. В двухуровневом здании верхняя капелла предназначалась для короля, и туда был устроен отдельный вход прямо из дворца. А простой народ мог молиться в более скромном помещении на нижнем уровне. Но даже оно было великолепно. Похожее на склеп пространство освещалось мерцанием бесчисленных свечей. Мартина разглядывала изящные колонны красного и золотого цветов, которые плавно перетекали в низкие синие своды потолка, щедро усеянные золотистыми лилиями, и ей казалось, будто она очутилась в волшебном саду. Согласившись на встречу с Роландом, она уже положила начало близости между ними. Среди подрагивающих язычков пламени, окутанная мягким ароматом фимиама, курящегося в каждом уголке, она стояла почти вплотную к Роланду, и вышло это само собой, самым естественным образом.
Пару раз она даже оперлась о его руку, и это позволило ей, несмотря на аромат курений, почувствовать его запах: слабый, приятный запах пота от кожаных сандалий и чего-то еще – то ли миндаля, то ли муската.
Они провели в храме некоторое время, наслаждаясь красотой строения. Мимо них в какой-то момент прошел священник, и Роланд удивил Мартину, заговорив со священнослужителем:
– Я хотел бы узнать, святой отец, могу ли я показать своей даме капеллу на втором этаже.
– Королевская капелла закрыта, молодой человек, – резко ответил священник.
Мартина подумала, что этим все и закончится, однако не тут-то было.
– Простите, святой отец, меня зовут Роланд де Синь. Мой отец владеет замком де Синь в долине Луары. Я его второй сын и собираюсь в скором времени принять духовный сан.
– Я слышал о вашей семье, – сказал священник, внимательно присмотревшись к юноше. – Прошу вас следовать за мной.
Через несколько минут они оказались в королевской капелле.
– Здесь нельзя задерживаться, – шепнул им священник.
Через высокие окна в капеллу падали солнечные лучи, наполняя просторное сине-золотое помещение небесным сиянием. Если нижний храм походил на волшебный сад, то это были врата в рай.
Спутник Мартины, юный студент, имевший хорошо подвешенный язык и приятный запах, обладал властью открывать тайные сады земных чудес и королевские святилища. В этот момент Мартина решила попробовать его в качестве любовника. Кроме того, у нее еще ни разу не было аристократа.
Пока она смотрела на него в свете раннего утра, он открыл глаза. Они были янтарно-карими.
– Тебе пора уходить, – прошептала Мартина.
– Еще минуточку.
– Нельзя, чтобы меня застукали с тобой!
– Тогда постарайся не издавать звуков, – ухмыльнулся он.
– Хорошо, только быстро, – решила она, ложась с ним рядом.
Потом он сказал, что следующий вечер у него будет занят учебой, но что он мог бы прийти через день. Она согласилась, затем провела его по лестнице во двор. Подобно большинству купеческих домов в Париже, жилище ее дяди было высоким. Парадная дверь открывалась прямо на улицу, однако за домом находился небольшой дворик с амбаром, где спала Мартина, и калиткой, выходящей на аллею позади дома. Бесшумно подняв щеколду, Мартина вытолкнула Роланда со двора и снова захлопнула калитку. Из дома по-прежнему доносился мерный дядин храп.
Шагая задворками, Роланд де Синь не мог не испытывать довольства собой и своими успехами. До сих пор за ним числились лишь краткие и неловкие свидания с деревенскими простушками да уличными шлюхами, поэтому связь с Мартиной можно было рассматривать как неплохой любовный опыт. Конечно, она всего лишь вдовушка из купеческого сословия, но для науки хороша. Ему казалось, что и Мартина в свою очередь весьма довольна, приобретя любовника благородных кровей.
По мнению Роланда, ему особенно удался первый разговор с красоткой. Конечно, его уверения, будто он происходит от героя «Песни о Роланде», были преувеличением, но не полной ложью. Ребенком он спросил у отца, почему его назвали Роландом, и получил такой ответ:
– Когда твой дед отправился в Крестовый поход, у него был замечательный конь по кличке Роланд, названный в честь известного героя. Этот конь вез деда до самой Святой земли и обратно, поэтому заслужил, чтобы его помнили. К тому же это хорошее имя. Я бы дал его твоему старшему брату, но в нашей семье первого сына всегда называют Жаном. Вот так это имя досталось тебе.
– Значит, я назван в честь коня?
– Это был самый благородный конь из всех, ходивших в Крестовые походы. Разве можно желать большего?
Роланд тогда все понял правильно, но все же считал, что не сможет привлечь внимание дамы, если скажет ей правду о происхождении своего имени.
Проулками и аллеями он вышел на улицу дю Тампль. Над островерхими крышами светлело небо. Городские ворота к этому часу уже открылись, но пока на улицах было пусто. Со всех сторон несся предрассветный птичий гомон, вливая радость в сердце Роланда. Он вдохнул полной грудью: как обычно, парижские улицы пахли мочой, навозом и дымом очагов. Однако повеяло восхитительным ароматом горячего хлеба, и Роланд различил сладкий запах медоносной жимолости, растущей где-то неподалеку.
Ехать в Париж Роланд не хотел, на этом настоял отец.
– Здесь тебе не на что надеяться, сын мой, – сказал он. – Мне кажется, что у тебя больше мозгов, чем у твоего брата, и в Париже ты сможешь свершить великие дела во славу своего рода. Там ты даже мог бы превзойти деда!
Да, это было бы здорово.
История была благосклонна к деду Роланда. После смерти могущественного Карла Великого его империя вновь рассыпалась на провинции и племенные угодья, построенные на обломках древнего Рима. Случались периоды, когда к землям королей франков мало что относилось, кроме округи Парижа, известной как Иль-де-Франс, в то время как их окружали бескрайние владения богатых и влиятельных феодальных семейств – Прованс и Аквитания на юге, кельтская Бретань на северном побережье Атлантики, Шампань на востоке и ниже ее племенные земли Бургундии.
Без Карла Великого некому стало сдерживать устрашающих викингов-норманнов, и те совершали один набег за другим. Однажды Париж откупился от них и отправил разорять Бургундию, чего бургундцы никогда не простили парижанам. Наконец норманны обосновались в Нормандии, но их правители не могли жить спокойно. И когда Вильгельм Нормандский завоевал в 1066 году Англию, богатством и властью его семья превзошла королей в Париже.
Однако худшими из всех, самыми жадными, безжалостными и откровенно агрессивными, были графы Анжуйские, правители относительно небольшой территории южнее Бретани, в устье Луары. Амбиции привели Плантагенетов, как их стали называть, к бракам с правящими семьями Нормандии и Аквитании, а благодаря невероятной династической удаче они заполучили также и трон Англии.
– Во времена твоего деда, – рассказывал Роланду отец, – Плантагенеты почти окружили Иль-де-Франс и готовы были сжать кулак.
Францию спас необыкновенный человек – король Филипп Август из династии Капетингов, дед нынешнего короля Франции, отличавшийся храбростью и мудростью. Он отправился в Крестовый поход вместе с английским королем из рода Плантагенетов, Ричардом Львиное Сердце, но никогда не упускал случая рассорить Плантагенетов между собой. И когда героического Ричарда Львиное Сердце сменил на престоле его брат Иоанн, далеко не столь популярный, коварный французский монарх вскоре сумел прогнать его из Нормандии и даже из Анжу. Был такой момент, когда против Иоанна взбунтовались английские бароны и казалось, что французы смогут получить также и Англию.
В те нелегкие годы, полные распрей и войн, не было у короля Франции более верного подданного, чем владелец замка де Синь. Он был простым рыцарем, и самым ценным его имуществом был боевой конь по имени Роланд. Однако де Синь сопровождал короля в Крестовом походе, и тот называл его своим другом. Крошечное имение де Синя находилось в Анжу, и Плантагенеты могли отобрать его в любой момент, однако тот оставался с королем. Когда Филипп Август одержал победу, то сумел вознаградить скромного преданного друга, более чем удвоив семейные владения.
В последующие годы де Сини не процветали. Отец Роланда продал часть земель. Все рассчитывали на то, что старший брат Роланда сможет жениться на богатой наследнице, – это очень укрепило бы род. Сам же Роланд мог помочь семье в другой сфере – сделать карьеру священнослужителя.
В Церкви можно было найти многое: утешение и вдохновение, знания и мечты. Для семьи крестоносцев де Синей она могла оказаться полезной в ином качестве. У Божьих служителей имелись деньги. Много денег.
Тот, кто достигал в Церкви высокого положения, получал доступ к доходам от ее несметных богатств. Епископы были влиятельными людьми и жили как принцы. Выдающиеся церковные деятели обеспечивали свои семьи на несколько поколений вперед и могли помочь родственникам во множестве сфер. Обет целомудрия не привлекал Роланда; впрочем, многим епископам обеты не мешали иметь внебрачных детей. Из лона Церкви выходили образованные люди и королевские чиновники. Для умного юноши она открывала дорогу к благополучию.
Роланд был готов вступить на этот путь. Он хотел достичь успеха. Но у него была одна мечта – мечта крестоносца, которую он и не надеялся осуществить.
Он посмотрел в конец улицы. В четверти мили отсюда, в узком промежутке между каркасными домиками с высокими крышами, виднелись ворота городской стены. Ее выстроил Филипп Август, заключив в крепкий каменный овал оба берега Сены. Створки были открыты. Роланду надо было в противоположную сторону, но он не устоял перед соблазном и пошел к воротам.
Дорога продолжалась и по ту сторону стены. Слева начались сады, за которыми виднелся монастырь Сен-Мартен-де-Шам. Внутри городской черты и за ее пределами имелось еще несколько обнесенных стенами святилищ, но Роланд направлялся к тому, что лежало справа от ворот, из которых он вышел. Это был большой орденский анклав, выстроенный как крепость, с двумя мощными башнями внутри. Надежные ворота заперты на засовы и замки. Роланд остановился на дороге, рассматривая крепость.
Это был Тампль. Государство в государстве.
Орден тамплиеров создали крестоносцы. Они начинали свою деятельность как охранники, помогая перевозить через опасные территории деньги для армий. Вскоре тамплиерам стали доверять огромные вклады во многих странах, что в конце концов сделало их банкирами. Как служители Бога, они не платили налогов. К началу правления Филиппа Августа тамплиеры были одной из богатейших и наиболее могущественных организаций христианского мира. Они подчинялись только папе римскому и Господу. Несмотря на то что поле деятельности ордена расширялось, он всегда оставался грозной военной силой.
Благородные рыцари-тамплиеры никогда не сдавались. Их не выкупали из плена. Они сражались всегда до победы или до смерти, которой не боялись. Чтобы победить их, нужно было убить всех до единого.
А чтобы стать одним из них, нужно было пройти обряд посвящения, суть которого хранилась в глубочайшем секрете, так что ни единой подробности обряда ни разу не просочилось за пределы ордена. Но тот, кого принимали в тамплиеры, становился частью сокровенного, священного ядра мира крестоносцев.
С раннего детства Роланд мечтал стать тамплиером. Только так он мог бы сравниться со своим легендарным дедом. Он думал об этом вплоть до того дня, как отец отправил его в Париж. Отец же и слышать не хотел о рыцарях-воинах, и на то у него была простая причина.
У рыцарей не было денег. Вступая в орден, они давали клятву бедности и соблюдали ее. Сам орден был несказанно, невероятно богат, но его отважные воины были нищими. Никакой пользы семье Роланда де Синя они принести не могли.
И потому Роланд постоял еще немного, глядя, как утренний свет озаряет башни Тампля, и повернул восвояси, обратно в город. Тампль был пределом его мальчишеских фантазий, но теперь он готов был признать, что жизнь в Париже не так уж плоха. Например, объятия Мартины доставляли ему немалое удовольствие.
Он подумал о том, что предстоит в этот день, и улыбнулся. Мартина ему нравилась. Но он солгал, когда сказал, что вечер у него будет занят учебой.
Закатное солнце уже окрасило крыши алым и через улицы протянулись длинные тени, когда Роланд покинул свое жилище на левом берегу. Он занимал комнатку в доме в сотне метров к западу от аббатства Сент-Женевьев, на широкой вершине холма, где когда-то стоял римский форум. Разрушенный много веков назад, форум превратился в насыпь из обломков, на которой возвели множество церковных построек. Древняя римская улица, ведущая вниз к реке, сохранилась, но получила новое имя: так как по ней проходили паломники, направляющиеся в Компостелу, где хранятся останки святого Иакова, ее назвали Сен-Жак.
Роланд двинулся по ней в толпе других студентов. После того как университет перевели от Нотр-Дама на левый берег, склоны холма покрылись маленькими коллежами, где жили и учились студенты. Первым возник коллеж королевского духовника Робера де Сорбона, но за ним последовало множество других.
Он так и шагал вниз по склону, мимо дворца аббата Клюни и приходской церкви Сент-Женевьев, пока не вышел к реке, намереваясь пересечь ее по старому мосту и попасть на остров, где лучи заходящего солнца превратили западный фасад Нотр-Дама в расплавленную массу красного и золотого.
Роланд был возбужден. Он шел на свидание к другой женщине.
Мартина с легкостью поверила его словам, что вечером он будет занят учебой. Все знали, что студентам университета приходится много трудиться. Однако Роланду учеба давалась легко. Еще до приезда в Париж, в возрасте пятнадцати лет, он научился у местного священника говорить и писать на латыни, поскольку университетские лекции почти все читались на этом древнем языке. Традиционный тривиум – грамматику, логику и риторику – он освоил раньше своих соучеников и тут же приступил к квадривиуму, включавшему арифметику, геометрию, астрономию и музыку. Он выполнял задания так быстро, что студенты прозвали его Абеляром. Но Роланд не был философом и не желал им становиться. Природа одарила его сообразительностью и отличной памятью, только и всего. Скоро он закончит квадривиум и станет мастером. После этого он собирался заняться изучением юриспруденции.
Ну а этим вечером он был свободен и мог заняться любовью с девушкой, с которой познакомился на улице Сент-Оноре.
Он встретил ее тремя днями ранее. Один из университетских преподавателей, которому Роланд был рад угодить, попросил отнести записку какому-то священнику на правом берегу.
Кладбище Сент-Инносан лежало к западу от центральной линии города, всего в трехстах метрах от реки, на улице Сен-Дени. Если выйти по этой улице за городскую стену, то она еще несколько миль тянулась на север до самого аббатства Сен-Дени, где хоронили королей Франции. Но кладбище Сент-Инносан предназначалось для гораздо более скромных покойников. Стены трехметровой высоты окаймляли общие могилы бедняков. Рядом с этими унылыми оградами стояла приятная на вид церковь, где Роланд и нашел нужного человека – низенького пожилого мужчину с лицом ученого, который от всей души поблагодарил студента за хлопоты.
Западнее кладбища располагалось куда более веселое место – самый большой городской рынок, Ле-Аль. Роланд не спешил вернуться в университет и потому побродил немного среди торговых рядов, разглядывая красочные товары. Стоя перед прилавком, где торговали итальянской кожей прекрасной выделки, он случайно поднял глаза на группу купцов и встретил пристальный взгляд одного из них. Не особенно могучий по виду, тот тем не менее выглядел опасным. Лицо частично скрывала короткая косматая борода, над которой торчал крючковатый нос, похожий на клюв. Жесткий взгляд был направлен прямо на Роланда, словно он был ядовитой змеей, которую нужно растоптать.
Это был дядя Мартины. Роланд знал его в лицо, поскольку из любопытства однажды утром задержался возле дома своей любовницы и подсмотрел, как хозяин отправляется по делам. Вообще-то, Роланд считал, что торговец даже не догадывается о его существовании, но тем не менее тяжелый взгляд прожигал его насквозь.
Неужели он что-то знает? Но откуда? Роланд медленно двинулся прочь, делая вид, будто ничего не заметил. Он остановился среди прилавков так, чтобы можно было наблюдать из укрытия.
Пронзительный взгляд дяди Мартины теперь был направлен в другую часть рынка. Насколько Роланд мог судить, выражение его глаз не изменилось. Может, лавочник просто был чем-то разозлен? Роланд хотел на это надеяться, однако рынок Ле-Аль покинул без промедления.
После этого он зашел в таверну на углу улицы Сент-Оноре, где и увидел ту девушку – не родственницу хозяина, просто прислугу. Роланд сразу обратил внимание на ее яркую внешность: густые черные волосы, темные глаза и белозубая улыбка. Также он заметил, как двое или трое посетителей пытались с ней заигрывать, но она твердо пресекла их потуги. Однако, едва встретив ее взгляд, Роланд понял, что интересен ей. Таверну он покинул не скоро, успев заручиться обещанием свидания, как только у девушки выдастся свободный вечер. Ее звали Луиза.
И вот теперь, когда вечернее солнце окрасило Нотр-Дам пурпуром, Роланд в хорошем настроении пересек реку и оказался на острове Сите. Перед тем как продолжить путь на правый берег, он задержался на минуту. Слева, ниже по течению, стоял мост, поддерживающий дюжину водяных мельниц; за ним протянулись причалы, где лодки выгружали соль и сельдь с нормандского побережья. Еще дальше узкая западная оконечность острова разделяла воды Сены, позолоченные закатом, на два рукава. И еще чуть дальше, там, где в берег упиралась прочная крепостная стена Филиппа Августа, виднелся небольшой квадратный форт с высокими башенками, называвшийся Лувром. Оборудованный массивными цепями, которые можно было натянуть через реку, он охранял прекрасный город, дабы уберечь его от поругания неотесанными завоевателями.
Роланд поднял лицо к теплому закатному солнцу и улыбнулся. Добрый знак – то, что Мартина живет в восточной части правого берега, а Луиза – в западной. Если повезет, то он еще долго сможет ходить то к одной, то к другой.
Поджидая своего любовника на следующий вечер, Мартина была полна предвкушений. Она накрыла у себя в комнате низенький стол: положила на блюдо сладостей, поставила кувшин вина. Днем ранее она исповедалась и, как всегда после покаяния и отпущения грехов, испытывала душевный подъем, словно жизнь началась с чистого листа. Несмотря на определенные недостатки кавалера, Мартина трепетала при мысли о скорой встрече с ним.
Стемнело. Двое слуг спали на чердаке, а третий – на кухне. К ночи кухонную дверь запирали на засов, а ставни закрывали. Дядя наверняка еще сидел в своей конторе, но ее окна выходили на улицу.
Мартина набросила на плечи темную накидку и выскользнула во двор. Луна пряталась за бегущими облаками. Почти невидимая, молодая женщина подошла к калитке на заднюю аллею и открыла задвижку.
Роланд уже ждал ее и тут же шагнул во двор. За пару секунд они прокрались по лестнице в комнату Мартины.
Свеча заливала помещение мягким светом. Было тепло и уютно. Роланд находился в прекрасном расположении духа и сиял улыбками. Небольшое угощение, приготовленное Мартиной, привело его в восторг.
– Вчера я была на исповеди, – сказала она, подливая ему вина.
– У тебя так много грехов?
– Только ты.
– А. Смертный грех. Ты покаялась и получила прощение?
– Да.
– И собираешься снова согрешить?
– Может быть. Если ты будешь мил со мной. – Она с любопытством посмотрела на него. – А ты? Ты исповедуешься?
– Время от времени.
– Что ж, поверю тебе на слово, – нежно поддразнила она его. – Не забудь, ты носишь тонзуру и сам скоро станешь священником.
– Возможно. – Он пожал плечами. – Грехи плоти не так уж важны.
– Значит, я для тебя – всего лишь плотский грех?
– Так учит нас теология. – Он в задумчивости отвел взгляд и произнес, словно говоря сам с собой: – Замужняя женщина была бы более серьезным грехом. Вдова – другое дело. К тому же я не соблазнил девушку из благородной семьи.
– Значит, со мной можно делать что захочешь, раз я из семьи торговцев?
– Ты понимаешь, о чем я.
О да, она прекрасно понимала, о чем говорит Роланд. Он знатного рода и потому считает себя выше остального человечества. Этот обнищавший, неопытный, самонадеянный аристократик думает, что имеет право лечь с ней в постель, потому что его предки были дружны с Карлом Великим. И ждет от нее согласия с таким положением дел. У Мартины возникло желание вышвырнуть мальчишку за дверь.
Но она ничего не сказала. В тот вечер у нее было настроение заняться любовью. А раз уж она зашла так далеко, то почему бы не взять то, чего хочется. Конечно, Роланд использует ее, но и она может использовать его.
Он отставил вино и посмотрел на девушку с улыбкой. Она решила, что он собирается приступить к делу, однако Роланд кое-что вспомнил:
– Мартина, в прошлый раз я тебе этого не сказал, но несколько дней назад на рынке я видел твоего дядю. Он смотрел на меня так, будто знал, кто я такой. Мне стало не по себе, но потом я понял, что у него всегда такой грозный вид. Ты ведь не думаешь, что ему известно о нас с тобой?
– Он ни о чем не догадывается, уверяю тебя.
– Рад это слышать.
Вот теперь студент готов был заняться тем, ради чего пришел к Мартине. Он начал целовать ее, и они упали на соломенный тюфяк. На девушке была только нательная рубашка, но Роланд еще был в полном облачении. Юноша возбудился, Мартина тоже. Его рука скользнула в углубление между ее ног. Она прерывисто вздохнула. Вскоре он стянул штаны и вошел в нее.
– Сними рубашку, – попросила она.
Подобно большинству людей своего времени, Роланд не менял сорочку неделю, а то и дольше, и потому она пропахла потом и улицей. Но Мартине нравилось, что он моется чаще других. Разумеется, обливание холодной водой из таза полноценным мытьем не назовешь, но это было лучшее, на что можно было рассчитывать в Париже эпохи Крестовых походов.
– Ах, – прошептала Мартина, – как хорошо.
Помимо запаха пота, она различала уже знакомый ей аромат миндаля, исходивший от его кожи. Роланд приближался к кульминации и двигался все быстрее. Она выгнула спину. Он прижался к ней…
И вдруг Мартина нахмурилась. Она почуяла другой запах. Сначала она решила, что ей показалось, но нет, ошибки быть не могло. Это был запах духов, но не таких, которыми воспользовалась бы Мартина. Так пахли самые дешевые духи, которыми уличные девки пытались замаскировать тот факт, что не мылись месяцами.
Но откуда этот тошнотворный запах на коже Роланда? Существовало только одно объяснение, и Мартина поняла все мгновенно. Вот чем он был занят прошлой ночью. Ее тело окаменело.
Он кончил. Слишком быстро.
Мартина лежала не шевелясь. На мгновение ее затопила волна горькой обиды, но быстро отхлынула. Ведь Мартина не влюблена в него. Затем она почувствовала гнев. Да как он посмел?! Она предложила ему себя, а он забежал за угол и тут же подобрал какую-то шлюху. Неужели он ее совсем не уважает? Понимает ли он вообще, как ему повезло? Она хотела закричать, стукнуть его чем-нибудь тяжелым. Заставить его страдать.
Но девушка по-прежнему не шевелилась, даже заставила себя улыбнуться, когда Роланд опустился на кровать. Затем она положила голову ему на плечо и стала водить по его груди пальцами, все медленнее и медленнее, будто ее одолевал сон. Спустя некоторое время его тело расслабилось – Роланд задремал. Мартина отодвинулась от него и стала думать, глядя в темноту.
Потом на ее губах заиграла довольная улыбка. Месть – это такое блюдо, которое лучше подавать холодным. И теперь Мартина хвалила себя за то, что сдержалась и ничего не сказала, – значит, он ничего не заподозрит. Она закрыла глаза.
Проснулась Мартина на рассвете. В слабом свете, проникавшем через щели в ставнях, она увидела, что Роланд лежит на боку, приподнявшись на локте, и смотрит на нее.
– Наконец-то, – сказал он и потянулся к ней.
Он начал с поцелуев в шею и затем стал опускаться ниже. Она не возражала. Было приятно. Он не спешил, и она тоже.
– Я еще не совсем проснулась, – сказала она.
Его член напрягся. Мартине именно это и требовалось. Она позволила ему войти в нее. Он двигался медленно и ритмично, не торопясь.
– Знаешь, – негромко проговорила она, – насчет того, о чем ты вчера спрашивал…
– Ты разговариваешь во время занятий любовью?
– Иногда. Так вот, о моем дяде… Тебе не о чем волноваться. Он ничего не знает.
– Хорошо.
– Я бы сразу поняла, если бы он узнал. Он бы поколотил меня.
– О-о…
– Он хочет, чтобы я нашла себе хорошего мужа. А вот с тем мужчиной, который переспал бы со мной до брака… ой-ой-ой…
– Что?
– Ему бы грозила судьба Абеляра.
– Ты шутишь. – Роланд замер.
– Ты его не знаешь.
– Он что, оскопит меня? Отрежет мне яйца?
– Ну, не сам. Наймет кого-нибудь. У него есть деньги.
– Но я из знатной семьи.
– Абеляр тоже был не из простых.
Это было верно: великий философ происходил из малоизвестного, но благородного семейства.
Мартина почувствовала, как мужское достоинство любовника сжалось внутри ее, и притянула Роланда к себе.
– Не волнуйся, любовь моя, дядя ничего не знает, – успокаивала она его, но Роланд больше не мог думать о плотских утехах. – Не уходи, пожалуйста, – ворковала Мартина. – Закончи то, что начал.
– Мне пора. – Он отодвинулся и бросил взгляд на полоску света между ставнями.
– Ты придешь вечером? – спросила Мартина.
– Сегодня мне нужно заниматься.
– А завтра?
– Если смогу, приду.
День прошел спокойно, и у нее было время, чтобы обдумать все как следует. Даже неплохо, что все случилось именно так. Она вела себя как дура, пойдя на такой риск. Зато ее маленькое приключение с Роландом помогло ей понять важную вещь: в ее жизни должен снова появиться мужчина.
Настало время выйти замуж. У нее есть все шансы найти себе богатого супруга. Дядя поможет ей в этом. В Париже полно хороших мужчин, почему не выбрать из них?
Роланд должен исчезнуть. Однако это не означает, что он останется безнаказанным.
А не ошиблась ли она, предположив, что у него есть другая женщина? Вряд ли. Интуиция не могла ее подвести, однако она хотела знать наверняка. И к полудню у нее созрел еще один план.
Вечером, когда солнце опускалось в воды Сены, Мартина отправилась к мосту, который вел с левого берега на остров Сите. Конечно, Роланд мог найти девушку и на левом берегу, но там ему труднее было бы сохранить интрижку в тайне. Вероятнее всего, его пассия живет к северу от реки. Мартина нашла удобное место на углу улицы, откуда ей хорошо был виден мост, и стала ждать.
И ожидание не затянулось. Вскоре перед мостом показался Роланд; он шагал бодро, с веселой улыбкой. Вот, значит, как он «занимается»! Мартина накинула на голову платок и пошла вслед за ним, стараясь оставаться незамеченной. К счастью, на улицах было достаточно оживленно. Подобно другим горожанам, Роланд задержался на мосту, восхищаясь красками заката, а потом вышел на правый берег и двинулся на север, пока не повернул налево на улицу Сент-Оноре. Мартина следовала за ним. Студент зашел в таверну, и она остановилась в раздумьях. Если войти туда, люди станут оборачиваться, смотреть на нее, и тогда он может заметить ее. С другой стороны, ей нужно точно узнать, что делает там Роланд.
К счастью, он сам спас ее от колебаний, довольно скоро вновь показавшись на улице. Рядом шла девушка с гривой черных волос – дешевая потаскушка, подумала Мартина, как она и предполагала. Роланд обнял подругу за талию, а она потянулась к нему и двумя руками пригнула к себе его голову для поцелуя. Мартина быстро отвернулась, чтобы ее не увидели, однако они даже не глянули в ее сторону.
Мартина была потрясена доказательством измены, но быстро почувствовала удовлетворение. Она была права. Чутье не обмануло ее. Настало время отомстить.
В тот вечер, улучив момент, когда в кухне никого не было, она прокралась к буфету и вытащила из ящика длинный кухонный нож, которым в доме редко пользовались. Потом, пока дядя работал в конторе, вошла в комнату, где стоял большой дубовый стол, и провела там несколько минут, нагнувшись к столешнице, словно изучала рисунок древесины.
На следующее утро после завтрака дядя отправился на рынок на Гревскую площадь, а стряпуха и остальные слуги скрылись на кухне.
Мартина приблизилась к дубовому столу. Она точно знала, что нужно делать. Также она понимала, что будет больно. Но она все продумала, проверила и перепроверила, чтобы убедиться, что замысел пройдет как следует. Сделав глубокий вдох, она постаралась подготовиться к тому, что последует. Ее лицо наморщилось в ожидании боли. Она ни за что бы не пошла на такое, если бы не стремление отомстить Роланду.
Невольно перекрестившись, она тщательно примерилась, слегка повернула голову, чтобы не сломать нос, и повалилась, словно подкошенная, прямо на край стола, стоящего посреди комнаты.
Ей не пришлось изображать крик боли, он был настоящим. Из кухни в тот же миг примчались слуги.
– Я споткнулась! – завыла она.
На полу краснели капли крови. В планы Мартины не входило повреждать кожу. Ну что же, теперь оставалось только надеяться, что рана заживет без шрама. Но главное – уже сейчас она чувствовала горячую, пульсирующую боль вокруг левого глаза.
Пока младшая служанка бегала на рынок за дядей Мартины, дело в свои руки взяла стряпуха – невысокая энергичная женщина. Рана над глазом оказалась не страшной. Стряпуха промыла ее, прижала к ссадине тряпицу, чтобы остановить кровь, потом помазала жиром и сделала повязку. Чтобы уменьшить отек, приложила холодный компресс.
– А красивый черный синяк все равно у тебя будет! – радостно заявила она Мартине.
Когда домой прибежал дядя, Мартина уже пришла в себя и сидела на кухне, где ее кормили бульоном. Левая половина ее лица распухла. Убедившись, что племянница не слишком пострадала и не обезображена, дядя отправился обратно на рынок, а Мартина сказала слугам, что пойдет в свою комнату отдохнуть и спустится не раньше обеда.
Все шло согласно ее замыслу.
Она подождала в комнате, пока двор не опустеет. Затем, засунув украденный из кухни нож за пояс и прикрыв его складками платья, незаметно выскользнула через заднюю калитку на улицу – тем же путем, каким уходил от нее по утрам Роланд.
Мартина быстро зашагала на юг, обогнула Гревскую площадь и спустилась к реке. Как и вчера вечером, лицо она прикрывала платком – чтобы спрятать повязку.
До моста, который соединял правый берег с островом Сите, было не больше полукилометра. Еще не доходя до него, Мартина увидела впереди высокую крышу Шатле, где вершил правосудие парижский прево. Студенты университета, одним из которых был Роланд, подчинялись только церковному суду и не подпадали под суровую юрисдикцию прево. Мартина улыбнулась про себя: для молодого Роланда де Синя она припасла правосудие особого рода.
Она пересекла реку и оказалась на острове. Справа от нее над кровлями домов высились башни Сент-Шапель, серые на фоне неба. Возможно, спрятанные в ней святыни доставляют королю радость, однако Мартине в тот день королевский реликварий показался холодным сараем. А воспоминание о том, как пробудилась в ней страсть к юноше, с которым они вместе осматривали храм, было мертво, как пепел.
Она снова пересекла Сену, на этот раз по узкому мосту, и двинулась вверх по длинному прямому склону улицы Сен-Жак.
На левом берегу она бывала нечасто. В те дни его стали называть Латинским кварталом, ибо его заполонили студенты и ученые. Мартина чертыхнулась, чуть не ступив в кучу свежих фекалий, которые кто-то выбросил из окна сверху. «Вот именно, – мрачно подумала она, – эти ученые сколько угодно могут говорить по-латыни и проповедовать в церквях, но вонь на улицах никуда не исчезнет».
Она приближалась к вершине холма. Ее пальцы то и дело ощупывали рукоятку длинного ножа под одеждой. Наконец перед ней возникли ворота в городской стене, через которые проходили паломники, направляющиеся в Компостелу. Она знала, что Роланд обитает где-то неподалеку. Увидев на дороге студента, Мартина решилась обратиться к нему с вопросом, но этого не потребовалось: из соседнего дома вышел сам Роланд. Увидев ее, он замер от неожиданности.
– Нам нужно срочно поговорить, – выпалила Мартина, метнувшись к нему. – Наедине.
Он нахмурился, но провел ее по улице до церквушки и завернул во двор. Там было пусто, их никто не видел.
– В чем дело? Я собирался к тебе сегодня вечером.
– Нельзя! – сказала Мартина и откинула покровы с лица. – Смотри.
– Бог мой, что случилось? – Роланд ошеломленно уставился на багровый синяк.
– Это сделал дядя. Он избил меня. Потому что узнал о нас. – Она заметила, как лицо Роланда побледнело. – Я сбежала потихоньку из дому, чтобы предупредить тебя.
– Откуда ему стало известно? Он спал, когда я уходил вчера. Я слышал его храп.
– Тебя видела стряпуха и все ему рассказала.
– Он знает, кто я такой?
– Еще нет. Я не назвала ему твое имя. Но он уже отправил людей на розыски.
– Здесь никто ничего не знает. – Роланд задумался. – Эта стряпуха хорошо разглядела меня?
– Она смогла описать твою внешность.
– Проклятье!
– О, Роланд. – Мартина жалобно протянула к нему руки. – Он ведь будет бить меня, пока я не признаюсь и не открою ему, кто ты.
Он на мгновение отвел взгляд. Наверняка клянет свое невезение, подумала Мартина. Она опять нащупала нож за поясом, но пока не стала его вытаскивать. Роланд вновь посмотрел на нее.
– Но ты же не думаешь… – заговорил он.
– Мой Роланд, – запричитала Мартина, – тебе придется покинуть Париж. Беги немедленно!
– Я не могу…
– Ты не понимаешь. Ты не знаешь, что он за человек. Если он что-то решил… И у него есть средства и связи.
– Он и вправду оскопит меня? – Роланд в ужасе смотрел на Мартину.
– Его ничто не остановит. Даже король не смог бы ему помешать.
Мартина видела, что у Роланда от страха затряслись поджилки. Все шло идеально!
– Я не могу сейчас покинуть Париж, – пролепетал он. – Да и некуда мне идти.
– Давай убежим вместе, – предложила она. – У меня есть немного денег. Можно отправиться в Нормандию. Или в Англию.
– Нет, это не подойдет, – ответил он, глядя себе под ноги.
Мартина знала, что он так скажет.
– Я тебе не нужна, – заныла она. – Ты хочешь бросить меня…
– Нет, нет, – возразил он. – Ты мне нравишься.
Повисла долгая пауза.
– Дядя не собирается убивать тебя, – уточнила Мартина. – Это уже кое-что. Говорят, Абеляр после того, что с ним случилось, стал еще лучше разбираться в философии.
По выражению лица Роланда было понятно, что успехи в области философии его не привлекали.
– Что же мне делать? – воскликнул он.
И вот момент настал. Мартина достала из-под складок платья кухонный нож. Роланд съежился и отступил.
– Вот, – сказала она, – это тебе.
– Мне?
– Если на тебя нападут, воспользуйся им. Действуй решительно. У тебя не будет времени на раздумья. Дядины головорезы не будут ждать. Но если ты сумеешь первым убить или ранить кого-нибудь, может, тогда они испугаются и оставят тебя в покое. Это твоя единственная надежда.
Он взял нож, взвесил его в руке и сжал губы. Мартина отметила, что студент украдкой оглянулся.
И вдруг она поняла, что Роланду могла прийти в голову одна простая мысль. Та, которую она не предугадала. Возможно ли такое? Неужели он сейчас прикидывает, сумеет ли избавиться от нее, Мартины, с помощью принесенного ею же ножа? Вместе их сегодня не видели. Без Мартины дядя не сумеет узнать, кто был ее любовником.
Какой глупый просчет! Она принесла нож, чтобы придать своей истории правдоподобия. План отмщения так увлек ее, что она не заметила его слабого места. Мартина застыла.
Но Роланд только покачал головой и вернул ей нож:
– У меня есть оружие.
Мартина так и не узнает, то ли она напрасно приписывала ему злодейские мысли, то ли он просчитал шансы и не решился на убийство, а может, в нем заговорила совесть.
– Мне нужно возвращаться, пока не обнаружили, что я сбежала, – сказала она. – Береги себя, мой Роланд. Боюсь, мы больше никогда не увидимся. Да хранит тебя Бог.
Засунув нож под одежду и накрыв голову накидкой, девушка поспешила покинуть укромный уголок церковного погоста.
Шагая вниз по улице обратно к реке, она не могла сдержать радостную улыбку. Сколько бессонных ночей и кошмаров предстоит пережить ее неверному любовнику, сколько невзгод ему придется перенести, если он все-таки сбежит из Парижа! С непередаваемым наслаждением она вспоминала, как дрожал от страха этот нахальный мальчишка.
Месть была сладкой.
Остаток дня у Роланда прошел из рук вон плохо. Он пытался вернуться к своим обычным делам: посетил лекции, сходил в таверну, где встретился с приятелями. Ему очень хотелось поделиться с ними своей бедой, но он понимал, что это рискованно. Поэтому он купил хлеба, копченого мяса и бобов и отправился к себе.
В комнату, которую он снимал, вела деревянная скрипучая лестница. На двери был засов, и Роланд сначала подумывал купить и поставить второй, однако сообразил, что смысла в этом не будет. Пара решительно настроенных мужчин так или иначе выбьет дверь. Потом он нашел выход. В его комнате стоял тяжелый дубовый сундук, который можно подтащить к двери. Если положить тюфяк рядом с сундуком, то Роланд сразу проснется, если кто-то попытается к нему проникнуть.
Потом он осмотрел окно. Оно находилось всего в трех метрах от земли, но проем был довольно узкий, а ставни крепкие. Да, пожалуй, окно он сумеет защитить.
Что касается оружия, то у него имелся кинжал. Конечно, с мечом было бы спокойнее, но на улице человек с мечом сразу привлечет всеобщее внимание. Кинжал, доставшийся Роланду от деда, был боевым и весьма длинным. Он провел пальцем по краю лезвия. Острое. Даже если вломятся сразу несколько человек, одного или двух Роланд успеет убить.
В тот день юноша больше не выходил из комнаты. Он поел, соорудил баррикаду напротив двери и как мог приготовился к опасной ночи.
Но так и не сомкнул глаз. Каждый шорох заставлял его сердце бешено колотиться. Около полуночи крыса, как потом догадался Роланд, зацепила сложенный у стены хворост, и ветка с легким стуком упала на булыжную мостовую. В одно мгновение он оказался возле окна с кинжалом в руке. Не смея открыть ставни из страха выдать свое присутствие, он напряженно вслушивался, не ходит ли кто за окном, не крадется ли на цыпочках по лестнице. Роланд простоял так не менее получаса, прежде чем решился оставить свой пост и прилечь, но прислушиваться не перестал.
И всю ночь в его голове крутились мысли. И зачем он вообще связался с Мартиной? Если бы только он хранил целомудрие! Если бы только он был тамплиером! И что же ему теперь делать? Можно ли вернуться домой? Нет. Как он объяснит все отцу? Все будут в ярости. Они так надеялись, что Роланд поможет семье, а он всех подвел. Позорное возвращение пугало его не меньше, чем грозящее увечье.
Шли часы. Он даже не вздремнул. На рассвете ему пришлось снова пережить потрясение, когда кто-то вылил из окна на дорогу помои. Когда распахнулись городские ворота и на улицах появились горожане, Роланд, пошатываясь, с красными глазами, вышел из дому навстречу новому дню.
Первая лекция в тот день начиналась довольно рано. Страшно было выходить на улицу безоружным, но студент не может разгуливать с клинком за поясом. Нельзя ли спрятать кинжал так, чтобы он был под рукой? Перебрав все свое имущество, Роланд нашел выход. У него имелось несколько листов дешевого пергамента – из кроличьих и беличьих шкурок – такие частенько использовали для расчетов конторщики и торговцы. Если засунуть кинжал между листами, то можно будет носить его незаметно для окружающих, и в то же время не составит труда достать в нужный момент. Экипированный таким образом, Роланд спустился из комнаты, чтобы встретиться со своими приятелями-студентами.
Все шло как обычно. Среди людей Роланду полегчало, но его не отпускали сомнения: помогут ли ему товарищи в случае нападения? Если в атаку бросится какой-нибудь горожанин с дубинкой, тогда да. Но если это будут два или три вооруженных бандита? В этом случае вряд ли. И даже когда студенты всей толпой возвращались после лекций по домам, Роланд не мог не оглядываться, проверяя, не преследуют ли его злоумышленники.
Потом ему в голову пришла еще одна мысль. Может, стоит как-то защитить тело от удара ножа? Что, если он наденет под студенческое платье кожаный жилет наподобие воинских? Бывают даже жилеты с металлическими накладками. Если соединить полы жилета между ног, это поможет уберечь важные органы. Или лезвие преодолеет эту преграду?
На западном краю Латинского квартала в стене имелись ворота, откуда дорога вела к аббатству Сен-Жермен-де-Пре. Сразу за воротами находилась оружейная мастерская. Роланд никогда раньше там не бывал, но слышал, что она считается одной из лучших в Париже. И после обеда он нанес туда визит.
В небольшом помещении было тесно и оживленно. Как в кузнице, здесь имелось несколько горнов. На продажу были выставлены мечи, шлемы, кольчуги, всевозможные приспособления и доспехи для тех, кому предстояла битва. Но если для рук и головы, торса и ног воина предлагалось по нескольку вариантов снаряжения, то для защиты мужского достоинства ничего не придумали. «Не могу же я ходить в полных латах!» – подумал Роланд.
Он попросил разрешения поговорить со старшим оружейником, и ему показали низкорослого, резкого в движениях человека, с коротко остриженной седой бородой.
– О таком меня еще ни разу не просили, – заметил оружейник, внимательно выслушав объяснения Роланда. – Вас застали в постели с чужой женой?
– Что-то в этом роде.
– Хм, понятно. Я всегда говорю, что мы можем сделать любой доспех. Итак, вам требуется что-то наподобие пояса верности, только побольше. Если эта штука будет из металла, вам будет трудно в ней садиться. – Оружейник поразмыслил еще. – Чтобы обладать гибкостью, ваш пояс должен быть чем-то вроде коротких штанов в виде кольчуги на кожаном основании. Так мне кажется. И он будет довольно тяжелым, учтите. И недешевым.
– Вы сможете его сделать?
– Через месяц или даже через два. У меня много заказов от первых лиц государства. – Он посмотрел на вытянувшееся лицо молодого человека. – Такие сроки вас устроят?
– Не думаю.
– Тогда вам стоит рассчитывать только на себя, – ухмыльнулся ремесленник.
Роланд покинул мастерскую в печали. Даже если он найдет оружейника, который быстро изготовит такой доспех, то все равно снаряжение оказалось бы не по карману бедному студенту.
Он не спал уже более полутора суток, от изнеможения кружилась голова. Что делать, как быть? Мысли путались. Вернувшись на улицу Сен-Жак, он повернул к реке и брел бездумно, пока на глаза не попалась церковь Сен-Северин. Он зашел в нее в надежде, что святое место успокоит его душу.
Было что-то умиротворяющее в странных, древних, узких сводах. Время от времени церковь перестраивали, и все-таки она простояла уже семь столетий, с эпохи первых франкских королей. Юный Роланд сел на каменную скамью, спиной к стене. Не сводя глаз с двери, уложил на колени пергаментные листы с запрятанным кинжалом и по-новому оценил ситуацию.
Факты говорили сами за себя. Он согрешил, и Бог наказывает его. Наказание заслужено. Это было ясно как день. Но что ему делать теперь? Он должен покаяться. Должен всем сердцем молить о прощении, а вот получит он его или нет – это вопрос отдельный.
В его измученном мозгу зародилось ужасное предположение. А что, если это воля Господа – чтобы Роланд был оскоплен? Может, Бог желал подвести его таким образом к духовному служению в качестве целомудренного священника или монаха? Нет, этого не может быть. Скорее, Бог захотел бы посмотреть, как Роланд противостоит соблазну – с бо́льшим или меньшим успехом, ведь лишенный соблазна человек не сможет доказать свою силу и веру. Да, Абеляру выпала именно такая доля, но Абеляр был великим философом и ученым, в то время как удел Роланда на земле куда скромнее. Вряд ли его удостоили бы высшего внимания. Множество людей, уже принявших духовный сан, совершили то же, что и он, и ничего плохого с ними не случилось. Если он посвятит жизнь служению Церкви, решил Роланд, то этого будет достаточно. Если он искренне раскается, то получит прощение.
Он попытался молиться. Проведя в горячих молитвах больше часа, он почувствовал себя немного лучше. По крайней мере, начало положено, думал Роланд. Это уже кое-что.
С такими мыслями он поднялся и осторожно вышел наружу. Но до чего же хочется спать! Ему необходимо отдохнуть, и как можно скорее. Только спать у себя в комнате он все равно не сможет. Нужно найти другое место. Такое, где бандиты не станут его искать. Куда же пойти?
Потом Роланда осенила идея – удачная, как ему показалось. А что, если обратиться к той девушке с улицы Сент-Оноре, к Луизе? О ней ведь не знают ни Мартина, ни ее дядя.
Луиза жила в маленькой каморке над таверной. Конечно же, она разрешит ему переночевать там с ней. А чтобы доказать, что его раскаяние было искренним и твердым, он не будет заниматься с девушкой любовью. Роланд счел, что план неплох. Он сейчас же пойдет в таверну и попросит Луизу приютить его на время.
С этой новой надеждой молодой человек пересек реку и направился на север.
В дороге он продолжал обдумывать свои дальнейшие действия и вновь забеспокоился. Сможет ли он устоять перед соблазном, оказавшись в постели с Луизой? А если сможет, позволит ли ему Луиза бездействовать? Так и не придумав, как обойти эту трудность, он подошел к улице Сент-Оноре, где нужно было свернуть.
В этот миг на его локте сомкнулись пальцы. Роланд подскочил. Его рука скрылась между листами пергамента. С перекошенным лицом он развернулся к нападавшему.
– Любезный юноша, что с вами?
Это был священник из церкви при кладбище Сент-Инносан, тот самый, которому Роланд на прошлой неделе доставлял записку.
– Святой отец! – вскричал он.
– Простите, если напугал вас, – извинился пожилой священник. – Мне показалось, что я узнал вас. Вы приходили ко мне несколько дней назад. С вами все в порядке? – Добрые голубые глаза всматривались в студента. – Вы очень бледны.
– Спасибо, отец мой, я здоров. – На лице Роланда облегчение сменилось смущением. – Благодарю вас за участие. Дело в том, что… Я не спал прошлой ночью…
– По какой причине, сын мой?
– Понимаете ли… – Мысли Роланда метались в поисках подходящего объяснения. – В доме, где я живу, был пожар… Небольшой такой пожар, его потушили. Но… в моей комнате теперь ужасный беспорядок. Все покрыто сажей… – Он запинался, но старик продолжал смотреть на него с терпеливым участием.
– Где же вы будете спать сегодня, сын мой?
– О… Ну… Я хотел попросить друга…
– Не хотите ли переночевать в моем доме? Места в нем предостаточно.
– В вашем доме?
– Было бы странно, если бы священник не помог студенту в беде.
И тогда Роланду показалось, что он понял: это же дар Всевышнего. Бог послал этого священника, чтобы спасти от испытания соблазном в час нужды. Ему не нужно спать с Луизой. Он будет в безопасности.
– Благодарю вас, отец мой, – сказал он. – Я принимаю ваше приглашение.
Дом священника стоял почти вплотную к церкви. Он не был таким уж большим, однако в нем имелась просторная комната с камином и окном, а один угол был отгорожен тяжелым занавесом, за которым можно было положить тюфяк для гостя. Хозяйством священника ведала монахиня, приходившая каждый день из соседнего монастыря. Неслышно двигаясь, она накрыла стол для мужчин. Отведав густой похлебки и закусив кубок вина сыром, Роланд стал понемногу приходить в себя.
Священник вел приятную застольную беседу. Он расспросил Роланда о его семье и об учебе, и вскоре стало ясно, что старик и сам весьма сведущ в науках. Он также рассказал гостю о своем приходе и о живущих в нем бедняках. И только к концу трапезы мягко поинтересовался:
– У вас неприятности, сын мой?
Роланд колебался. Как бы хотелось поведать святому отцу всю правду! Не следует ли ему исповедаться и попросить о помощи? Сможет ли священник посодействовать его спасению? Церковь могущественна. Роланд хотел во всем признаться.
Но не мог этого сделать.
– Нет, отец мой, – солгал Роланд.
Пожилой собеседник не стал настаивать. Но когда солнце склонилось к западу, священник заметил, что в конце дня он обычно ходит в церковь, чтобы помолиться, и предложил Роланду составить ему компанию.
– Был бы очень рад, – с готовностью согласился тот и пошел за своим свертком пергамента с кинжалом – на всякий случай.
– Нет нужды брать это с собой, – сказал ему старый священник. – В этом доме с вашими вещами ничего не случится.
Что ему оставалось делать? И Роланд пошел в церковь без оружия.
В церкви было тихо и пусто.
– Каждый раз, когда я молюсь, – произнес священник, – то вспоминаю, что меня окружает кладбище, где лежат все эти несчастные христиане, простые парижане, от которых не осталось даже имени, чтобы помянуть их. – Он улыбнулся. – И тогда все наши беды не кажутся такими уж непоправимыми.
Затем он отошел к боковому алтарю, опустился на колени и начал безмолвно молиться.
Роланд преклонил колени рядом со священником и изо всех сил постарался последовать его примеру. Присутствие старика отгоняло тревогу. На Роланда снизошло чувство покоя. Несомненно, в этом тихом святилище он находится под покровительством Господа.
И все же… Шли минуты. В церкви по-прежнему не слышно было ни звука, но Роланд не мог не напрягать слух в попытке уловить осторожные шаги. Ему хотелось повернуть голову: не крадутся ли из тени злоумышленники? Но он не смел, боясь помешать молитве своего спутника.
А потом, к его стыду, пришли другие мысли. Что, если двери церкви вдруг распахнутся и сюда ворвутся вооруженные люди? Как он будет защищаться без кинжала? Старый священник не выглядит тяжелым. Может, попробовать подхватить его и использовать как щит? Роланд начал обдумывать эту мысль, когда послышался негромкий голос святого отца:
– Прочитаем молитву «Pater Noster», сын мой.
«Pater Noster, qui es in caelis: sanctificetur Nomen tuum…» Вечные слова тихо звучали в пустой церкви.
Когда молитва закончилась, они вернулись в дом священника и закрыли дверь на засов. Роланд лег на приготовленную постель, устроил рядом сверток пергамента и крепко заснул.
Когда он проснулся, солнце было уже высоко. На столе его ждал завтрак. Старый священник ушел, но передал через монахиню, что будет ждать студента к ужину и приглашает провести под его крышей следующую ночь.
Возвращаясь через реку в Латинский квартал, Роланд чувствовал себя освеженным. Какие бы опасности ни поджидали его, думал он, обязательно найдется решение – отыщется способ, которым Господь дарует ему спасение, если, конечно, он по-настоящему раскается. Возможно, уже сегодня вечером он расскажет все священнику и попросит совета.
Он вышел на улицу Сен-Жак, на которую высыпало множество студентов. Роланд был начеку, но не увидел ничего угрожающего.
До жилища оставалось шагов пятьдесят, когда его окликнул какой-то студент:
– Тут один человек тебя ищет.
– Человек? – Роланд встал как вкопанный. – Что за человек?
– Не знаю. Я его здесь никогда раньше не видел.
– Он один? – Сердце так и забилось в груди. – Ты уверен, что с ним больше никого не было?
– Я видел только одного. – И пока Роланд соображал, пускаться в бега прямо сейчас или подождать немного, товарищ добавил: – Да вот он, – и указал на бедно одетого парня, идущего по улице.
В первом порыве Роланд едва не пустился бежать, но потом передумал.
Нет. Он не сбежит. Он больше не вынесет неизвестности. Вероятно, этот парень – всего лишь разведчик. Если удастся поймать его и заставить во всем признаться… передать в руки властей… После такого дядя Мартины больше не посмеет насылать головорезов.
Он сунул руку в сверток пергамента, вытащил кинжал, с яростным воплем бросился к незнакомцу и сбил его с ног. Парень упал, а Роланд сел ему на грудь и прижал к его горлу острие.
– Кто тебя послал? – проревел он.
– Сеньор де Синь, – едва выговорил незнакомец, вытаращив от страха глаза. – Ваш отец, господин.
– Мой отец?
– Я Пьер, сын мельника из деревни.
Роланд присмотрелся. Возможно, это было правдой. Лицо парня действительно показалось смутно знакомым. Однако кинжала Роланд не убирал.
– Зачем ты здесь?
– Из-за вашего брата. С ним случилось несчастье. Он умер. Ваш отец хочет, чтобы вы немедленно возвращались. У меня для вас письмо от священника.
– Мой брат мертв?
Это могло означать только одно: ему придется занять место Жана и стать в будущем сеньором де Синем.
– Да, месье. Такое несчастье!
И тогда, в приступе невыразимого облегчения от неожиданного разрешения всех сложностей и совершенно не думая, что говорит (потому что на самом деле Роланд любил брата), он произнес слова, из-за которых до самой его смерти крестьяне за глаза называли своего господина Черным де Синем:
– Слава Господу!
В письме от священника были указаны все подробности. Брат упал с лошади на стойку ворот, пробил легкое и вскоре умер. Священник призывал Роланда исполнить волю отца и как можно скорее вернуться домой, где в его присутствии остро нуждались.
Священник писал, что понимает, какой жертвой для Роланда станет отказ от учебы в университете и духовной карьеры. Действительно, подумал Роланд, он покидал бы Париж с сожалением, если бы не проблемы из-за Мартины. Далее священник напоминал, что не дело простым смертным перечить Провидению. Нужно молча склонить голову и выполнять свой долг. Очевидно, продолжал он в письме, Господь подал знак, желая, чтобы Роланд служил Ему иным образом.
Роланд устроил все в тот же день. Сказал преподавателям, будто отец срочно посылает его в Нормандию, но что он надеется на скорое возвращение. Друзьям сказал, будто тайно отправляется в Италию с намерением учиться в университете Болоньи. Мартине он вообще не послал никакого сообщения. Надеясь сбить ищеек со следа, Роланд провел ночь в доме доброго священника, а на следующее утро пустился в путь – домой, в долину Луары.
Поскольку Роланд никогда не интересовался тем, что происходило в Париже после его отъезда, то и не узнал, что спустя шесть месяцев Мартина вышла замуж за торговца по имени Ренар. Но если бы узнал, то порадовался бы и за нее, и за себя.
Глава 4
Тома Гаскон нашел любовь всей своей жизни в первый день июня, утром. Днем ранее прошел дождь, и по небу над Триумфальной аркой все еще летели серые облака. Но каштаны уже стояли в полном цвету, в воздухе чувствовалось приближение лета.
Он пришел на похороны, как и множество народу со всего Парижа.
Писателей во Франции почитали. И когда в возрасте восьмидесяти трех лет скончался Виктор Гюго, любимый всеми автор «Отверженных», «Собора Парижской Богоматери» и других книг, Франция устроила ему похороны, как государственному деятелю.
К Триумфальной арке, где был выставлен гроб с телом писателя, пришли законодатели, сенаторы, судьи, представители университетов и академий. Более двух миллионов человек выстроились вдоль пути, по которому пройдет похоронный кортеж: вдоль Елисейских Полей до площади Конкорд, по мосту через Сену на левый берег, а там по бульвару Сен-Жермен и вплоть до вершины старого римского холма в Латинском квартале, где теперь стоял Пантеон, готовый принять величайших сынов Франции.
Париж еще не видывал такого многолюдного собрания – ни в дни короля-солнца, ни во время революции, ни даже при императоре Наполеоне.
И все это ради романиста!
Чтобы успеть найти хорошее место, Тома прибыл еще до рассвета. Кое-кто, желая занять лучшие позиции, ночевал на улице, но Тома был хитрее. Он заранее изучил местность и выбрал точку на южной стороне Елисейских Полей, где и встал теперь, прижавшись спиной к зданию.
Широкая улица быстро заполнялась народом, и вскоре Тома полностью загородили спины, но это его не беспокоило. Он терпеливо ждал, пока полиция и солдаты не оцепили зрителей, чтобы расчистить кортежу путь. После этого в толпе стало так тесно, что невозможно было шевельнуться. Вот тогда-то он и сделал то, что задумал.
Сначала он дотянулся до веревки, которую заранее обмотал вокруг талии, и распустил свободный конец с привязанным маленьким крюком. Прямо за Тома, примерно на уровне его плеч, по каменному фасаду здания шел небольшой выступ, а над выступом было окно, защищенное снаружи металлической решеткой. Тома ловко подбросил веревку так, чтобы крюк зацепился за прут решетки.
Затем, схватившись за плечи двух стоящих перед ним, быстро подтянулся. Не успели соседи сообразить, что происходит, а он уже вскарабкался по их спинам и, встав ногой на голову одного, второй оперся о выступ, дотянулся до решетки и привязал себя к ней с помощью все того же крюка и веревки. Двое мужчин многословно выразили негодование его бесцеремонным поведением, и один даже попытался ударить Тома по ноге. Однако в тесноте было не замахнуться как следует, и когда Тома сделал вид, будто собирается пнуть недовольных, те еще пару раз обругали его свиньей и отвернулись.
Благодаря такому трюку Тома, надежно примотанный к решетке веревкой, мог поворачиваться вправо и влево и наблюдать за всем происходящим поверх голов стоящих впереди.
В зданиях, обрамляющих улицу, все балконы были забиты; из каждого окна торчали головы. Некоторым пришлось заплатить немалые суммы за эти удобные места. А у Тома место было ничуть не хуже и притом абсолютно бесплатное.
Слева от него широкое пространство вокруг Триумфальной арки было отведено для высокопоставленных лиц, одетых в глубокий траур или военную форму. Сама арка представляла собой невероятное зрелище. Тремя годами ранее на нее установили большую скульптуру богини победы в колеснице, отчего грандиозное строение приобрело еще более драматичный вид. С одного края арки свисало огромное черное полотнище, словно занавес; по углам развевались траурные флаги. А почти весь центральный проем занимал богато украшенный массивный катафалк высотой около восемнадцати метров, в котором лежало тело Виктора Гюго.
Это было больше чем похороны. Это был апофеоз.
Собравшиеся были все в черном. Обеспеченные люди – еще и в черных цилиндрах. Тома тоже надел короткую куртку, которая была достаточно темной, но на голове у него была синяя рабочая шапочка. Оставалось только надеяться, что Виктора Гюго это не обидело бы.
Тома смотрел в сторону арки, где началась панихида, когда его взгляд упал на ту девушку.
Она стояла метрах в пятнадцати от него, в первом ряду зрителей. Ему был виден только ее затылок, и это был самый обычный девичий затылок. И вроде не было никаких причин, чтобы в море людских голов обратить внимание именно на эту голову. Но по какой-то причине она показалась Тома особенной.
Он смог разглядеть, что у девушки кудрявые каштановые волосы. Кожа на шее была бледной. Тома не видел, во что одета девушка, но решил, что она, вероятно, принадлежит к бедному сословию, как и он сам. Ему хотелось, чтобы она обернулась в его сторону.
Под аркой одна за другой произносились прощальные речи. Тома не слышал и половины того, что говорили, но это не имело значения. Главное то, что он здесь. Он принимает участие в великом событии.
К тому же всем известно, что может быть сказано на этих похоронах. Виктор Гюго являлся не только великим романтическим поэтом и романистом. Его девизом были слова «Свобода, Равенство, Братство», и жил он в соответствии с ними. Когда Наполеон III провозгласил себя диктатором, Гюго пристыдил его перед всем миром, удалившись в изгнание на остров Гернси и отказываясь вернуться на родину до тех пор, пока не будет восстановлена демократия. Когда во Францию вступили немецкие войска, он возвратился тотчас же, чтобы разделить судьбу жителей осажденного Парижа. Он был и депутатом, и сенатором, а в конце жизни поселился на одной из тех прекрасных авеню, что лучами расходятся от Триумфальной арки. Он был величайшим патриотом Франции, совестью нации, одним из лучших представителей эпохи.
Несколько лет назад в качестве подарка на день рождения город назвал авеню, на которой жил Виктор Гюго, его именем.
Время от времени, когда заканчивалась очередная речь, над толпой взлетала волна аплодисментов. И каждый раз Тома внимательно следил за девушкой: не обернется ли она в перерыве между речами? Она иногда меняла позу, но лица ее он так и не смог увидеть. Тем временем облака исчезли за горизонтом и Триумфальную арку залил солнечный свет.
Наконец церемония завершилась. Тома услышал, как церковный колокол пробил полдень. И в этот момент словно небо раскололось над Парижем: это пушечные выстрелы сотрясли воздух. Орудие за орудием отдавали последний салют писателю, и каждый разрыв многократным эхом отражался от зданий, так что невозможно было понять, где стоят пушки.
Тома увидел, что девушка шагнула на проезжую часть, желая понять, откуда раздаются выстрелы. Она посмотрела направо, налево, а потом повернулась, заметила его и замерла. Ее удивление было понятно: Тома, повиснув на веревке и упираясь ногами на выступ в стене, покачивался из стороны в сторону и словно парил над головами. А что касается самого Тома, то он воззрился на девушку, как на чудо.
На ней было скромное платье простой работницы, лицо усыпали светлые веснушки, носик маленький, рот не слишком широкий, но щедрый. Глаза, насколько он сумел разглядеть с такого расстояния, карие. Она посмотрела на него озадаченно. А потом улыбнулась.
Как ни странно, в тот момент он не почувствовал восторга. Напротив, на него снизошло необыкновенное спокойствие, словно все в мире вдруг встало на свои места.
Это она. Он не знал, как, почему, откуда ему это известно, но это она, та самая девушка, на которой он женится. Она была его судьбой, и ничто не могло изменить этого. Его наполнило ощущение легкости, тепла и покоя. Тома улыбнулся ей в ответ. Почувствовала ли она то же самое? Ему показалось, что да.
Но в это время гигантский кортеж начал движение. Солдат заставил девушку встать обратно на тротуар. Она повернулась, толпа зашевелилась, и Тома потерял ее из виду.
Нужно спуститься к ней. Он уцепился за решетку и стал развязывать узел веревки. Однако Тома так долго висел на ней, что узел затянулся намертво и не поддавался даже его сильным пальцам. Тома нащупал узел, которым веревка была завязана у него на поясе. Тоже слишком тугой. Несколько минут отчаянных усилий ни к чему не привели.
– У кого-нибудь есть нож?
Мимо ехал черный катафалк с гробом. Все люди сняли головные уборы. На Тома никто не оглянулся. Он спохватился и тоже стянул шапочку, правда с опозданием – катафалк уже миновал его. Следом двигалась колонна первых лиц Франции.
– Во имя Бога, дайте мне нож! – снова крикнул Тома.
Тот мужчина, чья голова послужила Тома опорой, медленно обернулся. Тома послал ему сверху извиняющуюся улыбку.
– Пардон, месье, – сказал он. – Я не могу отвязать веревку.
Мужчина смерил его долгим взглядом, потом опустил руку в карман куртки:
– У меня есть нож.
– Не окажете ли вы мне любезность… – продолжил Тома со всей возможной вежливостью.
– Как жаль, – проговорил мужчина, – что веревка затянута не вокруг шеи. – Он положил нож обратно и опять отвернулся, чтобы проводить взглядом похоронный кортеж.
Тома подумал минутку.
– Эй! – окликнул он снова мужчину. – Эй, господин с ножом!
Тот не обращал на его крики внимания.
– Месье, мне надо помочиться. Хотите, чтобы я справил нужду прямо вам на голову?
Мужчина метнул на него яростный взгляд. Тома пожал плечами и стал расстегивать ширинку. Мужчина попытался передвинуться, но толпа сдавливала его так сильно, что он не мог сделать и шага. С проклятьями он снова полез в карман.
– Отрежь себе и член заодно, – сказал он, протягивая Тома нож.
Лезвие ножа оказалось острым, и всего через несколько секунд Тома освободился.
– Благодарю, месье. – Тома сложил нож. – Вы очень добры.
И он бросил нож вниз, но так, чтобы тот упал за спиной незнакомца, которому оставалось лишь беспомощно извиваться в бесплодных попытках поднять с земли свое имущество.
Ступая по каменному выступу, а то и по головам зрителей, Тома сумел добраться до угла, где было достаточно места, чтобы спуститься. Дальше он то протискивался червем, то расталкивал тела пинками и тычками, прокладывая себе путь к проезжей части.
– Пардон, месье… Пардон, мадам… Мне нужно помочиться! – восклицал он.
Одни пропускали его, другие сопротивлялись.
– Мочись в штаны, засранец, – отзывались третьи.
Но в конце концов Тома добрался до края тротуара и там, протискиваясь за спинами солдат, сдерживающих толпу, оказался в том месте, где видел девушку.
Однако ее там уже не было. Он высматривал ее и справа и слева, но от незнакомки не осталось и следа. Это же невозможно, недоумевал он, в такой тесноте не получится далеко уйти, если только не пользоваться теми приемами, к которым прибегнул он сам.
Тем не менее девушка исчезла.
Тома сумел продвинуться еще чуть дальше вдоль толпы, но потом его остановил солдат и велел стоять спокойно. Кортеж казался бесконечным. Как ни тянул Тома шею, как ни озирался, девушки он больше не видел.
На Монмартр Тома вернулся во второй половине дня. Месье Гаскон заявил, что лучше всего сумеет почтить память Виктора Гюго, если выпьет капельку вина в кафе «Мулен де ла Галетт». Его жена, страдавшая в последнее время от болей в ногах, была только рада заменить поход на панихиду отдыхом в близлежащем кафе. Что до юного Люка, то он сказал, что считает своим долгом сопровождать родителей, хотя Тома прекрасно знал: младшим братом двигала лень.
Потому он нашел их в кафе и дал подробный отчет о церемонии, но о девушке он рассказал только Люку, когда они остались наедине.
Хотя Люку было всего двенадцать лет, Тома порой казалось, будто брат лучше знает жизнь, чем он сам. Возможно, причиной тому было то, что Люк постоянно околачивался в заведениях типа «Мулен», а может, просто таким он уродился. Так или иначе, но в качестве поверенного Тома выбрал не кого-то из взрослых, а Люка.
– Значит, вы понравились друг другу, – сказал Люк.
– Нет, – возразил Тома. – Это было что-то большее. Любовь с первого взгляда.
– Как же ты найдешь ее снова?
– Не знаю. Но обязательно найду.
– Ты думаешь, она – твоя судьба?
– Да.
– Здорово.
Да только он не нашел ее. Он ведь ровно ничего о ней не знал. В самом Париже и его пригородах теперь проживало более трех миллионов человек, и она могла быть где угодно. Она вообще могла приехать на похороны Гюго из другого города.
Сначала Тома в каждый свой выходной ходил на то место, где видел девушку. Он являлся туда ровно в полдень, в тот час, когда встретились их взгляды. Вдруг она тоже его ищет? И вдруг она тоже решит вернуться туда, где произошла их первая и единственная встреча? Шансов на это было мало, но больше Тома было не на что рассчитывать.
Шли недели, складываясь в месяцы. Постепенно Тома стал гулять по другим частям города, не оставляя надежды, что заметит где-нибудь любовь всей своей жизни. Он стал знатоком Парижа, но девушку нигде не видел. Об этих поисках знал только Люк.
– Ты как рыцарь, который ищет чашу Грааля, – говорил он старшему брату.
Каждый раз, когда Тома возвращался после блужданий по городским улицам, Люк спрашивал тихонько:
– Ну как, нашел свой Грааль?
Пусть Грааля он не отыскал, зато прогулки по городу имели другое последствие, в дальнейшем кардинально повлиявшее на его судьбу. В ту весну он работал в мастерских Гаже и Готье. Статую Свободы изготовили к сроку – к четвертому июля предыдущего года, но огромный пьедестал для нее в Нью-Йорке еще не был готов. Только в начале 1885 года Тома помогал разбирать огромный монумент, который затем упаковали в двести четырнадцать ящиков и отправили через Атлантику. В день похорон Виктора Гюго подарок Америке от народа Франции приближался к месту назначения.
Вопрос был в том, что делать дальше.
К радости матери Тома, Гаже и Готье пригласили его работать на постоянной основе. Очевидно, его усердие и точный глазомер произвели на них хорошее впечатление. «Они говорят, что через несколько лет я мог бы стать одним из мастеров, которые занимаются резьбой и декоративной отделкой», – передал он родителям слова работодателей. Квалифицированная работа. Надежный заработок. Это было все, о чем мечтала его мать.
Только он этого не хотел.
Что было тому причиной? Долгие прогулки, посвященные поискам незнакомки? Дни, проведенные в четырех стенах литейного цеха, где он чувствовал себя взаперти? Перспектива того, что однажды и он окажется за тем длинным верстаком с остальными мастерами, где ему придется сидеть с утра до вечера? Его молодое сильное тело противилось мысли о подобном. Он хотел дышать свежим воздухом. Ощущать силу своих рук. Его не пугала никакая погода, будь то холод или дождь, лишь бы работать под открытым небом.
Он был молод, крепок и наслаждался своей физической мощью.
Тома любил наблюдать за работой строителей мостов или зданий. Однажды, не предупредив родителей, он сообщил старшему мастеру, что увольняется. Неделей позже он вступил в монтажную бригаду в качестве самого младшего подсобника клепальщиков. Трудились они на строительстве железной дороги.
Мать, узнав об этом, пришла в отчаяние.
– Ты не понимаешь, – рыдала она. – Подсобники могут заболеть. Могут получить травму. Ты же не всегда будешь молодым и сильным. Но тот, у кого есть ремесло, будет работать под крышей и у него всегда будут деньги.
Но Тома не слушал.
Чтобы попасть на вокзал Сен-Лазар, нужно было всего лишь прогуляться к юго-западу от Монмартра. Вокзал связывал столицу со многими городами Нормандии, постоянно прокладывались новые пути, а помимо того, всегда было много ремонта и переделок.
Всю вторую половину 1885 года и весну следующего Тома Гаскон работал в монтажной бригаде. Каждое утро он выходил из дому и преодолевал два километра до вокзала Сен-Лазар. В свободные дни он продолжал прогулки по различным районам Парижа в надежде снова увидеть свою незнакомку. К концу весны он признал, что его поиски бессмысленны, но все равно уходил гулять не реже двух-трех раз в месяц – скорее по привычке, чем из каких-то иных соображений.
– Пора тебе поискать другую женщину, – заметил ему как-то Люк. – Ты слишком верный влюбленный.
– Нужно быть верным, – ответил с улыбкой Тома.
Юный Люк только пожал плечами.
В мае 1886 года объявили конкурс. И очень вовремя. До столетней годовщины Великой французской революции оставалось всего три года, а ведь это, по мнению всех французов, было самым значимым событием в истории человечества (ну, за исключением, быть может, рождения Христа). Следовательно, Париж должен принять еще одну Всемирную выставку, причем небывалую по масштабам. В качестве входной арки на мероприятие республика хотела возвести что-нибудь выдающееся. Никто не знал, что именно, но предполагалось, что эта конструкция должна заставить весь мир разинуть рот от удивления. Первого мая город попросил присылать проекты. В срочном порядке.
И проекты вскоре стали поступать. Многие оказались банальными. Некоторые абсурдными. Другие технически невозможными. Один был, по крайней мере, в должной степени драматичным: в нем предлагалось построить копию гильотины. Однако эту идею сочли слишком мрачной. Захотят ли посетители мировой выставки проходить под огромным лезвием? Вряд ли.
И власти всерьез задумались над проектом месье Эйфеля.
Свой проект железной башни он предложил раньше многих, однако конкурсной комиссии он понравился не сразу. Несомненно, огромная металлическая конструкция была смелой. Она была современной. Возможно, несколько уродливой. Но после того как комиссия рассмотрела все проекты, на первый план вышло следующее соображение: коли мостостроитель Гюстав Эйфель сказал, что сможет построить эту башню, он ее построит. Он уже доказал свои способности при создании статуи Свободы.
Весь Париж следил за конкурсом. Когда объявили победителя, было много протестов. А вот Тома Гаскон, как только увидел проект башни в газете, сразу понял, чем хотел бы заняться.
– Я собираюсь работать у месье Эйфеля на строительстве башни, – сказал он семье.
– А как же железная дорога? – спросила мать.
– Не важно.
Чтобы возвести такую башню, потребуется много монтажников-металлистов. Он намеревался первым предложить свои услуги.
Иногда Тома беспокоил характер младшего брата. Не слишком ли он опекал Люка, не навредил ли ему своей братской любовью?
Люк последовал совету Тома и в школе прослыл мальчиком, который умеет смешить. В последние годы черты его лица окончательно оформились, он отрастил волосы и стал еще более походить на итальянца. Он был умен и практичен. И все же Тома казалось, что Люк имеет склонность к лени и слабодушию. Поэтому он пообещал себе заняться исправлением брата. Частью его программы был совместный с Люком долгий поход, и назначил он его на одно воскресенье октября.
Когда они пустились в путь, в лучах утреннего солнца горели красками опаленные осенью листья. Люк посмотрел на облака, набегающие с запада, и сказал, что, по его мнению, собирается дождь, но Тома лишь велел не говорить глупостей: его вообще не волнует, будет дождь или нет.
На самом деле Тома, едва проснувшись, почувствовал первые признаки простуды, однако такие мелочи не могли помешать ему в осуществлении важной задачи по воспитанию в брате мужских качеств.
– Я отведу тебя туда, где ты еще ни разу не был, – пообещал он Люку.
Спустившись с Монмартра и двигаясь на восток, они пересекли полноводный красивый канал, который нес в город воду от самой Шампани, и вскоре зашагали вверх по склону к цели своего путешествия. Прогулка привела Тома в хорошее расположение духа, и, когда братья приблизились к входу в парк, ему показалось, что от начинавшейся утром простуды не осталось и следа.
Хотя барон Осман проложил много превосходных бульваров, самым удачным его творением оказалась не улица, а романтический парк в восточной части города. Бют-Шомон – это каменистая возвышенность в полутора километрах к северу от кладбища Пер-Лашез, и раньше там, как и на Монмартре, были каменоломни, но Осман со своей командой превратил ее в колоритный зеленый уголок, соответствующий духу времени. Если регулярные сады поры Людовика XIV уступили место более естественным ландшафтам эпохи Просвещения, то XIX век наслаждался разнообразием двойственности: с одной стороны, это был век пара, железных мостов и промышленности, и тогда же своего расцвета достиг романтизм. Германия дала миру космический симфонизм Вагнера, а романтическая Франция предпочитала задушевность и живописность.
Они вошли в парк через один из западных входов. Петляющие тропы вели через поляны, обсаженные всевозможными деревьями и кустами, и многие из них были все еще одеты в пышный осенний наряд. Посреди парка устроили маленькое искусственное озеро. Над водоемом возвышалась скалистая стена, на вершине которой построили круглый храм. Казалось, это фрагмент картины с пышным итальянским пейзажем.
Братья Гаскон принесли с собой хлеба и сыра на обед, а еще бутылку пива. Но перед тем как приступить к трапезе, они решили посетить самую известную достопримечательность парка. Она находилась на острове, куда вел подвесной мост, и найти ее они сумели не сразу.
Грот был просто сказочным. По сути, это была небольшая пещера в отвесной скале. Ее высокий свод оброс гирляндами сталактитов. Еще более поразительным был водопад, спускающийся каскадами с двадцатиметровой высоты в озерцо в глубине пещеры, откуда вода выливалась по камням наружу. Если бы из-за валунов у стен грота вдруг выскочили нимфы и стали танцевать, то в таком окружении это не показалось бы странным.
Самым же примечательным в этом гроте было рукотворное происхождение. Давным-давно пещера служила входом в старый карьер. Сталактиты в действительности были высечены из камня. Водопад создали с помощью гидравлики. Получилось очень романтично, несомненно. Но тут не осталось романтики леса, пещеры и величественной скалы. Это было что-то вроде декораций.
– Может быть, – лукаво улыбнулся Люк, – та дева, что ты искал, живет здесь, в гроте. Подожди минутку, и она выйдет из-за водопада.
– Давай найдем место, чтобы перекусить, – сказал Тома.
Они снова перешли по мосту на берег озера и следовали изгибам петляющей тропы, пока не нашли зеленую лужайку. Там они и уселись. С их места был виден щербатый утес, на котором стоял круглый павильон – храм Сибиллы. Повсюду пылала золотом и пурпуром листва. Братья съели хлеб с сыром, выпили пиво. Тома растянулся на земле и стал смотреть в небо.
Серых облаков стало больше. Тома лениво наблюдал за тем, как плотный вал облаков докатился до солнца, затянул его дымкой, а затем и вовсе скрыл из виду. Он ждал, когда солнце выглянет снова, но в тучах не осталось разрывов. Потянуло холодом и сыростью, в деревьях зашумел ветер. Листья больше не были золотыми, а приобрели тот странный, светящийся оттенок желтого, который Тома часто подмечал, когда в воздухе было электричество. Он поднялся.
– Сейчас пойдет дождь, – сказал Люк. – Нам пора возвращаться.
– Еще нет. Сначала мы поднимемся к тому павильону.
– Туда путь неблизкий. – Люк посмотрел на вершину утеса.
– Это недалеко, – возразил Тома. – Пошли!
Они вернулись по мосту на остров, а затем вышли на крутую тропу, которая повела их вверх по склону. Местность была красивой и дикой, они как будто карабкались на вершину настоящей горы, и Тома, в отличие от младшего брата, получал от подъема удовольствие. Они преодолели половину пути, когда раздался первый отдаленный рокот грома.
– Давай спускаться, – сказал Люк.
– Почему? – удивился Тома.
– Ты же не хочешь попасть в грозу!
– А что в этом плохого? Идем!
И они продолжали взбираться по крутой извилистой тропе, пока не вышли на ровный пятачок, где и стояла каменная ротонда. Снова загрохотал гром, и на этот раз он прокатился по всей широкой долине, в которой стоял Париж. Если бы не ветер с запада, невозможно было бы понять, откуда надвигается непогода.
Павильон был чисто декоративной постройкой, копией известного храма Весты в Риме. С вершины скалы Тома видел округлую макушку Монмартра, а слева различал вдали, за высокими деревьями, башни Нотр-Дама. Как забавно: сейчас он так же высоко в небе, как и готические горгульи и другие каменные монстры, взирающие с собора на лежащий под ними Париж.
Тучи висели уже прямо над головой у братьев, однако с запада подступала еще более грозная чернота. Вдоль горизонта повисла пелена дождя, постепенно накрывающая город. Пока Тома разглядывал темные валы туч, их осветила молния, и следом грянул гром. Дождевая завеса подступила к Монмартру.
На вершине холма, там, где возводили базилику Сакре-Кёр, наподобие виселиц высились строительные леса. И прямо на глазах у Тома вся строительная площадка будто растворилась, и вместе с ней весь холм, поглощенный дождем.
Вспыхнула еще одна молния, и на этот раз огромная раздвоенная змея соскользнула с неба почти к самым башням Нотр-Дама. Тома представлял каменные морды статуй храма, неподвижные, несмотря на беснующуюся вокруг них бурю, и улыбался.
Гроза быстро приближалась к ним через крыши и каналы. Люк крикнул, что нужно искать укрытие, однако Тома не хотел уходить. С самого детства он полюбил наэлектризованное возбуждение грозовых штормов. Полил дождь, и Люк убежал под арки ротонды в тщетной надежде не промокнуть, но Тома не сдвинулся с места и остался стоять на валуне под струями воды. Ливень был таким сильным, что не видно было даже парка под скалой. Теперь они находились в самом центре непогоды. Мощный разрыв потряс воздух, и молния ударила в дерево не более чем в ста шагах от братьев. Люк съежился, а Тома, проверяя себя, не шелохнулся. Он хотел доказать, что бедный юноша в рабочих башмаках не побоится бросить вызов богам стихии.
Минут через десять ливень немного стих, и тогда Тома с Люком спустились со скалы и направились в сторону дома. Дождь так и не прекратился, и Люк всю дорогу жаловался, но Тома не сбавлял шагу в твердом намерении сделать из брата настоящего мужчину.
И потому он был крайне раздосадован, когда на следующее утро проснулся с больным горлом. К полудню его била лихорадка.
Болезнь Тома Гаскона длилась много недель. Поначалу все думали, что это простуда. Затем стали опасаться туберкулеза.
Потом наконец стало ясно, что это пневмония. Жар терзал его тело, он бредил, но доктор сказал родителям, что Тома может выжить, поскольку молод и крепок.
К ноябрю худшее миновало; к декабрю он начал восстанавливаться. Но в январе доктор предупредил Тома, что его легкие повреждены навсегда.
Решение предложил отец. Он был знаком с вдовой Мишель, которая вместе с дочерью держала у подножия Монмартра мясную лавку. Это было неплохое место для человека со слабыми легкими. С неохотой Тома согласился пойти туда работать, и первые недели 1887 года каждое утро отправлялся в лавку.
Однако он по-прежнему мечтал о том, чтобы строить башню месье Эйфеля, и однажды в феврале, когда у него выдались свободные полдня и погода была теплой, решил сходить посмотреть строительную площадку.
Огромный прямоугольник Марсова поля раскинулся в двух километрах к югу от Триумфальной арки, на другом берегу реки. Вплоть до XVIII века там был пустырь, отведенный под посадки, где горожане выращивали фрукты и овощи для местного рынка. Но затем на южном краю пустыря выстроили большую военную школу, и тогда сады, тянувшиеся до Сены, стали плацем для парадов и местом всенародных сборищ во времена революции. Еще позднее император Наполеон в честь одной из своих многочисленных побед приказал построить прямо напротив этого места мост Иена через Сену, после чего Марсово поле стало идеальным местом для проведения Всемирной выставки 1899 года. По новому мосту люди могли попасть на левый берег и пройти прямо под невероятной башней месье Эйфеля, четыре железные ноги которой стали по этому случаю колоссальной входной аркой. Все было готово, за одним исключением.
Тома вспомнил, как отец пришел домой с новостью.
– У твоего друга месье Эйфеля проблема, – объявил он. – Город поручил ему построить башню, но дает на строительство только четверть необходимой суммы.
– И кто же заплатит за нее?
– Сам Эйфель. Придется ему раскошелиться.
Ситуация складывалась небывалая. Готовясь отметить столетний юбилей Французской революции, город заказал строительство башни и отказался платить за нее.
Но Эйфель был не только великим инженером, но и предпринимателем с деловым чутьем и невероятной смелостью.
– Дайте мне право получения дохода от башни в первые двадцать лет ее эксплуатации, а деньги я найду, – сказал он.
Поэтому Тома, подходя к строительной площадке, знал, что перед ним лежала не только гордость Франции, но и финансовый триумф – или крах – самого Эйфеля.
Он стоял на краю огромного поля грязи. Квадрат со сторонами по сто тридцать метров, который являлся проекцией башни, был отмечен глубокими траншеями по четырем углам, ориентированным по сторонам света, и там трудились бригады.
Тома хотел подойти поближе, чтобы все рассмотреть, но к нему подбежал человек в пальто и шляпе и строго велел покинуть стройплощадку. Однако, после того как Тома рассказал о своей работе над статуей Свободы под руководством Эйфеля и о своей болезни в последние месяцы, человек сменил гнев на милость и даже предложил провести для Тома небольшую экскурсию.
Сначала они осмотрели два больших котлована в южном и восточном углу, на дне которых уже виднелся хороший сухой грунт – на такой уже можно было заливать бетонное основание. Затем они подошли к одному из котлованов возле речного берега. И Тома ахнул.
Огромная яма перед ним напоминала шахту. Глубоко внизу стоял большой металлический ящик, похожий на те, с помощью которых удерживают речные воды во время строительства опор моста. Внутри его вгрызались в землю люди с кирками и лопатами.
– Они уже опустились ниже уровня Сены, – объяснил проводник. – Участок для строительства выбирала комиссия, но когда его обследовал месье Эйфель, оказалось, что почва со стороны реки слишком сырая и не удержит обычный фундамент. – Мужчина ухмыльнулся. – У Парижа была бы собственная падающая башня, как в Пизе, только в пять раз выше.
– Так можно ли здесь строить?
– О да. У нее будет два обыкновенных сухих фундамента и два глубоких, как этот. – Он улыбнулся. – Нам повезло, что Эйфель знает, как строить в воде.
Еще три долгих месяца Тома продолжал работать в мясной лавке. Вдова Мишель была добра к нему. Но он заметил кое-что еще. Берта, дочь хозяйки, была неказистой девицей с землистой кожей и желтоватыми волосами, примерно одного возраста с Тома. Неразговорчивая и медлительная, она выводила его из себя. И потому он чрезвычайно удивился, когда в мае его отец сообщил ему с торжественным видом:
– Ты нравишься вдове.
– Хорошо.
– И Берте. – Его отец улыбнулся многозначительно. – Ты очень ей нравишься.
– Ты уверен? – И когда его отец закивал, Тома оставалось только сказать: – Ее чувства не взаимны.
– Это неплохая партия, – продолжал месье Гаскон, словно не слышал. – Она ведь унаследует лавку… Дело приносит прибыль. Женись на ней, и будешь обеспечен на всю жизнь.
– Я лучше умру.
– Человеку нужно питаться, – сказал отец. – И твоя мать считает, что это хорошая идея.
Наступило последнее воскресенье мая, и после обеда Тома отправился погулять по Монмартру. Ярко светило солнце. Выйдя на небольшую уютную площадь Тертр, он заметил, что там расставили мольберты несколько художников.
Привлекаемые невысокой платой за жилье и живописными окрестностями, художники селились на Монмартре уже не первый десяток лет. Тома слышал рассказы о том, как около ресторана «Мулен» работал месье Ренуар, и в хорошую погоду стало уже привычным видеть в округе живописцев, устроившихся писать под открытым небом.
Тома пересек площадь, поглядывая на полотна, правда без особого интереса. Художники по большей части рисовали вид с площади на строящуюся базилику Сакре-Кёр, где леса четко вырисовывались на фоне неба. Но вдруг ему в глаза бросилось нечто странное.
Перед симпатичным мужчиной лет тридцати, с рыжеватой бородкой и трубкой, зажатой в зубах, стояло два мольберта: на одном лежал альбом для набросков, на втором был натянут холст, над которым художник только начал работать. Тома глянул на набросок и остановился.
– Простите, месье, – произнес он вежливо, – но, кажется, это вокзал Сен-Лазар?
– Верно, – ответил художник с любезной улыбкой. – Этот набросок я сделал прошлой зимой. Вид со снегом, но сегодня мне почему-то захотелось заняться именно им. – Он пожал плечами. – На солнце хорошо работается.
– В прошлом году я там строил пути, – сказал Тома, всматриваясь в набросок. – Да-да, вот эти рельсы, пар от поездов. Все так, как в жизни.
– Спасибо.
– Но почему вы стали рисовать железную дорогу?
– А почему нет? Моне тоже написал несколько видов Сен-Лазара.
– Значит, вы тоже из тех, кого зовут импрессионистами?
– Можете называть меня так, если хотите. – Художник легко и часто улыбался. – Между прочим, этот термин сначала появился в качестве оскорбления. Но никто не знает, каково его точное значение. Половина из тех, кого так называют, себя к импрессионистам не относят.
– Вы здесь живете?
– В основном. Весной я был в Голландии, в городе Роттердаме. Может, скоро опять туда вернусь.
– Как ваше имя, сударь?
– Норберт Гёнётт.
– Вы знакомы с месье Ренуаром?
– Да, я хорошо его знаю. Даже позировал ему.
– Меня зовут Тома Гаскон. Живу на Монмартре. Я монтажник-металлист и принимал участие в создании статуи Свободы.
Они обменялись рукопожатием. Тома не мог оторваться от наброска.
– Мне все равно непонятно, почему вы решили написать железнодорожный вокзал.
– А вы считаете, художники должны писать только богов и богинь в прелестных итальянских ландшафтах?
– Ну, не знаю…
– Многие ждут от нас именно этого. Но что я пытаюсь сделать, и Моне, и другие, так это нарисовать окружающий нас мир. Нарисовать то, что мы действительно видим.
– Но вокзал – это же совсем не красиво…
– Вам известны какие-либо писатели?
– Я был на похоронах Виктора Гюго.
– Я тоже. Странно, что мы не встретились там, – пошутил художник. – Несомненно, Гюго был великим человеком. Но лично я предпочитаю другого автора того поколения, и это Бальзак. Он пытался описать ту реальность, которая его окружала, начиная с самого богатого аристократа и заканчивая последним бедняком на улице, а также всех мужчин и женщин между ними – адвокатов, лавочников, шлюх, попрошаек. Мы называем это реализмом. Некоторые из тех, кого считают импрессионистами, тоже работают в этом направлении. Ренуар писал посетителей ресторана «Мулен де ла Галетт». Я пишу множество разных вещей, включая поезда и вокзалы. А что касается красоты, то что она такое? Для меня железная дорога прекрасна. Потому что мы не живем в мире нимф, фавнов и классических богов. Мы живем в мире железных дорог, паровых машин и мостов, они – дух нашего времени. Это новый и удивительный мир, и жить в наше время – настоящее приключение. – Он ухмыльнулся, глянув на Тома. – Вы строите пути и мосты, я их пишу.
Тома слушал как завороженный. Никто еще не говорил с ним о таких вещах. Но он все хорошо понял. Да, живописец прав. Железные дороги и мосты – это дух их времени. Он, скромный монтажник-металлист, должен быть причастен к этому. А ведь в Париже прямо сейчас начиналось строительство величайшей в мире металлической конструкции.
– Я буду строить башню Эйфеля, – вдруг сказал он.
Норберт Гёнётт задумчиво посмотрел на свое полотно, потом взглянул на молодого рабочего и вынес свой вердикт:
– Поздравляю вас. Это замечательное дело, мой друг.
Первое июня выпало на среду. Люк удивился, когда Тома настоял на том, чтобы младший брат сопровождал его в лавку вдовы Мишель, но послушался. Только когда они были на полпути, Тома поделился с ним своим планом.
– Ты сошел с ума, – заявил Люк. – Что скажет мама? Да и папа тоже не обрадуется.
– Я все равно это сделаю, – заявил Тома твердо.
И вот, пока Тома ждал за углом, Люк пересек площадь Клиши, вошел в лавку и сказал хозяйке:
– Мой брат болен сегодня. Он послал меня сообщить вам об этом и извиниться от его имени.
Вдова очень встревожилась и отпустила Люка только после того, как он заверил ее, что у Тома всего лишь расстройство желудка и на следующий день он наверняка выйдет на работу.
До мастерских компании Эйфеля в северо-западном пригороде Леваллуа-Перре пришлось идти почти час. Там, как в муравейнике, кипела работа. Каркас огромной башни собирался из секций по четыре с половиной метра, которые изготавливались в этих мастерских. Готовые секции были сложены циклопическими стопками для отправки с производства на стройплощадку. Монтажом и клепкой занимались более сотни рабочих. Но когда Тома поинтересовался, там ли месье Эйфель, ему сказали, что инженера сегодня следует искать на Марсовом поле.
Братья вновь пустились в путь, на этот раз – на юг. Наконец к одиннадцати часам утра они миновали Триумфальную арку, пересекли реку по мосту Иена и вошли на стройплощадку внушительных размеров.
Фундаменты уже были закончены и казались четырьмя гигантскими орудиями, нацеленными на четыре стороны света и готовыми выстрелить друг в друга. Между этими сооружениями стояла группа инженеров и прочих господ, и все внимали одному человеку – совсем как военный штаб слушает главнокомандующего.
– Это он, – сказал Тома. – Это Эйфель. – Он сделал глубокий вдох. – Пойдем.
Поскольку инженер был занят разговором, братья остановились немного в стороне. Им пришлось ждать не менее получаса, прежде чем группа распалась и Эйфель с парой спутников двинулся прочь с площадки.
– Месье Эйфель! – окликнул его Тома, достаточно громко, чтобы инженер услышал его, и двинулся ему наперерез.
Эйфель остановился и вопросительно посмотрел на двух молодых людей.
– Месье Эйфель, я Тома Гаскон, – представился Тома, поравнявшись с инженером. – Я делал для вас статую Свободы.
– А-а. – Эйфель не сразу вспомнил его, но потом улыбнулся. – Юный месье Гаскон из Аквитании, который отправился на поиски брата, верно?
– Да, месье.
Эйфель сказал своим спутникам, чтобы они продолжали путь и что он догонит их.
– Я не помню – вам удалось найти брата?
– Да. – Тома показал на Люка. – Вот он.
– И что сейчас привело вас ко мне, месье Гаскон?
– Я бы хотел принять участие в строительстве башни. Хочу снова работать у вас, как раньше.
– Но, мой друг, мы полностью укомплектованы рабочими. Я был бы рад нанять вас и во втором своем проекте. Почему же вы не пришли в самом начале, когда мы набирали бригады?
Тома колебался не более секунды:
– Мой брат, вот этот самый, был тяжело болен, и я требовался семье дома. – Он глянул на Люка, который сумел скрыть свое удивление, и продолжил: – Теперь он здоров, как видите.
Люк с важным видом кивнул. Эйфель задумчиво смотрел на Тома.
– Я знаю, что вы хороший работник, – сказал он наконец. – И так уж случилось, что именно сейчас нам не хватает рабочего. Но не на фабрике, а здесь. Нам нужен верхолаз – человек, который будет собирать башню на месте.
– Это именно то, о чем я мечтал! – вскричал Тома. – Может, сама судьба привела меня сюда сегодня, – добавил он, исполненный надежды.
– Хм. Вы когда-нибудь работали на высоком мосту? Не боитесь высоты? В противном случае такая работа будет для вас очень опасна.
– Я не боюсь высоты, клянусь вам.
– Очень хорошо. Приходите сюда в последний понедельник июня. Спросите месье Компаньона. Я скажу, чтобы он ждал вас. Оплата у нас не слишком высока, но справедлива. – Он кивнул в знак того, что беседа окончена, и пошел догонять своих спутников.
– Благодарю вас, месье! – крикнул ему вслед Тома.
Когда братья перешли реку по мосту Иена, Люк обернулся и спросил:
– Почему ты соврал? Зачем сказал инженеру, будто болел я?
– Я решил, что так нужно, – признался Тома. – А иначе он мог подумать, что у меня слабое здоровье, и не нанял бы меня.
– Но у тебя и вправду слабое здоровье. По крайней мере, ты еще не совсем окреп. Хватит ли у тебя сил на такую работу?
– К концу месяца я буду в полном порядке.
– Все ужасно разозлятся, – напомнил ему Люк. – Доктор, мама, мадам Мишель… и особенно Берта.
– Знаю. Им пока не обязательно знать об этом.
– Ну что же… раз ты не женишься на Берте, то тебе придется найти ту таинственную девушку.
– Сказать по правде, я уже и не помню, как она выглядела. – Тома засмеялся. – Знаешь, прошло два года – ровно два года! – с тех пор как я видел ее на похоронах Виктора Гюго.
Некоторое время они шагали молча. Потом опять заговорил Люк:
– А ты уверен, что хорошо переносишь высоту?
Глава 5
Жак Ле Сур наблюдал за входом в лицей. Это был предпоследний учебный день перед закрытием школы на лето.
Никто не обращал на него внимания. Да и чем он мог бы привлечь интерес? Для любого из тех, кто оказался в этот момент на улице Гренель, он был всего лишь парнем лет двадцати. По всей вероятности, студент или ремесленник.
И никто не знал, о чем он думает. Это было самое замечательное. Это то, что делало его свободным и всемогущим. Почти невидимый, он мог беспрепятственно ждать мальчика, которого хотел уничтожить.
Убивать его именно сегодня он не собирался. Мог бы, но не хотел. Пока рано. Он это сделает, когда придет подходящий момент. В этом никаких сомнений быть не могло. Но он был терпелив и считал, что терпение также дает ему власть – власть выбирать время. Ведь никто его не заподозрит.
Все было так просто, что он не переставал удивляться. Узнать, где живет Роланд де Синь и в какую ходит школу, не составило труда. Учитывая расписание школьных занятий, он мог являться к лицею и наблюдать, как подросток приходит сюда или уходит, в любой день, когда ему удобно. Теперь Жак Ле Сур знал и другие места, которые посещал юный Роланд. И он наведывался в одно из них примерно раз в месяц, чтобы быть в курсе, что происходит в жизни мальчика.
Из своих наблюдений он сделал вывод: большинство людей проживают свою жизнь, повторяя изо дня в день одни и те же предсказуемые действия. Почти всегда можно было сказать, где они в данный момент находятся. Потратив на изучение их распорядка еще немного усилий, можно было бы угадать, о чем они думают. Стоит нарушить привычный ход их существования, и они запаникуют. Предложи им взамен новый порядок, и они уцепятся за него, потому что так им будет спокойнее. Ловкий манипулятор мог бы заставить людей сделать почти все, что ему заблагорассудится, – такого мнения придерживался Ле Сур. Именно этим он и собирался заняться после того, как изменит мир. Что касается юного де Синя, то его нужно уничтожить. Наказание заслужено. Смерть Жана Ле Сура должна быть отомщена. Каким иным способом можно доказать любовь к отцу, которого потерял?
Но Жак не только проверял местонахождение мальчика. Его цель была глубже. Он хотел лучше понять Роланда: узнать, что он делает, с кем общается. Если бы имелась такая возможность, Жак хотел бы узнать мысли юного де Синя и даже заглянуть в душу. Он хотел точно видеть, сколь недостойное место занимает Роланд де Синь в этой вселенной, и тогда его смерть будет оправданна и с точки зрения высшей справедливости.
До чего же банальной и предсказуемой была его жизнь до сих пор! Где живет его семья? В аристократическом районе Сен-Жермен, разумеется, где же еще. Где он учится? В частном католическом лицее Святого Фомы Аквинского, что находится в том же районе, само собой. Для Роланда все было определено заранее. Он станет идеальным представителем своего никчемного класса.
И вот он вышел из двери лицея с дюжиной других таких же маленьких ничтожеств. Жак Ле Сур впился в него глазами. Юный Роланд пойдет на восток по длинной улице, ведущей к его дому.
Но нет. Он пошел в противоположном направлении. Очень хорошо. Жак Ле Сур продолжал наблюдать. Приятели Роланда свернули на бульвар Распай, но де Синь пересек его. Через несколько минут он уже в одиночестве двинулся на запад.
Заинтригованный, Жак шел следом.
Роланд де Синь тосковал по матери. Она умерла, когда ему было семь лет. Обычно мальчиков отправляют учиться в пансионаты, но по совету отца Ксавье Роланд получал образование в католическом лицее рядом с домом и был рад этому. Потому что Роланд обожал свой дом.
Здание, в котором они жили, воплощало собой величие. Оно было проникнуто духом Людовика XIV, короля-солнца, – большое, в стиле барокко, мощное. С улицы к нему вели внушительные железные ворота, за которыми находился небольшой двор, окаймленный боковыми флигелями – их называли павильонами. Вестибюль и широкая лестница были отделаны светлым полированным камнем. В высоких просторных комнатах на паркете и обюссонских коврах стояли, словно статные корабли на якоре, массивные стулья эпохи Людовика XIV, лакированные комоды и тяжелые инкрустированные столы, поблескивающие бронзовыми накладками. Мраморные столешницы гасили отраженный солнечный свет, который уважительно входил в аристократическую тишину дома. Родовые портреты – седые генералы, льстивые придворные – напоминали нынешним де Синям, что не только Бог, но и предки следят за тем, что делают потомки, и ожидают, что новые поколения, по крайней мере, не уронят фамильную честь.
Наиболее пышные особняки аристократии были известны как отели, и если бы виконт де Синь стоял чуть выше на общественной лестнице, то мог бы именовать свой дом «Отель-де-Синь».
Несмотря на суровое величие дома, Роланд был очень счастлив в нем. С раннего детства эти большие молчаливые комнаты напоминали ему святилища. Высокие кресла с резными деревянными подлокотниками и гобеленовыми сиденьями стали для него тетями и дядями. А портреты, порой устрашающие, были его дедушками и бабушками, его друзьями, по отношению к которым он испытывал глубинное, инстинктивное желание защищать и оберегать.
Но больше всего мальчик дорожил домом потому, что при малом количестве жильцов тот тем не менее был полон любви.
Отец Роланда, оставшийся вдовцом и больше не связавший себя узами брака, всегда был добр к мальчику. Старенькая няня не покинула их, даже когда Роланд пошел в школу, и долгие годы дарила бесконечное тепло и умело вела хозяйство виконта. Чтобы содержать дом, хватало штата прислуги в количестве шести человек, большинство из которых служили виконту всю свою жизнь, и Роланд воспринимал их как часть семьи. И еще был отец Ксавье, который, будто любящий дядюшка, раз или два в неделю обязательно навещал мальчика.
Но Роланд часто думал о матери. Он держал на прикроватном столике ее портрет и каждый вечер, помолившись, целовал его.
Роланд достиг пятнадцати лет, и его беспокоила одна вещь. Ему пора было думать о карьере, а он до сих пор не определился, чем хотелось бы заняться.
– Я не буду ни на чем настаивать, – сказал ему отец. – Замечу только, что твое положение сходно с положением нашего предка Роланда, жившего в годы правления Людовика Святого. Изначально он был младшим сыном и потому поехал в Париж учиться. Как известно, он был благочестив и вел праведную жизнь. Почти монашескую. Но затем его старший брат умер, и Роланду пришлось вернуться домой, чтобы управлять имением, – таков был его сыновний долг. Поскольку ты единственный сын и, кроме тебя, нет никого, кто мог бы продолжить род, у тебя такая же перспектива. А если ты будешь управлять имением, то тебе неплохо было бы изучить право.
Однако правоведение не казалось подростку интересным. Он ведь был потомком рыцарей-крестоносцев и героя Роланда, а потому считал, что судьба должна уготовить ему более благородное предназначение.
– А что ты скажешь о военном деле? – несколько раз спрашивал он отца.
По какой-то причине виконт не советовал сыну идти в армию.
– Конечно, сам я был военным, – говорил он в таких случаях, – пока не решил уйти в отставку. Но для тебя я бы не хотел такой карьеры.
От дальнейших объяснений он воздерживался. И отец Ксавье тоже не давал конкретных советов.
– Желаешь ли ты служить нашему Господу? – мягко спрашивал он Роланда.
– Да, отец.
Роланд действительно хотел этого. Он надеялся, что, служа Богу, мог бы совершить какое-нибудь великое деяние во благо всего мира.
– Тогда тебе не о чем беспокоиться, – уверял его священник. – Если ты посвятишь себя Богу, Он укажет тебе правильный путь. – Отец Ксавье улыбнулся. – Я знаю, Роланд: ты хочешь делать добро, и это похвально. Твоя мать была бы довольна.
– Иногда она снится мне, – признался мальчик. – Может быть, она подскажет, что делать.
– Возможно. Но будь осторожен, – наставлял его отец Ксавье. – Не пристало тебе выбирать, каким способом Господь даст тебе знать о своих намерениях. Он сам решит, как это сделать, и это может быть нечто совсем неожиданное.
Расставшись на улице со своими школьными друзьями, Роланд неосознанно прибавил шагу. Предстоящее ему дело не обещало ничего приятного, и он надеялся покончить с ним как можно быстрее. Ведь он шел смотреть нечто ужасное.
Роланд был добросовестным учеником. Это не было врожденным свойством – часто ему не хотелось заниматься учебой. Только из-за матери он мог заставить себя работать. «Пообещай мне, Роланд, что постараешься быть лучшим в школе» – такими были почти последние ее слова. И к чести мальчика, данное матери обещание он держал. В его классе были ученики умнее его, но благодаря усердию он добивался результатов, которые лишь немного недотягивали до лучших.
А сегодня утром на уроке истории учитель спросил, кто ходил смотреть на то кощунство. Роланд оказался единственным, кто не поднял руки, и тогда же решил, что сходит и посмотрит. Тем более что это совсем недалеко.
Если по улице Гренель идти от бульвара Сен-Жермен на запад, то примерно через километр она выведет на широкую зеленую эспланаду, упирающуюся северным краем в реку. Роланд вышел на середину площади и повернул налево – цель его путешествия была прямо перед ним.
Необъятных размеров дом призрения для старых солдат, известный как Дом инвалидов, занимал огромное пространство на бывшей равнине Гренель. Его начал строить в XVII веке Людовик XIV – в строгом классическом стиле, соответствующем назначению комплекса, но в его глубине воздвигли пышный собор с позолоченным куполом по аналогии с собором Святого Петра в Риме. Если встать спиной к холодным, суровым фасадам Дома инвалидов, то можно окинуть взглядом длинную вереницу плацев и даже различить на другом берегу Сены деревья Елисейских Полей. В комплексе также размещался артиллерийский музей, но Роланд пришел сюда не для того, чтобы рассматривать оружие. Войдя в первый внутренний двор, он направился прямо к собору.
Там, глядя на то безобразие, что было внутри, он понял, что имел в виду его учитель, когда говорил:
– Храм осквернили.
Квадратная в основании церковь. Четыре капеллы по углам формируют между собой крест. Над центром креста – купол. Классическая схема для христианской традиции, от ортодоксальной России до католической Испании.
Но теперь в церкви не осталось ничего христианского. Крипту расположили не внизу, а под самым куполом, и смотреть на нее полагалось с круговой галереи. Двенадцать колонн победы окружали эту языческую гробницу, а в ее центре, на массивном пьедестале зеленого гранита, покоился чудовищный саркофаг из полированного красного порфира, разбухший от имперского тщеславия.
Мавзолей Наполеона, сына революции, победителя помазанных на царствование королей, императора Франции. Это и было то кощунство, на которое должен был посмотреть Роланд.
– Вульгарная гробница, – говорил учитель, – позорный, языческий памятник. Склеп Наполеона – оскорбление католической Франции.
– Но разве это не правда, что император Наполеон поддерживал Церковь? – спросил кто-то из учеников.
– Поддерживал, но только как оппортунист. Только чтобы заполучить симпатию истинно верующих, которые не понимали, что в действительности он ни во что не верит и насмехается над ними за спиной. Когда Наполеон был в Египте, он поддерживал последователей пророка. «Если бы у меня было королевство евреев, – заявлял Наполеон, – я бы перестроил храм Соломона». – Учитель истории мог долго говорить на эту тему. – Есть немало неоспоримых доказательств нечестивости этого гнусного человека, но достаточно вспомнить одно: как во время своей коронации Наполеон вырвал корону из рук папы римского и сам водрузил себе на голову.
Рядом с Роландом вдруг возник какой-то старик и отвлек его от размышлений. Подобно мальчику, он приблизился к парапету галереи и опустил взгляд к красному саркофагу, но на этом сходство в их действиях заканчивалось. Пожилой мужчина вел себя так странно, что показался Роланду более интересным, чем усыпальница императора. Он был стар, но определить его возраст более точно не удавалось. Волосы странного посетителя были белыми как снег, а рот скрывался под моржовыми усами. Прозрачность кожи тоже свидетельствовала о долгой жизни. Но в мужчине было почти два метра роста, и держался он прямо, как солдат на параде. Роланд потом догадался, что старик действительно вытянулся по стойке «смирно», словно император был жив и обходил строй. Старый солдат был так поглощен своим делом, что не замечал ничего вокруг.
Рассматривать человека в упор было бы некрасиво, и Роланд сделал вид, будто восхищается росписью купола, а сам продолжал наблюдать за стариком. Простояв минут пять без движения, тот наконец отдал гробнице честь и повернулся, очевидно намереваясь уйти. И только тогда заметил рядом подростка.
– Молодой человек, – спросил он резким тоном, как сержант, обращающийся к новобранцу, – на что вы уставились?
– Простите, месье. – Роланд встретил взгляд голубых глаз – гордых, но не злобных. – Я не хотел быть невежливым. Просто меня удивило то, что вы отдали честь.
– А как же иначе? Я отдал честь императору. И так должны поступать все, кто помнит славу Франции.
La Gloire. Многие нации познали славу на протяжении своей истории, но никто не ощущал ее так остро, как народ Франции: монархисты прославляли короля-солнце, республиканцы – революцию, солдаты – великие победы императора Наполеона.
– Вы солдат? – осмелился спросить Роланд.
– Был когда-то. Как и мой отец до меня. Он служил в Старой Гвардии.
– Значит, ваш отец знал императора?
– Да. И я тоже. Мой отец выжил в отступлении из-под Москвы. И когда император вернулся для последней великой битвы и призвал всю Францию помочь ему, отец откликнулся, и я пошел воевать вместе с ним, хотя был тогда не старше тебя. Мать возражала. Она боялась потерять меня. Но отец сказал: «Пусть лучше мой сын погибнет, чем откажется сражаться за честь Франции». Вот так вышло, что я воевал вместе с отцом.
– И вы не погибли.
– Нет. Свою жизнь за Францию отдал мой отец. При Ватерлоо, в последней битве императора. Я был рядом с ним. – Старик помолчал. – И с тех самых пор в годовщину рождения моего отца я отдаю честь ему, императору и Франции. Я делаю так уже семьдесят два года, а в последние двадцать шесть лет, после того как сюда поместили этот саркофаг, делаю это здесь, в Доме инвалидов.
Наполеон умер в изгнании на острове Святой Елены, но легенда о нем жила. Для врагов он оставался мятежником и тираном. А для многих европейских народов, угнетаемых старыми, закостеневшими монархиями, он был республиканцем, освободителем, героем простого человека. Таким его видели и многие французы.
Вот и король Луи-Филипп, желая увеличить собственную популярность, счел необходимым вернуть тело императора на родину, в Париж, и теперь его прах покоился в этом величавом мавзолее, в самом сердце Франции, чего не удостоился ни один из французских королей.
Как бы ни относился Роланд к императору и его святотатственным поступкам, он не мог не восхищаться благородством и преданностью старого солдата, который почти в девяностолетнем возрасте держался по-прежнему гордо и прямо.
Голубые глаза под кустистыми бровями внимательно изучали Роланда.
– А кто вы такой, юный господин? – спросил он.
– Меня зовут Роланд де Синь.
– Аристократ. Что же, среди тех, кто служил императору, были и аристократы. Тогда ценились заслуги, а не происхождение. – Он покивал седой головой. – Наша страна уважала деяния. Не то что сейчас. Кто бы мог подумать, что я доживу до того момента, когда Париж унизят, а Эльзас и Лотарингию отдадут Германии.
– Наш учитель истории говорит, что мы должны отомстить за бесчестье тысяча восемьсот семидесятого года, – сказал Роланд. Не проходило и недели, чтобы классу не прочитали лекцию на эту тему, как и во всех школах Франции. – Он говорит, мы должны вернуть Эльзас и Лотарингию.
Старик смотрел на него с таким видом, будто оценивал в лице Роланда всех его ровесников: сможет ли новое поколение выполнить эту задачу.
– Теперь честь Франции в ваших руках, – наконец произнес он и повернулся к выходу, давая понять, что разговор окончен.
Едва ли задумываясь о том, что он делает, Роланд вытянулся по стойке «смирно», провожая старика взглядом. Потом, постояв над саркофагом еще немного, и сам решил отправиться домой.
Спускаясь с галереи, Роланд увидел молодого мужчину с темными короткими волосами и широко расставленными глазами, который без выражения смотрел прямо на него. Поравнявшись с ним, Роланд не удержался от того, чтобы поделиться переполнявшими его впечатлениями.
– Вы видели того старого солдата? – спросил он.
Незнакомец склонил голову.
– Он знал императора Наполеона, – сказал Роланд.
– Несомненно.
– Вот это да! – восхитился Роланд.
Незнакомец не ответил.
Следующий школьный день, последний в текущем учебном году, закончился раньше обычного – в полдень. Когда Роланд вернулся домой, отца там не было, но он оставил сыну сообщение, что после обеда они вместе кое-куда отправятся.
Как и обещал, отец приехал за сыном, однако на расспросы Роланда о предстоящем путешествии говорил только, что они посетят «одного друга», что распалило любопытство мальчика.
Был ли этот друг мужчиной, гадал Роланд, или женщиной?
Он часто задумывался о романтической стороне в жизни отца. Виконт де Синь свято чтил память покойной жены, однако отшельником не был. Хорошего роста, красивый, весьма богатый и знатного происхождения, он сохранил военную осанку и усы, но двигался грациозно и умел поддержать интересную беседу. Наверняка женщины находят его привлекательным, размышлял Роланд.
Как большинство аристократов, виконт считал интеллектуальные занятия ниже своего достоинства. Тем не менее в конце XIX века стало модным следить за новинками в литературе и искусстве, и потому он часто посещал выставки и даже бывал в салонах, где можно было встретить писателей или художников. Несколько месяцев назад Роланд нашел на столе отца в библиотеке экземпляр «Цветов зла». В его лицее эти стихи Бодлера называли языческими и непристойными. Но когда он, смущаясь, спросил о них отца, тот отозвался довольно спокойно.
– Стихи Бодлера слегка отдают наигранностью, однако некоторые великолепны. Ты слышал о таком композиторе, как Дюпарк? Нет? Он положил на музыку стихотворение Бодлера «Приглашение к путешествию», и это прелестнейшая песня. В ней точно передается чувственность Франции.
Такие отзывы подсказывали Роланду, что в жизни отца есть сферы, скрытые от него. Периодические отъезды и необычная оживленность перед ними, одобрительные слова няни «Виконт – настоящий мужчина» – все это заставляло мальчика подозревать, что у отца есть любовница.
Роланд понимал, что эту любовницу, даже если она достойная и благородная дама, отец никогда не приведет в тот дом, где живет его сын и в котором почитается память его покойной жены. Но не возможно ли, думал Роланд, что отец счел его достаточно взрослым, чтобы познакомить с этой дамой? Не ее ли они едут навестить? Такая возможность наполняла его любопытством и волнением.
Потом ему в голову пришла другая мысль, более серьезная. А что, если отец хочет представить его женщине, на которой решил жениться? Мачеха… Как это может отразиться на его, Роланда, будущем?
Они уже вышли из дому, но виконт так и не дал ему никакой подсказки. Зная, что отец любит поддразнить его немного, Роланд смирился и больше не просил рассказать, куда они направляются.
Любимым экипажем виконта де Синя был легкий фаэтон, который везла пара серых лошадей, – с XVIII века в их роду пользовались для выездов только серыми лошадьми, напомнил он сыну. Управлял фаэтоном старый кучер, который, несмотря на свой всегда безупречный наряд, любил надевать старомодную треуголку. В итоге получался выезд, в котором сочетались дух спорта, моды и традиции, и Роланд всегда испытывал гордость, когда ему доводилось сопровождать отца в поездках.
Вскоре большие колеса фаэтона застучали по бульвару Сен-Жермен, катясь в сторону реки. Когда они выезжали на набережную Орсэ, у Роланда было только одно мгновение, чтобы полюбоваться классическим портиком Национального собрания и видневшимся за ним внушительным зданием Министерства иностранных дел, прежде чем экипаж быстро пересек широкий мост и оказался на просторной площади Конкорд.
Роланду было десять лет, когда отец рассказал ему, почему в семье де Синь не любили это открытое место.
– Теперь ее называют площадью Конкорд, – объяснил он, – но во время революции здесь стояла одна из множества гильотин. Тут лишили головы моего деда.
И отец, и сын, не сговариваясь, перевели взгляд с трагического места на сад Тюильри, который протянулся справа. Прямо впереди, за северной оконечностью площади Конкорд, стояли коринфские колонны церкви Мадлен на широком цоколе. При виде этого красивого храма у Роланда всегда повышалось настроение.
– А ты знаешь, – спросил отец, – что несколько веков назад на этом месте стояла еврейская синагога? – Он улыбнулся. – Затем здесь начинали возводить христианский храм. Здание, которое мы видим сейчас, выстроил Наполеон в качестве зала славы своей армии. Но потом тут опять разместилась церковь. – Он глянул на Роланда. – Как видишь, ничто не постоянно, мой сын.
Роланд любил своего отца и восхищался им. Он знал, что может полностью рассчитывать на него во всем, что касается тех знаний и навыков, которые каждый отец должен передать сыну. Виконт научил его скакать верхом и охотиться, держать себя в обществе и прилично одеваться, целовать руку даме. Он водил Роланда на скачки и учил делать ставки, то есть дал ему все, что нужно молодому человеку его класса, вступающему в самостоятельную жизнь. Возможность доверять отцу дарила Роланду ощущение уюта и тепла. Но иногда, относительно более важных вопросов, ему казалось, что отец подводит его. Виконт как будто бы не верил в то, во что следовало верить.
А Роланд хотел определенности. Что бы ни было тому причиной – что он рано остался без матери, его возраст или врожденные свойства натуры, – но он испытывал острую потребность верить. Все должно быть либо правильным, либо ошибочным; либо хорошим, либо плохим. А без этой определенности как человеку понять, что он должен делать? Что станет с миром без четких границ?
И хотя Роланд не мог любить отца Ксавье так же, как своего отца, иногда он предпочитал советоваться со священником. Отец Ксавье был очень умен, но дело даже не в этом. За всем, что говорил святой отец, пусть Роланд и не всегда мог следовать за его глубокомысленными рассуждениями, неизменно чувствовалась абсолютная уверенность. Правила, по которым жил священник, были жестко определены и незыблемы. Он может задумываться над тем, как лучше проделать тот или иной путь, но он всегда точно знает, куда он двигается и почему. Если в двух словах, то священник был убежден, что знает истину. В этом состояла сила Святой церкви.
Роланд всей душой желал, чтобы его отец был таким же.
Фаэтон повернул направо, на улицу Риволи. Мальчику нравилась пышность этой улицы. С одной ее стороны лежал сад Тюильри и Лувр, с другой тянулся бесконечный ряд величественных зданий с аркадами, заложенных еще при Наполеоне. Под аркадами на нижнем этаже помещались модные магазины, а сверху находились апартаменты, достойные принцев крови.
– Ты знал, что изначально Лувр был маленьким фортом, построенным для охраны реки, и стоял он там, где сейчас угол нынешнего дворца? – продолжал легкую беседу виконт.
– Да, – ответил Роланд. – Он был частью старой крепостной стены, построенной королем Филиппом Августом.
– Хорошо, – кивнул отец. – Рад, что в школе вас чему-то учат.
Они немного проехали по улице Риволи, когда его отец велел кучеру остановить лошадей. Роланд увидел, что они находятся перед отелем «Мерис». Он слышал, что здесь любили останавливаться английские путешественники, и сразу встревожился: неужели отец собирается жениться на англичанке?
Но оказалось, что в отеле виконт только хотел оставить письмо для своего знакомого из Англии, который должен был вот-вот прибыть в Париж. Цель поездки еще не прояснилась.
Роланд решил рассказать отцу о старом солдате, которого встретил у гробницы Наполеона. С одной стороны, ему понравилось безыскусное благородство старика. Но с другой стороны – разве не злу он служил? Что скажет отец по этому поводу?
– Долг солдата прост, – подумав, ответил виконт. – Он должен выполнять приказы и служить своей стране. Старик так и делал. Что же до Наполеона… Смею предположить, его солдаты были уверены, будто сражаются за свободу и Францию.
– Но люди вроде нас не могут дружить с тем, кто восхищается императором, правда? – Роланда не удовлетворил такой ответ. – Священники в лицее говорят, что Наполеон был чудовищем и что на самом деле он вообще был против Церкви.
– У людей могут быть разные взгляды, но это не значит, что они должны быть врагами, – вздохнул отец. – В любом случае это не всегда так просто. – Он помолчал. – Ты следишь за политикой?
– Немного.
– Что ты скажешь о нынешнем правительстве республики?
– Оно не очень сильное. Не очень популярное.
– Верно. После провала Коммуны большинство избранных депутатов и уж точно бо́льшая часть сельской Франции желали вернуть монархию. В действительности они всего лишь хотели стабильности. И мира. Глядя на монархию в Британии, они думали, что все это им обеспечит конституционный монарх. И я не сомневаюсь, что реставрация монархии состоялась бы даже в том случае, если бы тогдашний глава королевской семьи не настоял на полноте власти. – Виконт потряс головой. – Они стоят на своем до последнего! В результате была составлена временная конституция с министром-президентом и законодательным корпусом. Но время шло, не было ни войн, ни катастроф, и монархистские настроения ослабли. Однако нельзя сказать, что правительство действовало эффективно, а нынешний его состав одновременно и бездарен, и продажен, поэтому сейчас множество людей предпочли бы вернуться к монархии или диктатуре. Пойдут ли дела получше? Этот вопрос остается открытым, но именно этого они хотят. И в последнее время среди них появился предводитель. Кто это?
– Может, генерал Буланже?
– Верно. До сих пор он был военным министром. Пару раз сумел доставить неприятности Германии. На днях его уволили, но за ним теперь стоит серьезная политическая сила. Если в республике произойдет кризис, что весьма возможно, то он может стать правителем Франции. Что говорят о нем в лицее?
– Что он плохой человек и не верит в Бога.
– Кто знает. Может, верит, а может, и нет. Но поскольку он заявил, что не верит в Бога, республиканские политики Франции решили, что он не может быть монархистом, и потому они поверили ему и назначили министром. Теперь они обнаружили, что он не только возглавляет новое политическое движение, но и пользуется поддержкой как монархистов, включая важных членов королевской семьи, так и бонапартистов, в том числе родственников императора. То есть католические монархисты и последователи Наполеона вместе поддерживают человека, который то ли верит в Бога, то ли нет. Как ты это объяснишь?
– Не знаю.
– И я тоже не знаю. – Отец улыбнулся. – Интересно, что думает по этому поводу отец Ксавье. Нужно будет спросить его.
Эта мысль еще больше развеселила виконта, и он рассмеялся.
Роланд предпочел бы, чтобы отец не подавал все в таком запутанном виде. Он попытался вернуться к вопросу, на который надеялся получить более однозначный ответ.
– Тот старый солдат сказал, что мы должны отомстить за бесчестье семидесятого года. Ты согласен с этим?
– Та война была бессмысленной. И начали ее мы. Наполеон Третий был глуп, и Пруссия воспользовалась этим.
– Но все равно, разве не следует нам отомстить?
– Кто знает? Может, и нет.
Роланд сдался. Однозначного ответа от отца ему не дождаться, по крайней мере не сейчас. Они уже миновали Лувр и приближались к театру Шатле. И все-таки оставалось кое-что еще, о чем Роланду хотелось узнать. Кое-что, о чем он часто задумывался, но никогда не решался спросить.
– Папа, – произнес он, – можно задать тебе вопрос?
– Конечно.
– Почему ты ушел из армии?
На этот раз, заметил мальчик, что-то мешало отцу ответить с прежней легкостью.
– Я прослужил достаточно долго. И нужно было присматривать за имением. Я должен был заняться делами семьи. – На несколько секунд виконт замолчал. – Война семидесятого года была ужасна.
– Ты имеешь в виду наше поражение?
– Не совсем. – Отцу было нелегко говорить, и паузы между фразами становились длиннее. – Я говорю о том, что было после… о борьбе с Коммуной. Гражданская война – вот что хуже всего, мой сын. Пусть тебе никогда не доведется увидеть такое.
– Отец Ксавье рассказывал, что коммунары совершали святотатства. Говорит, они убили архиепископа Парижа и хладнокровно истребляли монахов и священников, которые стали мучениками – так же, как священники во время революции.
– Это так, – кивнул отец. – Но и мы тоже убили множество коммунаров. Тысячи.
– Но они же были не правы.
– Может быть. – Виконт задумчиво смотрел вдаль. – Но сами они считали, будто борются за Свободу, Равенство и Братство.
– И за беспорядок.
– И за это тоже, несомненно.
– Ты тоже убивал коммунаров? – спросил Роланд.
Ответом ему было молчание.
– Давай поговорим о чем-нибудь другом, – наконец сказал виконт.
Улица Риволи была длинной. Впереди она меняла название и еще чуть погодя заканчивалась на площади, где когда-то стояла Бастилия, но фаэтон де Синей пока достиг только ее середины. Когда они проезжали старую Гревскую площадь, Роланд отвлекся, разглядывая рабочих, которые ремонтировали огромное здание ратуши Отель-де-Виль. Неожиданно повозка повернула влево и покатилась по бульвару дю Тампль.
– Тебе известно, почему эта улица так называется? – спросил его отец.
– Здесь жили рыцари-тамплиеры.
– Сейчас тут вряд ли найдется хоть одно из их жилищ, но слышал ли ты о том, что на протяжении столетий после роспуска ордена тамплиеров налоговые льготы на их земли оставались в силе? Поэтому здесь очень охотно селились!
Следуя на север, улица постепенно сужалась, пока не уперлась в сумрачную площадь.
– Вот мы и на месте, – сказал отец, когда фаэтон свернул в проулок между домами.
В лавке была всего одна витрина, и в ней на фоне темно-коричневого бархата Роланд увидел кресло в стиле Людовика XIV, нуждающееся в обновлении. Заведение ему показалось сомнительным. Отец заметил выражение его лица и улыбнулся.
– Мой друг очень скромен, – заметил он. – Это кресло, между прочим, музейный экспонат, и будущий покупатель наверняка захочет, чтобы его отреставрировали.
Поняв, что цель поездки образовательная, Роланд молча уставился на кресло.
Дверь лавки была заперта. Виконт позвонил в колокольчик. Несколько секунд спустя за стеклом витрины показался приземистый пожилой мужчина, немного сутулый, одетый, несмотря на теплую погоду, в застегнутое доверху черное пальто, и в очках с толстыми стеклами. Разглядев посетителей, он открыл дверь и впустил их.
– Месье де Синь. – Человек склонил голову в быстром поклоне. – Ваш визит – большая честь для меня.
– Я получил ваше приглашение, мой дорогой Якоб, и приехал немедленно, – любезно ответил виконт. – Кстати, не один, а с сыном. Роланд, это месье Якоб.
И неожиданно для себя Роланд оказался вынужден пожать протянутую ему небольшую ладонь. В голове звенела единственная мысль: его отец, аристократ и добрый католик, принял приглашение от человека несомненно еврейского происхождения.
Открытую для них дверь снова тщательно заперли. Несколько минут виконт де Синь посвятил приличным случаю расспросам о семье и здравии лавочника, а Роланд тем временем оглядывал узкое длинное помещение, в котором оказался. Его наполняло обычное для любого антикварного магазина скопление старых столов, античных бюстов и фарфора. В глубине комнаты виднелась дверь, которая, по-видимому, вела в хранилище или мастерскую. Света было мало. Роланд чувствовал себя как в темнице. Но больше всего его мучила неловкость.
Он вспомнил, как однажды поинтересовался у отца Ксавье, что тот думает о евреях.
– Они дали нам нашего Бога, Ветхий Завет и пророков, – осторожно ответил тогда священник.
– Но они убили Христа, – напомнил Роланд.
– Этого нельзя отрицать, – согласился священник.
– Поэтому они все попадут в ад, – продолжал Роланд, желая убедиться, что во всем разобрался.
Но отец Ксавье замешкался с ответом, будто не был уверен, какие слова окажутся в данном случае справедливы и уместны.
– Можно предположить, – наконец сказал он, – что при обычных обстоятельствах маловероятно, что еврей или протестант попадет в рай. Но нам неизвестны помыслы Господа. В своей бесконечной мудрости Он может сделать исключения.
Роланду, конечно, хотелось бы услышать более определенный ответ, но на какое-то время пришлось удовлетвориться этим. Тому, кто не был католиком, жилось несладко. И если вспомнить все, что говорили о евреях в школе и в домах друзей, то трудно было не поверить, что хотя бы часть из этих страшных историй основана на реальных событиях.
Поэтому мальчик смотрел на месье Якоба с подозрением и недоумевал, почему отец обращается с антикваром столь дружелюбно.
– Так что же вы хотели показать мне? – спросил тем временем виконт.
– Одну минуточку, месье. – Якоб скрылся в помещении за дверью в глубине лавки и быстро возвратился с каким-то свертком. Развернув свою ношу, он зажег несколько светильников. – Итак, месье де Синь и юный месье Роланд. Вот оно.
Они приблизились, и отец ахнул:
– Где вы нашли это?
– По рекомендации друга я вслепую сделал аукционную заявку на всю обстановку одного дома в Руане. Месяц назад, к своему удивлению, я узнал, что выиграл аукцион. А явившись забирать имущество, обнаружил эту вещь в подвале, завернутую в тряпку. – Он улыбнулся. – И тогда я подумал: она идеально смотрелась бы в замке месье де Синя в долине Луары. Это ведь тот же период. Но если для вас этот предмет не представляет интереса, я покажу его другим клиентам.
– Мой дорогой Якоб… – Виконт обернулся к сыну. – Роланд, ты знаешь, что это такое?
Гобелен, разложенный перед ними, был примечателен во многих отношениях. Во-первых, у него не было каймы и каждый дюйм его яркого сине-зеленого фона покрывали фантастические цветы и растения, за которыми виднелись птицы, звери и люди. И тон картины, и одежды рыцарей и дам на ней предполагали, что относилась она к Средневековью.
– Гобелены, столь богато украшенные растительным орнаментом, известны как мильфлер – «тысяча цветов», – заметил отец.
– Эта шпалера похожа на сказку, – произнес Роланд.
– Кажется, что картина светится, – сказал месье Якоб. Он говорил так тихо, что Роланду приходилось напрягать слух, чтобы разобрать слова, и это раздражало подростка. – Сияние объясняется тем, что фоновый цвет – зеленый, к которому добавлен синий. – Он повернулся к виконту. – Как видите, угол потерт. Это можно исправить, если желаете. Также некоторые участки выцвели из-за сырости. Возможно, цвет удастся восстановить, хотя не ручаюсь. В целом же гобелен в прекрасном состоянии.
– Это больше напоминает живописное полотно, а не ковер, – сказал Роланд, тоже желая принять участие в беседе, как взрослый.
– Верное замечание, – похвалил месье Якоб. – Вы даже сами не знаете, насколько правы, юный друг. Перед началом работы обычно обращались к художнику, чтобы тот нарисовал на плотной бумаге эскиз. Такой эскиз называли картоном. Но в случае конкретно с этим гобеленом художник рисовал сюжет прямо на полотне основы, через которую вышивальщики продевали иголки с шерстяными и шелковыми нитями. Цвета подбирались с абсолютной точностью. – Он опять направил взгляд на виконта. – Однако я прошу вас обратить внимание на фигуры – они достойны особого изучения.
Роланд тоже всмотрелся. Среди ярких цветов и кустарников стояло несколько деревьев. Наверное, художник изображал лес или сад. На ветвях сидели птицы. На переднем плане шагали четверо – двое мужчин и две женщины с величавыми осанками, все богато одетые. Чуть дальше в гуще растительности виднелись разные животные.
– О боже! Единорог! – вдруг воскликнул виконт.
В верхнем правом углу между деревьями, там, где ожидаешь увидеть убегающего в глушь испуганного оленя, скакал бледный единорог. Композиция была задумана совершенно: взгляд, найдя это мифическое животное, скользил вокруг всей картины, чтобы вновь вернуться к изящному чарующему созданию.
– Существует два знаменитых цикла гобеленов с единорогами, – продолжал Якоб. – Во-первых, восхитительная серия «Дама с единорогом» на ярко-красном фоне, которую пять лет назад выставили в музее Клюни. Знакомы ли вы с этим музеем, юный месье Роланд? Он стоит на месте старых римских бань на левом берегу, совсем близко от вашего дома. И есть еще один цикл под названием «Охота на единорога», на зеленом фоне, и этими гобеленами владеет герцог де Ларошфуко. Оба этих цикла почти наверняка имеют фламандское происхождение и были произведены в той местности, которую мы сейчас называем Бельгия. Но эта шпалера французская. Ее возраст не такой почтенный, как у тех неповторимых шедевров: она датируется началом шестнадцатого века. Выполнена она в технике, принятой в бассейне Луары. Возможно, автор этого единорога был вдохновлен теми роскошными шпалерами, а может, совпадение сюжета случайно. Лично мне нравится то, что такая тема встречается на шпалерах редко, и то, что работа очень высокого качества.
Наконец-то он умолк, подумал Роланд. Когда Якоб назвал его «юным месье Роландом» и поинтересовался, знаком ли ему музей Клюни, куда мальчик ни разу не заглядывал, несмотря на то что от дома до музея несколько минут ходьбы, Роланду послышалось в тихом голосе антиквара порицание. Ему казалось, что Якоб хочет унизить его, и он проникся к торговцу неприязнью.
Но его отец стоял перед шпалерой в полном восторге.
– Мой дорогой Якоб, – сказал он наконец, – скажите, сколько вы хотите за нее.
Тот написал что-то на листе бумаги и показал виконту. Де Синь глянул и кивнул.
– Реставрация? – спросил он.
– Если вы доверите этот вопрос мне… – начал Якоб.
– Конечно.
Роланд редко видел отца таким довольным, как после визита в антикварную лавку.
– Гобелен отлично подойдет к нашему шато, – говорил виконт, когда они усаживались в фаэтон. – Он относится к тому же периоду, пропитан тем же духом. Каждое поколение, мой сын, должно приумножать красоту такого дома, как наш. Это будет моим вкладом.
Они поехали обратно по бульвару дю Тампль. Отец задумчиво смотрел вдаль.
– Якоб ведь мог поступить и по-другому, – внезапно сказал старший де Синь. – Он мог бы продать шпалеру одному из дюжины богатых коллекционеров, которые заплатили бы ему гораздо больше, чем я.
– Почему же он предложил ее тебе?
– Несколько лет назад я оказал ему услугу: порекомендовал его лавку графу де Ножану, и тот со временем стал одним из самых ценных клиентов Якоба. Должно быть, он ждал возможности отплатить мне за ту любезность. – Виконт одобрительно качнул головой. – И ничего лучшего, чем этот гобелен, он не смог бы придумать.
– Ты думаешь, антиквар действительно купил гобелен, как сказал?
– А в чем ты сомневаешься?
Роланд не ответил. Но он не сомневался, а был практически уверен: торговец с тихим голосом, пытавшийся унизить его, гобелен украл.
Вообразить такое ему не составило труда. Большинство мальчиков из его школы сказали бы то же самое – либо всерьез, либо в шутку, как и их родители. Таково было общее мнение: все евреи заодно и целью их сговора является обман честных христиан. Первое положение было бы встречено удивлением среди еврейской общины, а второе – отброшено как абсурдное.
Однако такое отношение объяснялось не логикой: его подсказывал голос крови. Евреи не принадлежат к племени французов, потому что у них свое племя. У них также есть своя религия. И следовательно, заявляет голос крови, доверять им нельзя ни в чем. Нельзя даже рассчитывать, что они станут соблюдать десять заповедей, которые сами же дали миру. Роланд думал, что это общеизвестный факт, и возмутился бы, если бы ему сказали, будто он находится во власти предрассудков. Ведь природа предрассудков такова, что всякий страдающий ими не догадывается об этом.
И потому на обратном пути домой, сидя в элегантном фаэтоне, Роланд в душе был разочарован и самим фактом общения отца с евреем, и тем, что его отец по причине морального легкомыслия допустил, чтобы Якоб его обманул. Это ли не очередное свидетельство того, что отец – несомненно, добрый человек – поверхностен и лишен духовного стержня?
И как ему в таких обстоятельствах добиться хоть какой-нибудь определенности? Сколько бы недостатков ни обнаружилось у отца, сам он, Роланд, по-прежнему является потомком крестоносцев и героического соратника самого Карла Великого. Что он должен совершить в жизни, чтобы стать достойным таких предков и, конечно же, матери? Да, служение Церкви стало бы достойным решением. Но на Роланда ложится ответственность за продолжение рода. Похоже, ему и в самом деле предначертано пойти тем же путем, который выпал его богобоязненному тезке во времена правления Людовика Святого, то есть посвятить себя поместью и семье. Может быть, это предназначение каким-то образом компенсирует моральную слабость отца?
Роланд все еще размышлял об этом, когда они достигли конца бульвара. Кучер задумал вернуться домой иным путем и потому направил лошадей прямиком на мост, ведущий на остров Сите. Когда фаэтон выкатился на площадь перед собором Нотр-Дам, мальчик повернулся к отцу и торжественно произнес:
– Папа, я решил, чем буду заниматься.
– А. Может, юриспруденцией?
– Нет, папа. Я хочу служить в армии.
Глава 6
Якоб бен Якоб провел на ногах всю ночь и половину наступившего дня. Он обыскал главную дорогу, ведущую на юг, расспросил каждого крестьянина и прохожего. Ничего. Он прошел и по другим дорогам, что лежали восточнее. Ни следа. Или его дочь отправилась куда-то в другую сторону, или она все еще прячется в городе. А может, все это какая-то ошибка и дочь давно уже вернулась домой. Ах, если бы так! Он молился об этом.
Но если нет, то перед ним встает огромная сложность. Как он объяснит ее отсутствие? Сделает вид, будто она умерла? Он продумал такой вариант. Сказать, что она заболела, невозможно: во-первых, к ней не приглашали лекаря, а во-вторых, двое слуг в доме знают, что это неправда. Могло с ней стрястись что-то за пределами города? Получится ли сочинить какую-нибудь историю, которая удовлетворила бы городские власти? Сумеет ли их небольшая семья изобразить скорбь перед пустым гробом и похоронить вместе с ним всякое воспоминание о дочери?
Но что, если потом она вдруг вернется?
Тем не менее нужно скрыть истину. Никто не должен узнать, что сделала Наоми.
Якоб бен Якоб был низеньким человеком с жидкими волосами и добрыми блекло-голубыми глазами. Свою дочку Наоми он любил всем сердцем. Но он любил и дражайшую жену свою Сару. Она поседела, еще когда Наоми была малюткой, однако в качестве награды за всю ее преданность и безропотные страдания кожа на ее лице оставалась такой же гладкой, а глаза – такими же яркими, как и двадцать лет назад. Сколько еще придется ей страдать, если узнают о том, что случилось?
Даже на ее младшего брата падет черная тень – долгие годы к нему будут относиться с подозрением. О возможных последствиях для себя самого Якоб старался не думать. И все это Наоми прекрасно известно. Вот почему Якоб не мог не проклинать дочь, несмотря на всю любовь к ней.
Солнце клонилось к западу, когда он пересек Сену и направился на север по улице Сен-Мартен. Добравшись до дому, он торопливо вошел внутрь. Его встретила Сара.
– Ну? – воскликнул он. – Где она?
– Не знаю, Якоб. – Его жена печально покачала головой, а потом протянула ему кусок пергамента.
– Что это?
– Письмо. От нее.
В ту ночь Якоб спал плохо. Не дождавшись рассвета, он встал и решил выйти подышать воздухом. С письмом в поясной сумке и в наброшенной на плечи накидке он шагнул на улицу. От его дома на улице Сен-Мартен было недалеко до северных ворот. Пройдя под сводами стены, он свернул на тропу, по которой они с Наоми столько раз ходили к их маленькому садовому участку.
Была пятница, тринадцатое октября. Занималось туманное утро. Когда тропа вывела Якоба на вершину склона, его приветствовали первые лучи солнца. Лежащий внизу великий город, обнесенный стеной, и его пригороды были скрыты пеленой тумана. Только башни Нотр-Дама и полдюжины средневековых шпилей вздымались над серебристым ковром и, казалось, чудесным образом висели в воздухе. Глядя на завораживающий пейзаж, Якоб думал: разве может хоть один человек, еврей или христианин, остаться равнодушным при виде этих прекрасных цитаделей, парящих в небесах?
Якоб бен Якоб любил Париж. Этот город был его домом, как для его отца и деда. Еще будучи мальчиком, он полюбил широкую гладь Сены, виноградники на холмах, ароматы узких улочек и даже красоту церквей Нотр-Дам и Сент-Шапель, хотя в них проповедовали не его веру. И он по-прежнему любил все это. Он не хотел покидать город. Но теперь вид Парижа не приносил ему ничего, кроме отчаяния.
Он достал письмо Наоми и перечитал.
Одно было несомненно: письмо умное. Очень умное. Содержащаяся в нем ложь была очевидна Якобу, но все остальные, кто прочитает это письмо, поверят ему, и именно таков был расчет Наоми. Ее уловка может сработать. У Якоба появилась надежда, что еще можно будет все скрыть.
Но письмо не меняло единственно важного для Якоба факта. Он потерял дочь. Вероятно, они больше никогда не увидятся.
Его ли это вина? Конечно. Господь наказывает его. Он совершил ужасное преступление. Теперь настало время заплатить за него.
Якоб грустно качал головой и думал: неужели он всю жизнь ошибался? Когда его суждения впервые стали неверными?
Увы, ответы на оба вопроса были ему слишком хорошо известны.
У Якоба было счастливое детство. Его отец, образованный человек, зарабатывал на жизнь врачеванием и был мастером своего дела. «Лучшие еврейские ученые живут в Испании и на юге, – любил говорить отец, – но и Париж не так уж плох». Он с некоторым презрением относился к умственным способностям их раввина, о чем тот догадывался. Но со своим сыном еврейский лекарь был бесконечно нежен. Каждый вечер он помогал маленькому Якобу улечься в постель и перед сном читал с ним молитву Шма: «Внемли, Израиль! Господь – Бог наш, Господь – один!» И каждое утро он снова молился с сыном. У отца было множество друзей. Так как его услугами пользовались и христианские знатные семьи, и еврейские, к нему везде относились хорошо, и юный Якоб рос в обстановке достатка и любви. Его лучший друг Анри, красивый мальчик с ярко-рыжими волосами и живыми карими глазами, происходил из богатого христианского рода торговцев по фамилии Ренар.
Насколько Якоб помнил, его судьба была определена с рождения. Он должен был стать лекарем, как отец. Его родитель немало гордился тем, что сын продолжит дело. Для родственников и друзей такой план казался абсолютно естественным. И сам мальчик считал, что ничего лучшего и быть не могло. Все уважали его отца. Стоит только следовать его примеру, и у Якоба тоже будет прекрасная жизнь.
Первые сомнения зародились, когда ему исполнилось двенадцать лет. Он не мог понять, что с ним происходит. Вероятно, причина крылась в его таланте к математике, который не находил применения в лекарском искусстве. А может, были и другие причины.
Со временем отец стал брать сына с собой, когда навещал пациентов, и позволял наблюдать за тем, как он их осматривает. Потом он объяснял Якобу, какое лечение он рекомендовал и почему. Якоб быстро научился диагностировать заболевания и подбирать соответствующие снадобья. Отец был очень доволен его успехами, и Якоб тоже гордился ими.
Однако постепенно он начал давать себе отчет в том, что не получает удовлетворения от этой работы. Сначала его это удивляло, потом встревожило. Ему не хотелось провести всю жизнь среди больных. Отцом Якоб искренне восхищался и всегда надеялся стать похожим на него, но возможно, ему это не было суждено.
Как же поступить? Он не знал. И поскольку он не в силах был внятно объяснить свои ощущения, то обращаться к отцу за советом стеснялся, а говорить об этом с кем-то другим и тем более не решался.
Тогда он попытался не обращать внимания на эти ощущения. Сказал себе, что такое поведение пристало неразумному ребенку, а он ведь уже не ребенок. Он же вот-вот должен стать настоящим мужчиной.
В скором времени его ожидала бар-мицва, торжественная, но простая церемония. Почти все еврейские семьи, которые знал Якоб, проводили ее примерно одинаково. В первый после достижения Якобом тринадцати лет Шаббат его вызовут в синагогу к чтению Торы. В отличие от правил, принятых в некоторых других общинах, для Якоба это будет первый в жизни визит в синагогу. Потом в родительском доме соберутся родственники и друзья, чтобы отпраздновать значительное событие.
Якоб с нетерпением ждал этой даты. К религиозной части бар-мицвы он был хорошо подготовлен и по-еврейски читал так же бегло, как на латыни. Когда все закончится, он будет считаться взрослым – по крайней мере, теоретически. И потому Якоб был решительно настроен покончить с детскими сомнениями, касающимися его будущей жизни, до совершеннолетия.
Однажды, примерно за месяц до бар-мицвы, он отправился погулять с кузеном матери, по имени Барух.
Его отец недолюбливал Баруха, и Якоб догадывался, в чем было дело. Барух был примерно того же возраста, что и отец Якоба, но на этом всякое сходство между ними заканчивалось. Тучный и громогласный Барух любил поспорить, к образованию и учености относился без особого уважения. Тем не менее он был неглуп. Якоб знал, что кузен матери богаче, чем они. Он занимался тем, что давал деньги в долг.
В их дом Барух приходил нечасто, но в тот день ему нужно было увидеться с матерью Якоба по какому-то семейному вопросу. Закончив с делами, ростовщик предложил Якобу:
– Не хочешь ли пройтись со мной? – А затем обратился к кузине: – Твой сын никогда со мной не говорит.
– Я слишком редко вижу вас, – ответил Якоб.
– Пойди и проводи своего дядю Баруха, – велела мать.
День выдался прекрасный. Через ближайшие ворота они вышли за городскую стену и двинулись по дороге, ведущей к обширным владениям ордена тамплиеров. Якоб, желая завести разговор, спросил Баруха, чем тот занимается.
– Я даю в долг деньги, а потом пытаюсь получить их обратно.
– Это мне известно.
– Тогда что ты хотел узнать?
– Ну… мне интересно, как вы это делаете.
– А как твой отец лечит людей? Он даем им снадобья, которые, как они надеются, помогут им. После чего они должны выздороветь, то есть на это надеется твой отец. Вот и я даю людям деньги, которые им помогут. Потом они станут богаче. Они на это надеются. И я тоже, потому что в противном случае они не смогут вернуть мне долг. Все довольно просто.
Якоб обдумал услышанное.
– Тогда как вы понимаете, кому можно дать в долг, а кому – слишком рискованно?
– Хороший вопрос, Якоб. – Барух немного смягчился. – Оказывается, ты не так уж и бестолков. Так вот, чтобы быть уверенным, что долг вернут, нужно взять залог. Заемщик должен предложить что-то в обмен на деньги, а заимодавец должен выяснить, чего стоит предложенная вещь и действительно ли она принадлежит заемщику. И еще нужно уметь считать. Если риск высок, то приходится брать более высокий процент, чтобы защитить свои интересы. Тебе все понятно?
– Кажется, да. Все дело в правильном расчете.
– Да. Но знаешь, голого расчета недостаточно. Это же настоящее искусство! Нужно разобраться в положении дел у заемщика. Правильно оценить его характер. Иногда это самое важное – характер. – Барух пожал плечами. – Так что в какой-то степени я – тот же целитель. Я тоже действую так, как подсказывает мне чутье. Я исцеляю от бедности и забочусь о благополучии людей. – Он глянул на Якоба, чтобы посмотреть, как тот воспринимает услышанное. – Это трудная профессия.
– Мне она кажется интересной, – честно признался Якоб.
– Да, не самая плохая.
– Христиане называют это ростовщичеством.
– Нет, так называют это евреи. Это в Торе говорится, что нельзя давать деньги в долг под проценты. – Барух помолчал. – А знаешь что? Тора очень подробно объясняет, чего делать нельзя. Но если не будет никакой выгоды, никакого интереса, то не будет и причины давать в долг, и тогда никто не сможет взять денег взаймы. Можно обокрасть родную бабушку, но занять необходимую сумму будет невозможно. – Он улыбнулся. – Но есть одна лазейка. Еврей не может давать деньги в рост другому еврею. Но нигде ничего не говорится о том, что нельзя брать проценты с того, кто евреем не является. Так что мы с чистой совестью даем деньги в долг под процент христианам.
– И христианам разрешается брать у нас в долг.
– Да, тут действует та же самая логика. Христиане считают, что нельзя одалживать деньги под проценты, потому что так сказано в Библии. Но если еврей готов дать им денег, то с этим никаких проблем. Еврей ведь все равно попадет в ад, так кому какое дело? Ростовщичество – одна из немногих профессий, которыми нам разрешено заниматься, потому что христианам это очень удобно. – Он развел руками. – Они получают деньги. Мы попадаем в ад.
– Но христиане тоже дают деньги в долг, – возразил Якоб. – Ведь есть же ростовщики из Ломбардии. Я слышал, что они получили разрешение от самого папы римского.
– Да, но они не берут процентов.
– Откуда же они получают прибыль?
– Назначают плату за ссуду.
– В чем же разница?
– Математически? Никакой. Но называется по-другому.
Они приблизились к обнесенному оградой обширному поместью, принадлежащему тамплиерам, и остановились посмотреть.
– Как так получилось, что тамплиеры стали богатыми? – спросил Якоб.
– В течение многих поколений они получали земли в дар. Еще они не платят налогов. И ссужают деньги. Король должен им целое состояние.
– Если так, то они дают в долг не под проценты, а за плату, – сказал Якоб.
– Конечно. На самом деле тамплиеры очень умны. Они дают деньги в долг, но это лишь часть их доходов.
– В чем же дело?
– Посмотри на их храм. Это же неприступная крепость. Вероятно, внутри хранится больше золота, чем в любом другом месте Франции. Все началось с того, что тамплиеры стали перевозить золото и деньги из Святой земли для крестоносцев. Свой ценный груз они держали в крепостях, подобных этой. Но с тех пор они построили укрепленные хранилища для денег во всех христианских землях. Как по-твоему, что в этом гениального?
– Я думаю, что теперь у них в любой стране наготове любая сумма денег, зачем бы они ни понадобились.
– Верно, но суть не в этом, – заявил Барух. – Главное, что теперь путешественник не должен брать с собой много денег. Ему не требуются стражники и воины, чтобы охранять в пути деньги. Он не боится ограбления. Он просто вносит какое-то количество денег тамплиерам в Лондоне или Париже, получает расписку и потом может взять свои деньги или их часть в любом другом храме тамплиеров, куда бы ни направлялся. Тамплиеры берут высокую плату за свою услугу, но она стоит того. Безопасность – вот за что им платят.
– Тамплиеры сами придумали это?
– Нет. Торговцы Средиземноморского региона с незапамятных времен умели делать нечто подобное, но тамплиеры действуют с невероятным размахом. В некоторых из их фортов хранится достаточно средств, чтобы купить целую армию.
– Но иногда им самим приходится перевозить деньги и сокровища, – заметил Якоб.
– Конечно. Но никому и в голову не придет нападать на рыцарей Храма, разве только сумасшедшему. Эти дьяволы бьются не на жизнь, а на смерть. – Барух усмехнулся. – Забавно, да? До смерти сражаются только те рыцари, которые охраняют деньги.
Из вежливости Якоб покивал с улыбкой, но в его мыслях царило смятение.
Несомненно, его дальний родственник думал, что просто занимает разговором мальчишку, который собирается стать врачевателем. Однако его слова имели куда более мощный эффект, чем он мог бы себе представить.
Когда Якоб слушал рассуждения Баруха об искусстве предоставления займов, ему казалось, будто перед ним раскрыли дверь. Вот в каком деле нашлось бы применение всем его талантам. Это был тот вид деятельности, который он искал. Просто он не знал о нем. И как только Якоб понял это, то ощутил спокойствие, какое испытывает всякий нашедший свое истинное призвание. «Я мог бы этим заняться, – стучало в его мозгу. – Я бы хотел этим заняться».
А когда Барух описал грандиозный размах, с которым тамплиеры вели денежные дела, Якоб почувствовал не только восхищение, но и вдохновение. Его поразил масштаб их деятельности, эффективность и разумность организации работы. Бесконечные возможности кредитной системы, которая раскинулась по всей Европе, представлялись ему самыми красивыми и изящными идеями, о которых он когда-либо слышал. Что может быть лучше, что может быть интереснее, чем принять участие в объединении мира денег, кровотоке любого предприятия, который не знает бессмысленных границ, а может литься беспрепятственно из королевства в королевство? Хотя Якоб пока не знал такого слова, ему только что описали в нескольких словах чудеса финансирования.
– Можно мне работать с вами? – выпалил он неожиданно для себя.
– Но ты же собирался стать лекарем, – удивился Барух.
– Нет, – коротко ответил Якоб.
– Тебе нужно сначала посоветоваться с отцом.
Якоб пообещал так и сделать.
Но почему-то он никак не мог заставить себя заговорить с отцом, хотя понимал, что это необходимо. Мальчик был уверен, что нашел себе занятие по душе. Но сказать отцу, что он отказывается идти по его стопам, а вместо этого хочет работать с человеком, которого отец не любит… Это было нелегко.
На следующей неделе он встретил Баруха на улице.
– Ты сказал отцу? – спросил толстяк.
– Нет, но собираюсь.
– Ты можешь передумать, я не обижусь.
– Нет. Я хочу работать у вас.
– Может, мне самому поговорить с твоим отцом?
– Я сам.
– Не откладывай этого до бар-мицвы.
И все равно Якоб медлил. С каждым разом, когда отец одобрительно смотрел на него или когда мать произносила: «Мы все гордимся тобой», становилось все труднее завести разговор о будущем ремесле. Для всех его решение будет ужасным разочарованием. Проходил день за днем, неделя за неделей, и Якоб начал думать, что лучше будет отметить бар-мицву без проблем, а с отцом можно поговорить и после.
И так он тянул, тянул… до первой субботы после своего тринадцатилетия.
В синагоге он хорошо прочитал отрывок из Торы. Все были очень довольны им. Вечером в доме собралось около двух десятков гостей: родители, ближайшие друзья, родственники. Раввин и Барух тоже были среди приглашенных.
Барух вопросительно глянул на мальчика, и Якобу пришлось прошептать в ответ:
– Я решил поговорить с отцом, когда все это закончится.
Гости поздравляли его с совершеннолетием, и жена одного из соседей сказала:
– Вы только посмотрите на глаза Якоба. У тебя удивительные глаза, Якоб. Это глаза настоящего врачевателя, такие же, как у твоего отца.
– Из него получится прекрасный лекарь! – подхватил еще кто-то из друзей.
– Должно быть, вы очень гордитесь сыном, – обратился еще один гость к матери Якоба.
И его мать со счастливым лицом сказала, что да, она очень им гордится.
– Он не собирается быть врачом, – сказал Барух, но из-за общего гула эти слова расслышала только женщина, с которой он в тот момент беседовал.
– Что это вы такое говорите? – спросила она громко, и несколько человек обернулись к ним. – Конечно же, он будет врачом.
– Не хочу с вами спорить, но знаю наверняка: он не хочет лечить людей.
Теперь его услышала и мать Якоба.
– О чем это ты, Барух? – с досадой воскликнула она.
К Баруху она относилась лучше, чем ее муж, так как он приходился ей кровной родней, но тоже недолюбливала его.
– Я говорю о том, что мальчик не намерен учиться на лекаря. – Барух пожал полными плечами. – Он хочет работать со мной. Что в этом такого ужасного?
– Нет, ничего подобного!
– Тогда сами спросите его.
Он перевел взгляд на Якоба, и все тоже посмотрели на подростка. Якоб молча стоял, желая лишь одного: чтобы под его ногами разверзлась земля и поглотила его навечно.
– Я очень разочарован, – сказал ему отец вечером того же дня. – Меня огорчает то, что ты передумал становиться лекарем, так как, по-моему, у тебя есть к этому делу способности. Но то, что ты действовал за моей спиной… Не сказав ни слова родителям, ты советуешься с Барухом, с которым мы не очень-то дружны. А потом ты еще и осрамил нас перед самыми близкими друзьями и родней. «Почитай отца своего и мать свою»! Ты нарушил эту заповедь прямо в день своей бар-мицвы. Позор тебе, Якоб! Не знаю, смогу ли я называть тебя своим сыном после такого.
Это был его первый серьезный проступок. Даже теперь, столько лет спустя, при воспоминании о том дне он морщился от стыда.
Но в положенный срок он все-таки начал работать на Баруха, и продолжалось это десять лет, пока тот не упал замертво во время спора с кем-то из заемщиков. К тому времени Якоб очень хорошо изучил ссудное дело и смог работать дальше самостоятельно. Благодаря своему таланту, а также многочисленным друзьям отца в городе он преуспевал.
Потом Якоб полюбил Сару и женился на ней. У него появилась собственная семья, и он был очень счастлив.
Так что же подвигло его сделать непоправимую ошибку, совершить чудовищное преступление, которое привело к трагедии и вот теперь – к утрате дочери?
Если докапываться до первопричины, размышлял Якоб, то можно сказать, что виноваты во всем крестоносцы.
Два столетия тому назад, когда первые рыцари отправились в Крестовый поход, чтобы отвоевать у сарацинов Святую землю, они добились своего: взяли сначала Антиохию, а затем и сам Иерусалим.
Но очень быстро сплотившие людей благочестивые идеи возврата утраченных христианских святынь исказились и выродились. По Европе рассеялись толпы авантюристов и мародеров. На их пути оказались еврейские общины в бассейне Рейна и на Дунае: поселения разграбили, а евреев перебили. Христианские короли и даже Церковь пришли в ужас.
В последующие десятилетия медленно зародился другой процесс, и настроение в христианском мире изменилось. Дело в том, что огромная, неповоротливая империя мусульман не рассыпалась под ударами первых крестоносцев. Она огрызалась. Результатом стала целая серия новых Крестовых походов. Некоторые из них были успешны – в Испании, например, потеснили мавров. Однако другие походы обернулись катастрофой. Церковники были озадачены: почему Господь не дал им победу? Крестоносцы теряли пыл. Все искали козлов отпущения. А кто подходит на эту роль лучше, чем евреи, тем более что среди них были и ростовщики, которым задолжали и короли, и рыцари, и торговцы? Вскоре евреев стали обвинять во всевозможных преступлениях, даже в том, будто они приносят в жертву христианских детей.
В Париже еврейская община занимала квартал рядом с королевским дворцом. Красивая синагога стояла прямо напротив дворца, на правом берегу Сены. В 1182 году король Филипп Август превратил эту синагогу в церковь Мадлен, а евреев на несколько лет вообще изгнали из королевства. Но нужно было возводить вокруг города стену, финансировать крестоносцев, и потому король вскоре вновь призвал их. После этого парижские евреи селились в большинстве своем возле северной стены. Их кое-как терпели.
Следующая атака обрушилась на них только в период правления внука Филиппа, но зато была она коварной и готовилась втайне.
Францисканский монах Николай Донин заявил во всеуслышание, что Талмуд сомневается не только в Божественном происхождении Иисуса, но и в невинности его матери Марии. Вскоре сам папа римский велел христианским королям сжигать в своих странах Талмуд. Большинство европейских властителей, впрочем, не обратили внимания на этот призыв.
Но набожный король Франции Людовик IX услышал папу. Праведный монарх, который привез в Париж терновый венец, построил Сент-Шапель и поддерживал инквизицию, не отступил бы ни на шаг от исполнения своего христианского долга. Он сжег все экземпляры Талмуда, какие только смогли найти в его королевстве, и заставил французских евреев носить красную повязку позора.
Эту повязку носил еще дед Якоба. И все-таки, как и большинство его соплеменников в Париже, покидать город он не желал, и Якоб вполне понимал своего предка.
Париж являлся величайшим городом Европы, даже более крупным, чем Лондон. Это был интеллектуальный центр. В нем велась торговля беспримерных масштабов.
К тому времени, когда Якоб стал сам зарабатывать на жизнь, ситуация для евреев потихоньку налаживалась. На трон взошел внук благочестивого короля Людовика – высокий, светловолосый Филипп Красивый. Он много говорил о своей религиозности и добродетельности, но ему всегда нужны были деньги.
– Оплатите мои долги, – сказал он евреям Франции, – и я защищу вас от святой инквизиции.
Якоб поселился в доме на улице Розье в приятном квартале у северо-восточного угла городской стены. Его дело процветало. Он собирался жениться. Казалось, судьба улыбается ему.
Как ни странно, первые неприятности пришли от короля Англии. Дело в том, что могущественных Плантагенетов полностью так и не выдворили из Франции. В их руках по-прежнему оставались богатые земли Гаскони в старой Аквитании. И в 1287 году английский король решил выгнать оттуда всех евреев. Это было тревожное событие, однако в то время Якоб готовился к свадьбе и не слишком задумывался о происках врага Франции – короля Англии из династии Плантагенетов.
Следующий год принес молодой семье много горя. Сара родила мальчика, но было сразу видно, что ребенок слабый, и ни для кого не стало неожиданностью, что он вскоре умер. Через несколько месяцев тихо скончалась мать Якоба, а отец, сраженный утратой, последовал за ней еще до конца года.
В результате этих трагических событий Якоб неожиданно оказался в семье самым старшим, но бездетным. Он чувствовал себя одиноким и беззащитным.
Но затем, двенадцать месяцев спустя, родилась малышка Наоми. С первого же дня жизни она была крепкой девочкой. Наблюдая за тем, как она растет, Якоб был на седьмом небе от счастья. Огорчало его только то, что его родители не успели полюбоваться на внучку, зато теперь он мог смотреть в будущее с надеждой.
Всего лишь раз в последующие несколько лет жизнь напомнила о том, что в средневековом мире всегда существует опасность массовой истерии. В Париже на Пасху внезапно арестовали одного не очень приятного еврея, которого Якоб немного знал. Против него выдвигались серьезные обвинения: якобы он осквернял гостию – освященный хлеб.
Бедная женщина из соседнего прихода утверждала, будто она принесла ему облатку из своей церкви, а он искромсал подношение ножом. Было ли это правдой? Неизвестно. Но за несколько дней история облетела весь город и обросла красочными подробностями: якобы на облатке проступила кровь, а потом потекла струей и наполнила целый сосуд; затем облатка стала парить по дому того еврея; потом семье поверженного в ужас осквернителя явился сам Спаситель…
У людей нередко случаются видения, и этим видениям верили. В данном случае суд счел вину доказанной, и, так как преступление было религиозным, еврея тут же казнили.
Якоб покачал головой над невероятной глупостью произошедшего, но удивлен он не был. Нужно быть осторожным, очень осторожным, только и всего.
Более серьезными могли оказаться последствия другого события, случившегося за морем.
Стоял июль. Якоб шагал в сторону острова Сите, когда заметил своего приятеля Анри Ренара. Он приветственно помахал Анри – и очень удивился, когда тот бросился к нему через улицу и схватил за руку.
– Ты что, ничего не слышал? – спросил Ренар.
– О чем?
– Ужасные новости! – зашептал Ренар. – Из Англии выгоняют всех евреев. Они должны покинуть страну немедленно.
Якоб заспешил домой. К вечеру он обсудил новость с дюжиной близких друзей и раввином.
– Тот факт, что король Англии наносит евреям удар, не означает, что во Франции Филипп захочет сделать то же самое, – высказался раввин. – Нам нужно подождать и посмотреть, что будет. И, кроме того, – добавил он, – что еще нам остается?
К следующему утру большинство парижских евреев пришли к тому же выводу.
Но Ренар все равно беспокоился о своем друге Якобе. Проведя в раздумьях несколько дней, он собрался с духом и, встретив Якоба на рынке Ле-Аль, отвел его в сторонку.
– Мы знаем друг друга много лет, и потому я уверен, что ты не обидишься, услышав мой вопрос, – так начал разговор торговец. – На всякий случай я сразу прошу простить меня. Якоб, я много думал еще с тех пор, как евреев прогнали из Гаскони. – Он был очень смущен и часто делал паузы. – Якоб, друг мой, времена сейчас такие опасные. Я не могу не спросить тебя: ты ни разу не задумывался о том, чтобы перейти в другую веру?
– В другую веру? – Потрясенный Якоб уставился на друга. – Ты хочешь сказать – в христианство?
– Ты наверняка слышал о таком.
В Испании иудеи уже довольно часто принимали крещение, во Франции же это случалось реже. Поколением ранее в Бретани пять сотен евреев разом крестились, потому что им грозила смерть, сохрани они верность иудаизму.
– Это обеспечит тебе безопасность, – торопливо выдвинул главный аргумент Ренар. – Все ограничения для евреев перестанут тебя касаться. Ты сможешь владеть землей и торговать с кем и как захочешь. Я с радостью помогу тебе вступить в торговую гильдию.
Якоб видел, что его старинным другом движут лучшие чувства, но все равно он был так возмущен, что лишь молча помотал головой. Больше Ренар не поднимал этой темы.
К счастью, в тот раз еврейскую общину Парижа не тронули. Англия осталась закрытой для евреев. Как и предполагалось, английский король вскоре заменил их итальянскими ростовщиками, получившими разрешение папы римского. Но Филипп Красивый не последовал этому примеру. Парижские евреи перевели дух.
Однако для Якоба следующие несколько лет принесли проблемы другого рода.
Через год после изгнания евреев из Англии жена Якоба родила еще одного ребенка, мальчика. Но крошечный, слабенький малыш не прожил и недели. Восемнадцать месяцев спустя у Сары случился выкидыш. А потом – ничего. По какой-то причине жена больше не могла забеременеть. Казалось, Якобу придется остаться без наследника.
Он смирился с этим ударом, как и должно было, но все равно не мог не задаваться вопросом: почему Бог так сурово наказывает его? Чем он провинился?
Старого раввина, к чьим умственным способностям критично относился отец, сменил новый – его сын, полноватый мужчина примерно одних лет с Якобом. Наоми и сын молодого раввина вместе играли и учились, и это тоже было основанием поддерживать хорошие отношения. Поэтому Якоб отправился к нему за советом.
Правда, ничего нового он не услышал. В поведении и поступках Якоба тот не усмотрел ничего плохого и потому мог сказать только одно:
– Мы должны принять то, что дает нам Господь. У Него могут быть на то причины, неведомые нам.
Не с того ли момента что-то стало меняться в нем? Якоб не мог дать определенного ответа на этот вопрос. В любом случае его охлаждение к вере не было резким. Он продолжал посещать синагогу, как обычно, только больше не получал от этого ни удовлетворения, ни утешения. Его не оставляло ощущение, что Бог отвернулся от него, и неизвестно было, то ли это временное испытание, подобно страданиям Иова, то ли навсегда наложенная кара. Потом его визиты в синагогу стали менее регулярными, и это не осталось незамеченным. Тем не менее каждый вечер Якоб произносил положенные молитвы, и только они немного утоляли боль в его душе.
Величайшей отрадой для него стала дочь Наоми. Он обожал ее. Девочка с яркими глазами и темными кудрями была очаровательна. Якоб научил ее молитве Шма, и они вместе произносили ее каждый вечер перед сном – так же, как когда-то маленький Якоб и его отец. Он любил сажать девочку к себе на колени и рассказывать ей обо всем на свете. Еще он много времени уделял ее образованию, так что к восьми годами Наоми умела читать и писать лучше большинства своих ровесников.
Якобу нравилось водить дочку на прогулки по Парижу. Он показывал ей все то, чем славился город, в том числе и великие храмы.
Однажды, вскоре после восьмого дня рождения Наоми, к ним пожаловал с визитом раввин и попросил разрешения поговорить с главой семьи наедине. У Якоба сразу возникли дурные предчувствия. При первых же фразах раввина они усугубились.
– Я пришел, Якоб, не столько по собственной инициативе, сколько по просьбе некоторых из твоих друзей. Должен сказать, что люди жалуются. Это касается твоей дочери.
– Что за жалобы? – Якоб старался говорить негромко и спокойно. – Она что-то натворила?
– Нет-нет, – замотал головой раввин. – Речь не о том, что сделала или не сделала Наоми… Якоб, тебе не кажется, что слишком обширное образование не пристало девочке из хорошей еврейской семьи?
– Тебя смущает, что она читает и пишет лучше мальчиков?
– Не всем это нравится. Ты обращаешься с ней, как будто она – твой сын. Но однажды она вырастет и выйдет замуж, а в семье главным в таких вещах должен быть мужчина.
– Еще что-нибудь?
– Ты повсюду берешь ее с собой. Разумеется, сейчас выбор только за тобой. Но когда она вырастет, ей придется ограничить места, куда она может пойти. Обычно это дома родственников и знакомых, не более того. Мы надеемся, ты объяснишь Наоми, что еврейской девочке неприлично бродить по городу, а тем более…
– Тем более где?
– Якоб, люди видели, что ты водил дочь в христианские церкви. Мудро ли это?
– Мы живем в Париже. Она должна знать, как выглядит Нотр-Дам внутри.
– Возможно. Но в общине не все разделяют твои взгляды.
– Это все?
– Нет, Якоб, не все. Наоми рассказывает детям разные истории. О святом Дионисии. О святой Женевьеве. О Роланде.
– Но это герои и героини Парижа. Каждый христианский ребенок в нашем городе знает о том, как на Монмартре убили Дионисия Парижского. Теперь говорят, будто он поднял свою отрубленную голову и ушел, неся ее в руках. Абсурд, разумеется, но детям нравится. Да, я рассказывал Наоми о Женевьеве – о том, что считается, будто она спасла Париж от гуннов Аттилы. Лично мне эти сказки кажутся глупыми, но она должна хотя бы узнать их, чтобы составить собственное мнение.
– Я бы согласился с тобой, если бы Наоми была старше. Но она пересказывает сказки детям твоих друзей, которым это не нравится.
– Мне никто ничего не сказал.
– Нет. Они сказали об этом мне. – Раввин скорбно вздохнул. – Якоб, мы все сочувствуем тому, что у тебя нет сына. Но Наоми – девочка. Ты не сможешь превратить ее в мальчика.
– Что еще ты хотел сказать мне?
– Ты не всегда приходишь в синагогу.
– Не это ли главная причина твоего визита?
– Нет. Но если ты отвернешься от Господа, то и Он отвернется от тебя. В этом можешь не сомневаться.
– Я признателен тебе за заботу.
– Все мои слова подсказаны желанием помочь тебе.
Якоб уставился на раввина. Он рассердился, и еще ему было обидно. А самое досадное было то, что кое в чем раввин мог быть прав.
– Я подумаю над тем, что ты сказал, – холодно произнес он.
– Да, подумай как следует. Я дал тебе хороший совет и сообщу твоим друзьям, что поговорил с тобой.
Это стало последней каплей. Неужели этот недалекий раввин пытается встать между ним и его соседями? Неужели это его истинная цель?
– Ты дурак! – взорвался Якоб. – Отец всегда говорил мне, что твой отец был глупцом. И твой сын тоже будет глуп.
– Не стоит говорить со мной таким тоном, Якоб.
– Убирайся!
На следующей неделе Якоб соблюдал Шаббат у себя дома, а в синагогу не пошел. Спустя неделю он все-таки снова появился там, но невидимая связь между ним и общиной разорвалась навсегда. Якоб не мог не гадать, что еще говорят о нем раввину его так называемые друзья.
А потом, словно чтобы доказать ошибочность предположения, будто Господь отвернулся от Якоба, Сара сообщила мужу, что беременна. Его сердце затрепетало от радости, но в то же время он забеспокоился. Может, Бог вновь улыбается ему, но здравый смысл подсказывал, что радоваться рано. Два умерших мальчика и один выкидыш – печальные факты, которые нельзя не учитывать. Якоб решил принять все возможные меры предосторожности. Как бы он желал, чтобы его отец был жив и помог ему преодолеть трудности!
Шли недели. Якоб день и ночь оберегал Сару. Он взял с нее слово, что она не будет утомляться. Если у него были дела в городе, то в течение дня он несколько раз возвращался домой, чтобы убедиться, что она держит обещание и хорошо себя чувствует.
Из-за хлопот в связи с беременностью Сары Якоб не мог уделять дочери столько же внимания, как раньше, и чувствовал себя виноватым перед ней. Но, несмотря на юный возраст, Наоми, кажется, все очень хорошо понимала. И каждый вечер они вместе усаживались перед очагом, и Якоб рассказывал ей сказки.
Муж и жена ни разу не заговорили о том, кто у них может родиться на этот раз – мальчик или девочка. Тема была слишком болезненна. Но однажды, когда Сара была уже на шестом месяце, заглянувшая к ним соседка заметила:
– О, я смотрю, у вас будет мальчик.
– Откуда вам это известно? – спросил Якоб.
– Это видно по форме живота, по тому, как Сара ходит, – ответила женщина. – Я никогда не ошибаюсь.
И опять сердце Якоба чуть не выпрыгнуло из груди от радостной надежды. Но он ничего не сказал, даже Саре. И был очень рад, что промолчал, ибо несколько дней спустя, проходя мимо кухни, услышал слова Наоми:
– Интересно, будет ли папа любить меня так же сильно, если родится мальчик?
Якоб признался себе, что девочка права, сомневаясь в его любви, и тут же поклялся, что будет любить ее как прежде и никогда не покажет, будто сын ему дороже дочери.
На восьмом месяце начались проблемы. Лекарь, которому Якоб доверял почти так же, как своему отцу, отвел его в сторону и сказал:
– Мне кажется, Якоб, эти роды будут трудными.
– То есть она может потерять ребенка?
– Это может быть опасно для них обоих.
– Что можно сделать?
– Довериться Господу. Остальное сделаю я.
Тем временем наступила зима. Иногда по утрам булыжники на мостовой покрывала скользкая наледь. Якоб сказал Саре, чтобы она ни при каких обстоятельствах не выходила из дому. День и ночь горел огонь в очаге.
Прошло еще две недели. Срок близился.
Однажды ночью в их дверь постучали.
Это был Ренар. Он быстро вошел, обнял Якоба, спросил о здоровье Сары и Наоми и потом тихо сказал, что им нужно поговорить с глазу на глаз.
Они ушли в маленькую контору Якоба и закрыли дверь.
– Никто не должен знать, что я приходил к тебе, – начал Ренар. – То, что я хочу сообщить, должно остаться в секрете ради твоей и моей безопасности.
– Ты можешь положиться на меня.
– Знаю. – Ренар собрался с духом и продолжил: – Якоб, у меня есть друг, который близок к советникам короля. Он рассказал мне кое-что, и я делюсь этим только с тобой. Вынужден просить тебя не передавать эту новость никому другому, как бы тебе этого ни хотелось. В противном случае я ничего тебе не скажу. Умоляю тебя: ради себя и своей семьи, пообещай, что сохранишь все в тайне.
Якоба насторожило такое вступление, но у него не было сомнений в том, что дело действительно касается безопасности его семьи, раз Ренар так сказал.
– Хорошо, обещаю, – произнес он, подумав. – Пожалуйста, говори.
– Короля убедили выступить против евреев. Я не знаю, когда он нанесет удар, но это случится очень скоро.
– Что он сделает?
– Точно не известно. Но это будет не просто новый налог или другие поборы. Ожидается что-то более ощутимое.
– Значит, изгнание.
– Я тоже так думаю.
Оба приятеля умолкли. Куда пойти евреям? Король Франции контролировал теперь куда большие территории, чем Филипп Август, около века назад подвергший евреев недолгому изгнанию. Ближайшим безопасным местом могла бы стать Бургундия, если герцог Бургундский согласится принять их.
Якоб подумал о Саре, которая была на последнем месяце беременности, и о еще не рожденном ребенке. Неужели ему придется скитаться по миру со своей несчастной семьей? Выживут ли они?
– Много лет назад я задал тебе вопрос, мой друг, – тихо, напряженным голосом продолжал Ренар. – С тех пор я ни разу не возвращался к нему, потому что уважаю твои принципы. Но сейчас, оценивая ситуацию, я как друг умоляю тебя еще раз подумать. Ради собственного спасения. Ради семьи.
– Ты говоришь о крещении.
– Да. Мне не нужно напоминать тебе о преимуществах, которые ты получишь. Все ограничения, налагаемые на евреев, для тебя исчезнут. Ты станешь свободным человеком. Твоя семья будет в безопасности. Ты сможешь и дальше жить здесь, в Париже. И я смог бы тебе помочь.
– Я должен отвернуться от Бога, чтобы обрести спасение? – спросил Якоб.
– Разве это будет означать, что ты от Него отвернешься? – горячо воскликнул Ренар. – Вспомни, что говорят христиане, Якоб! Только то, что Иисус из Назарета и был тем самым Мессией, которого ждут евреи. Те евреи, которые осознали это, сразу стали христианами. Мы надеемся, что и остальные евреи последуют их примеру. Ведь это все, что разделяет наши религии, друг мой. И требуется сделать всего лишь небольшой шаг. Древние еврейские предсказания исполнены, вот и все. Это повод возрадоваться.
Якоб улыбнулся другу.
– Тебе следует поговорить с нашим раввином, – невесело пошутил он.
– Но я должен тебя предупредить. Если ты готов, то решайся скорее. Инквизиция настаивает, чтобы все люди были добрыми христианами. С другой стороны, инквизиторы с подозрением относятся к новообращенным, ибо думают, что их обращение притворно. Пока сведения, которыми я поделился с тобой, остаются тайной, твой переход в христианскую веру будет принят. Но как только станет известно о планах короля изгнать евреев, такой поступок могут счесть сомнительным.
– Это я понимаю, – сказал Якоб, но никакого определенного ответа Ренару не дал.
После ухода друга он не сомкнул глаз. Сначала лежал в постели. Потом поднялся и сел у огня. Дважды брал свечу и неслышно ходил смотреть на спящих жену и дочь. И все время размышлял.
Его не волновало, что скажет раввин. И даже мнение членов общины не очень его беспокоило, особенно с тех пор, как они показали себя лицемерами.
Но как посмотрит на это Бог Авраама и предков Якоба? «Если я страдал, пока поклонялся своему Богу, – рассуждал Якоб, – то не заставит ли Он страдать меня еще сильнее, если я предам Его?» А может, как раз сейчас Бог смилостивился и наконец подарил ему сына? Отвернуться от Бога после такого благословения было бы чистым безумием.
Но кто родится: мальчик или девочка? Соседка не сомневалась, что мальчик. Верить ли ей? По правде говоря, он не знал, что и думать. Кроме того, у них уже дважды рождались мальчики – и умирали. А теперь врачеватель высказывает опасения: даже жизнь Сары под угрозой.
Час за часом Якоб прокручивал эти мысли: довериться Богу или отказаться от своего наследия? Спасти свою маленькую семью или увидеть, как ее уничтожат? Так прошла самая черная ночь в его жизни. И только к утру, когда Якоб услышал, как закричала от боли жена, и торопливо послал за лекарем, он понял, что больше не в силах выносить это мучение. И принял страшное решение.
Неделю спустя Якоба крестили. Со священником договаривался Ренар, и все прошло без лишнего шума. Якоб так боялся, что шокирующее известие о его крещении вызовет у жены преждевременные роды, что ничего не сказал ни Саре, ни Наоми. Они узнали обо всем только через две недели после того, как в семье родился еще один ребенок – мальчик. Следуя семейной традиции, его назвали Якобом. С момента крещения Якоб перестал ходить в синагогу, но делал вид, будто причиной тому было нежелание оставлять надолго жену.
Когда он наконец признался Саре, она была ошеломлена. Ему пришлось открыть жене секрет, которым поделился с ним Ренар, чтобы объяснить свое решение. Когда он закончил, она помолчала, а потом обронила с горечью в голосе:
– Значит, я потеряю всех своих подруг.
Якоб полагал, что жена могла сказать ему гораздо больше этого, если бы не держала у груди малыша.
Что касается Наоми, то девочка была озадачена. Вечером того дня, когда ей впервые сказали, что отныне она христианка, Якоб пришел к дочери, чтобы помолиться с ней, как обычно, и она начала:
– Внемли, Израиль! Господь – Бог наш, Господь – один!
Но отец мягко остановил ее и сказал, что с этого вечера она должна молиться по-другому.
– Новая молитва очень красива, – пообещал он Наоми. – Она обращена к единому Богу, к Богу Израиля и всего мира. Она начинается так: «Отче наш…»
– Я больше не смогу читать Шма? – спросила дочь.
Борясь с душевной болью, Якоб попытался примирить дочь с переменой в их жизни:
– Христиане тоже иногда читают Шма, только по-латыни. Но будет лучше, если сейчас ты повторишь ту молитву, которой я тебя научу.
Утром сбитая с толку Наоми попыталась поговорить и с матерью, но та твердо заявила дочери: нужно слушаться отца, ибо он лучше знает, что делать. Однако в тот же день Наоми вернулась домой в слезах: другая девочка сказала ей, что ту молитву, которой научил ее отец, читают только враги их народа. Вскоре с Наоми перестали разговаривать все дети квартала.
Дочери нельзя было открыть тайну о грядущем изгнании евреев: это было слишком опасно и она была еще слишком мала, чтобы понять. Родители утешали ее как могли, но довольно скоро стало очевидно, что им придется сменить место жительства.
Причиной всех этих горестей был Анри Ренар, однако он сдержал свое обещание помочь другу в случае, если тот решится на судьбоносную перемену. Именно он разговаривал и со священником, который крестил Якоба, и с широким кругом влиятельных торговцев, подготавливая почву для новой жизни друга.
– Вы, конечно же, помните его отца: он был лучшим из здешних лекарей, – говорил Анри, – и одним из самых уважаемых жителей Парижа. Поэтому Якоб с детства был окружен христианами. Открыто обсуждать свою веру он не мог, разумеется, однако я, как его ближайший друг, знаю, что он уже целое десятилетие вынашивал мысль о крещении.
И если не по сути, то хотя бы формально это было правдой, так как Анри действительно говорил с Якобом на эту тему много лет назад.
Как христианин, Якоб не мог давать деньги в долг под проценты. Но Ренар сумел очень быстро ввести его в торговую гильдию. Для человека с такими опытом, знаниями и средствами в гильдии было множество возможностей заработать, и незаметно для себя он стал одним из столпов оптовой торговли тканями.
Все тот же Ренар помог Якобу найти новый дом на улице Сен-Мартен.
– До рынка Ле-Аль отсюда рукой подать, а еще этот район принадлежит к моему приходу Сен-Мерри, так что мы сможем ходить в одну и ту же церковь, – таковы были его аргументы, когда он показывал жилище другу.
И он проследил за тем, чтобы новообращенную семью – так как Сара и Наоми тоже были крещены, хоть и без желания, – хорошо приняли в приходе. По крайней мере, на новом месте соседи не отказывались здороваться с ними, и у Наоми появилась возможность снова играть со сверстниками.
Огромным облегчением для Якоба было убедиться, что он напрасно боялся за здоровье новорожденного сына. Роды оказались не такими сложными, как предполагалось, малыш с первых недель хорошо ел и прибавлял в весе. Из чего Якоб сделал вывод, что Бог не отвернулся от него. Более того, иногда он готов был поверить, будто Всевышний даже доволен тем, что семья Якоба перешла в христианство.
Но были в новой жизни и неприятные моменты. Как ни странно, больнее всего его задели слова человека, с чьим мнением он никогда особо не считался.
В первое же утро после того, как факт крещения Якоба стал общеизвестным, к нему домой пришел раввин:
– Это правда, Якоб бен Якоб? Ты перешел в христианство? Скажи мне, что это не так.
– Это правда.
Якоб ожидал, что раввин будет разгневан, но это было не единственное и не самое сильное его чувство. Нечто иное отпечаталось на лице раввина, придавая ему какое-то новое достоинство. Это была глубокая скорбь.
– Но почему? Как ты мог совершить такое?
– Я решил, что Иисус из Назарета и есть Мессия.
Конечно, эти слова были ложью. Но сказать раввину правду он не мог. И, глядя на человека, которого он не любил, Якоб вдруг почувствовал себя безмерно виноватым. Он хотел крикнуть: «Я сделал так, потому что евреев хотят прогнать. Я сделал это, чтобы спасти семью». Но он не имел на это права. Вот что стало его самым тяжким преступлением. Он ничего не сделал, чтобы предупредить об опасности своих соплеменников. Он собирался молчать в ожидании того дня, когда злой рок настигнет их, а потом наблюдать, как они все потеряют и окажутся выброшенными в мир без прав и имущества.
– Значит, ты предашь нас, Якоб бен Якоб? – горько спросил раввин. – Ты станешь еще одним Николаем Донином?
Это было жестокое обвинение. Каждый еврей знал, что Николай Донин, тот францисканец, который убедил христиан сжечь Талмуд, сам был рожден евреем. Говорят же, что никто не мстит с такой яростью, как предатели.
– Никогда! – воскликнул Якоб.
Обвинение раввина оскорбило его, но те слова, что были сказаны на прощание, преследовали его всю оставшуюся жизнь.
– Ты назвал меня дураком, – сказал раввин, – но на самом деле дурак – ты, Якоб. Ты крестился, перешел к христианам. И теперь ты думаешь: отныне я в безопасности. Но ты ошибаешься. Это я знаю точно, и вот что я тебе скажу. – Он воздел палец кверху. – Ты еврей, Якоб. И что бы ты ни сделал, что бы ни говорили сейчас христиане, поверь мне: ты никогда не будешь в безопасности.
Итак, Якоб стал посещать церковь и научился быть христианином. Он уже имел об этом общее представление благодаря дружбе с Ренаром и другими христианами. Но, обладая пытливым умом, Якоб захотел глубже изучить религию, в которую обратил семью. Ветхий Завет он знал хорошо, поэтому стал изучать Новый и с большим интересом обнаружил, что один буквально вырастает из другого. Якобу Иисус и Его ученики не казались христианами, воюющими с еврейской культурой. Нет, он видел их евреями. Их культура была еврейской, они соблюдали еврейские законы, следовали еврейским обычаям. Они читали Тору и приносили жертвы в храме Иерусалима.
А что касается христианской концепции любви, то кто станет спорить с ней?
Когда Ренар призывал его вспомнить, что христианство зародилось среди группы евреев, которые поняли, что их раввин и был обещанным Мессией, Якоб увидел в этом только уловку, с помощью которой Ренар хотел убедить его креститься и спасти свою шкуру. Вероятно, так оно и было. Но в дальнейшем Якоб пришел к выводу, что его друг сказал истину. Читая Деяния святых апостолов, он все больше поражался тому, до какой степени первые христиане были евреями и как велики были шансы, что они так и останутся еврейской сектой. Миссионерские старания апостола Павла предотвратили это. Время и трагедии истории сделали все остальное.
Но игнорировать столь долгую историю невозможно. То, что произошло, не изменишь. Церковь с подозрением относится к нему, раввин больше не желает с ним разговаривать, его жена несчастна, дочь озадачена, и Якоб понимал, что их вины в этом нет.
И все это время, каждый день, каждый час, Якоб с тяжелым сердцем и тайным стыдом ждал, когда на евреев Франции обрушится страшный удар.
Шли недели. Ничего не происходило. Якоб стал думать, не ошибся ли Ренар насчет намерений короля? И не напрасно ли он сам обрек семью на неописуемые страдания?
Но Ренар не ошибся. Король действительно планировал разрушить еврейскую общину, но не так, как предполагали.
В год 1299-й от Рождества Христова Филипп Красивый объявил, что больше не будет защищать евреев от инквизиции. И этот удар был столь же коварен, как и жесток.
Что сделал король? Ничего. Что могла сделать инквизиция? Все что угодно. Уменьшались ли доходы короля, которые он мог получить от евреев? Нет. Подтверждал ли он свое благочестие? Да.
И что же это означало для Якоба?
– Я крестился, думая, что мой народ выгонят из Парижа, однако они останутся здесь и будут ненавидеть меня еще сильнее. Я отрекся от своей веры ради безопасности, а теперь инквизиция будет следить за мной, как ястреб, и если кто-нибудь решит, что мое обращение не было искренним, то меня будут считать евреем и обвинят в лжесвидетельстве и в чем угодно еще. Да меня сожгут живьем. Вот что означает для меня заявление короля, – заключил он с подавленным видом, сидя за столом напротив жены.
– Для нас, – мрачно уточнила Сара.
Но инквизиция не тронула их. Очевидно, сказалась ненависть, которую испытывали к Якобу парижские евреи, а еще тот факт, что благодаря Ренару прихожане церкви Сен-Мерри по-прежнему относились к Якобу и его родным как к своим.
Семья привыкала к христианской жизни. Было странно не отмечать Шаббат. Обычаи, касающиеся христианского воскресенья, были куда менее требовательными. Якоб скучал по страстной интимности еврейской Пасхи. Он скучал по завораживающему, меланхоличному голосу кантора в синагоге. Но и христианские службы обладали своей красотой.
– Наша жизнь, – говорил Якоб своей семье, – не так уж плоха.
Каковы бы ни были мысли Сары, она не видела пользы в жалобах и упреках. Маленький Якоб, растущий в многолюдном окружении семей Ренара и других торговцев, другой жизни и не знал. Что же до Наоми, то она, кажется, приспособилась. У нее появились новые подруги. Насколько было известно Якобу, ни с кем из своих прежних знакомых она не виделась.
Якоб арендовал неподалеку от дома склад, где хранил пухлые тюки ткани, которыми теперь торговал. Затем ему пришлось нанять ученика, и тот спал в мансарде над складом, заодно охраняя товары. Через год после крещения Якоб купил сад с яблонями и грушами на склоне к северо-востоку от города, и по воскресеньям все семья, часто сопровождаемая Ренарами, ходила туда посмотреть на деревья и на расстилающийся у подножия холма Париж. Обратно возвращались обычно другой дорогой – той, которая вела мимо крепости тамплиеров. Это была приятная прогулка.
Так без особых происшествий прошло пять лет.
Поскольку разлад в жизни дочери назревал медленно, Якоб ни о чем не догадывался, пока не стало слишком поздно.
Он с величайшим тщанием следил за тем, чтобы ни словом, ни делом не обделить Наоми вниманием, чтобы ей не казалось, будто мальчик для родителей важнее. Он продолжал рассказывать ей сказки, как и раньше. Потом маленький Якоб научился говорить, и отец, сажая его на колено и начиная сказку, не забывал сначала обратиться к дочке: «Помнишь, как я рассказывал тебе эту историю?» А иногда он даже останавливался и говорил: «Ну-ка, Наоми, продолжай дальше ты» – и хвалил ее, когда она справлялась с заданием, так что вскоре маленький мальчик стал смотреть на нее как на вторую маму, чем Наоми очень гордилась.
Наоми помогала Саре одевать малыша и водила его на прогулки.
– Это очень полезно для нее, – говорил жене довольный Якоб. – Когда-нибудь из нее выйдет прекрасная мать.
С неменьшим удовлетворением он видел, что дочь обещает стать красивой девушкой. Когда она была малышкой, самыми примечательными в ее внешности были широко расставленные голубые глаза на круглом лице, обрамленном массой темных кудрей. Но к одиннадцати годам ее лицо вытянулось в тонко очерченный овал, а кудряшки превратились в локоны, которые тяжелой волной ниспадали по плечам. На улице на девочку стали оглядываться мужчины.
Якоб уже начал подумывать о том, не станет ли Наоми хорошей невестой для первенца Ренара, который был пятью годами старше ее. Ему было неудобно спрашивать об этом друга, ведь тот и так уже очень много сделал для них.
– Я бы не хотел ставить его в неловкое положение, если эта мысль не придется ему по душе, – объяснял он Саре.
Ренар же до сих пор ни разу ни о чем таком не заговаривал. А еще Якоба останавливал тот факт, что, когда он со всей возможной мягкостью поинтересовался у дочки ее мнением насчет предполагаемого союза, она сказала:
– Он очень мне нравится, отец, но я отношусь к нему как к другу, а не как к будущему мужу.
– Дружба – лучшая основа для брака, – заметил отец. – К тому же твои чувства могут измениться.
– Я так не думаю, – ответила Наоми.
Якоб, само собой, имел полное право выбрать для дочери мужа, но он слишком любил ее, чтобы стать причиной ее несчастья.
– Я никогда не отдам тебя замуж против твоей воли, – пообещал он ей.
В предложениях от других семейств недостатка не было – три достойных торговца проявили интерес к дочери Якоба. Он пока медлил с ответом, но у него не было сомнений в том, что у Наоми есть все шансы удачно устроить жизнь.
Тем временем она проявляла удивительную сметку и любознательность, чем приводила отца в восхищение. Поскольку он с самого начала обращался с ней скорее как с сыном, чем как с дочерью, то не смог отказаться от близости и общения только потому, что у нее появился брат. Он часто обсуждал с ней торговые дела и разные события дня. Якоб гордился тем, что Наоми не только быстро улавливает суть вещей, но и умеет задавать правильные вопросы. Она спрашивала не о том, что случилось, а почему. Один разговор, имевший место незадолго до ее тринадцатилетия, особенно запомнился Якобу.
– Как так вышло, – спросила дочка, – что земля Франции такая богатая, а королю всегда не хватает денег?
– Этому есть две причины. Во-первых, король любит воевать. Во-вторых, король любит строить. Когда завершится расширение королевского дворца на острове Сите, нашему монарху будет завидовать весь христианский мир. Ничто на свете не обходится так дорого, как войны и строительство.
– Но зачем он это делает? Приносят ли государству пользу его войны и постройки?
– Никакой. – Якоб улыбнулся. – Ты должна понимать, Наоми, что, когда простой человек, скажем торговец, получает наследство от отца, это является его личной собственностью. Он стремится увеличить свое состояние и стать более могущественным. Зачастую ему еще хочется произвести впечатление на соседей.
– Ну, это глупо.
– Несомненно, но такова человеческая натура. И короли точно такие же, за одним исключением. Их наследством является целая страна. Но они все равно смотрят на нее как на свою собственность, с которой могут делать все, что ни пожелают. Итак, мы видим, что король Филипп стремится увеличить свое королевство в основном за счет врагов своего рода – английских Плантагенетов. За последние поколения его семья выдавила Плантагенетов из Нормандии на севере и из Анжу и Пуату на западе. Теперь он надеется изгнать их с побережья Атлантики в Аквитании и из обширных виноградарских долин вокруг Бордо в Гаскони. Также король удачно женился. Его жена принесла ему с приданым власть над богатыми равнинами Шампани. Они стали прекрасным дополнением к его владениям. Но за Шампанью он видит Фландрию с ее зажиточными городами и начинает строить планы о том, как бы отхватить кусок еще и от нее.
– То есть все это ради его личной славы?
– Конечно. Он всего лишь человек. На самом деле богатые короли часто ведут себя не лучше избалованных детей.
– Ты считаешь, что богатство и власть делают людей избалованными?
– Такое мне в голову не приходило, но, возможно, ты права, – рассмеялся Якоб.
– Значит, королевские свершения делаются не ради подданных?
– Обычно короли утверждают, что их действия направлены на благо их народов. Но это неправда. А если и правда, то по чистой случайности.
– Но как же Бог? – спросила Наоми. – Разве короли не обязаны служить Богу? Они не боятся за свои бессмертные души?
– Боятся… время от времени.
– Мне кажется, что правителями должны быть только хорошие люди.
– Твои слова делают тебе честь, – ответил отец. – Но вот что я скажу, Наоми: не из всякого хорошего человека выйдет хороший правитель. Все будет зависеть от обстоятельств. Для правителя есть кое-что поважнее, чем просто быть хорошим, и об этом говорится в Библии.
– Ты имеешь в виду царя Соломона? – Наоми задумчиво наморщила лоб.
– Именно. Когда Соломон стал царем, Бог спросил его, какой бы дар он хотел получить. И Соломон попросил мудрости. Я счастлив, если нами правит хороший человек, но предпочел бы, чтобы он был мудрым.
– И как по-твоему, короли часто бывают мудрыми?
– На моей памяти такого, увы, не случалось.
Якоб видел, что их беседа заставила дочь задуматься и погрустнеть. Ему было жаль Наоми, однако лгать ей он не собирался.
Позднее, оглядываясь на прошлое, Якоб спрашивал себя, не был ли ошибкой тот откровенный разговор, не он ли заронил в душу дочери зерна скептицизма и разочарования, которые потом привели к трагедии? Может быть, и так, но прошел год, прежде чем стали заметны первые тревожные признаки.
В тот период король Франции Филипп, как обычно, искал источники пополнения казны. Он прибегнул к своим обычным методам: назначил новые поборы для евреев и даже выпустил в обращение обесцененную монету. Но денег все равно не хватало. Тогда он нашел новый, неожиданный способ.
– Мы будем брать налог с духовенства, – объявил он.
Поднялся шум. Епископы протестовали, сама папа римский обратился к королю Филиппу с требованием отменить налог.
– Почему король это сделал? – спросила Наоми у отца.
– На это есть простой ответ: потому что Церковь очень богата. Должно быть, не менее трети всех богатств Франции принадлежит церковникам.
– Но ведь Церковь не должна платить налоги.
– Она может сделать добровольное подношение королю, но вообще да, она освобождена от налогов.
– Потому что Церковь служит Богу.
– Да, таково обоснование. – Он помолчал. – Но на самом деле тут играет роль куда более важный фактор – власть.
– Пожалуйста, объясни, что ты имеешь в виду.
– Это продолжается уже очень давно. Если вкратце, то Церковь утверждает следующее: она представляет небесную власть и потому не подчиняется земным королям. Вот почему существуют церковные суды. Они часто назначают духовным лицам легкое наказание за преступления, которые для обычного человека означали бы смертный приговор. В Париже мы видим это каждый день, и многие недовольны таким положением дел.
– Да, студенты тоже пользуются защитой церковного суда.
– Правильно. А церковники самого высокого уровня иногда заявляют, что и короли должны отчитываться перед ними. Были случаи, когда папа римский пытался свергнуть короля. Как ты понимаешь, среди королей, даже наиболее богобоязненных, эти идеи непопулярны.
– Я и не думала, что дело заходит так далеко.
– Все зависит от папы. У кого-то из них жажда власти сильнее, у других слабее.
– Но разве они не во имя Бога действуют?
– Опять же – такова предпосылка. – Якобу хотелось точнее донести до дочери свои представления о том, как устроена жизнь. – Вот смотри. Собор Нотр-Дам – это памятник Богу, не так ли?
– Да, папа.
– На его месте раньше стоял другой собор. Но великий епископ Сюлли сказал, что старая церковь слишком мала, и построил новую, в новом стиле. Строительство обошлось казне в целое состояние.
– Собор очень красивый.
– Да. Только епископ Сюлли солгал. Старая церковь была практически такого же размера. Просто ему захотелось чего-то более величественного, такого, чем парижане гордились бы и говорили: «Смотрите, что построил великий епископ Сюлли». Разумеется, во славу Господа.
– И к чему мы пришли?
– Две разные вещи могут быть верными одновременно. Церковь существует для того, чтобы привести людей к Богу. Но епископы и папы – те же люди, подобно королям. Они подвластны тем же страстям. Например, в те годы, когда жил святой Дионисий, христиан преследовали так же, как теперь преследуют евреев, но их вера, вероятно, была более чистой. Со временем Церковь стала богатой и всемогущей, и неизбежно возникли проявления продажности и разложения.
– Если Церковь продажна, то почему ты присоединился к ней, отказавшись от своей веры?
Якоба такой вопрос застал врасплох. Наоми никогда не говорила с ним на эту тему. Конечно, когда они только что крестились, он назвал ей ту причину, которая считалась общепринятой, – мол, Христос и есть тот Мессия, которого ждали евреи. Еще, отмечая тот или иной праздник в течение года, Якоб указывал своим детям на то, сколь похожи обряды христианства на лежащие в их основе обряды еврейской веры. Но, помимо этого, тема обращения в христианство не обсуждалась. Якоб не сомневался, что об этом позаботилась Сара.
Что же, неужели все эти годы Наоми размышляла об этом? Судя по ее вопросу, да. Так не настал ли момент, когда ему следует рассказать ей наконец правду? «Я перешел в христианство, чтобы спасти твою жизнь, жизнь твоего брата и твоей матери и да, конечно, и свою жизнь тоже». Мог ли он так сказать? Якоб не решился. Она ведь еще ребенок.
– Потому что я верю, что Иисус Христос есть Мессия, – сказал он. – Я ведь тебе уже говорил это, Наоми.
Она продолжала смотреть на него большими голубыми глазами, но ничего не добавила. И еще много месяцев не возвращалась к этой теме. Какими бы ни были ее мысли, Наоми держала их при себе. Якоб надеялся, что она поступает так из любви к нему.
Возможно, она так бы и молчала, если бы не чрезвычайное событие, случившееся в 1305 году, когда Наоми достигла возраста пятнадцати лет.
Спор между королем Филиппом и папой римским, не утихая, зашел в тупик, и вот наконец папа умер – внезапно и очень кстати. Его преемник последовал за ним в могилу в течение нескольких месяцев, вероятно в результате отравления. В Риме должны были состояться новые выборы, и парижане жаждали узнать, будет ли очередной папа более милостив к их повелителю. Выборы, однако, откладывались. Доходили слухи о том, что в Священном городе царит смятение.
В середине июньского дня, когда вся небольшая семья сидела за столом, в дверь постучал Ренар.
– Ага, кажется, я первым сообщу вам новости! – сказал он. Увидев по непонимающим лицам, что так и есть, он быстро продолжил: – У нас новый папа римский. Догадайтесь, кто это? Архиепископ Бордоский!
– Но он ведь даже не кардинал! – воскликнул Якоб.
– Нет. Зато он француз. Он человек короля Филиппа. Должно быть, не обошлось без негласного королевского участия.
Правители часто пытались повлиять на папские выборы в надежде продвинуть расположенного к ним кандидата, но это был небывалый случай.
– Этот папа – всего лишь кукла в руках Филиппа, – сказал Якоб.
– Тогда я вам расскажу, что по-настоящему удивительно. Новый папа будет жить не в Риме.
– Не в Ватикане?
– Он даже на коронацию в Рим не поедет. Церемонию проведут в Бургундии. После этого папский двор переведут в Пуатье, во владения короля Франции. Также говорят, что через год или два его двор может переехать в Авиньон, но, во всяком случае, не в Рим. Так что с сегодняшнего дня папа римский принадлежит королю Филиппу Французскому!
Вскоре Ренар ушел, чтобы распространять новость дальше. Якоб качал головой в задумчивости.
– Раньше бывало, что в опасные времена папа иногда оставлял Рим, – заметил он. – Но чтобы так… Не знаю, что и сказать.
Лицо Сары застыло неподвижной маской.
– Не вижу ничего удивительного. – Наоми пристально посмотрела на отца. – Церковь продажна. Ты сам мне это сказал. Я не считаю, будто Церковь имеет какое-либо отношение к Богу. Я презираю ее.
– Не смей так говорить со своим отцом! – резко оборвала ее Сара.
Но Якоб не рассердился. Он был встревожен.
– Ты должна быть очень осторожна, Наоми, – тихо сказал он. – Такие мысли крайне опасны. А для новообращенных христиан – опасны вдвойне.
– Я не принимала христианство по собственному выбору, это ты заставил меня! – с горечью возразила Наоми.
– В любом случае теперь ты христианка. Никто, даже слуги в нашем доме, не должны слышать от тебя подобных слов. Ты можешь навлечь на всех нас смертельную опасность.
Наоми помолчала.
– Хорошо, я не буду ничего говорить, – ответила она через некоторое время. – Но теперь ты знаешь, что я думаю, и это никогда не изменится.
И ушла в свою комнату.
Что он мог поделать? Ничего. Ее чувства были ему понятны. Во многом он и сам их разделял: она испытывала отвращение к продажности, он тоже.
А еще Наоми была молода. Возможно, когда она доживет до его лет, то согласится с тем, что в этом несовершенном мире можно надеяться максимум на небольшие улучшения. Но пока у нее имелась другая точка зрения, и Якоб должен был уважать ее.
Он был благодарен дочери за то, что она держала обещание и больше не говорила о своем отношении к Церкви и религии. Наоми занималась обычными делами, помогала матери по хозяйству, всегда была спокойна и приветлива. Без жалоб ходила с семьей в приходскую церковь. Когда Якоб рассказывал сыну сказки, Наоми по-прежнему присоединялась к ним и даже начала учить брата читать и писать. Якоб с удовольствием сам занялся бы этим, но был рад, что обучение брата удерживает Наоми дома: это было совсем не лишним в темные зимние месяцы.
Потому что гулять она любила больше всего на свете. Каждый день сестра водила маленького Якоба на прогулку; когда бы отец ни собрался на садовый участок, она всегда была рада составить ему компанию. Еще она частенько отправлялась на остров Сите и ставила свечку в Нотр-Даме; Якоб не возражал, поскольку это выглядело как проявление религиозного рвения.
– Я думаю, для нее это просто повод выйти из дому, – заметил он как-то Саре.
Таким образом, их маленькая семья провела всю зиму без особых потрясений. Началась весна. Становилось теплее с каждым днем, и Наоми могла гулять дольше. Она рассказала отцу, что ходила на левый берег и посетила чудесную церковь Сен-Северин. С приходом хорошей погоды ее настроение также улучшилось. Возможно, она уже пережила потрясения прошлого года.
– Приближается время, – сказал Якоб жене в конце весны, – когда нам пора будет подумать о женихе для Наоми. При условии, конечно, – добавил он вполголоса, – что она не станет излагать перед будущим мужем свое мнение о папе римском.
В середине июня Якоба неожиданно навестил раввин. Он прибыл незадолго до полудня, когда Наоми гуляла с братом. За последние годы раввин прибавил в весе. Он тяжело уселся на скамью в конторе Якоба.
– Чем могу быть полезен? – настороженно спросил хозяин.
– Чем ты можешь быть мне полезен? – Раввин уставился на него. – Чем ты можешь быть мне полезен? – Он вздохнул и уныло покачал головой. – Ты не знаешь, почему я пришел?
– Не имею понятия.
– Смотрите-ка, этот умник не знает, – кивнул раввин, словно говоря сам с собой. – А я дурак! – вдруг выкрикнул он. А потом тихо добавил: – Но я знаю.
Якоб ждал.
– Твоя дочь Наоми часто уходит из дома одна, – продолжал раввин.
– Да. И что?
– Куда она уходит?
– В разные места. Иногда в Нотр-Дам, иногда в какую-нибудь другую церковь.
– И что она там делает, позволь спросить?
– Зажигает и ставит свечу. Так принято. Почему ты спрашиваешь?
– Потому что твоя дочь не ходит в Нотр-Дам. Она ходит в другое место.
– И куда же это?
– По мне, так пусть бы она ходила в Аквитанию! Где бы она ни бродила, делает она это вместе с моим сыном Аароном. Поэтому я здесь.
Аарон. Ее друг детства. Полный мальчик несколькими годами старше, ничего особенного. Якоб уже много лет даже не вспоминал о нем.
Значит, протест Наоми привел к тому, что она стала вновь встречаться со своими старыми друзьями из еврейской общины. Что ж, Якоб мог ее понять, но с ее стороны это так неосторожно! Тем более показываться на улицах в обществе сына раввина… Люди могут неверно это истолковать. И неизвестно, с кем еще из евреев она виделась, что им говорила…
– Я не знал об этом. Скажу Наоми, чтобы больше она не встречалась с Аароном.
Он почувствовал желание протянуть руку и похлопать раввина по плечу, но решил, что это будет неуместно, и просто улыбнулся, надеясь, что улыбка получилась примирительной.
– Я уверен, что Аарон – достойный молодой человек. Но в нашей ситуации… – Он печально развел руками. – Их давняя дружба очень нежелательна.
– Ты не понимаешь! – сказал раввин. – Они хотят пожениться.
– Пожениться?
– Да, Якоб бен Якоб. Твоя дочь хочет вернуться к вере своих предков. Она хочет выйти замуж за моего сына и снова стать иудейкой.
Якоб молча смотрел на раввина. Потом опустил голову.
Вот, значит, как. Она предала его. Его как будто ударили в живот, он даже согнулся.
Она отвернулась от него. Она больше не его дочь. Знает ли Сара? Или вся семья втайне предала его? Он сделал глубокий вдох.
Наоми молода. Нужно учитывать это. Конечно, она умеет писать и читать, умеет думать самостоятельно, высказывает разумные суждения. Но все равно она еще девочка, к тому же, если верить раввину, влюбленная девочка. Так пытался уговорить себя Якоб, пока боль не стала совсем невыносимой.
– Ты уверен? – спросил он раввина, не поднимая глаз.
– Да. Мой сын говорил со мной.
– Это абсолютно невозможно.
– Конечно невозможно!
– Неужели она не понимает, что из-за ее поступка вся наша семья окажется в опасности! Мое обращение в христианскую веру будет выглядеть подозрительным!
– Ваша семья? – Раввин наклонился вперед и заговорил низким, напряженным голосом, полным гнева. – Неполных тридцать лет назад, Якоб бен Якоб, один христианин из Бретани перешел в иудаизм. Это редкость, практически исключение из правил. Мы не стремимся к этому, но так случается. И когда тот новообращенный христианин умер, его похоронили как еврея, на еврейском кладбище. И знаешь ли ты, что сделала инквизиция? Сожгла раввина на костре. За то, что позволил тому человеку умереть как еврею, ведь, по их мнению, его должны были похоронить в освященной земле. Ты видишь в этом какую-нибудь логику? Я – нет. Но было сделано именно так. – Он помолчал. – И что, по-твоему, случится со мной и моей семьей, если инквизиция решит, что мы заманили новообращенную христианку обратно в иудаизм? А случиться с нами может что угодно, но, скорее всего, меня сожгут, и сына моего тоже, – за то, что мы забрали душу твоей дочери в свои злые цепкие когти. Над нами висит угроза не меньшая, чем над тобой, Якоб. Если не бо́льшая.
– Что ты сказал сыну?
– Запретил даже думать об этом.
– А он что ответил?
– Что ни на ком другом не женится. Я ему сказал, что тогда он вообще не женится. – Раввин воздел руки. – Он думает, что они могут переехать в другой город, где их не знают. Хотят прибыть туда уже женатыми, как семья. Это глупость. Я сказал ему «нет». Но… Кто знает, на что они способны.
– Ты же не думаешь, что…
– Что на подходе ребенок? Нет. Слава Господу. Аарон утверждает, что они не… Только нам все равно нужно принять меры предосторожности. Ты должен запереть дочь дома, Якоб, чтобы прекратить это безумие.
– Да, я так и сделаю.
Однако сначала он попытался образумить дочь.
– Дитя мое, ты считаешь, что я не понимаю?! – воскликнул он. – Когда человек влюблен, для него открыты небеса, он думает, что видит ангелов. Все кажется возможным. Но в мире действуют темные силы, и я хочу защитить тебя от них.
Дочь слушала его. Но когда он попросил ее пообещать, что она больше никогда не увидит молодого человека, Наоми отказалась. Даже если бы она дала обещание, Якоб все равно не смог бы поверить ей.
С того дня, невзирая на все протесты Наоми, ее не выпускали из дому. Ей даже не разрешали водить брата на прогулку. Якоб сказал, что она может выходить с ним, если хочет. Она не приняла этого предложения и вообще перестала разговаривать с отцом.
Аарон, за которым тоже строго следили, предпринял попытку увидеться с Наоми и трижды пробовал передать ей письмо. Но Якоб и раввин сумели пресечь эти поползновения.
Дома атмосфера была напряженной. Якоб не знал, как долго семья сможет выносить подобную жизнь.
– У меня есть знакомые торговцы в других городах. Может, стоит отправить Наоми к кому-нибудь из них, пусть поживет некоторое время, – предложил он Саре.
– И что она там натворит без присмотра? Или ты попросишь своих знакомых, чтобы они тоже держали ее под замком?
Якоб не находил выхода, и так, в мучениях, прошел месяц. По еврейскому календарю наступил пост девятого Ава – Тиша бе-Ав.
Король Филипп Красивый умел действовать безжалостно и быстро. Он доказал это, когда посадил на папский престол своего человека. И вот теперь, в 1306 год от Рождества Христова, в двадцать второй день июля, который следовал за еврейским постом Тиша бе-Ав, он снова проявил это умение.
Подготовка была проведена безупречно. В народ не просочилось ни слова о намерениях власти. Торговец Ренар ничего не слышал. Каждая улица, каждый дом были учтены. Кордоны стояли наготове и прибыли на места ночью. И на рассвете люди короля нанесли удар.
Успех был полный. Все евреи Парижа были арестованы вместе с женами и детьми. Не пропустили ни одного. К утру всех согнали в тюрьмы. Там они узнали свое будущее.
Им предписывалось немедленно покинуть Францию. С собой они могли взять только ту одежду, что была на них, и жалкую сумму в двенадцать су на человека. Все остальное их имущество отходило королю.
Около полудня Якоб встретил на улице Ренара. Они обменялись взглядами.
– Все-таки это случилось, – тихо проговорил Ренар.
– Да.
Никаких других слов не требовалось.
Ближе к вечеру стало известно больше. То же самое произошло во всех городах Франции, где имелись еврейские общины. Евреям велели покинуть все земли, подвластные королю Филиппа. Основания для арестов выдвигались обычные: иудаизм, ростовщичество. Но никто не сомневался в том, что это лишь предлог.
Якоб находился в группе торговцев с рынка Ле-Аль, которым королевский советник разъяснял монаршие указы.
– Никакие долги евреям не списываются, – объяснял он, – но теперь они становятся собственностью короля, и он требует, чтобы долги вернули в полном объеме.
Это повеление не вызвало восторга среди торговцев, а следующее известие и вовсе было встречено стонами.
– Далее, надлежит выплатить все долги теми монетами, которые находились в употреблении на момент взятия займа. Король настаивает на этом.
Это требование являло собой образчик изощренного коварства. Король Филипп только что отчеканил большое количество низкопробных монет и не желал получить их назад. Таким образом, изгнание евреев из Франции имело простую и очевидную цель: конфискация всего имущества финансового сообщества страны, предпринятая, чтобы оплатить расходы короля.
Процесс, молниеносный поначалу, все же затянулся на два с лишним месяца. Последние евреи оставили Париж только в начале октября. Все это время Наоми находилась взаперти, а за Аароном неотступно следил собственный отец. В сентябре дошла весть о том, что раввин и его семья уехали.
Якоба это беспощадное изгнание привело в ужас. Его потрясло то, что сделали с его народом.
А еще он чувствовал себя оправданным. Теперь он мог повернуться к Саре и сказать: «Вот почему я крестился. Вот чего я опасался». Та боль, на которую он обрек свою семью, оказалась не напрасной. Он действительно спас жену и детей.
Но какой ценой? Вина пригибала его к земле. Каждый день люди выходили смотреть на то, как все новые и новые группы евреев покидают Париж. Но только не Якоб. Он прятался в доме. Он не хотел этого видеть. Больше всего он боялся, что изгнанники посмотрят на него. А он не смог бы выдержать их взгляды.
И в конце концов, решение короля принесло ему облегчение. Сын раввина тоже вынужден был уйти.
Куда направляли стопы евреи Франции? Через восточную границу в Лотарингию, или в Бургундию, или еще дальше на юг. Еще они могли отправиться в Италию или к подножию Альп – в Савойю. Куда бы ни лежал его путь, молодой Аарон с семьей исчез из их жизни. По крайней мере, эта опасность миновала. Можно было начинать жить заново.
Или нет? Первые несколько дней получились трудными. Наоми хотела идти за Аароном. Она была откровенна и непреклонна. И хотя Якоб не мог не сочувствовать дочери, его огорчала такая неуступчивость.
– Она же знает, как опасно это для семьи, – делился он с Сарой.
– Ей так не кажется. Ведь Аарон будет за пределами Франции, а соседям и друзьям можно сказать, что ее мы отправили жить в другой город к твоим знакомым.
– Такие вещи трудно скрыть, все рано или поздно выходит наружу. Слишком велик риск. Она должна понимать это.
– Наоми очень хочется, чтобы ее чаяния сбылись, поэтому она все видит по-другому.
– Ну а на что они будут жить? У Аарона теперь ничего нет, – печально напомнил Якоб. – Король разорил его семью.
– Он станет раввином, а они всегда живут неплохо.
– И все равно Наоми не может пойти за ним. Ведь нам неизвестно, куда они отправились.
Сейчас это было правдой. Но к зиме Якобу ценой нелегких трудов удалось это выяснить.
Аарон был далеко – в горных районах Савойи.
Если поначалу Наоми злилась и протестовала, то постепенно накал ее чувств ослабел до угрюмой подавленности. Ей вновь разрешили водить на прогулки маленького Якоба, к чему она отнеслась с полным равнодушием. Отец порой заставал ее сидящей рядом с братом у огня, но пока мальчик болтал, его сестра молча смотрела в пустоту.
Родители подозревали, что Наоми надеется получить весточку от Аарона, и потому бдительно следили за ней. Однако никаких сообщений не приходило, насколько они могли судить.
Наступил и миновал декабрь. Опять дороги покрылись льдом, на крышах лежал снег. В то темное холодное время года их дочь была погружена в пучину тоски.
Они пытались вести себя как обычно. Изо всех сил старались при ней быть веселыми. По вечерам, когда вся семья собиралась вместе, Якоб рассказывал сказки и истории, и Наоми слушала как будто с удовольствием. Если он вспоминал какую-нибудь шутку, услышанную на рынке, она могла даже рассмеяться. Тем не менее к началу серого января Якоб чаще видел на лице Наоми не радость, а уныние.
Однажды, вернувшись домой, Якоб застал дочь сидящей в одиночестве перед очагом. Она наверняка слышала, как он вошел, но не обернулась, как будто давая ему понять, что не желает его общества. И Якоб собрался уйти в свою контору, но затем, подумав, подошел к очагу и сел на скамью рядом с дочерью. Он ничего не говорил, только смотрел на темноволосую голову, грустно поникшую перед едва тлеющими углями. Наконец он нерешительно положил руку на ее напрягшиеся плечи и сказал:
– Мне так жаль, дитя мое.
Она ничего не ответила. Но, по крайней мере, не отодвинулась от него.
– Я знаю, ты несчастна, – негромко продолжил Якоб. – Я огорчен тем, что ты хочешь уйти от нас, но я понимаю.
– Правда в том, отец, что я больше не хочу жить в стране, где происходят такие вещи, – через некоторое время заговорила Наоми.
– Ах, – вздохнул Якоб. – Однажды раввин сказал мне: «Ты никогда не будешь в безопасности». И возможно, он прав. Тот, кто рожден евреем, нигде не обретет покоя, куда бы ни пошел.
– Почему мы стали христианами, отец?
И тогда, поскольку в тот момент ему показалось это правильным, он рассказал ей все. О предупреждении Ренара, о том, как мучился, решая, что делать, о том, как боялся за здоровье Сары, нерожденного ребенка и самой Наоми, о том, как принял крещение и как тяжело ему это все далось. Все до конца.
– Может быть, я совершил ошибку, дитя мое, но я это сделал, и таковы причины, побудившие меня так поступить. А теперь оказалось, что этим я причинил тебе огромное горе, чего я никогда не хотел. Прости меня.
Когда он закончил, Наоми долго сидела неподвижно. Якоб терялся в догадках: не рассердилась ли она на него еще сильнее?
– Я не знала, – сказала она наконец.
– Это было так опасно, что я не мог тогда тебе открыть всего. Но иногда мне казалось, что, может быть, твоя мать что-то тебе рассказала.
– Нет. – Она покачала головой. – Ничего не рассказывала.
Он убрал руку с ее спины, пока говорил. Теперь он сложил обе ладони у себя на коленях и тоже уставился в потухший очаг. Потом вдруг ему на шею легла рука дочери, и, когда он обернулся, она опустила голову ему на плечо:
– Я понимаю, отец, почему ты сделал то. По-твоему, это было необходимо.
– Очень на это надеюсь, – с чувством ответил он.
– Ты ведь знаешь, что я всегда буду любить тебя? – спросила она.
Он посмотрел ей в глаза, и она улыбнулась.
– Всегда, – повторила Наоми. – Ты лучший отец на свете, правда.
Якоб не мог ничего говорить от переполнивших его чувств, только сжал ее ладонь в своей. Ее слова значили для него почти столько же, сколько рождение сына. Или даже больше.
С того дня Наоми как будто стала менее грустной. Жизнь понемногу налаживалась. Когда пришла весна, Якоб опять спросил Сару, не считает ли она, что теперь им можно начать подыскивать мужа для дочери.
– Давай подождем еще немного, – посоветовала жена.
– Оставлю этот вопрос на твое усмотрение, – принял разумное решение Якоб.
– Думаю, она готова, – сказала Сара мужу в конце мая.
И через несколько дней сама Наоми непринужденно заметила отцу:
– Я не тороплюсь замуж, отец, но когда придет время, может, нам стоит подумать о сыне Ренара. Я доверяю ему, и он мой давний друг.
Якоба уговаривать не требовалось. Буквально на следующий день, встретив Ренара на улице, он зашагал рядом. После обмена приветствиями и вежливых расспросов о семьях и делах Якоб отозвался о старшем сыне Ренара как об очень воспитанном и приятном молодом человеке.
– И я, кстати, тоже доволен тем, какой девушкой стала Наоми, – добавил он в заключение.
Они прошли вперед несколько шагов, и только потом Ренар повернул голову, чтобы внимательно посмотреть на друга.
Годы по-разному сказывались на приятелях. Те немногие волосы, что еще оставались на голове Якоба, поседели. Ренар же, напротив, как свойственно многим рыжим, не утратил своей шевелюры, да и вообще мало изменился с годами. Только глубокие, длинные морщины, прорезавшие лицо торговца, выдавали его возраст.
– Твоя дочь – настоящая красавица, – сказал он. – Полагаю, вскоре ты станешь искать для нее достойного мужа.
– Да, – кивнул Якоб.
– Я так хорошо помню те дни, когда ты решил принять христианство, – негромко проговорил Ренар.
– Наша семья бесконечно тебе обязана.
– В то время Наоми было лет девять, не больше.
– Да, девять.
– Как она отнеслась к крещению тогда? И что думает сейчас?
– Ну… – Такого вопроса Якоб не предвидел. – Она послушная дочь и потому не обсуждала решение отца. И это случилось так давно. Все ее друзья – христиане. Ее брат, конечно же, был рожден в христианской вере. – Такой ответ нельзя было назвать абсолютно честным, но лучшего у Якоба не было.
– Ты знаешь мою любовь к тебе и твоей семье, Якоб. – Ренар задумчиво покивал. – Я рад, что сумел помочь тебе, и сделал бы то же самое еще раз. Но брак – это нечто гораздо большее. Мой сын любит твою дочь как друга. И он будет ей другом всю жизнь. Но еще он очень набожен. Не все христиане столь благочестивы, Бог свидетель. Но он таков. Та девушка, которая станет его женой, должна быть столь же крепка в вере. У нее не должно быть сомнений.
– Разумеется, у моей дочери нет сомнений, – быстро сказал Якоб. – Никаких.
Они оба знали, что это ложь, но Якоб должен был это сказать.
– Нам нужно будет поговорить об этом еще раз, чуть позже, – предложил рыжеволосый торговец, прощаясь.
И опять они оба знали, что это только слова.
– Я никогда не знала, что он настолько набожен, – удивилась Наоми, когда отец передал ей суть своей беседы с Ренаром.
– Может, и не настолько, – тихо произнес Якоб.
Но первая неудача его не обескуражила. К концу лета он уже вел серьезные переговоры с торговцами, которые ранее выразили свой интерес, и с двумя новыми кандидатами, появившимися в последнее время. В сентябре он сумел предоставить дочери такой выбор, которому могла бы позавидовать любая девушка их круга. Со своей стороны, Наоми постепенно прониклась важностью события и даже стала находить удовольствие в обсуждении окончательного списка потенциальных женихов.
– А теперь, отец, я бы хотела попросить немного времени на размышление, – сказала она. – Двоих из этих молодых людей я почти не знаю. Сможешь дать мне месяц или два?
– Конечно, – ответил он с улыбкой. – Договоримся о том, что решение нужно принять к Рождеству.
Во вторник, одиннадцатого октября, Якоб столкнулся с Ренаром на Гревской площади. Двое мужчин поболтали немного о торговле, и они уже прощались, когда Ренар вдруг спросил:
– Якоб, ты помнишь Аарона, сына раввина?
– Конечно, – ответил Якоб.
– Ты знаешь, мне кажется, я видел его вчера в городе. Скорее всего, я обознался, но если он действительно проник в Париж, то ему следует быть крайне осторожным. Его могут арестовать.
Якоб в ужасе уставился на друга, но быстро опомнился.
– Вряд ли это был Аарон, – помотал он головой. – Он же не дурак, чтобы возвращаться сюда.
Но как только Ренар скрылся из виду, Якоб, забыв о делах, поспешил домой.
– Где Наоми? – крикнул он, едва закрыв за собой дверь.
Сара сказала ему, что дочь недавно привела с прогулки младшего брата.
– Где она? – повторил он чуть спокойнее.
– Снова ушла. Ей захотелось купить ленты в той лавке на улице Сент-Оноре, куда она часто заглядывает. Скоро вернется.
Тогда Якоб взволнованным шепотом рассказал ей то, что услышал об Аароне от Ренара.
– Никому ни слова, – предупредил он Сару. – Об этом никто не должен знать. Иди скорее в лавку и разыщи Наоми. Потом возвращайтесь, я буду ждать вас возле дома.
А сам отправился седлать коня.
Но Сара не нашла Наоми. Менее чем через час Якоб уже был в пути. Он пересек реку, выехал на левый берег и пустил коня по улице Сен-Жак, бывшей дороге пилигримов, которая вела на юг. Если они двигаются в Савойю, то это самый короткий путь.
Сейчас, два дня спустя, он понял, что потерял ее. Хитро составленное письмо Наоми не оставляло никаких сомнений. Он долго смотрел на жемчужное покрывало тумана над Парижем. Утреннее солнце осветило башни Нотр-Дама, и они окрасились золотом.
Якоб перечитал письмо.
Оно не было длинным. Выразив в начале свою любовь к родителям, Наоми сообщала, что у нее есть для них новость, которая причинит им горе. Затем она благодарила отца за то, что тот нашел столько достойных женихов и позволил ей самой выбрать. Однако, признавалась она далее, сердце ее уже сделало выбор.
Я люблю другого человека. Это хороший юноша, но я знаю, что вы не согласились бы на наш брак, так как он беден. Родом он из Аквитании, где у его отца есть мельница. В Париж этот юноша прибыл в качестве слуги одного благородного человека. Но теперь он должен возвращаться на родину, и я еду с ним.
Я – его женщина. Мы поженимся, как только прибудем в его дом. Он обещал мне это.
Не пытайтесь выследить нас, мы уже далеко. Но когда мы поженимся, я опять напишу вам. А до тех пор прошу простить меня, дорогие родители.
Якоб не видел в письме ни одного промаха. На еврейского юношу Аарона в нем не было ни намека. Сын мельника мог быть только христианином. Конечно же, Якоб ни на миг не поверил в существование парня из Аквитании. Но у любого другого человека, который прочитает пергамент, не будет причин сомневаться. Все, что увидят посторонние люди, – это побег девушки с бедняком, с которым она уже жила во грехе. Да, она опозорила себя и семью. Такое случается.
Ничего не говорилось в письме и о Савойе, там был только ложный след, ведущий в Аквитанию.
Якоб спросил себя, не рано ли он оставил поиски, не слишком ли быстро отказался от шанса вернуть дочь. Что, если бы он нашел ее, привез домой, выдал замуж за одного из приличных молодых людей, которых подобрал для нее? Но нет, Якоб понимал, что все было бы бесполезно. Коли Наоми решила сбежать с Аароном, то ни за что бы не согласилась жить с христианином, даже если бы отец насильно потащил ее к алтарю.
Чтобы придать истории правдоподобия, скорее всего, придется сказать друзьям, будто Наоми сбежала, и отправиться в Аквитанию, где он, конечно же, ее не найдет. И никакого второго письма от дочери они не дождутся. Люди сделают вывод, что с ней и ее любовником что-то случилось в дороге или что юноша бросил ее, после чего она не решилась вернуться в родительский дом. Якоб извинится перед семьями, с которыми вел переговоры о возможном браке; даже покажет им письмо – все равно они обо всем узнают.
Предстояло перенести много стыда и неловкости. Но – да, думал он печально, это может сработать.
Еще целый час он ходил по своему саду, прикидывая в уме так и эдак, бросая иногда взгляд на лежащий внизу Париж. Туман незаметно рассеялся, из него вынырнули дома горожан.
Наконец Якоб решил, что пора возвращаться домой. По привычке он пошел тем же путем, которым всегда ходил с Наоми: вниз по склону и далее в город мимо мощной крепости тамплиеров. В низинах вдоль дороги все еще висели клочки тумана, но стены форта четко вырисовывались в утреннем воздухе.
Он был примерно в ста шагах от ворот Тампля, когда заметил толпу. Это показалось ему странным. Затем он различил блеск мечей и брони и увидел, что из ворот выезжает повозка.
Должно быть, тамплиеры собираются перевозить куда-то деньги, решил Якоб, продолжая шагать по тропе. Однако в кавалькаде было что-то неправильное, но что – он смог понять, только приблизившись еще на пятьдесят шагов. Всадники, окружавшие повозку, не были тамплиерами – это были воины короля. За повозкой шла еще одна группа людей, но те не были вооружены. Некоторые из них вообще были полураздеты. Уже подойдя почти вплотную, Якоб увидел, что они закованы в цепи. Лица некоторых показались ему знакомыми. И потом до него дошло.
Это были тамплиеры. Рыцари Храма. В цепях.
– Что происходит? – спросил он у одного из зевак возле ворот.
– Тамплиеров арестовали.
– Каких?
– Всех. Всех тамплиеров во Франции и во всем христианском мире, как я понимаю.
– По чьему повелению?
– По повелению короля. И папы римского. – Человек ухмыльнулся. – Нынче это одно и то же, не так ли, ведь папа принадлежит нашему королю. – Он, похоже, гордился тем, что Франция теперь контролирует главу Христианской церкви.
– В чем их обвиняют?
– Во всем! Им зачитали приговор менее часа назад. Ересь, поклонение идолам, магия, содомия… и все остальное, что только придет в голову. И все это правда!
– Ересь? Содомия?
Про тамплиеров, сидящих на несметных богатствах, в народе стали говорить, что они слишком хорошо едят и слишком много пьют. Якоб подозревал, что в большой степени эти слухи подпитывались завистью. И даже если бы это было правдой, ровно то же самое можно было сказать о доброй половине монахов-христиан. Но идолопоклонство? Магия? Эти обвинения были явно абсурдными. Любви к тамплиерам Якоб не испытывал, однако такая откровенная несправедливость возмутила его.
– Есть ли доказательства? – спросил он.
– Будут. – Его собеседник злорадно рассмеялся. – Инквизиция получит все необходимые доказательства. После пыток, само собой.
Тамплиеров будут пытать, как обычных преступников? Как еретиков?
– Они точно заговорят, стоит зажарить нескольких на костре, – с довольным видом предрекал незнакомец.
– Что же станет с их крепостями и богатствами? – вслух подумал Якоб.
– Все отойдет казне. С сегодняшнего утра они разорены. – Эта мысль доставила зеваке особенную радость. – Эти тамплиеры и их проклятые крестоносцы стоили нам кучу денег, а толку от них не было никакого! – Он пожал плечами. – Взять хотя бы Людовика Святого.
Добродетели Людовика IX произвели такое впечатление на Ватикан, что десять лет назад строителя церкви Сент-Шапель и сторонника инквизиции канонизировали.
– Он отправился в Крестовый поход, – продолжал зевака. – Попал в плен. И нам, народу Франции, пришлось платить за него выкуп. А ради чего, спрашивается? Он ничего не добился своей дурацкой войной, к тому же почти все его войско передохло от болезней. Да будут прокляты крестоносцы и тамплиеры, которые поддерживали их, – вот мое мнение.
Якоб знал, что большинство его сограждан согласились бы с этим приговором. Но ему было понятно, что за атакой на тамплиеров стоит более простая и жестокая правда. Запретив орден, король одним махом отменил все свои долги ему. Ересь, безнравственность и аресты были всего лишь прикрытием. Держа в кулаке папу римского и инквизицию, король Филипп Красивый мог без помех пытать и сжигать Бог весть сколько несчастных, добиваясь ложных свидетельств. В его распоряжении были все инструменты Святой церкви. И все ради чего? Чтобы завладеть богатствами тамплиеров и не возвращать им долги.
Изгнание евреев было ужасным деянием, но то, что король обратился против собственных воинов Христа, Якобу показалось верхом цинизма. Его презрение к монарху стало еще глубже.
В этом королевстве нет преданности, нет милосердия, нет желания знать истину, нет даже помыслов о правосудии. Нет уважения к Богу. В этом королевстве нет ничего.
Добравшись домой, Якоб поведал Саре об увиденном. Потом ушел в свою контору, запер дверь и не выходил целый день. Вечером к нему постучалась жена:
– Якоб, ты не хочешь чего-нибудь поесть?
– Я не голоден. – Его взгляд был направлен в стол.
Сара села на низкую деревянную табуретку, которую Якоб держал для посетителей. Она ничего не сказала больше, только положила ладонь на руку мужа.
– Наоми сказала, что не хочет жить в стране с таким королем, – спустя какое-то время заговорил Якоб. – И она осуждает меня за обращение в христианство.
– Она молода.
– Она права. – Он так и не оторвал взгляда от столешницы. – Не нужно было мне креститься.
– Ты поступил так, как считал необходимым.
– Знаешь… – теперь он поднял глаза на жену, – у меня нет никаких возражений против христианской доктрины любви. Она прекрасна. Я приемлю ее всей душой. – Он покачал головой. – Проблема с христианами в том, что они говорят одно, а делают совершенно другое.
– Король порочен. Церковь порочна. Нам это давно известно.
– Да, разумеется. – Он помолчал. – Но если порочны они, то порочен и я.
– И что ты мог сделать? Встать перед королем и проклясть его, как сделал пророк в древности?
– Да! – выкрикнул он с внезапной страстностью. – Да, вот что мне нужно было сделать, то же, что делали пророки моих праотцев в давние времена. – Он вскинул руки. – Да, это я должен был сделать… – И с этими словами он горестно поник.
– Ну а что теперь? – мягко спросила Сара.
Якоб медлил с ответом.
– Я не знаю, – наконец сказал он.
Через неделю об этом знал весь Париж. Красавица-дочка торговца Якоба сбежала с сыном бедного мельника. Это было унизительно. Его семья была опозорена. Но то, как повел себя Якоб в этой ситуации, вызвало уважение горожан.
Потому что торговец Якоб покидал Париж. Он, его жена и малолетний сын уезжали в Аквитанию, где, как полагали, укрылась молодая пара. Якоб не собирался возвращаться до тех пор, пока его дочь не будет обвенчана в церкви по всем правилам. После этого он надеялся вернуться с дочерью и ее мужем в Париж и, если молодой зять изъявит желание, продолжить торговое дело с ним на пару.
Не многие отцы поступили бы так же. Они бы отказались от дочери и забыли о ее существовании. Но Якоб выказал поистине христианский дух – к такому мнению пришли окружающие.
Больше всего в этой истории повезло сыну мельника, пересмеивались люди. За свои шалости он получит в невесты богатую наследницу.
– Если бы я знал, – шутил один из числа выбранных Якобом кандидатов на руку Наоми, – то сам сбежал бы с ней.
Якобу понадобилось десять дней, чтобы свернуть торговлю и привести все дела в порядок. Гильдия пожелала ему скорейшего возвращения. Королевская канцелярия выдала разрешение на проезд по стране и пожелала удачи.
В последнюю неделю октября в 1307 году от Рождества Христова Якоб-торговец сел в повозку и отправился в путь – по улице Сен-Жак, старой дороге пилигримов, которая вела вверх по склону холма мимо университета. У самых городских ворот он остановил лошадь.
– Обернись и посмотри еще раз на Париж, – сказал он сыну. – Скорее всего, я никогда больше не увижу его, но у тебя еще может быть такая возможность. В лучшие времена.
Через неделю они прибыли в Орлеан.
Два дня спустя они, вместо того чтобы двигаться дальше на юго-запад в сторону Аквитании, свернули на дорогу к востоку. Путешествуя то на юг, то на восток, они через две недели оказались в Бургундии. И затем ехали еще десять дней. Наконец, глядя на зарю, Якоб спросил сына:
– Что ты видишь там вдали?
– Я вижу горы, вершины которых покрыты снегом.
– Это горы Савойи.
Когда он доберется до них, то будет снова евреем.
И, чувствуя, как с его плеч падает огромный груз лжи и страха, он произнес слова, по которым так долго скучал:
– Внемли, Израиль! Господь – Бог наш, Господь – один!
Глава 7
На него разозлились все. Вдова Мишель перестала разговаривать с его родителями. Что же до Берты, то ее мыслей никто не знал.
Как Тома мог бы объяснить свой поступок? Ему совершенно не нравились ни Берта, ни лавка. Он мечтал только о том, чтобы строить башню месье Эйфеля. Если родители и понимали его желания, то не разделяли их. Мать ходила поджав губы, отец мрачно хмурился. В общем-то, основания для недовольства у них были: они надеялись, что настанет день, когда старший сын возьмет на себя заботу об их пропитании.
– Послушай-ка, – предложил ему как-то отец, – ты ведь можешь работать монтажником и жениться на Берте!
– Нет, не думаю, – твердо ответил Тома.
– За девушкой дают в приданое лавку, – прямо сказала мать, – это очевидно.
– Тебе просто придется найти себе другую богатую невесту, – со смехом предложил Люк, но его никто не слушал.
Обстановка в семье заставила Тома задуматься о том, чтобы хотя бы на время покинуть родительский кров.
– Я думаю, мне стоит подыскать жилье поближе к работе, – объявил Тома через неделю.
– Тебе до башни всего около часа быстрым шагом, – возразил отец.
– Нет, больше. И у нас длинный рабочий день. У месье Эйфеля есть меньше двух лет на строительство башни.
– Ты будешь платить чужим людям за жилье вместо того, чтобы приносить деньги в семью, – проговорила мать.
– Только пока я работаю за рекой.
Родители больше ничего не сказали. Тома вел себя как эгоист и понимал это.
Жилье он подыскал довольно легко.
Почти в каждом доме Парижа под крышей находились помещения для прислуги. Это могла быть как мансарда с окном, так и обшитая досками каморка размером со шкаф. Не занятые слугами помещения хозяева иногда сдавали беднякам.
Объявление в газете привело Тома к дому одинокого пожилого господина, который жил с единственным слугой прямо напротив строительной площадки, надо было только перейти реку. Старинная улица Помп, на которой стоял этот дом, шла в направлении авеню Виктора Гюго. Предъявив доказательства того, что его работодателем является сам знаменитый Эйфель, Тома сумел договориться об аренде крошечной комнатки со скрипящими полами на чердаке. В ней умещался матрас и даже имелось круглое оконце, за которым виднелись крыши соседних зданий. Хозяин просил символическую плату, а главное – от нового жилища Тома было рукой подать до моста Иена, который вел прямо на стройплощадку.
Поселившись там, Тома каждое воскресенье навещал родителей и всегда отдавал матери все свободные деньги.
Каждое утро, приходя на стройку, Тома ощущал прилив гордости. Как рассказывали газеты, всего три года назад в Америке воздвигли Монумент Вашингтона высотой сто шестьдесят девять метров, который стал высочайшим сооружением в мире, оставив позади египетские пирамиды и средневековые шпили Европы. Но башня месье Эйфеля не просто побьет рекорд. По высоте она вдвое превзойдет американский обелиск. Это будет триумф Франции.
Тем не менее на огромной стройплощадке было тихо и пустынно. Четыре мощные опоры башни казались руинами древней крепости. И когда из них стали расти сужающиеся кверху четырехгранные колонны, а монтажники приступили к высотным работам, пространство под ними почти всегда было безлюдно.
– Почему тут никого нет? – спросил однажды у Тома случайный посетитель.
– Потому что месье Эйфель – гений, – гордо ответил Тома. – На стройплощадке одновременно находится не более ста двадцати рабочих. Мы одни возводим башню.
Заготовки. Вот в чем был секрет.
На заводе изготавливали балки и предварительно соединяли их в секции по четыре с половиной метра и не более трех тонн весом. Каждый день огромные конные повозки привозили на площадку ровно столько секций, сколько требовалось на день работы. Большие паровые краны поднимали секции на нужную высоту, и под придирчивым надзором Жана Компаньона Тома и его товарищи – верхолазы, как они себя называли, – устанавливали их на место, забивая молотами раскаленные заклепки.
– Точность потрясающая, – рассказывал Тома своим родным. – Каждая деталь встает на место идеально, все отверстия для заклепок совпадают до миллиметра. Мне не приходится останавливаться в работе. – Он широко ухмыльнулся. – Башня растет не по дням, а по часам. А иначе нельзя, – добавил он. – Выставка открывается через восемнадцать месяцев.
Вскоре после начала работы на стройке он взял туда Люка и показал ему, как все организовано. На Люка новая работа брата произвела большое впечатление.
– А как ты переносишь высоту? – спросил он Тома.
– Отлично, – улыбнулся тот. – Никаких проблем.
Старшина верхолазов Жан Компаньон был крепким работягой, манерами напоминавший закаленного в битвах сержанта. Его зоркие глаза не упускали ничего. Но Эйфель и сам почти каждый день приходил на стройку. Тома не лез на глаза великому инженеру, чтобы не мешать, но если Эйфель замечал молодого рабочего, то неизменно кивал ему с дружеским видом.
Четыре огромные «лапы» башни росли вверх и к середине, так что создавалось впечатление, будто они являются углами гигантской пирамиды. День за днем поднимались все новые и новые балочные секции. К концу августа высота колонн составляла уже более двенадцати метров.
Однажды вечером, закончив работу, Тома оглядывал будущую башню.
– Ну, юный Гаскон, нравится вам работать верхолазом? – вдруг услышал он обращенный к нему вопрос.
– О да, месье Эйфель. Здесь все отлично организовано.
– Спасибо. – Инженер улыбнулся. – Я старался.
– Наверное, этот этап самый простой, – рискнул поделиться своими размышлениями Тома. – Вот когда мы поднимемся выше…
– Вовсе нет, молодой человек. Самое трудное – это то, что мы строим сейчас. – Эйфель обвел рукой четыре «лапы», склоненные к центру. – Эти колонны имеют наклон в сорок пять градусов. Вам ничего не кажется странным?
– Ну… – Тома не хотелось признаваться в том, что у него действительно были сомнения, однако знаменитый инженер ободряюще кивнул ему. – Разве они не упадут? – наконец осмелился он спросить.
– Вот именно. По моим подсчетам, они упадут десятого октября. А если быть еще точнее, упадут, когда достигнут высоты в двадцать восемь метров. – Он улыбнулся. – Но этого не случится, мой молодой друг, потому что мы соорудим для них большие деревянные опоры. Вы видели контрфорсные арки Нотр-Дама?
– Да, месье.
– Наши опоры будут похожи на те арки, только расположатся внутри колонн. Потом мы продолжим строительство до первой платформы, которая будет удерживать все четыре колонны. Это случится на высоте пятидесяти пяти метров. Конечно, придется установить под платформой леса, пока мы будем ее строить. – Он помолчал. – Все это будет непросто, уверяю вас.
– Понимаю, месье.
– Потом наступит черед одной очень важной операции. Мне нужно будет выровнять платформу, чтобы она была абсолютно горизонтальной. Как это сделать? Подтолкнуть ее?
– Не знаю, сударь.
– Тогда слушайте. – Эйфель показал на одну из четырех «лап». – Под каждым фундаментом устроена система поршней, управляемая с помощью воды под давлением, и она позволит мне с величайшей точностью регулировать высоту и угол колонны в трех измерениях. Горизонтальность платформы будут проверять геодезисты. – Улыбка инженера стала еще шире. – А потом я сам заберусь на платформу и проверю спиртовым уровнем.
– Понял, месье Эйфель.
– У вас есть еще вопросы?
– Да, один. – Тома посмотрел на большие краны, которые поднимали секции балок. – Эти краны пригодятся нам только до определенного момента, а башня-то гораздо выше. Когда высоты кранов перестанет хватать, что будет дальше?
– Браво, молодой человек! Отличный вопрос.
Тома, польщенный, вежливо ждал объяснения.
– Придет время – все сами увидите, – пообещал инженер.
Уже темнело, когда Тома перешел по мосту Иена на правый берег. Перед ним на склоне, спускающемся к воде, стоял необычный, в мавританском стиле, дворец Трокадеро – концертный зал, которой построили для предыдущей Всемирной выставки.
Шагая мимо экзотического дворца, Тома улыбался про себя, вспоминая беседу с Эйфелем. Через десять минут он уже был возле дома. Но ему хотелось есть, и поэтому он решил пройти по улице Помп еще несколько кварталов до пересечения ее с авеню Виктора Гюго. Там он знал небольшую закусочную, где подавали жареное мясо с фасолью. Он определенно заслужил сегодня хороший ужин.
Все еще в приподнятом настроении, он зашагал вперед. По правую руку от него потянулось ограждение лицея Жансон-де-Сайи, и при виде его Тома вспомнил забавную вещь.
Весь Париж знал историю нового и самого большого учебного заведения в городе, которое открылось на улице Помп. Богатый адвокат, чье имя носил лицей, в свое время обнаружил, что у его жены есть любовник, и нашел способ отомстить. Он лишил ее наследства и все свое состояние до последнего су завещал на строительство школы – только для мальчиков! Хотя лицей заработал совсем недавно, он уже стал очень популярным. Тома весело прикидывал, что сказала вдова по этому поводу.
Из некоторых окон лицея на улицу все еще лился свет газовых ламп. Судя по времени, там сейчас заканчивали работу поломойки. Когда Тома проходил мимо главного подъезда, свет погас. И он замедлил шаги.
Почему? Никаких причин останавливаться у него не было. Им двигало лишь праздное любопытство: захотелось посмотреть, как выйдут на улицу уборщики.
Через минуту они действительно вышли. Две женщины – одна пожилая, другая помоложе, понял Тома, хотя их лиц не разглядел в темноте. Та, что была старше, пересекла улицу, а вторая пошла по той же стороне, что и Тома. Он тоже прибавил шагу.
Тома поравнялся с девушкой, когда они проходили под фонарем у чьих-то ворот, и, обгоняя, бросил на нее взгляд. И чуть не упал.
Это была девушка с похорон. Прошло столько времени после их краткой встречи, что он почти забыл о ней, а когда вспоминал, то с трудом мог представить себе ее лицо. И тем не менее, увидев ее сейчас в тусклом свете фонаря, Тома не сомневался ни на миг: это была она. Надо же, он обыскал весь Париж, а нашел ее здесь, едва ли в двух километрах от того места, где впервые увидел.
Она опередила его на пару шагов. Тома снова догнал ее. Она сердито обернулась к нему:
– Ты преследуешь меня?
– Нет. Я шел по улице, когда ты вышла из лицея.
– Ну так и иди себе дальше.
– В таком случае ты будешь преследовать меня, – сострил Тома.
– Вряд ли.
– Я сделаю так, как ты захочешь, но сначала позволь сказать тебе кое-что. Мы уже встречались.
– Ничего подобного.
– Ты была на похоронах Виктора Гюго.
– И что? – Она пожала плечами.
– Ты стояла в первом ряду на Елисейских Полях. Солдат заставил тебя подвинуться. – Он помолчал, дожидаясь от нее реакции, но напрасно. – Ты помнишь человека, который висел на перилах ближайшего дома?
– Нет.
– Это был я.
– Понятия не имею, о чем ты говоришь. – Но по ее лицу было видно, что она припоминает. – Хотя… Да, был там один сумасшедший. Он говорил гадости людям, которые стояли перед ним.
– Точно. – Он улыбнулся и повторил: – Это был я.
– До чего неприятный тип. Отстань от меня.
– Я искал тебя.
– Значит, нашел, а теперь проваливай.
– Ты не понимаешь. Я приходил на то место на Елисейских Полях еще много недель. Ты туда больше не приходила?
– Нет.
– Потом я стал обходить весь Париж район за районом, больше года меня не оставляла надежда, что где-нибудь я увижу тебя. Иногда со мной ходил мой младший брат. Клянусь, все это правда. – (Она молча смотрела на него.) – Сейчас я работаю на месье Эйфеля, – с нескрываемой гордостью продолжал Тома. – Он знает меня.
– Ты часто мочишься на голову людям? – спросила она.
– Никогда. Честное слово!
– Нет. – Она опять посмотрела на него и мотнула головой. – Все-таки мне кажется, что ты сумасшедший.
– Там есть небольшая закусочная. – Он махнул рукой вперед. – Я собирался туда зайти и приглашаю тебя поужинать со мной. Это приличное заведение, тебе там понравится. Когда ты захочешь уйти, я не пойду за тобой следом.
– Ты действительно искал меня по всему Парижу? – Девушка заколебалась. – Целый год?
– Клянусь!
В закусочной от Тома не укрылось, что девушка оценивает его, но не подал виду, что замечает это. Они сели за деревянный столик.
Судя по всему, девушка была на пару лет его моложе, а веснушек у нее оказалось даже больше, чем ему помнилось. Карие глаза вблизи оказались многоцветными: Тома различал в них оттенок то зеленого, то голубого, а то и оба сразу. Широкий рот он хорошо запомнил по первой их встрече, а теперь буквально не мог оторвать взгляд от загадочно чувственных губ. И у нее были белые ровные зубы, чего раньше он не мог видеть.
Девушка сидела напротив него, слегка откинувшись на спинку стула, словно желая сохранить между ними дистанцию, и он не винил ее за это.
– Меня зовут Тома Гаскон, – представился он.
– Я Эдит.
– Ты родом из этого квартала?
– Мы всегда тут жили. Еще в те годы, когда это была всего лишь деревня.
– А я из Маки. Это на Монмартре.
– Никогда там не бывала.
– Неплохое место. Туда приходят, чтобы потанцевать и полюбоваться видами. Но так как наша фамилия – Гаскон, месье Эйфель предположил, что мы происходим из Гаскони.
– Похоже, ты очень уважаешь месье Эйфеля.
– Я работал над его статуей Свободы. Потом я заболел, но он запомнил меня и взял на строительство башни. Сегодня мы с ним беседовали.
– Значит, он ценит тебя.
– Я хороший работник. Вот почему он нанял меня. Для мужчины очень важно иметь ремесло.
– Мы с матерью убираем. И еще я помогаю своей тете Аделине. У нее очень хорошее положение. – Эдит помолчала. – Может быть, ее место когда-нибудь перейдет мне.
– Ты бы этого хотела?
– Еще бы! Она работает у месье Нея. Он стряпчий.
– О! – Для Тома это имя ничего не значило, но, по-видимому, стряпчий был столь же важен для Эдит, как Эйфель – для самого Тома.
Она выпила немного вина, но от еды отказалась, объяснив, что как раз направлялась к тете, которая наверняка захочет накормить племянницу.
Эдит задала Тома несколько вопросов о его работе и семье, а потом сказала, что ей пора идти.
– Надеюсь, что увижу тебя снова, – сказал он.
– Ты знаешь, где я работаю по вечерам. – Она пожала плечами.
– В летние месяцы мы заканчиваем работу поздно, – неуверенно произнес Тома.
– Мы круглый год работаем допоздна. – Эдит снова пожала плечами.
– Можно проводить тебя, чтобы убедиться, что с тобой ничего не случилось по пути к тете?
– Нет. – Она сделала движение, чтобы подняться, но остановилась. – Скажи мне, зачем ты потратил столько времени на то, чтобы найти меня?
Тома подумал, прежде чем ответить.
– Я скажу тебе, – наконец произнес он. – Но в следующий раз.
Она рассмеялась:
– Тогда, может быть, я никогда этого не узнаю!
Но неделю спустя они все же встретились, и на этот раз Эдит приняла приглашение Тома поесть в кафе, хотя заказала только блинчик.
– Ты ведь так и не ответил на мой вопрос, – заметила она в конце ужина.
– Почему я искал тебя? – Тома опять не спешил с ответом. – Потому что как только я увидел тебя, то сразу понял, что ты – та девушка, на которой я женюсь. Разумеется, сначала мне нужно было тебя найти.
Она воззрилась на него в изумлении:
– То есть ты привязал себя к перилам и пригрозил помочиться на головы невинных зевак, после чего заметил совершенно незнакомую тебе девушку и решил на ней жениться?
– Все так и было.
– Ты безумец. – Она потрясла головой. – Я ужинаю с сумасбродом. У тебя никаких шансов!
– Ты не можешь отказать мне.
– Еще как могу!
– Невозможно. Я еще не делал тебе предложения.
– Ох, ну ты и задница!
Однако на следующей неделе, увидев Тома, поджидающего ее вечером, Эдит сказала ему, что они могут погулять вместе в воскресенье днем.
– Жди меня перед дворцом Трокадеро в два, – сказала она.
В то сентябрьское воскресенье было тепло. Эдит надела светлое платье в полосочку с кушаком.
На холме чуть ниже мавританского дворца Трокадеро, смотрящего через реку на растущую башню Эйфеля, был разбит увеселительный сад, где среди других развлечений имелись две большие статуи – слона и носорога.
– Помню, как мой отец приводил меня сюда поглядеть на статуи, – сказала Эдит своему кавалеру. – Я тогда была совсем маленькой. Поэтому мне нравится иногда погулять здесь. – Она улыбнулась. – У меня остались хорошие воспоминания о тех временах.
– А твой отец… – начал было Тома, но Эдит остановила его.
– Вон там аквариум. – Она указала на длинное низкое здание. – Ты там когда-нибудь бывал?
Тома еще там не был, и пара провела следующие полчаса, с интересом разглядывая всевозможные морские существа. Юношу поразили и небольшой глубоководный черный кальмар, и экзотическая медуза с ядовитыми стрекательными клетками. Еще более удивительным созданием показался ему электрический угорь, который мог убить человека. Грозная мощь этого морского чудовища привлекла Тома, и он подозвал Эдит.
– Электрические угри даже опаснее акул! – восторженно поделился он с ней своим новым знанием.
Она вежливо посмотрела на угря, но ей больше понравились ярко окрашенные тропические рыбки.
Изучив обитателей аквариума, они вышли на улицу. Эдит повела кавалера в сторону улицы Помп.
– Когда моей матери было столько же, сколько сейчас мне, – заметила она, – этот район вообще не относился к Парижу. Это все было деревней Пасси.
– То же самое с Монмартром.
– А ты знаешь, – заявила она с гордостью, – что Бен Франклин, тот знаменитый американец, жил здесь недалеко?
– Надо же. – Тома слышал о Франклине, хотя не мог вспомнить, что именно. – Нет, этого я не знал.
– В западной части Пасси был небольшой дворец, где останавливалась Мария-Антуанетта. – Эдит глянула на парня. – Наверное, ты догадываешься, как я горжусь тем, что живу здесь.
– Да.
– И поэтому хочу показать тебе кое-что важное.
Они шли по улице Помп не сворачивая, пока не оказались в самой нижней ее части. Большинство домов стояло в окружении пышных садов. Часть резиденций, богато отделанных гранитом, относилась к постройкам последнего времени. Другие, более старые, не были такими претенциозными и являлись, по сути, загородными виллами, о чьем сельском прошлом свидетельствовали ставни на окнах и фруктовые деревья в садах. Эдит же остановилась у калитки, за которой виднелся двор с конюшнями и в глубине участка огород.
– Ты знаешь, кто здесь жил до революции?
– Конечно нет.
– Сам Шарль Фермьер.
Тома замялся. Ему не хотелось показаться невеждой. Эдит не спускала с него глаз.
– Так кто же такой был Шарль Фермьер? – хитро прищурилась она.
– Не знаю, – признался он.
– Это предок моего отца. – Она улыбнулась. – Он был фермером. Тут везде по большей части находились фермы.
– У него была своя земля?
– О нет. Почти вся деревня Пасси принадлежала нескольким крупным землевладельцам. Мой прадед арендовал участок. Но еще он держал стадо коров. С тех пор мы отсюда не уезжали. То есть… кроме моего отца. Мы даже не знаем, куда он подался… – От Тома не ускользнуло то, с какой грустью Эдит говорит об отце.
– Ваша семья продолжала жить фермерством?
– Мой дед был конюхом в шато на краю Пасси. Мой отец работал в доме одного торговца, пока все не бросил.
Они двинулись дальше по улице под красивыми каштанами. Вскоре они подошли к зданию, на чердаке которого поселился Тома.
– Вот здесь я снимаю комнату, – сказал он.
– Хорошее место.
Он подумал о крохотной каморке, где ему едва хватает пространства, чтобы вытянуть ноги.
– Неплохое, – сказал он. – К сожалению, хозяин не позволяет приводить женщин.
– Я приличная девушка и не пошла бы к тебе, даже если бы ты пригласил меня.
И они зашагали дальше.
«Я же получаю неплохие деньги у месье Эйфеля, – думал Тома. – Можно было бы снять комнату получше, если бы я не отдавал весь заработок матери…» С такой моральной дилеммой он раньше не сталкивался.
– А где ты живешь? – спросил он.
– Мать живет рядом с воротами Ля-Мюэт, – довольно расплывчато ответила Эдит, – тетя Аделина в противоположной стороне. Я ночую то у одной, то у другой.
Не доходя до лицея Жансон-де-Сайи, они повернули направо и вскоре оказались на торговой улочке, где нашли кафе, чтобы присесть и передохнуть. Эдит заказала чай и пирожное.
– Я хорошо провела день, – сказала она. – Но теперь мне пора идти к тете.
– К той, что работает на стряпчего?
– На месье Нея, – уточнила она почтительным тоном.
– Было бы интересно посмотреть на такую важную персону.
– Все, мне пора. – Эдит резко поднялась.
– Когда мы встретимся опять?
– Вечер среды подойдет.
Потом она ушла.
Так их свидания продолжались несколько недель. По средам Эдит убиралась с матерью в лицее, после чего они расставались, и Эдит шла ночевать к тете Аделине. Тома встречал ее, они заходили куда-нибудь и разговаривали. Потом она разрешала Тома проводить ее, но только часть пути, никогда до самого конца. По воскресеньям он навещал родителей, однако пропускал эти визиты, если Эдит соглашалась провести с ним выходной, и тогда они с удовольствием бродили по городу. Было ясно, что пока Эдит не хочет более близких отношений, и Тома соглашался подождать. Он полагал, что в ней говорит уместная в таких обстоятельствах осторожность. Но еще у Тома складывалось впечатление, будто в жизни Эдит есть стороны, которые пока оставались закрытыми для него.
В октябре Тома сделал для себя два открытия насчет башни Эйфеля, и оба были для него неожиданными.
Однажды утром он, как обычно, пришел на работу и увидел, что у одной из опорных колонн башни столпились люди. Это была бригада незнакомых ему работников, которые собирали какой-то большой агрегат под присмотром Жана Компаньона и самого Эйфеля.
Днем ранее Тома работал как раз на этой опоре, но Компаньон велел ему присоединиться к другой команде. К обеду новый механизм был собран, и Тома, поскорее покончив с едой, подошел поближе.
Эйфель заметил его и приветливо кивнул, продолжая говорить с теми, кто стоял вокруг него.
– Не так давно меня спросили, как мы будем поднимать секции, когда башня вырастет выше кранов. И вот, друзья мои, ответ на этот вопрос: с помощью ползучего крана! Он будет ездить по рельсам, проложенным внутри каждой опоры. А когда башня будет достроена, по тем же самым рельсам побегут лифты для посетителей – тех, которые не рискнут подниматься по ступеням. Поскольку опоры башни стоят под углом, краны и позднее лифты также будут двигаться под углом. Совсем как фуникулеры. – Эйфель был увлечен своей импровизированной лекцией. – Они будут сопровождать нас на всем протяжении строительства. Стрела крана выдвигается, цепляет секцию, и потом кран, так сказать, ползет вверх. А еще при необходимости кран может поворачиваться на триста шестьдесят градусов.
С того дня Тома работал на неуклонно растущих колоннах башни с помощью мобильного крана.
Второе открытие он сделал в самом конце октября.
На протяжении всего строительства Эйфель с особым рвением следил за мерами безопасности. Работа на высотных конструкциях опасна по своей сути. Среди строителей мостов и высоких сооружений считалось, что работа прошла успешно, если никто не получил тяжелой травмы. А в случае с башней Эйфеля небывалая высота неизбежно делала любое падение смертельным.
Поэтому Эйфель разработал сложную систему передвижных заграждений и страховочных сеток. Он ставил себе благородную и трудную цель – завершить строительство, не потеряв ни единого человека, – но был убежден, что она достижима, нужно лишь привлекать только опытных верхолазов и проявлять достаточно осторожности и внимания.
С первого дня Тома включили в одну из высотных бригад и больше никуда не переводили. С товарищами он поладил, и Жан Компаньон был, по-видимому, доволен их работой. Если бы что-то было не так, то старший мастер сразу бы дал им знать.
Однажды утром в одной из бригад не хватило человека, и Компаньон сказал Тома:
– Сегодня поработай с этими ребятами.
Тома поднялся с ними наверх, ничуть не встревоженный. Напротив, ему даже пришло в голову, что его специально пригласили, заметив, как ловко он управляется с молотом. Его бригада работала на внешней грани «лапы», а площадка этой команды была всего в нескольких метрах оттуда, но с внутренней стороны колонны. Работа, разумеется, была одинаковой. Оказавшись наверху, Тома обменялся приветственными взмахами со старыми товарищами, а потом перебрался на внутреннюю грань колонны, где ему предстояло в тот день трудиться, и случайно глянул вниз.
И оцепенел.
Спустя секунду он левой рукой уцепился за балку, нависающую у него над плечом, а правой нащупал опорную стойку позади себя и сжал с такой силой, что металлический край впился ему в плоть. Но Тома ничего не мог с собой поделать. Он не мог ослабить хватку. Ледяная паника сковала его, и вся сила словно утекла через ноги вниз. Он стоял там, неспособный двинуться ни вперед, ни назад, и едва дышал.
Тома Гаскон никогда раньше не испытывал паники. Ему не приходило в голову, что ощущения при работе на внутренней стороне колонны будут отличаться от тех, к которым он привык, заколачивая заклепки с внешней стороны. Но вчера под ним находилось переплетение балок. Сегодня же у него под ногами не было ничего, кроме сорока метров пустоты.
Он считал, что не боится высоты, поскольку мог стоять на холме и смотреть вниз. И к тому же сорок метров – это не так уж и высоко. Но сейчас он не стоял на холме, он словно ступил на канат.
А потом он осознал, что с земли на него смотрят двое. Месье Эйфель улыбался. Но орлиный взор Жана Компаньона не упускал ничего, и потому мастер был серьезен.
– В чем дело? – Его голос был резок. – Ты хочешь спуститься?
В этот миг Тома Гаскон понял, что может потерять любимую работу.
– Нет, нет! – выкрикнул он.
Едва понимая, как у него это получилось, зная только, что иначе нельзя, Тома заставил себя наклониться немного вперед и невероятным усилием воли оторвал левую руку от балки.
– Добрый день, месье, – отсалютовал он Эйфелю. – Я как раз жду, когда ваш ползучий кран привезет мне что-нибудь.
Он видел, как Эйфель кивнул ему с улыбкой, но Компаньон все еще буравил его подозрительным взглядом. Тома гадал, не заметил ли старший мастер побелевшие костяшки его правой руки, которой он по-прежнему сжимал металлическую стойку. Он осторожно повернулся и взглянул на одного из своих новых товарищей. И как только его глаза оторвались от зияющей пропасти под ногами, паника слегка отпустила. Рабочий тоже смотрел на него с любопытством, и потому Тома заставил себя улыбнуться.
– Когда я работал вместе с месье Эйфелем над статуей Свободы, он сказал мне, что она станет самым знаменитым его творением. А теперь он строит вот это. – Каким-то чудом он сумел отцепить руку от стойки и даже пожал плечами. – Когда мы закончим башню, надо будет спросить его, какое чудо он придумает в следующий раз.
Верхолазы рассмеялись. Тома почувствовал себя спокойнее. Весь день он периодически поглядывал вниз и постепенно приучил себя не бояться пустоты под ногами.
В первый после этого выходной он ходил на Монмартр к родителям, и Люк спросил его:
– Ну и как тебе – нравится работать на высоте?
– Очень нравится, – улыбнулся Тома.
К середине ноября он надумал предпринять более решительные действия.
– В воскресенье я собираюсь навестить свою семью, – сказал он Эдит. – Не хочешь сходить со мной? Заодно я мог бы показать тебе Монмартр.
– Это далеко. – Она задумчиво посмотрела на него.
– Да нет, не очень. Можно поехать на трамвае до Клиши, а там останется только взобраться на холм. – Он видел, что она колеблется. – Думаю, тебе стоит сходить со мной, если не будет дождя. А в непогоду все равно ничего не видно.
– Я бы хотела посмотреть на город сверху.
– Конечно! С холма открываются отличные виды. Надо будет пообедать с родителями, но потом мы сможем погулять. В ясный день даже в ноябре на улицы выходят рисовать художники.
– Ну хорошо, – сказала она.
Они сели на трамвай почти у самой Триумфальной арки. Поскольку определенных мест для посадки и высадки пассажиров у трамваев тогда не было, горожанам приходилось самим останавливать их. Вагоновожатые на взмахи и крики пешеходов реагировали избирательно: для почтенной старой дамы они могли придержать лошадей, а на бедно одетую молодежь, вроде Тома и Эдит, обычно и внимания не обращали. Когда они заскакивали в движущийся вагон, Эдит оступилась. Если бы Тома не успел схватить ее за руку, девушка могла бы упасть. Пользуясь случаем, он притянул ее к себе, и Эдит вроде была не против. Но через несколько мгновений она уже скромно сидела на скамье рядом с ним, а когда он рискнул положить ладонь ей на колено, Эдит мягко сняла ее.
На площади Клиши они соскочили с трамвая и двинулись вверх по склону холма. На пути к вершине Тома вел Эдит по самым живописным улочкам. Она заметила, что Монмартр напомнил ей Пасси в годы ее раннего детства, а от мельниц пришла в восторг. Но когда они начали спускаться с противоположной стороны холма в лабиринт трущоб Маки, Эдит стала менее разговорчивой и, как показалось Тома, задумчивой.
– Наш дом далеко не дворец, – сказал он.
– Да кто захотел бы жить во дворце? – пошутила она.
Наконец он подошли к дому, где жили Гасконы, и поднялись по лестнице. Их встретили родители, Люк и Николь. Все весьма удивились, что Тома привел с собой девушку, но он непринужденно заявил, что Эдит – его подруга из Пасси, которая никогда не бывала на Монмартре.
– Я предложил показать ей холм и пригласил сначала отобедать с нами. – Он повернулся к матери. – Ты не возражаешь?
– Конечно же нет! – Мать просияла улыбкой.
Нет такой французской семьи, в которой отказались бы накормить гостя. Но в душе Тома был рад, что случай пригласить Эдит выпал на воскресенье, а то всем еды могло не хватить.
– Вы ходили сегодня на мессу? – спросила мать Тома у гостьи.
– Да, мадам, – ответила Эдит. – Мы ходили вместе с матерью.
– Ты слышишь? – обратилась мадам Гаскон к дочери. – Может, и ты в следующее воскресенье сходишь со мной в церковь вместо того, чтобы валяться в кровати?
– Сегодня я не выспалась! – запротестовала Николь.
– Значит, вы из Пасси? – поддержал светский разговор старший Гаскон. – Красивый район.
– Раньше у нашей семьи там была ферма, – сказала Эдит, – но больше мы не занимаемся сельским хозяйством.
– Чем же вы занимаетесь? – поинтересовалась мать Тома.
– Я помогаю матери. Она уборщица в лицее Жансон-де-Сайи. Но еще я помогаю тете Аделине, которая работает у месье Нея. Он стряпчий. Это хорошее место, и я надеюсь в будущем получить его.
– Жансон-де-Сайи, – повторил месье Гаскон. – Я слышал, это очень модный лицей.
Тома видел, как его мать производит собственные расчеты. Николь в это время изучала блузку и юбку Эдит, не забыв посмотреть и на обувь. На его вкус, одевалась Эдит нормально. Что подумала на этот счет Николь, он не смог угадать. Судя же по выражению лица матери, она еще не вынесла окончательного решения, но большого впечатления девушка на нее не произвела.
– Я с этого года работаю горничной в доме одного доктора рядом с площадью Клиши, – сказала Николь.
– Должно быть, это неплохое место, – вежливо заметила Эдит.
– Да, ничего. – Николь пожала плечами.
На столе еды было в достатке: большое блюдо с фасолью и даже мясо. От Тома не укрылось, правда, что матери пришлось несколько сократить порции, чтобы хватило Эдит. На десерт подали фруктовый пирог. Тома был доволен, что по воскресеньям его семья обедает, как подобает солидным людям, – скорее всего, благодаря деньгам, которые он давал матери.
Застольная беседа продолжалась. Его мать узнала, что Эдит – единственный ребенок в семье. Люк внимательно наблюдал за гостьей и отмалчивался, что для него было нехарактерно. Эдит спросила, где он собирается работать, когда вырастет.
– На Монмартре, как и сейчас. А потом стану великим комиком и загребу кучу денег.
– Вот как!
– Это лучше, чем работать, – пояснил Люк.
– Он шутит, – вмешался Тома, хотя сам не был в этом уверен.
Чтобы поддержать разговор, Тома рассказал родственникам, как они с Эдит запрыгивали в трамвай и как она чуть не упала.
– Ах, – вздохнул его отец. – Тома строит сейчас эту огромную башню, и к нам приедут люди со всего света, чтобы посмотреть на нее. Но когда они увидят, как мы передвигаемся по городу, это будет позор.
– Почему? – спросила его жена.
– В Лондоне есть поезда на паровой тяге, которые возят пассажиров по всему городу. Многие такие поезда ездят под землей. А у нас в Париже еще нет ничего похожего.
– Между прочим, – подхватил Люк, – в Нью-Йорке уже ходят наземные поезда!
– Англичане и американцы могут делать что пожелают, – заявила Эдит, – но почему мы должны портить красоту Парижа сажей, паром и этими ужасными рельсами? Пусть те страны считают себя более современными, зато мы более культурные.
– Согласна, – одобрительно закивала мать Тома. – У нас гораздо больше культуры.
После обеда Тома и Эдит вышли на немощеные улицы Монмартра, и Тома повел девушку вверх по холму к кафе «Мулен де ла Галетт». Погода в тот день стояла ясная, но прохладная, поэтому народу было меньше, чем обычно по воскресеньям. Затем они обошли площадь, виды которой любили писать художники. Трое живописцев, что рискнули выйти в такой холод, закутались в шарфы и теплые пальто, но упрямо водили кисточками по холсту. Тома с Эдит несколько минут посмотрели на их картины, а потом пошли дальше, к строящейся базилике Сакре-Кёр. Каменные стены церкви заметно подрастали с течением времени, но пока видна была только гигантская система лесов и море грязи.
Но от строительной площадки по-прежнему открывался волшебный вид.
– Вон башни Нотр-Дама. – Тома горделиво знакомил Эдит с новой для нее панорамой Парижа: золотые купола Оперы всего в паре километров, Дом инвалидов чуть подальше. – А вон там… – он указал на участок правее Дома инвалидов, – взметнется в небо башня месье Эйфеля. – С улыбкой он заметил: – Я знаю, Маки – довольно примитивный район, но я обожаю Монмартр. В Париже нет ничего похожего на этот холм.
– Ты на самом деле гордишься башней, которую строишь?
– Конечно.
– Здорово.
Он отвез ее обратно в Пасси до наступления темноты. На авеню Виктора Гюго она поблагодарила Тома, позволила поцеловать себя в щеку и ушла. Ему казалось, что ей понравился день, но уверенности не было.
В следующее воскресенье Эдит была занята, и Тома отправился к родителям. Только в самом конце обеда мать заговорила на интересующую ее тему:
– Та девушка, которую ты приводил сюда… У тебя есть на нее планы?
– Не знаю, – сказал он. – Может быть.
– Ты мог бы найти себе кого-нибудь получше, – твердо заявила мать.
– Ты говоришь так только потому, что она не дочь вдовы Мишель, – пожал плечами Тома. Он глянул на отца, но тот избегал смотреть на сына, и Тома пришлось продолжить разговор с матерью: – Но вы же неплохо поладили.
– Ты мог бы найти себе кого-нибудь получше, – стояла на своем мать.
После еды он пошел погулять с Люком. Реакция родителей не стала для него полной неожиданностью: теперь любая невеста, за которой не дают мясную лавку, их не устроит. Но от Люка Тома надеялся услышать что-то более приятное.
Однако слова Люка застали его врасплох.
– Это та самая девушка, которую мы с тобой искали? – спросил младший брат.
– Да. Как ты догадался?
– Не знаю.
– Что ты о ней думаешь?
Люк помолчал. Потом его лицо погрустнело.
– Я ей не понравился, – сказал он наконец.
– С чего ты взял? Мне она ничего такого не говорила. Ни слова. Мне, наоборот, показалось, что ты ей очень понравился.
– Нет. – Но Люк только тряс головой. – Я точно тебе говорю. Я всегда чувствую такие вещи.
– Уверен, что ты ошибаешься, – сказал Тома.
Но он был озадачен.
Три дня спустя Эдит спросила его, будет ли у него возможность посетить вместе с ней ее мать и тетю в ближайшую субботу.
Они встретились после полудня: Эдит ждала его в начале авеню Виктора Гюго. Парочка пересекла просторную площадь вокруг Триумфальной арки и вышла на широкую авеню Гранд-Арме, ведущую на запад прямо к Елисейским Полям. Свернув на нее, они миновали несколько кварталов, повернули направо и прошли еще немного. Дома на этой улице, хоть и достаточно респектабельные, были какими-то серыми и закоптелыми и наводили на Тома уныние. В одном из таких домов, который стоял на углу и был немного больше остальных, помимо внушительного парадного входа, имелся также боковой проход, ведущий во внутренний дворик, защищенный от незваных гостей высокой железной оградой. В этом заборе имелась калитка. Эдит потянула за цепь колокольчика. Где-то внутри послышался тонкий резкий звон, и несколько мгновений спустя калитка открылась.
– Это моя мать, – сказала Эдит.
Сходство сразу бросалось в глаза: те же веснушки, тот же широкий рот. Но время безжалостно обошлось с матерью Эдит. Тома видел, что когда-то она была красива, но потом обрюзгла, а в последние годы перестала следить за собой. Волосы она красила хной, но недостаточно часто, судя по отросшим седым корням. Глаза, когда-то яркие, заплыли, исчерченная глубокими морщинами кожа шеи обвисла.
– Значит, вы тот молодой человек, который строит башню. – Она изобразила улыбку.
– Да, мадам, – вежливо ответил Тома.
Хозяйка провела их по узкому коридору в комнату. Там стоял диван с изогнутой спинкой, два парадных кресла и столик. Окно, обрамленное шторами из тяжелого дамаска, выходило во двор, но плотная кисейная занавеска едва пропускала свет.
– У моей золовки отличное положение, вы согласны?
Значит, тетя Аделина – сестра пропавшего отца Эдит, сообразил Тома.
– Прекрасное положение, мадам, – сказал он.
– Моя тетя – консьержка, – объяснила Эдит. – На самом деле она присматривает за всем домом.
– Это большой дом, – добавила ее мать. – И большая ответственность. Но Аделина создана для такой работы, это точно.
– И месье Ней тоже живет здесь? – проявил интерес Тома.
– Месье Ней владеет этим домом, – сообщила мать Эдит с гордым видом человека, который числит среди своих друзей богача. – Его контора находится в соседнем здании. И живет он тоже тут неподалеку вместе со своей дочерью.
– Его дочь зовут мадемуазель Ортанс, – добавила Эдит.
– Ах, мадемуазель Ортанс, – восхищенно протянула ее мать. – Однажды она составит блестящую партию. Это точно.
– Я бы хотела показать Тома дом, – сказала Эдит.
Ее мать глянула на буфет и кивнула:
– Если увидишь тетю, скажи, что мы ждем ее.
Вслед за Эдит Тома поднялся по узкой лестнице, затем прошел по коридору, который привел их в заднюю часть большого дома. С загадочной улыбкой Эдит распахнула еще одну дверь, и Тома оказался на просторной площадке, от которой к парадной двери спускалась широкая лестница.
– Красиво, – заметил он. – Вы когда-нибудь пользуетесь этим входом?
– О нет! Парадная дверь всегда заперта. Пойдем.
Эдит приблизилась к двери справа от лестницы, тихонько постучала и вошла.
Панели на стенах просторной комнаты местами потрескались, но в целом она производила великолепное впечатление. Над камином висела картина XVIII века – портрет аристократа с лицом, излучающим олимпийское спокойствие. Стены украшали цветные гравюры с придворными дамами. У окна стоял изящный письменный столик в стиле рококо и такой же стул. Справа от двери расположился большой гардероб орехового дерева. А напротив камина у противоположной стены стояла роскошная кровать XVIII века под пологом, на которой, подпертая подушками и валиками, сидела знатная дама в облаке кружев и читала томик в кожаном переплете.
– А, малышка Эдит, – сказала дама, чье лицо было бы копией безмятежного господина над камином, если бы не плохо подогнанные зубы из слоновой кости.
– Мадам Говри, позвольте представить вам моего друга Тома Гаскона, – почтительно произнесла Эдит. – Он работает на строительстве башни месье Эйфеля.
Мадам Говри посмотрела из-за книги на Тома.
– Как это печально, молодой человек, – сказала она весьма спокойным тоном. – Я видела в газетах изображения башни этого месье Эйфеля, кем бы он ни был. – Она выговорила имя инженера так, будто считала его непроизносимым. – Вам следует поискать другую работу.
– Вам не нравится башня, мадам? – осведомился Тома.
– Совершенно не нравится. – Она отложила книгу на покрывало. – Когда я думаю о том, что строила Франция в прошлом, о Лувре, например, или о Версале, и потом вижу чертежи этого отвратительного костыля, который наверняка заржавеет до того, как его достроят, вижу изображения этой варварской пошлости, которую собираются повесить в парижском небе, я спрашиваю себя: во что превратилась Франция? – Она снова взялась за книгу. – На вид вы приличный молодой человек, но вы позорите страну. Вы должны немедленно уйти со стройки.
– Благодарю вас, мадам, – сказал Тома, и они с Эдит удалились.
– Надеюсь, ты не обиделся, – хихикнула Эдит, как только дверь за ними закрылась.
– Конечно же нет. – Тома пожал плечами. – Так думает половина Парижа.
Действительно, в газетах каждую неделю появлялись статьи на эту тему, повторявшие примерно то же самое, что сказала старая дама.
– Знаю. Но она так красиво выражается. Мадам Говри – наша аристократка, – с гордостью сказала Эдит.
– Так что же это за место? Здесь живут старики?
– Да, это дом престарелых, но совершенно особенный. Месье Ней лично договаривается с каждым постояльцем. Некоторые платят ему, у других есть дом, или земля, или какой-то доход, и потом они переезжают сюда, и он все для них делает. Он юрист, поэтому всегда знает, как поступить.
– Сколько здесь постояльцев?
– Около тридцати.
– И все они остались без родственников?
– У некоторых есть родня. Но они все знают, что могут доверять месье Нею. Говорят, – продолжила она тише, – что одна старая дама была здесь так счастлива, что оставила ему все свое состояние.
Тома ничего не сказал.
Они заглянули еще в одну комнату, далеко не такую шикарную. Там в единственном кресле лицом к окну сидела старуха и, казалось, дремала.
– Мадам Ришар бывает очень несговорчивой. Моей тете приходится давать ей настойку опия.
В коридоре им встретилась невысокая полная женщина. Она была с головы до ног одета в черное, а ее пухлое лицо по форме напоминало шар. Тома предположил, что это и есть тетя Аделина.
– Марго, ты не видела мою тетю? – спросила Эдит у женщины.
– Нет, не видела, – певуче ответила та и сказала Тома, проплывая мимо: – Добрый день, месье.
– Это Марго, сиделка, – пояснила Эдит. – Наверное, тетя поднялась наверх.
До верхнего этажа они добрались по крутой и темной лестнице. В коридоре не было окон, и только в конце его через световой люк внутрь попадало немного дневного света. Эдит несколько раз позвала тетю, но ответа не получила. Она повернулась, чтобы спуститься снова на первый этаж. Тома тоже пошел за ней, но по дороге из любопытства открыл одну из дверей в коридоре.
Комната была практически голой. На окне, которое не мыли как минимум год, не было занавесок. Стены в углах покрылись пятнами сырости. Посреди комнаты стояла железная койка, выкрашенная в черный цвет; на ней, под красным одеялом, лежала костлявая старуха, похожая на выброшенные за ненадобностью садовые грабли. С края засаленного матраса свисали пряди ее седых волос. Она лежала неподвижно, и если и дышала, то беззвучно. Пол покрывала пыль, но даже мышь не нашла бы здесь и крошки съестного. Внимание Тома привлекла одна деталь. На стене прямо напротив кровати в тонкой металлической раме висела дешевая гравюра, изображающая Деву Марию с Младенцем; стекло поверх картины было отполировано до блеска.
– Тома, – окликнула его Эдит, – что ты там делаешь?
– Ничего, – сказал он и закрыл дверь. – Кто это там?
– Мадемуазель Бак. Она очень бедная. Пойдем.
Когда они вернулись в комнаты тети Аделины, указанная дама уже находилась там. Она смерила Тома оценивающим взглядом и, увидев, должно быть, все, что ей было нужно, пригласила его сесть. Сама же она подошла к буфету и достала бутылку сидра.
– Не желаете ли угоститься сладким сидром? – спросила она.
– Возможно, молодой человек предпочел бы коньяк, – с надеждой предложила мать Эдит.
– Нет, – твердо возразила ее золовка. – Сладкий сидр.
– Да, спасибо, – сказал Тома.
Тетя Аделина разлила сидр в стаканчики для всех присутствующих. На ней была накрахмаленная белая блуза и темно-синее платье, черные волосы стянуты в тугой узел на затылке. Из-под густых бровей внимательно смотрели большие темные глаза.
– Где вы живете, юноша? – спросила она.
– Я снимаю комнату на улице Помп, мадам. Но мои родители живут на Монмартре.
– Надеюсь, не в Маки.
– В Маки, мадам. Не беспокойтесь, они достойные люди, – добавил он. – Я старший сын, и родители проследили за тем, чтобы я окончил школу, а потом обучился ремеслу.
– Рада слышать.
– Вы давно управляете этим домом, мадам?
– Да. У меня очень ответственная работа.
– Это уж точно, – вставила мать Эдит, хотя тетя Аделина с неудовольствием отнеслась к ее участию в разговоре. – Месье Ней начинал с малого, знаете ли. Раньше у него было всего две комнатки в трущобах Бельвиля: одна для мадемуазель Бак, а вторая для вдовы, муж которой оставил ей в наследство неплохое дело – скобяную лавку. Но она не могла управлять им, просто понятия не имела, как быть. И месье Ней стал делать буквально все: вести торговлю, заботиться о ней самой. И когда она умерла, то все оставила ему. Так было положено начало его состоянию. Потом месье Ней переехал в жилище получше, около вокзала дю-Нор. И наконец – вот сюда. – Она удовлетворенно покивала. – Месье Ней крайне предан своим постояльцам. Он везде возит с собой мадемуазель Бак. Начинала она в трущобах Бельвиля, а теперь живет в большом доме рядом с Триумфальной аркой!
– Достаточно об этом, – попробовала остановить ее золовка.
– У него есть мозги, у нашего месье Нея, – продолжала тем не менее мать Эдит, весьма довольная собой и своей речью. – Я спросила его как-то, в чем секрет скобяной торговли, и знаете, что он мне ответил? «Оказывается, – сказал он, – это всего лишь гвозди». Представляете? Всего лишь гвозди!
На этом, похоже, ее разговорчивость иссякла. На лице тети Аделины отразилось облегчение. Тома же был бы не прочь послушать еще, ему было интересно.
– Хочешь, расскажу тебе кое-что про месье Нея? – предложила Эдит. – Ты же слышал о великом Нее, который был маршалом Наполеона?
– Конечно.
– Он и месье Ней родственники. Правда же, тетя Аделина?
– Я считаю это вполне вероятным. Месье Ней слишком скромен, чтобы говорить об этом.
– И у него тут неплохо поставлено дело, – сказал Тома.
Тетя Аделина взглянула на него с подозрением.
– Месье Ней необычайно добр, – сказала она с упреком. – Тому, кому повезло оказаться под его присмотром, больше никогда не придется ни о чем беспокоиться.
– Он ангел! – воскликнула мать Эдит, наконец-то верно угадав момент для реплики. – Просто ангел!
– И у него есть дочь, как я слышал.
– Правильно, – подтвердила тетя Аделина. – Мадемуазель Ортанс – прелестная девушка.
– Она богатая наследница и сможет найти себе достойную партию, – добавила мать Эдит.
– Несомненно.
Тома ожидал, не предложат ли хозяйки угощение, но пока об этом не было сказано ни слова, и он был в растерянности: что же ему теперь делать? Его сомнения были прерваны стуком калитки. Тетя Аделина удивленно прислушалась. В замке входной двери повернулся ключ.
– Должно быть, это месье Ней, – сказала она. – Обычно он приходит в другое время.
В коридоре послышались мягкие шаги, затем легкий стук в дверь, которую тетя Аделина торопливо отворила, и в комнату вошел владелец заведения. Эдит и Тома поднялись, а мать Эдит, неспособная встать достаточно быстро, подобострастным поклоном со стула выразила свое понимание того, сколь глубокого уважения достоин сей благодетель человечества.
Месье Фредерик Ней был обычным стряпчим чуть ниже среднего роста, но его внешность приобретала дополнительную значительность благодаря исключительной худобе, а также слишком вытянутому лицу, напомнившему Тома рыбину. Брюки он носил такие узкие, что они больше походили на чулки прошлого века. Пальто, надетое им в тот день, было темно-шоколадного цвета.
Он обвел взглядом всех собравшихся по очереди. Как будто некое шестое чувство подсказало ему, что в его владения вторгся чужак! Его глаза остановились на Тома.
– Добрый день, месье Ней, – проговорила Эдит с обаятельной улыбкой, и едва заметно изогнувшийся угол мясистых губ юриста показал, что девушка пользуется его расположением. – Позвольте представить вам моего друга Тома Гаскона. Он работает на башне месье Эйфеля.
Ней кивнул:
– Мои поздравления, юноша. – Он говорил так тихо, что Тома пришлось наклониться вперед, чтобы расслышать обращенные к нему слова. – Мнения о башне могут разниться, но я считаю, что мы не должны опасаться прогресса при условии, что традиции не забыты.
– Это точно, – вставила мать Эдит.
– Я уже познакомила Тома с мадам Говри, – сообщила Эдит. – Ей башня вообще не нравится, – добавила она со смехом.
И опять губы юриста дрогнули.
– У мадам Говри чудесная комната, – сказал Тома, надеясь произвести хорошее впечатление.
И очевидно, ему это удалось, потому что стряпчий вдруг оживился:
– Совершенно верно, юноша, и даме ее положения подобает проживать именно в такой обстановке. Все наши комнаты, смею надеяться, удовлетворительны, но комната мадам Говри – лучшая.
Тома понимал, что не следует этого говорить, но не устоял перед соблазном:
– Также я видел мадемуазель Бак. Ее помещение совсем не так хорошо.
С его стороны глупо было бросать вызов Нею, но если Тома ожидал, что тот смутится, то сильно недооценил стряпчего.
– Ах, бедняжка мадемуазель Бак, – сказал Ней, качая головой. – Она пришла ко мне много лет назад, почти без средств, но я принял ее. А теперь… – он печально улыбнулся, – я полностью содержу ее. – Он развел руками, словно говоря: что тут поделаешь?
– Истинный ангел, – пробормотала мать Эдит.
– И я уверена, что мадемуазель Бак благодарна вам, месье Ней, – произнесла тетя Аделина, – хоть она и не может выразить это словами.
– Я рад, что вы сказали это, – с чувством ответил ей месье Ней. – Рад, потому что превыше всего ценю в людях два качества. – Он обернулся к Тома. – Запоминайте, юноша, эта наука пригодится вам в жизни. Первое – это благодарность. И я надеюсь, что все постояльцы этого дома имеют основания быть благодарными.
– Нет ничего, что не сделал бы для них месье Ней, – запричитала мать Эдит. – Ничего!
– Я надеюсь, что обеспечиваю их всем необходимым и даже сверх того, если позволяют средства, – сказал Ней и затем опять обратился к Тома: – Второе качество, юноша, это преданность – такая, которую проявляет по отношению ко мне мадам Аделина. Благодарность и преданность. Вот что главное.
Тома заподозрил, что люди, не проявившие должной благодарности и преданности месье Нею, могут сильно пожалеть об этом.
– А вы благодарный и преданный человек? – неожиданно спросил у него Ней.
– Я благодарен месье Эйфелю за то, что он дал мне работу, – сказал Тома. – И я буду предан ему.
– Ну вот. Значит, мы единодушны в этом. – Окинув Тома стеклянным взором, Ней улыбнулся Эдит. – Замечательный молодой человек. – Затем он обратился к тете Аделине: – Вчера во время обхода меня вызвали по делу, если вы помните. Вот почему я вернулся сегодня: хочу увидеть тех трех или четырех постояльцев, которых вчера не успел навестить. Мадемуазель Бак, кстати, одна из них.
– Желаете, месье, чтобы я сопровождала вас? – спросила тетя Аделина.
– Нет. В этом нет нужды.
– Мадемуазель Бак не расстается со своей картиной с Девой и Младенцем, – сказала Эдит. – Марго протирает стекло всякий раз, когда заходит в комнату. Вы же знаете, как неподвижно всегда лежит мадемуазель Бак, но я вижу, что она смотрит на картину.
– Религия дает нам утешение, – сказала ее мать с видом умудренного годами человека.
– Верно, – сказал Ней, шагнув к двери.
Тома подумал, что теперь картина вряд ли долго провисит в комнате мадемуазель Бак.
– А как поживает мадемуазель Ортанс? – спросила мать Эдит у стряпчего.
– Хорошо, спасибо.
– Ах! – восторженно ахнула мать Эдит. – Эта девочка ничем не обделена: она и красавица, и такая добрая…
Месье Ней вышел.
Несколько минут прошло в несвязной беседе, пока наконец тетя Аделина не вынула серебряные часы на цепочке.
– Меня ждет работа, и Эдит надо будет помочь мне, – объявила она, взглянув на них.
Тома понял намек и поднялся со стула.
– Может, молодой человек захочет остаться и выпить со мной коньяка, – встрепенулась мать Эдит.
Тетя Аделина посмотрела на невестку так, будто та была старым дырявым судном, которое вдруг решило затонуть прямо посреди бухты.
– К сожалению, мадам, я должен идти, – солгал Тома.
Выйдя на улицу, он остановился. Никаких особых дел у него не было. До сумерек оставалось еще немного времени. Тома глянул наверх и почти не сомневался, что узнал большое окно комнаты мадам Говри. Что же до пыльной каморки мадемуазель Бак, то она находилась под самой крышей и с тротуара ее окна не было видно.
Если судить по внешности матери Эдит, то вряд ли они с дочкой жили в лучших условиях, чем мадемуазель Бак…
Он прошел под аркой и завернул за угол. Эта сторона здания, отмеченная лишь узкими окошками, заканчивалась ограждением внутреннего двора. Идя вдоль стены, Тома добрался до того окна, которое, по его расчетам, относилось к квартире тети Аделины. Оно было приоткрыто. Тома предположил, что это было окно кухни. В надежде услышать голос Эдит он сбавил шаг.
Но из окна донесся голос не Эдит, а тети Аделины:
– Ты же сама слышала, дорогая моя. То дурацкое замечание о мадемуазель Бак. Он намеренно хотел задеть месье Нея.
– Месье Ней назвал его замечательным, – возразила Эдит.
– Да. Он не хотел тебя огорчать. Но он был недоволен, уверяю тебя.
Эдит что-то ответила, но Тома не смог расслышать ее слова.
– Дитя мое, – снова заговорила тетя Аделина, – мне все равно, даже если бы молодой человек отправился искать тебя на Луну. У нас в семье уже есть один идиот. Прости меня, но это твоя мать. Двоих было бы слишком много. Давай больше не будем видеться с этим Тома Гасконом, хорошо? Ты можешь найти себе кого-нибудь получше.
Следующие три дня Тома провел в тревожном ожидании. Он верил в судьбу. Ну и что, если родителям не нравится его выбор? Все равно он хотел быть с Эдит. А как поведет себя девушка в такой же ситуации?
В среду вечером он ждал ее перед лицеем. Эдит с матерью вышли после работы на улицу, как обычно. Но сегодня они не разошлись, а вместе направились домой. Не желая встречаться с Эдит при матери, Тома держался позади. Если девушка и заметила его, то никак этого не показала. То же самое повторилось на следующий вечер.
В пятницу было холодно. В городе хозяйничал пронзительный восточный ветер. Он злобно свистел между балок строящейся башни, морозил руки Тома и змеей вился по бульварам, обрывая с деревьев пожухшую листву.
Работа заканчивалась с наступлением темноты, и как только Тома пересек реку, то первым делом нашел закусочную и заказал большую миску супа, чтобы согреться. Потом двинулся по улице Помп к своему жилищу. Когда он поравнялся с лицеем, там как раз погасили свет. Тома был решительно настроен поговорить с Эдит в этот вечер, независимо от того, расстанется она с матерью или нет. Но из ворот лицея девушка вышла одна. Он тут же приблизился к ней.
– А, это ты, – сказала она.
– Конечно я. А где твоя мать?
– Она сегодня заболела.
– Я провожу тебя.
Потом, когда они проходили мимо кафе, он заявил, что замерз и хочет погреться, и завел ее внутрь.
– Только на минутку, – попросила она.
Они сели за стол, и Тома заказал им по стакану вина.
– Хорошо, что мы встретились, – сказал он. – Мне было приятно познакомиться с твоей семьей.
– Угу.
– Что ты делаешь в это воскресенье?
– Наверное, буду ухаживать за мамой.
– Может, сумеешь отвлечься ненадолго? Погуляем часик.
Эдит колебалась.
– Вряд ли, – наконец ответила она. – Сейчас все так усложнилось…
– У тебя нет времени на меня?
– Пока нет. Извини.
– Ты хочешь встречаться со мной?
– Конечно, но…
Он понял. Он-то думал, что Эдит – та женщина, которая предназначена ему судьбой. Он искренне верил, что это так. Тем не менее оказалось, что его вера – всего лишь глупая иллюзия.
Этого достаточно, чтобы почувствовать себя несчастным. А если еще вспомнить, почему она отвергла его? Потому что он не понравился ее тете. Потому что тетя Аделина сочла его идиотом. Потому что он не выказал должного преклонения перед месье Неем. И к негодованию Тома примешивалась досада: тетка была права, не надо было высовываться с тем дурацким замечанием.
– Я не понравился твоей семье, – сказал он.
– Этого я не говорила.
– Нет, но это так. – (Эдит промолчала.) – Скажи мне, – спросил Тома, – ты собираешься всю жизнь прожить под башмаком у Нея?
– Моя тетя работает на него.
– Работает? Помогает красть деньги у беспомощных старух?
– Нет.
– Да! Вот чем занимается Ней. И если ты намерена заменить тетю Аделину, то будешь к этому причастна.
– Ты считаешь, будто все знаешь, но это не так.
– А ты считаешь, что он будет заботиться о тебе? Или о твоей тетке? Я скажу тебе, как она будет жить в старости: как мадемуазель Бак!
– Ты же ничего не понимаешь! – вдруг вскричала Эдит. – По крайней мере, у мадемуазель Бак есть крыша над головой!
– Да я бы трущобы предпочел такой крыше! – Тома пожал плечами.
– Похоже на то. Тетя права. Ты идиот. – Она поднялась. – Мне пора.
– Извини…
– Мне пора.
И Тома остался сидеть в кафе, злой и несчастный. Он не знал, что не прошла Эдит и двадцати метров по улице, как из ее глаз брызнули слезы.
Та зима долго тянулась для Тома Гаскона. Теперь он работал высоко над крышами Парижа, на холодной железной башне. День за днем он смотрел вниз на печальные голые деревья и серую воду Сены.
Работать стало труднее, чем на первых порах. Когда ползучий кран привозил к месту очередную секцию балок, на нее со всех сторон набрасывалась верхолазы. Секции приходили с завода, свинченные временными болтами, каждый из которых нужно было заменить заклепкой.
Для установления клепки требовалась бригада из четырех человек. Первый, обычно ученик, грел заклепку в жаровне, пока она не раскалялась добела и не расширялась. Второй монтажник в толстых кожаных перчатках щипцами брал заклепку и устанавливал ее в отверстия идеально выровненных балок или плит, которые требовалось скрепить, затем он подставлял тяжелый металлический блок, и первый из двух молотобойцев с помощью кувалды сплющивал заклепку с другой стороны, формируя широкую шляпку. И наконец второй молотобоец с более тяжелой кувалдой вбивал заклепку на место. Установленная деталь остывала и уменьшалась в размерах, тем самым стягивая металлические части все туже и туже. Полностью остывшая заклепка прижимала детали одну к другой с усилием в три-четыре тонны.
У каждой бригады был свой собственный ритм, и рабочие не глядя могли сказать, чей молот они слышат в тот или иной момент.
Труд был физически тяжелым и длился по восемь часов в день, невзирая на ветер, дождь или снег.
Тома был молотобойцем. Он предпочитал работать в перчатках без пальцев, а когда руки замерзали, грел их у жаровен, на которых раскаляли заклепки. Но ему пришлось сменить перчатки на кожаные, так что теперь у него часто немели от холода пальцы. А когда поднимался безжалостный ветер, Тома сравнивал себя с моряком на мачте во время бури.
Однако в январе его работа изменилась: бригады верхолазов начали сооружать массивную платформу первого уровня башни.
Поначалу Тома испытывал странные ощущения: как будто он мастерил стол и неожиданно передвинулся от вертикальных измерений ножек к горизонтальному простору столешницы.
– Мы как будто не башню строим, а дом, – заметил он как-то.
Да, это был дом в небе, огромный дом из металла. Платформа висела на высоте около шестидесяти метров. Под ней между «лапами» башни выросли леса: они напоминали дерево, ветви которого тянулись от мощного ствола к нижним краям платформы. Поэтому, если смотреть с платформы вниз, то взгляду открывалась все та же пустота, что и с балок опор. Однако Тома заметил, что, с тех пор как стала расти горизонтальная плоскость перекрытия, он все чаще забывал о том, что под его ногами зияет пропасть.
С технической точки зрения ему было нетрудно понять, что эта платформа связывает воедино четыре мощные колонны и одновременно служит основанием для второй части башни. И все же размах строительства поражал его воображение. Боковые галереи, с которых открывались чудесные виды на панораму Парижа, протянулись более чем на девяносто метров. На платформе хватало места для разнообразных помещений, включая большой ресторан.
И этот огромный кусок пустого пространства в раме из металлических балок был аккуратно установлен точно на место. Как и предсказывал Эйфель, задача эта была сложнейшая, и на ее выполнение ушло немало времени. Только в марте, когда инженер самолично убедился, что лежащий в основании башни четырехногий стол прочен и выровнен, он отдал приказ: «Двигайтесь вверх».
Но когда мобильные краны вновь поползли по опорам, Тома кое-что заметил.
У него складывалось впечатление, будто строительство башни запаздывает по срокам. Помощники Эйфеля порой приходили в раздражение. Тома видел, как они качают головой. Он был знаком с чертежами и знал, что массивные опоры башни должны быть оформлены изящными полукруглыми арками, проходящими по внешнему краю между землей и платформой. И тем не менее к концу апреля, хотя колонны из балок вздымались все выше в небо, нижняя часть башни оставалась незаконченной. Однако Эйфель всегда был спокоен и вежлив. Если он и тревожился о чем-то, то виду не подавал.
Только раз Тома видел, как Эйфель сердился. Это случилось в один из майских дней, в обеденный перерыв. Эйфель стоял в одиночестве у северо-западной «лапы» башни и читал газету. И вдруг Тома увидел, что инженер резко сложил газету и хлопнул ею себя по ноге. Заметив, что Тома наблюдает за ним, он подозвал молодого рабочего.
– Вы знаете, что рассердило меня, юный Гаскон? – Было очевидно, что великому строителю необходимо выговориться.
– Нет, месье.
– Им не нравится моя башня. Самые знаменитые граждане Франции ненавидят ее: Гарнье, который построил Парижскую оперу, писатель Мопассан, Дюма, чей отец написал «Трех мушкетеров». Против нее подписываются петиции. Вы знаете людей, которые плохо относятся к башне?
– Да, сударь. Мадам Говри де ла Тур сказала, что мне не следует работать на ее строительстве.
– Ну вот, только посмотрите. Они даже пытаются смутить умы моих рабочих. Однако статья в сегодняшней газете превзошла все, что говорилось обо мне и башне ранее. Тут написано, что она неприлична. Что она – не что иное, как гигантский фаллос, торчащий в небе.
Тома не знал, как на это реагировать, и потому только потряс головой.
– Что представляет самую большую опасность для высокого здания, а, юный Гаскон? Вы знаете?
– Его вес, я думаю.
– Нет. Он тоже проблема, но самое опасное все же – это ветер. Форма моей башни, то, как она строится, – все это из-за ветра, который иначе сломает ее. Ветер – вот причина. И ничто другое.
– Так вот почему она вся состоит из железных балок – чтобы ветер мог дуть сквозь нее?
– Прекрасно. Да, это называется открытая решетчатая конструкция, и ее преимущество в том, что ветер будет продувать ее насквозь, не создавая нагрузки. И, несмотря на тот факт, что башня сделана из стали, которая является прочным материалом, в целом строение на самом деле очень легкое. Если поместить башню в цилиндрическую коробку – наподобие тех, в каких иногда продают бутылки вина, – то воздух, содержащийся в коробке, будет тяжелее, чем сама металлическая башня. Невероятно, но это так.
– Ни за что бы не поверил! – признался Тома.
– Но суть даже не в этом. Форма башни, ее изгиб – все просчитано математически. Внутренние напряжения конструкции точно уравниваются ветровыми нагрузками, с любой стороны. Вот чем объясняется ее форма. – Эйфель всплеснул руками. – Искусство и литература стоят на вершине развития человеческого духа. Но слишком часто те, кто занимается ими, слабо разбираются в математике и совсем ничего не понимают в технике. Они видят фаллос своим поверхностным взглядом и думают, будто что-то поняли. Но ничего подобного. Они не представляют, как устроен мир, какова его структура. Они не способны воспринять ту истину, что моя башня выражает математические уравнения и конструктивную простоту, куда более прекрасную, чем они могут себе представить.
Эйфель раздраженно уставился на смятую в кулаке газету.
– Да, месье, – согласился Тома, рассудив, что хоть ему также недоступна математика башни, по крайней мере, он ее строит.
– Вам лучше вернуться к работе, – сказал Эйфель. – Если вы все-таки опоздаете, то передайте Компаньону, что это моя вина и я прошу у него прощения. – И добавил себе под нос: – Да я и сам не хочу, чтобы строительство замедлилось еще сильнее…
До своего места Тома добрался с опозданием на минуту. Увидев Жана Компаньона, он стал оправдываться, но старший мастер отмахнулся от него:
– Да, да, я видел тебя с Эйфелем. Он любит поговорить с тобой. Бог весть почему, – недоуменно добавил он.
С того дня в ноябре Тома почти не встречался с Эдит. Однажды в декабре и еще раз в начале года он дожидался ее у лицея, но оба раза девушка давала понять, что больше не хочет его видеть. После этого он старался обходить лицей стороной, и, хотя порой он случайно замечал Эдит в Пасси, они больше не общались.
Так как все воскресенья Тома опять проводил с семьей, родители догадались, что его отношения с Эдит прервались. Но никто ничего не сказал. Только Люк однажды спросил брата, что с ней случилось, и Тома ответил, что все кончено.
– Тебе грустно? – поинтересовался Люк.
– Гм… – Тома замялся. – Просто у нас не сложилось.
Больше Люк ни о чем не расспрашивал.
Когда настала весна, Тома стал подумывать о том, чтобы найти новую подругу. Но пока ему не попадалась на глаза такая девушка, которая бы понравилась. Да и на поиски не было ни времени, ни сил.
В мае и июне скорость работ на башне выросла. Теперь верхолазы трудились по двенадцать часов в день. Под нижней платформой появилась большая арка, и леса в центральной части башни убрали.
И внезапно башня приобрела величавый вид. Четыре длинные угловые колонны взметнулись по дуге в небо, и настал черед второй платформы. На высоте сто пятьдесят метров она должна была сформировать второй четырехногий стол поверх первого. А еще выше башне предстояло взвиться цельной, все более сужающейся стрелой до головокружительных высот. К сооружению второй платформы приступили уже в июне.
И наступил этот этап как нельзя кстати. Потому что приближалось четырнадцатое июля.
День взятия Бастилии.
До чего же удачно сложилось для последующих поколений, что, когда в 1789 году оборванные санкюлоты пошли штурмом на старую крепость и ознаменовали тем самым начало Великой французской революции, на дворе стоял теплый летний день. Идеальное время для национального праздника, парадов и фейерверков.
– Четырнадцатого числа месье Эйфель организует празднование на башне, – сказал Тома Люку. – Хочешь пойти?
В тот день было тепло и солнечно. Братья шагали по мосту Иена, и Тома поглядывал на Люка не без гордости.
Младшему брату уже исполнилось четырнадцать лет. Его лицо окончательно сформировалось, темные волосы красивой волной падали на лоб, и клиенты в кафе «Мулен де ла Галетт», где он подрабатывал мальчиком на побегушках, часто принимали его за итальянца. И правда, годы, проведенные при кафе, наделили сообразительного подростка обходительными манерами и бойкостью, на которые старший брат мог лишь дивиться. В честь торжественного события Люк надел белую рубашку без куртки и соломенную шляпу.
К моменту их прибытия вокруг строящейся башни уже ходили толпы. Нижние части конструкции украсили полотнищами трех цветов: красного, синего и белого, что символизировало национальный триколор. Неподалеку установили палатку с напитками; одетый в униформу оркестр помогал создать праздничное настроение.
Что бы ни писали газеты об уродстве башни, уже сейчас было очевидно, что огромная двухуровневая арка, выстроенная между двух опор, станет впечатляющим входом на Всемирную выставку будущего года. Только что завершенная на высоте ста пятнадцати метров вторая платформа была лишь на четверть ниже Нотр-Дама и ростом не уступала большинству европейских соборов.
На праздник пришли представители разных слоев населения, в том числе и самые богатые и знаменитые люди Парижа. Тома и Люк встали рядом с палаткой, где продавались напитки.
– Я представлю тебя месье Эйфелю, – пообещал Тома брату, – если он будет проходить мимо.
Они не простояли и пяти минут, как Люк вдруг потянул его за руку:
– Смотри, вон там!
Тома повернул голову в указанном направлении, но никого из знакомых в толпе не нашел.
– Вон там! – Люк показывал на группку хорошо одетых людей. И тогда Тома увидел.
Там стояла Эдит. На ней было белое платье – должно быть, чей-то подарок, потому что сама она не смогла бы позволить себе такой наряд, – и маленький чепец. Выглядела она очаровательно. Рядом с ней стояли месье Ней и бледная девица лет тридцати – вероятно, дочь стряпчего.
– Я пойду и поздороваюсь с ней, – сказал Люк.
– Нет, что ты, она же с месье Неем! – воскликнул Тома.
Но Люк уже шел к Эдит.
Тома в растерянности наблюдал, как брат ловко снял канотье и поклонился девушке. Она что-то сказала Нею, после чего Люк поклонился стряпчему и его дочери. Затем произнес что-то, и все повернулись и посмотрели на Тома. Люк улыбался и жестами приглашал брата подойти.
Приблизившись, Тома сначала вежливо улыбнулся Эдит и с особой почтительностью поклонился Нею:
– Это большая честь для меня, месье, что вы пришли посмотреть на башню, которую я строю.
– Я рассказал месье Нею, что ты пообещал познакомить меня с месье Эйфелем, если выдастся удобный случай, – сказал Люк. – И месье Ней выразил надежду, что у тебя будет возможность представить также и его.
Самоуверенность младшего брата ошарашила Тома. Чтобы он, скромный рабочий, представил богатого юриста великому инженеру? Но еще больше его поразило то, что Ней благосклонно улыбался Люку. Видать, обаятельному мальчику в канотье прощались такие вещи, которые Тома не позволялись.
– Разумеется, месье, – пробормотал он, не представляя, как ему это сделать.
– Вы знакомы с моей дочерью, мадемуазель Ортанс? – спросил стряпчий.
– Мадемуазель. – Тома снова поклонился.
Фамильное сходство бросалось в глаза: то же длинное бледное лицо, тощее тело, пухлые губы. Удивительно, но в женском варианте такое сочетание показалось Тома чувственным. Свое впечатление он никак не проявил, но все же подозревал, что от мадемуазель Ортанс оно не укрылось. Одета она была в бледно-серое платье. Тома пришло в голову, что белое платье, в котором красовалась сегодня Эдит, могло быть одним из старых нарядов дочки стряпчего. Мадемуазель Ортанс не улыбалась, а смотрела на него с прохладной вежливостью.
– Чем же занимаетесь вы, юноша? – Ней повернулся к Люку.
– По большей части я работаю в ресторане «Мулен де ла Галетт» на Монмартре, месье. А также выполняю поручения и оказываю услуги.
– Какого рода услуги?
Люк улыбнулся и выдержал небольшую паузу.
– Это зависит от того, о чем меня попросят, месье, – ответил он негромко.
Юрист внимательно посмотрел на Люка, и Тома показалось, что Ней и его маленький брат прекрасно поняли друг друга, но как это у них получилось и о чем вообще речь, для Тома было непостижимо.
Он еще не сказал Эдит ни слова и обернулся, чтобы исправить это, но не успел, так как Люк ткнул его локтем в бок.
– Вон идет месье Эйфель, – прошептал мальчик.
Действительно, тот шагал всего в нескольких метрах от них. Тома сделал глубокий вдох и поспешил вдогонку.
– А, юный Гаскон. Надеюсь, вам нравится праздник.
Эйфель говорил дружелюбным тоном, но почти не замедлил шага, давая понять, что торопится. Тома нельзя было терять ни секунды.
– Месье, со мной пришел мой брат, а еще один известный юрист, с которым нам посчастливилось познакомиться. Он просил меня представить его вам. – Тома умоляюще посмотрел на Эйфеля. – Юриста зовут Ней. Я всего лишь рабочий, месье, и не знаю, как это сделать. – Он показал Эйфелю Нея.
Эйфелю хватило одного взгляда, чтобы понять: этот человек может оказаться полезным. Кроме того, своей главной задачей в тот день инженер считал общение с гостями. Положив ладонь на плечо Тома самым непринужденным образом, он подошел вместе с ним к Неям.
– Месье Ней, полагаю. Я Гюстав Эйфель, к вашим услугам.
– Месье Эйфель, позвольте представить вам мою дочь Ортанс.
Знаменитый инженер склонился перед девушкой.
– Месье Гаскон работал со мной еще с того времени, когда мы сооружали статую Свободы, – светским тоном произнес Эйфель. – Мы с ним старые друзья.
– А это мадемуазель Фермьер, – заговорил в ответ Ней, – чья тетя является моим самым верным помощником.
Эйфель поклонился и Эдит.
– Могу я спросить, не приходитесь ли вы родственниками великому маршалу Нею? – задал вопрос Эйфель.
– Это другая ветвь, но род один и тот же, – сказал стряпчий.
– Должно быть, вы гордитесь таким родственником, – предположил Эйфель.
– О да, месье. Его казнь стала пятном на чести Франции. Каждый год я прихожу на его могилу и возлагаю венок.
После падения великого Наполеона роялисты приговорили маршала Нея к смертной казни. Он смело встал перед расстрельной командой и заметил, что не понимает, почему командование французскими войсками в сражении против врагов Франции было признано преступлением. Большинство французов согласились с этим, и потому его со всеми почестями похоронили на кладбище Пер-Лашез.
Беседа коснулась темпов строительства башни. Эйфель сказал, что надеется приветствовать юриста с дочерью на ее вершине после завершения. И, уже намереваясь отойти, инженер заметил Люка:
– Вы ведь брат этого героя, не так ли? Я помню тот день, когда вы пропали и ваш брат отправился вас искать. – Он снова положил руку на плечо Тома. – Он надежный человек. Надеюсь, вы цените его по достоинству.
– О да, месье, – с готовностью согласился Люк.
После прощания с Эйфелем Ней сказал, что они тоже собираются уходить. Но было очевидно, что он весьма доволен услугой, которую оказал ему Тома Гаскон.
– Возможно, мы скоро увидим вас вновь, – кивнул ему стряпчий. – И вас тоже, мой юный друг, – добавил он, обращаясь к Люку.
За все время Эдит не произнесла ни слова.
– Ты прекрасно сегодня выглядишь, – сказал ей Тома. – Надеюсь, твоя мать и тетя тоже в добром здравии. – Удостоившись от нее кивка, он продолжил: – Пожалуйста, передай им мое почтение.
Ему показалось, что при этих словах Эдит улыбнулась ему.
Братья пробыли у башни до самого вечера. Тома познакомил младшего брата со своими товарищами-верхолазами, потом они послушали, как играет оркестр. На вечер Эйфель обещал большой фейерверк с верхней платформы. Но до этого Тома и Люк перешли реку и устроились в кафе перекусить.
– Я думаю, что если ты попросишь Эдит, то она согласится снова с тобой встречаться, – сказал Люк, когда с едой было покончено.
– Почему ты помогаешь мне с Эдит, – спросил Тома, задумчиво посмотрев на брата, – если считаешь, будто она к тебе не очень хорошо относится?
– Потому что мне кажется, что без нее ты несчастлив.
На душе у Тома потеплело от этого проявления братской любви.
– Ты хороший парень, ты знаешь это? – Он шутливо ткнул Люка в плечо.
– Я? – Люк обдумал слова старшего брата и мотнул головой. – Вряд ли.
– А я думаю, что хороший.
– Нет, я не хороший. На самом деле, – добавил он, – я даже не хочу быть хорошим.
– Я не понимаю тебя, братишка. – Тома взял со стола бокал вина.
– Знаю, – сказал Люк. – Так ты встретишься с Эдит?
В конце июля горожане начали замечать: с башней Эйфеля что-то не в порядке. Весь Париж знал, что ее должны закончить через восемь месяцев. За это время ей предстояло подняться еще на сто восемьдесят метров. Тем не менее люди, день за днем глядя на огромный обрубок, видели, что он практически не растет. Поползли слухи. Стали поговаривать, что великий инженер столкнулся с технической проблемой. После стольких трудов и разговоров не начнется ли весной Всемирная выставка под недостроенным обрубком? Не станет ли Франция посмешищем?
Разумеется, беспокоился и молодой Тома Гаскон.
Но все же, несмотря на уважение к башне и ее проектировщику, бывали моменты, когда ему было все равно, достроят ее или нет. У него имелись другие заботы.
В первое воскресенье августа он и Эдит встретились, чтобы вместе провести день. На свидание она должна была прийти от своей тети, поэтому они договорились, что будут ждать друг друга на углу авеню Гранд-Арме. Широкая лента Елисейских Полей, устремляясь от Триумфальной арки дальше на восток, выходила к старой разросшейся деревне Нейи и заканчивалась у необъятного Булонского леса.
День был жаркий. В такую погоду нет ничего лучше, чем побродить по лесопарку.
Когда Наполеон III и Осман прибыли к старинным охотничьим угодьям на западной окраине города, они точно знали, что делать.
– Я хочу что-то вроде Гайд-парка в Лондоне, – сказал Наполеон III, – только больше и лучше.
Само собой.
Булонский лес значительно больше, чем тот английский парк. В его южной части построили прекрасный ипподром Лоншан, к которому вела длинная и величавая авеню. Подобно Шантийи к северу от Парижа и Довилю на нормандском побережье, этот ипподром предлагал самые фешенебельные скачки в мире. Если в Гайд-парке было озеро Серпентайн, то в Булонском лесу имелось целых два искусственных озера, соединенные водопадом. Среди деревьев проложили десятки километров восхитительных аллей. Детский зверинец в северо-западном углу леса превратили в антропологический тематический парк, где можно было посмотреть образцы культуры и быта далеких стран.
Оттуда они и начали свой путь.
Когда они прошли через турникет, в зверинце было уже оживленно. Там гуляли семьи с детьми в матросских костюмчиках и муслиновых платьицах, мелкие клерки и лавочники, а также простые пролетарии вроде Тома и Эдит.
Девушка надела на прогулку синее с белым платье, а к нему шляпку с лентой. В руках она вертела зонтик. Тома догадался, что шляпка и зонт достались ей от мадемуазель Ортанс. В результате складывалось впечатление, будто Эдит принадлежит к более высокому классу, чем на самом деле. Но Тома часто замечал, что женщины имеют склонность одеваться лучше, чем их спутники-мужчины. Его собственная короткая куртка была достаточно чистой, но вот ботинки не блестели и до того, как на них осел толстый слой пыли. Неожиданно для себя он задумался, как оделся бы для подобной встречи с девушкой его младший брат.
Эдит зверинец понравился. В нем был небольшой восточный храм и несколько необычных животных. А еще там отгородили большую площадку, где готовилась новая экспозиция. Тома с Эдит подошли к служителю зверинца и спросили его, что там будет.
– А, – ответил он, покручивая кончик усов, – это для выставки. Для Всемирной выставки, которая начнется в следующем году. Это будет самая большая экспозиция из всех, что мы тут устраивали. Целая деревня.
– Что за деревня? – хотела знать Эдит.
– Африканская. С настоящими хижинами и всем остальным.
– И там будут жители? – спросил Тома.
– Ну конечно же. Нам привезут четыре сотни негров. На прошлой выставке, в семьдесят седьмом, – продолжал смотритель с энтузиазмом, – мы показывали нубийцев и индейцев инуитов.
– Это такой зоопарк? – спросила Эдит.
– Само собой, зоопарк. Человеческий зоопарк. И вы знаете, посмотреть на наши выставки явился целый миллион человек! Подумайте только – миллион!
Тома слышал о человеческих зоопарках, как назывались подобные выставки, их устраивали не только во Франции, но и в других странах. Однако масштаб зоопарка, который собирались открыть будущей весной, потрясал воображение.
– Он посоперничает с Буффало Биллом и его индейцами! – гордо провозгласил смотритель.
Когда они покинули зверинец и двинулись по одной из аллей Булонского леса, Эдит повернулась к Тома:
– Ты сводишь меня на представление Буффало Билла, когда он приедет?
– Конечно, – сказал Тома.
Он отметил про себя эту просьбу. Через неделю после Дня взятия Бастилии Тома ждал Эдит возле лицея, не зная, чего ожидать. Девушка вела себя настороженно и сказала, что не сможет увидеться с ним до начала августа, но, по крайней мере, не отказалась встречаться вообще. И вот теперь, проведя всего один час в его обществе, она пожелала сходить с ним на представление, которое состоится следующим летом.
Она изменила свое мнение о нем? Потому что месье Ней дал ей понять, что одобряет ее встречи с Тома? Или потому, что она скучала без него? Что ж, думал Тома, придется подождать и посмотреть. А пока он был доволен.
Его мучили сомнения: можно ли обнять Эдит за талию? Но, посмотрев на ее красивую шляпку и зонт, он решил, что не стоит. Во всяком случае, не сейчас.
Они вышли на «благородную» авеню. Сюда приезжали в каретах светские модные дамы, чтобы покрасоваться на публике, а богатые поклонники и офицеры сопровождали их верхом. Тома задумался: как живут люди, которым не нужно каждый день работать? Но оказалось, ему даже не представить, что это может быть за жизнь.
Зато он знал, как обращаться с девушкой в летний воскресный день, и вскоре они подошли к верхнему из двух озер.
Довольно большое озеро обрамляли деревья. Посреди него лежал остров с кафе и рестораном в здании, стилизованном под швейцарское шале. Не верилось, что это уютное и романтичное место находится рядом с центром Парижа.
Тома повел Эдит прямо к пристани. Через несколько минут они уже оказались на воде: Эдит изящно уселась на корму и раскрыла над головой зонтик, а Тома мужественно взялся за весла.
За всю жизнь ему доводилось грести всего раз или два, но он очень старался и обрызгал Эдит только пару раз, что было встречено смехом. Поскольку день был жаркий, Тома снял куртку и закатал рукава рубашки – и почувствовал себя гораздо свободнее.
По озеру плавало множество других лодок. Гребли в основном мужчины, и некоторые из них тоже сняли куртки. К удивлению Тома, несколькими лодками управляли хорошо одетые женщины, которые от души веселились, соревнуясь с мужчинами.
Покатавшись по озеру около часа, он причалил к острову и в швейцарском шале угостил Эдит мороженым.
Когда они снова вернулись к лодке, Эдит сказала, что хотела бы сесть на весла.
– Ты раньше уже пробовала грести? – поинтересовался Тома.
– Нет, но я смотрела, как ты это делаешь.
Он помог ей сойти в лодку и тоже шагнул туда, но суденышко качнулось, и Эдит потеряла равновесие. К счастью, Тома успел поймать ее и не дать упасть, иначе она могла бы разбить голову о край сиденья. Сам он ушиб ногу, но это была невысокая цена за то, что последовало. Обхватив Эдит, он вместе с ней упал на дно лодки: Тома внизу, а Эдит сверху. На пару секунд они замерли; он чувствовал, как она всем телом прижимается к нему; его руки обвивали ее за талию. Она смотрела ему в глаза, и он чуть не поцеловал ее в губы.
– Ну помоги же мне встать, глупый! – проговорила Эдит, но при этом смеялась от удовольствия.
Потом Эдит гребла, направляя лодку к берегу. Несколько раз она окатила Тома водой, и он был уверен, что тут не обошлось без умысла с ее стороны. Он был счастлив, как никогда.
После катания на лодке они отправились бродить по лесопарку. В длинной пустынной аллее Тома рискнул обнять девушку одной рукой. Она не возражала. Чуть погодя они остановились. Вокруг никого не было. И тогда он поцеловал ее, и она ответила на его поцелуй. Но когда он слишком уж дал волю рукам, Эдит отстранилась. Затем они пошли обратно, и Тома продолжал обнимать ее за талию до тех пор, пока не показались другие отдыхающие.
Они возвращались по авеню Гранд-Арме; солнце светило им в спину, а впереди дрожала в золотом сиянии Триумфальная арка, словно готовая растаять в предзакатных солнечных лучах.
В свой следующий выходной день Тома отправился навестить семью на Монмартре.
– У вас с Эдит было свидание? – спросил Люк, когда они остались наедине.
– Да. Мы ходили в Булонский лес и покатались на лодке по озеру.
Люк вынул что-то из кармана.
– На вот, возьми, – сказал он. – Это самые лучшие.
Тома в недоумении смотрел на маленький пакетик. Это были презервативы.
– Мой младший брат дает мне capotes anglaises?
Забавно, что французы и англичане приписывали изобретение этого средства другу другу: французы называли презервативы «английскими капюшонами», а англичане, по неясным причинам, – «французскими письмами». В то время презервативы изготавливали из резины; их можно было использовать повторно, но надежностью они не отличались.
– А что в этом такого? Мне их дал один богатый клиент. Они не такие, как обычно: гораздо тоньше. Он сказал, что лучше еще ничего не придумали.
Тома покачал головой. Его пятнадцатилетний брат имел престранные знакомства. Но что тут можно поделать? В Маки, должно быть, не найдешь ребенка десяти лет, который был бы невинен.
– Эдит не такая девушка, – сказал Тома.
– Все равно возьми.
Тома засмеялся и положил упаковку в карман. И едва успел это сделать, как в голову закралась мысль: а может, они все-таки пригодятся?
В сентябре 1888 года после нескольких недель мучительно медленного прогресса башня вдруг стала быстро расти.
Это должно было начаться сразу после Дня взятия Бастилии, потому что над второй платформой конструкция стала гораздо тоньше. Рабочим больше не приходилось строить в горизонтальной плоскости, как на нижних участках; теперь верхолазы ставили секции одна на другую почти вертикально. С тем же количеством людей, устанавливающих то же количество секций в день, высота башни прибавлялась в два, в три и даже в четыре раза быстрее. Несколько бригад, включая ту, где трудился Тома, продолжали наращивать балки, в то время как других перевели на отделочные работы на мощной нижней платформе и арках между опорами.
Но вся работа чуть не застопорилась из-за одной проблемы – кранов. Хитроумные передвижные краны ползали вверх и вниз, как и раньше, но их скорость оказалась слишком низкой для новых темпов строительства. Каждому приходилось преодолевать полторы-две сотни метров, чтобы доставить наверх секцию, которую монтажники быстро крепили и потом беспомощно ждали, пока кран медленно полз за новой. График работы срывался. На стройплощадке царило раздражение и нервозность.
Однажды Жан Компаньон остановил Тома:
– Хорошо хоть ты не хмуришься, юный Гаскон. У тебя девушка? В этом дело?
– Да, месье. – Тома счастливо ухмыльнулся.
– Что же, рад за тебя. – Старший мастер задумчиво помолчал. – Мне не нравится настроение моих рабочих, Гаскон. Ты знаешь, когда в работе появляются проблемы?
– Нет, месье.
– Так я скажу тебе. Проблемы возникают не тогда, когда работы слишком много, а когда ее слишком мало. Я неоднократно сталкивался с этим. Так что советую тебе думать побольше о своей девушке и держаться подальше от всяких неприятностей, ты меня понял?
– Да, месье.
Чтобы претворить найденное Эйфелем решение на практике, понадобилось время. Но наконец все было готово. И как только заработало новое устройство, на стройплощадке все переменилось.
Механическая лебедка возносила секции вертикально с земли на первую платформу. Как только они туда прибывали, их перевешивали на вторую подъемную систему, которая переправляла их еще на шестьдесят метров до следующей платформы.
– А когда мы заберемся еще выше, то установим лебедку на высоте примерно двести метров, – сообщил рабочим Эйфель.
Подъем деталей с помощью лебедки до второй платформы занимал всего несколько минут. А дальше эстафету принимали ползучие краны, отвозя секции к месту назначения. Доставка секции с земли до верха теперь занимала не более четверти часа.
Также Эйфель объявил об увеличении платы с десяти до шестнадцати сантимов в час. Башня была готова взметнуться в небо.
Но как только механика процесса наладилась, возникла другая сложность.
Она обозначилась вскоре после того, как заработали лебедки, в середине сентября. Тома подошел к стройплощадке со стороны Сены и понял, что не видит верха башни. Все, что было выше второй платформы, исчезло в осеннем тумане. В радостном возбуждении поднимался Тома на башню: сегодня они будут собирать секции словно в облаках, думал он. В серой мгле виден был только загадочно мерцающий огонь под жаровнями, с помощью которых раскаляли заклепки. Но оказалось, что Тома забыл о том, что всегда сопутствует туману.
Холод. Там, наверху, на высоте более ста двадцати метров, температура была ниже, чем на уровне земли. Хотя работал он усердно, сырость все равно проникала до самых костей. Тома огляделся. Другие верхолазы чувствовали себя не лучше. Когда в обед рабочие спустились, то повсюду звучали проклятия. Неужели ужасные холода прошлой зимы возвращаются – да еще так рано?
В бригаде Тома на той неделе один из парней заболел, и взамен появился новенький – смешливый юный итальянец, которого все называли Пепе.
– Должно быть, ты привык к погоде получше, – окликнул его Тома, когда они поднимались после обеда наверх.
– Это уж точно. Но я рад, что работаю на башне, – ответил Пепе и улыбнулся Тома. – Мой отец строит дороги. Он работает в яме. Я не хочу работать в яме. Поэтому я работаю в небе.
Тома тоже улыбнулся и постарался не унывать, как и Пепе.
Во второй половине дня туман рассеялся, но зато поднялся пронзительный ветер. Он завывал между балок и нещадно хлестал монтажников. К концу дня все посинели от холода. Даже Пепе перестал улыбаться.
Прибыв на стройплощадку утром следующего дня, а именно девятнадцатого сентября, Тома застал возле башни толпу рабочих. Жан Компаньон, с мрачным лицом, держался в стороне. С фабрики прибыли повозки с секциями для установки, лошади послушно стояли в ожидании разгрузки. Но ни одна секция еще не была поднята краном, и никто из рабочих не взбирался на башню.
Тома увидел Пепе:
– Что происходит?
– Устроили забастовку. Хотят больше денег.
Через несколько минут, когда прибыли все, к товарищам обратился один из старейших рабочих – высокий поджарый верхолаз по имени Эрик:
– Братья, условия, при которых мы здесь работаем, неприемлемы. Поэтому вчера вечером мы, инициативная группа, собрались и предложили объявить забастовку. Мы просим вас присоединиться к нам. Наши основные жалобы перечислены вот здесь. – Он махнул листком бумаги. – Если вы захотите добавить что-то еще, сейчас самое время заявить об этом. Итак, согласны ли вы все, чтобы я зачитал список жалоб? – (Раздался хор одобрительных восклицаний.) – Первое. От нас ждут, чтобы мы работали в опасных условиях. Никто раньше не работал на таких высотах. Тем не менее на этой башне платят столько же, сколько на самой обыкновенной стройке. Далее. Когда закончилась зима, месье Эйфель потребовал, чтобы мы перешли на двенадцатичасовой рабочий день. Долгие трудовые дни вызывают усталость, что само по себе очень опасно на высотном строении. Эйфель пытается выжать из нас все силы до последней капли, братья! Нас, рабочих, эксплуатируют.
И опять его слова были встречены гулом одобрения.
– А что насчет зарплаты?
– Вот именно. Итак, второе. Эйфель объявил о небольшом увеличении оплаты труда. Те, кто работает на самом верху, будут получать по шестнадцать сантимов в час. Заметьте: в час. Но мы со дня на день перейдем на зимний график работы, то есть на короткий день. Получите ли вы дополнительные деньги за свои труды? Ни сантима. Нас будут все больше эксплуатировать, да еще в арктических погодных условиях. А Эйфелю все равно. Единственный способ привлечь его внимание – это остановить работу.
– То есть забастовка? – выкрикнул кто-то.
– Сейчас мы просто прекратили работу. Если наши требования не удовлетворят к концу дня, можете назвать это забастовкой. – Эрик обвел толпу взглядом. – Братья, я открываю собрание. Кто хочет говорить?
Вперед шагнули несколько человек. Один потребовал, чтобы в холодное время года обеспечивали горячим питьем, другой хотел, чтобы выдавали специальную одежду. Еще двое высказали недовольство длинным рабочим днем и низкой оплатой труда.
Тома слушал выступающих, и ему становилось неловко. В конце концов неожиданно для самого себя он вышел вперед.
– Я согласен с тем, что в холод нужно горячее питье, – сказал он. – Прошлой зимой у меня очень мерзли руки, и чем выше мы будем забираться, тем будет холоднее. – (Это было встречено одобрительными кивками.) – Но я не согласен с тем, что мы подвергаемся особой опасности. – Он пожал плечами. – Ограждения и страховочные сетки вполне надежны. Пока никто не падал. Но я хочу сказать о другом. Даже если кто-то упадет, то сто метров или двести – не будет никакой разницы. Все равно приедешь домой в ящике.











