Читать онлайн Перед восходом солнца
- Автор: Михаил Зощенко
- Жанр: Русская классика
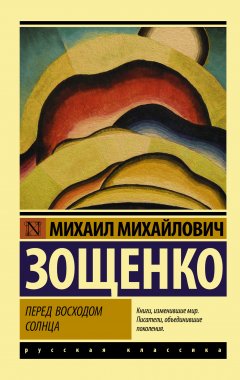
© М.М. Зощенко, наследники, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2019
Предисловие
Эту книгу я задумал очень давно. Сразу после того, как выпустил в свет мою «Возвращенную молодость».
Почти десять лет я собирал материалы для этой новой книги. И выжидал спокойного года, чтоб в тиши моего кабинета засесть за работу.
Но этого не случилось.
Напротив. Немецкие бомбы дважды падали вблизи моих материалов. Известкой и кирпичами был засыпан портфель, в котором находились мои рукописи. Уже пламя огня лизало их. И я поражаюсь, как случилось, что они сохранились.
Собранный материал летел со мной на самолете через немецкий фронт из окруженного Ленинграда.
Я взял с собой двадцать тяжелых тетрадей. Чтобы убавить их вес, я оторвал коленкоровые переплеты. И все же они весили около восьми килограммов из двенадцати килограммов багажа, принятого самолетом. И был момент, когда я просто горевал, что взял этот хлам вместо теплых подштанников и лишней пары сапог.
Однако любовь к литературе восторжествовала. Я примирился с моей несчастной участью.
В черном рваном портфеле я привез мои рукописи в Среднюю Азию, в благословенный отныне город Алма-Ата.
Весь год я был занят здесь писанием различных сценариев на темы, нужные в дни Великой Отечественной войны.
Привезенный же материал я держал в деревянной кушетке, на которой спал.
По временам я поднимал верх моей кушетки. Там, на фанерном дне, покоились двадцать моих тетрадей рядом с мешком сухарей, которые я заготовил по ленинградской привычке.
Я перелистывал эти тетради, горько сожалея, что не пришло время приняться за эту работу, столь, казалось, ненужную сейчас, столь отдаленную от войны, от грохота пушек и визга снарядов.
– Ничего, – говорил я сам себе, – тотчас по окончании войны я примусь за эту работу.
Я снова укладывал мои тетради на дно кушетки. И, лежа на ней, прикидывал в своем уме, когда, по-моему, может закончиться война. Выходило, что не очень скоро. Но когда – вот этого я установить не решался.
«Однако почему же не пришло время взяться за эту мою работу? – как-то подумал я. – Ведь мои материалы говорят о торжестве человеческого разума, о науке, о прогрессе сознания! Моя работа опровергает «философию» фашизма, которая говорит, что сознание приносит людям неисчислимые беды, что человеческое счастье – в возврате к варварству, к дикости, в отказе от цивилизации.
Ведь об этом более интересно прочитать сейчас, чем когда-либо в дальнейшем».
В августе 1942 года я положил мои рукописи на стол и, не дожидаясь окончания войны, приступил к работе.
I
Пролог
- За доброе желание к игре
- Прощается актеру исполненье.
Десять лет назад я написал мою повесть под названием «Возвращенная молодость».
Это была обыкновенная повесть, из тех, которые во множестве пишутся писателями, но к ней были приложены комментарии – этюды физиологического характера.
Эти этюды объясняли поведение героев повести и давали читателю некоторые сведения по физиологии и психологии человека.
Я не писал «Возвращенную молодость» для людей науки, тем не менее именно они отнеслись к моей работе с особым вниманием. Было много диспутов. Происходили споры. Я услышал много колкостей. Но были сказаны и приветливые слова.
Меня смутило, что ученые так серьезно и горячо со мной спорили. Значит, не я много знаю (подумал я), а наука, видимо, не в достаточной мере коснулась тех вопросов, какие я, в силу своей неопытности, имел смелость затронуть.
Так или иначе, ученые разговаривали со мной почти как с равным. И я даже стал получать повестки на заседания в Институт мозга. А Иван Петрович Павлов пригласил меня на свои «среды».
Но я, повторяю, не писал свое сочинение для науки. Это было литературное произведение, и научный материал был только лишь составной частью.
Меня всегда поражало: художник, прежде чем рисовать человеческое тело, должен в обязательном порядке изучить анатомию. Только знание этой науки избавляло художника от ошибок в изображении. А писатель, в ведении которого больше чем человеческое тело – его психика, его сознание, – нечасто стремится к подобного рода знаниям. Я посчитал своей обязанностью кое-чему поучиться. И, поучившись, поделился этим с читателем.
Таким образом возникла «Возвращенная молодость».
Сейчас, когда прошло десять лет, я отлично вижу дефекты моей книги: она была неполной и однобокой. И, вероятно, за это меня следовало больше бранить, чем меня бранили.
Осенью 1934 года я познакомился с одним замечательным физиологом (А. Д. Сперанским).
Когда речь зашла о моей работе, этот физиолог сказал:
– Я предпочитаю ваши обычные рассказы. Но я признаю, что то, о чем вы пишете, следует писать. Изучать сознание есть дело не только ученого. Я подозреваю, что пока еще это в большей степени дело писателя, чем ученого. Я физиолог и потому не боюсь это сказать.
Я ответил ему:
– Я тоже так думаю. Область сознания, область высшей психической деятельности больше принадлежит нам, чем вам. Поведение человека можно и должно изучать с помощью собаки и ланцета. Однако у человека (и у собаки) иногда возникают «фантазии», которые необычайным образом меняют силу ощущения даже при одном и том же раздражителе. И тут иной раз нужен «разговор с собакой», для того чтобы разобраться во всей сложности ее фантазии. А «разговор с собакой» – это уже целиком наша область.
Улыбнувшись, ученый сказал:
– Вы отчасти правы. Соотношение часто не одинаково между силой раздражения и ответом, тем более в сфере ощущения. Но если вы претендуете на эту область, то именно здесь вы и встретитесь с нами.
Прошло несколько лет после этого разговора. Узнав, что я подготовляю новую книгу, физиолог попросил меня рассказать об этой работе.
Я сказал:
– Вкратце – это книга о том, как я избавился от многих ненужных огорчений и стал счастливым.
– Это будет трактат или роман?
– Это будет литературное произведение. Наука войдет в него, как иной раз в роман входит история.
– Снова будут комментарии?
– Нет. Это будет нечто целое. Подобно тому, как пушка и снаряд могут быть одним целым.
– Стало быть, эта работа будет о вас?
– Полкниги будет занято моей особой. Не скрою от вас – меня это весьма смущает.
– Вы будете рассказывать о своей жизни?
– Нет. Хуже. Я буду говорить о вещах, о которых не совсем принято говорить в романах. Меня утешает то, что речь будет идти о моих молодых годах. Это все равно что говорить об умершем.
– До какого же возраста вы берете себя в вашу книгу?
– Примерно до тридцати лет.
– Может быть, есть резон прикинуть еще лет пятнадцать? Тогда книга будет полней – о всей вашей жизни.
– Нет, – сказал я. – С тридцати лет я стал совсем другим человеком – уже негодным в объекты моего сочинения.
– Разве произошла такая перемена?
– Это даже нельзя назвать переменой. Возникла совсем иная жизнь, вовсе непохожая на то, что было.
– Но каким образом? Это был психоанализ? Фрейд?
– Вовсе нет. Это был Павлов. Я пользовался его принципом. Это была его идея.
– А что сами вы сделали?
– Я сделал, в сущности, простую вещь: я убрал то, что мне мешало, – неверные условные рефлексы, ошибочно возникшие в моем сознании. Я уничтожил ложную связь между ними. Я разорвал «временные связи», как называл их Павлов.
– Каким образом?
В то время я не полностью продумал мои материалы и поэтому затруднился ответить на этот вопрос. Но о принципе рассказал. Правда, весьма туманно.
Задумавшись, ученый ответил:
– Пишите. Только ничего не обещайте людям.
Я сказал:
– Я буду осторожен. Я пообещаю только то, что получил сам. И только тем людям, которые имеют свойства, близкие к моим.
Рассмеявшись, ученый сказал:
– Это немного. И это правильно. Философия Толстого, например, была полезна только ему и никому больше.
Я ответил:
– Философия Толстого была религия, а не наука. Это была вера, которая ему помогла. Я же далек от религии. Я говорю не о вере и не о философской системе. Я говорю о железных формулах, проверенных великим ученым. Моя же роль скромна в этом деле: я на практике человеческой жизни проверил эти формулы и соединил то, что, казалось, не соединялось.
Я расстался с ученым и с тех пор больше его не видел. Вероятно, он решил, что я забросил мою книгу, не справившись с ней.
Но я, как уже доложено вам, выжидал спокойного года.
Этого не случилось. Очень жаль. Под грохот пушек я пишу значительно хуже. Красивость, несомненно, будет снижена. Душевные волнения поколеблют стиль. Тревоги погасят знания. Нервность воспримется как торопливость. В этом усмотрится небрежность к науке, непочтительность к ученому миру…
- Ученый!
- Где речь неучтивой увидишь мою, –
- Сотри ее, я позволенье даю.
Пусть просвещенный читатель простит мои прегрешения.
II
Я несчастен – и не знаю почему
- О горе! Бежать от блеска солнца
- И услады искать в тюрьме,
- При свете ночника…
Когда я вспоминаю свои молодые годы, я поражаюсь, как много было у меня горя, ненужных тревог и тоски.
Самые чудесные юные годы были выкрашены черной краской.
В детском возрасте я ничего подобного не испытывал.
Но уже первые шаги молодого человека омрачились этой удивительной тоской, которой я не знаю сравнения.
Я стремился к людям, меня радовала жизнь, я искал друзей, любви, счастливых встреч… Но я ни в чем этом не находил себе утешения. Все тускнело в моих руках. Хандра преследовала меня на каждом шагу.
Я был несчастен, не зная почему.
Но мне было восемнадцать лет, и я нашел объяснение.
«Мир ужасен, – подумал я. – Люди пошлы. Их поступки комичны. Я не баран из этого стада».
Над письменным столом я повесил четверостишие из Софокла:
- Высший дар нерожденным быть,
- Если ж свет ты увидел дня –
- О, обратной стезей скорей
- В лоно вернись родное небытия.
Конечно, я знал, что бывают иные взгляды – радостные, даже восторженные. Но я не уважал людей, которые были способны плясать под грубую и пошлую музыку жизни. Такие люди казались мне на уровне дикарей и животных.
Все, что я видел вокруг себя, укрепляло мое воззрение.
Поэты писали грустные стихи и гордились своей тоской.
«Пришла тоска – моя владычица, моя седая госпожа», – бубнил я какие-то строчки, не помню какого автора.
Мои любимые философы почтительно отзывались о меланхолии. «Меланхолики обладают чувством возвышенного», – писал Кант. А Аристотель считал, что «меланхолический склад души помогает глубокомыслию и сопровождает гения».
Но не только поэты и философы подбрасывали дрова в мой тусклый костер. Удивительно сказать, но в мое время грусть считалась признаком мыслящего человека. В моей среде уважались люди задумчивые, меланхоличные и даже как бы отрешенные от жизни[1].
Короче говоря, я стал считать, что пессимистический взгляд на жизнь есть единственный взгляд человека мыслящего, утонченного, рожденного в дворянской среде, из которой я был родом.
Значит, меланхолия, думал я, есть мое нормальное состояние, а тоска и некоторое отвращение к жизни – свойство моего ума. И, видимо, не только моего ума. Видимо, всякого ума, всякого сознания, которое стремится быть выше сознания животного.
Очень печально, если это так. Но это, вероятно, так. В природе побеждают грубые ткани. Торжествуют грубые чувства, примитивные мысли. Все, что истончилось, – погибает.
Так думал я в свои восемнадцать лет. И я не скрою от вас, что я так думал и значительно позже.
Но я ошибался. И теперь счастлив сообщить вам об этой моей ужасной ошибке.
Эта ошибка мне тогда чуть не стоила жизни.
Я хотел умереть, так как не видел иного исхода.
Осенью 1914 года началась мировая война, и я, бросив университет, ушел в армию, чтоб на фронте с достоинством умереть за свою страну, за свою родину.
Однако на войне я почти перестал испытывать тоску. Она бывала по временам. Но вскоре проходила. И я на войне впервые почувствовал себя почти счастливым.
Я подумал: отчего это так? И пришел к мысли, что здесь я нашел прекрасных товарищей и вот почему перестал хандрить. Это было логично.
Я служил в Мингрельском полку Кавказской гренадерской дивизии. Мы очень дружно жили. И солдаты, и офицеры. Впрочем, может быть, тогда мне так казалось.
В девятнадцать лет я был уже поручиком.
В двадцать лет – имел пять орденов и был представлен в капитаны.
Но это не означало, что я был герой. Это означало, что два года подряд я был на позициях.
Я участвовал во многих боях, был ранен, отравлен газами. Испортил сердце. Тем не менее радостное мое состояние почти не исчезло.
В начале революции я вернулся в Петроград.
Я не испытывал никакой тоски по прошлому. Напротив, я хотел увидеть новую Россию, не такую печальную, как я знал. Я хотел, чтоб вокруг меня были здоровые, цветущие люди, а не такие, как я сам, – склонные к хандре, меланхолии и грусти.
Никаких так называемых «социальных расхождений» я не испытывал. Тем не менее я стал по-прежнему испытывать тоску.
Я пробовал менять города и профессии. Я хотел убежать от этой моей ужасной тоски. Я чувствовал, что она меня погубит.
Я уехал в Архангельск. Потом на Ледовитый океан – в Мезень. Потом вернулся в Петроград. Уехал в Новгород, во Псков. Затем в Смоленскую губернию, в город Красный. Снова вернулся в Петроград…
Хандра следовала за мной по пятам.
За три года я переменил двенадцать городов и десять профессий.
Я был: милиционером, счетоводом, сапожником, инструктором по птицеводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска, секретарем суда, делопроизводителем.
Это было не твердое шествие по жизни, это было – замешательство.
Полгода я снова провел на фронте в Красной Армии – под Нарвой и Ямбургом.
Но сердце было испорчено газами, и я должен был подумать о новой профессии.
В 1921 году я стал писать рассказы.
Моя жизнь сильно изменилась оттого, что я стал писателем. Но хандра осталась прежней. Впрочем, она все чаще стала посещать меня.
Тогда я обратился к врачам. Кроме хандры, у меня было что-то с сердцем, что-то с желудком и что-то с печенью.
Врачи взялись за меня энергично.
От трех моих болезней они стали меня лечить пилюлями и водой. Главным образом водой – вовнутрь и снаружи.
Хандру же было решено изгонять комбинированным ударом – сразу со всех четырех сторон, во фланги, в тыл и лоб – путешествиями, морскими купаниями, душем Шарко и развлечениями, столь нужными в моем молодом возрасте.
Два раза в год я стал выезжать на курорты – в Ялту, в Кисловодск, в Сочи и в другие благословенные места.
В Сочи я познакомился с одним человеком, у которого тоска была значительно больше моей. Минимум два раза в год его вынимали из петли, в которую он влезал, оттого что его мучила беспричинная тоска.
С чувством величайшего почтения я стал беседовать с этим человеком. Я предполагал увидеть мудрость, ум, переполненный знаниями, и скорбную улыбку гения, который должен уживаться на нашей бренной земле.
Ничего подобного я не увидел.
Это был недалекий человек, необразованный и даже без тени просвещения. За всю свою жизнь он прочитал не более двух книг. И, кроме денег, еды и баб, он ничем другим не интересовался.
Передо мной был самый заурядный человек, с пошлыми мыслями и с тупыми желаниями.
Я не сразу даже понял, что это так. Сначала мне показалось, что в комнате накурено или барометр упал – предвещает бурю. Как-то мне было не по себе, когда я с ним разговаривал. Потом смотрю – просто дурак. Просто дубина, с которым больше трех минут нельзя разговаривать.
Моя философская система дала трещину. Я понял, что дело не только в высоком сознании. Но в чем же тогда? Я не знал.
С величайшим смирением я отдался в руки врачей.
За два года я съел полтонны порошков и пилюль.
Я безропотно пил всякую мерзость, от которой меня тошнило.
Я позволил себя колоть, просвечивать и сажать в ванны.
Однако лечение успеха не имело. И даже вскоре дошло до того, что знакомые перестали узнавать меня на улице. Я безумно похудел. Я был как скелет, обтянутый кожей. Все время ужасно мерз. Руки у меня дрожали. А желтизна моей кожи изумляла даже врачей. Они стали подозревать, что у меня ипохондрия в такой степени, когда процедуры излишни. Нужны гипноз и клиника.
Одному из врачей удалось усыпить меня. Усыпив, он стал внушать мне, что я напрасно хандрю и тоскую, что в мире все прекрасно и нет причин для огорчения.
Два дня я чувствовал себя бодрей, потом мне стало значительно хуже, чем раньше.
Я почти перестал выходить из дому. Каждый новый день мне был в тягость.
- День приходил, день уходил –
- Шли годы – я их не считал,
- Я, мнилось, память потерял
- О переменах на земле…
Я еле передвигался по улице, задыхаясь от сердечных припадков и от болей в печени.
На курорты я перестал ездить. Вернее, я приезжал и, промаявшись там два-три дня, снова возвращался домой, еще в более страшной тоске, чем приехал.
Тогда я обратился к книгам. Я был молодым писателем. Мне было всего двадцать семь лет. Естественно, что я обратился к моим великим товарищам – к писателям, музыкантам… Я хотел узнать, не было ли чего подобного с ними. Не было ли у них тоски вроде моей. А если было, то по каким причинам это у них возникало, по их мнению. И как они поступали, чтоб этого у них не было.
И тогда я стал выписывать все, что относилось к хандре. Я стал выписывать без особого учета и мотивировок. Однако я старался брать то, что было характерно для человека, то, что повторялось в его жизни, то, что не казалось случайностью, минутным воображением, вспышкой.
Эти выписки поразили мое воображение на несколько лет.
«Я выхожу из дому, иду на улицу, тоскую и опять возвращаюсь домой. Зачем? Затем, чтоб хандрить…»
Шопен. Письма. 1830 г.
«Я не знал, куда деваться от тоски. Я сам не знал, откуда происходит эта тоска…»
Гоголь – матери. 1837 г.
«У меня бывают припадки такой хандры, что боюсь, что брошусь в море. Голубчик мой! Очень тошно…»
Некрасов – Тургеневу. 1857 г.
«Мне так худо, так страшно безнадежно худо и в теле и в духе, что я не могу жить…»
Эдгар По – Анни. 1848 г.
«Я испытываю такую угнетенность духа, какую я раньше еще не испытывал. Я напрасно боролся против влияния этой меланхолии. Я несчастен и не знаю почему…»
Эдгар По – Кеннеди. 1835 г.
«В день двадцать раз приходит мне на ум пистолет. И тогда делается при этой мысли легче».
Некрасов – Тургеневу. 1857 г.
«Все мне опротивело. Мне кажется, я бы с наслаждением сейчас повесился, – только гордость мешает…»
Флобер. 1853 г.
«Я живу скверно, чувствую себя ужасно. Каждое утро встаю с мыслью: не лучше ли застрелиться…»
Салтыков-Щедрин – Пантелееву. 1886 г.
«К этому присоединялась такая тоска, которой нет описания. Я решительно не знал, куда девать себя, к чему прислониться…»
Гоголь – Погодину. 1840 г.
«Так все отвратительно в мире, так невыносимо… Скучно жить, говорить, писать…»
Л. Андреев. Дневник. 1919 г.
«Чувствую себя усталым, измученным до того, что чуть не плачу с утра до вечера… Раздражают лица друзей… Ежедневные обеды, сон на одной и той же постели, собственный голос, лицо, отражение его в зеркале…»
Мопассан. Под солнцем. 1881 г.
«Повеситься или утонуть казалось мне как бы похожим на какое-то лекарство и облегчение».
Гоголь – Плетневу. 1846 г.
«Я устал, устал ото всех отношений, все люди меня утомили и все желания. Уйти куда-либо в пустыню или уснуть последним сном».
В. Брюсов. Дневник. 1898 г.
«Я прячу веревку, чтоб не повеситься на перекладине в моей комнате, вечером, когда остаюсь один. Я не хожу больше на охоту с ружьем, чтоб не подвергнуться искушению застрелиться. Мне кажется, что жизнь моя была глупым фарсом».
Л. Н. Толстой. 1878 г. – Л. Л. Толстой.Правда о моем отце.
Целую тетрадь я заполнил подобными выписками. Они меня поразили, даже потрясли. Ведь я же не брал людей, у которых только что случилось горе, несчастье, смерть. Я взял то состояние, которое повторялось. Я взял тех людей, из которых многие сами сказали, что они не понимают, откуда у них это состояние.
Я был потрясен, озадачен. Что за страдание, которому подвержены люди? Откуда оно берется? И как с ним бороться, какими средствами? Кроме веревки и пули.
Может быть, это страдание возникает от неустройства жизни, от социальных огорчений, от мировых вопросов? Может быть, это создает почву для такой тоски?
Да, это так. Но тут я вспомнил слова Чернышевского: «Не от мировых вопросов люди топятся, стреляются и сходят с ума».
Эти слова меня еще более смутили.
Я не мог найти никакого решения. Я не понимал.
Может быть, все-таки (снова подумал я) это та мировая скорбь, которой подвержены великие люди в силу их высокого сознания?
Нет! Наряду с этими великими людьми, которых я перечислил, я увидел не менее великих людей, которые не испытывали никакой тоски, хотя их сознание было столь же высоким. И даже этих людей было значительно больше.
На вечере, посвященном Шопену, исполняли его «Второй концерт для фортепьяно с оркестром».
Я сидел в последних рядах, утомленный, измученный.
Но «Второй концерт» прогнал мою меланхолию. Мощные, мужественные звуки наполнили зал.
Радость, борьба, необычайная сила и даже ликование звучали в третьей части концерта.
Откуда же такая огромная сила у этого слабого человека, у этого гениального музыканта, печальную жизнь которого я так теперь хорошо знал? – подумал я. – Откуда же у него такая радость, такой восторг? Значит, все это у него было? И только было сковано? Чем?
Тут я подумал о своих рассказах, которые заставляли людей смеяться. Я подумал о смехе, который был в моих книгах, но которого не было в моем сердце.
Не скрою от вас: я испугался, когда мне вдруг пришла мысль, что надо найти причину – отчего скованы мои силы и почему мне так невесело в жизни и почему бывают такие люди, как я, – склонные к меланхолии и беспричинной тоске.
Осенью 1926 года я заставил себя уехать в Ялту. И заставил себя пробыть там четыре недели.
Десять дней я пролежал в номере гостиницы. Затем стал выходить на прогулку. Я ходил в горы. А иногда часами сидел на берегу моря, радуясь, что мне лучше, что мне почти хорошо.
Я очень поправился за месяц. На душе у меня стало спокойно, даже весело.
Чтоб еще более укрепить мое здоровье, я решил продолжить отдых. Я взял билет на теплоход, чтобы доехать до Батума. Из Батума я хотел ехать в Москву прямым поездом.
Я взял отдельную каюту. И в чудесном настроении уехал из Ялты.
Море было тихое, безмятежное. И я весь день просидел на палубе, любуясь берегом Крыма и морем, которое я так любил и ради которого я обычно приезжал в Ялту.
Утром, чуть свет, я снова был на палубе.
Вставало изумительное утро.
Я сидел в шезлонге, наслаждаясь своим прекрасным состоянием. Мысли у меня были самые счастливые, даже веселые. Я думал о своем путешествии, о Москве, о друзьях, которых там встречу. О том, что тоска моя теперь позади. И пусть она будет загадкой, только чтоб ее больше не было.
Было раннее утро. Задумчиво я глядел на легкую рябь воды, на блики солнца, на чаек, которые с омерзительным криком садились на воду.
И вдруг в одно мгновение я почувствовал себя плохо. Это была не только тоска. Это было волнение, трепет, почти страх. Я еле мог встать с шезлонга. Я еле дошел до каюты. Я два часа лежал на койке не двигаясь. И снова возникла тоска в такой степени, какой я до сих пор не испытывал.
Я пробовал бороться с этим. Я вышел на палубу. Стал прислушиваться к разговорам людей. Я хотел отвлечься. Но мне не удавалось.
Показалось, что я не должен и не могу больше продолжать путешествие.
Я еле дождался Туапсе. И сошел на берег, с тем чтоб через несколько дней продолжить мой путь.
Меня трепала нервная лихорадка.
На линейке я доехал до гостиницы. И там слег.
Усилием воли, только через неделю, я заставил себя собраться в дорогу.
Дорога меня отвлекла и рассеяла. Я стал чувствовать себя лучше. Ужасная тоска исчезала.
Путь был далекий, и я стал думать о своей несчастной болезни, которая способна исчезать так же быстро, как и возникать. Почему? И какие были причины?
Или причин не было?
Как будто бы никаких причин не было. Должно быть, просто «слабость нервов», излишняя «чувствительность». Должно быть, это обычно и колеблет меня, как часовой маятник.
Я стал думать: родился ли я таким слабым и чувствительным или в моей жизни что-нибудь случилось такое, что повредило мои нервы, испортило их и сделало меня несчастной пылинкой, которую гонит и мотает любой ветер?
И вдруг мне показалось, что я не мог родиться таким несчастным, таким беззащитным. Я мог родиться слабым, золотушным, я мог родиться с одной рукой, с одним глазом, без уха. Но родиться, чтоб хандрить, и хандрить без причины – оттого, что мир кажется пошлым! Но я же не марсианин.
Я дитя своей земли. Я должен, как и любое животное, испытывать восторг от существования. Испытывать счастье, если все хорошо. И бороться, если плохо. Но хандрить?! Когда даже насекомое, которому дано всего четыре часа жизни, ликует на солнце! Нет, я не мог родиться таким уродом.
И вдруг я понял ясно, что причина моих несчастий кроется в моей жизни. Нет сомнения – что-то случилось, что-то произошло такое, что подействовало на меня угнетающим образом.
Но что? И когда случилось? И как искать это несчастное происшествие? Как найти эту причину моей тоски?
Тогда я подумал: надо вспомнить мою жизнь. И я стал лихорадочно вспоминать. Но сразу понял, что из этого ничего не выйдет, если не внести какую-нибудь систему в мои воспоминания.
Нет нужды все вспоминать, подумал я. Достаточно вспомнить только самое сильное, самое яркое. Достаточно вспомнить только то, что было связано с душевным волнением. Только тут и могла лежать разгадка.
И тогда я стал вспоминать наиболее яркие картины, оставшиеся в моей памяти. И увидел, что память сохранила их с необычайной точностью. Сохранились мелочи, детали, цвет, даже запах.
Душевное волнение, как свет магния, осветило то, что произошло. Это были моментальные фотографии, оставшиеся на память в моем мозгу.
С необычайным волнением я стал изучать эти фотографии. И увидел, что они меня волнуют больше, чем даже желание найти причину моих несчастий.
III
Опавшие листья
- Жизнь каждого все то же повторяет,
- Что до него и прежде совершалось,
- И человек, в прошедшее вникая,
- Предсказывать довольно верно может
- Ход будущих событий…
Итак, я решил вспомнить мою жизнь, чтобы найти причину моих несчастий.
Я решил найти событие или ряд событий, которые подействовали на меня угнетающе и сделали меня несчастной пылинкой, уносимой любым дуновением ветра.
Для этого я решил вспомнить только самые яркие сцены из моей жизни, только сцены, связанные с большим душевным волнением, правильно рассчитав, что только тут и лежит разгадка.
Однако нет нужды вспоминать детские годы, подумал я. Какие там могут быть особые душевные волнения у мальчишки. Подумаешь, великие дела! Потерял три копейки. Ребята побили. Штаны разорвал. Украли ходули. Учитель единицу поставил… Вот вам и все потрясения детского возраста. Лучше я вспомню, подумал я, сцены из моей сознательной жизни. Тем более что я захворал не в детские годы, а уже будучи взрослым. Начну лет с шестнадцати, подумал я.
И тогда я стал вспоминать наиболее яркие сцены, начиная с шестнадцати лет.
1912–1915
- О, сказкой ставшая воскреснувшая быль!
- О, крылья бабочки, с которых стерлась пыль!
Двор. Я играю в футбол. Мне уже наскучило играть, но я играю, украдкой поглядывая на окно второго этажа. Мое сердце сжимается от тоски.
Там живет Тата Т. Она взрослая. Ей двадцать три года. У нее старый муж. Ему сорок лет. И мы – гимназисты – всегда подтруниваем над ним, когда он, немного сутулый, возвращается со службы.
И вот открывается окно. Тата Т. поправляет свою прическу, потягиваясь и зевая.
Увидев меня, она улыбается.
Ах, она очень хороша. Она похожа на молодую тигрицу из зоологического сада – такие же яркие, сияющие, ослепительные краски. Я почти не могу на нее смотреть.
Улыбаясь, Тата Т. говорит мне:
– Мишенька, зайдите ко мне на минутку.
Мое сердце колотится от счастья, но, не поднимая глаз, я отвечаю:
– Вы же видите – я занят. Играю в футбол.
– Тогда подставьте свою фуражку. Я вам что-то брошу.
Я подставляю свою гимназическую фуражку. И Тата Т. бросает в нее маленький сверток, перевязанный ленточкой. Это шоколад.
Я прячу шоколад в карман и продолжаю играть.
Дома я съедаю шоколад. И ленточку, приложив на минуту к щеке, прячу в стол.
Столовая. Коричневые обои. Хрустальная солонка в виде перевернутой пирамиды.
За столом сестры и мать.
Я задержался в гимназии, опоздал, и они начали обедать без меня.
Переглядываясь между собой, сестры тихонько смеются.
Я сажусь на свое место. У моего прибора письмо.
Длинный конверт сиреневого цвета. Необычайно душистый.
Дрожащими руками я разрываю конверт. И вынимаю еще более душистый листок. Запах от листка так силен, что сестры, не сдерживаясь, прыскают от смеха.
Нахмурившись, я читаю. Буквы прыгают перед моими глазами.
«О, как я счастлива, что с вами познакомилась…» – запоминаю я одну фразу и мысленно ее твержу.
Встречаюсь со смеющимися глазами матери.
– От кого? – спрашивает она.
– От Нади, – сухо, почти сердито отвечаю я.
Сестры веселятся еще больше.
– Не понимаю, – говорит старшая сестра, – жить в одном доме, видеться каждый день и еще при этом писать письма. Смешно. Глупо.
Я грозно гляжу на сестру. Молча глотаю суп и ем хлеб, пропитанный запахом духов.
Петербург. Каменноостровский проспект. Памятник «Стерегущему». Два матроса у открытого кингстона. Бронзовая вода льется в трюм.
Не отрываясь, я смотрю на бронзовых матросов и на бронзовый поток воды. Мне нравится этот памятник.
Я люблю смотреть на эту трагическую сцену потопления корабля.
Рядом со мной на скамье гимназистка Надя В. Нам обоим по шестнадцать лет.
Надя говорит:
– Вообще я полюбила вас напрасно. Решительно все девочки не советовали мне этого делать…
– Но почему же? – спрашиваю я, оторвавшись от памятника.
– Потому что мне всегда нравились веселые, остроумные мужчины… Вы же способны молча сидеть полчаса и больше.
Я отвечаю:
– Я не считаю достоинством говорить слова, которые до меня произносили десятки тысяч людей.
– В таком случае, – говорит Надя, – вы должны меня поцеловать.
Оглядываясь, я говорю:
– Здесь могут увидеть нас.
– Тогда пойдемте в кино.
Мы идем в кино «Молния» и там два часа целуемся.
Я выхожу из гимназии и встречаю реалиста Сережу К. Это белобрысый высокий унылый юноша.
Нервно покусывая губы, он мне говорит:
– Вчера я окончательно расстался с Валькой П. И можешь себе представить – она потребовала вернуть все ее письма.
– Надо вернуть, – говорю я.
– Конечно, письма я ей верну, – говорит Сережа, – но я хочу сохранить копии… Кстати, я хочу попросить тебя об одном одолжении. Мне надо, чтоб ты заверил эти копии…
– Для чего? – спрашиваю я.
– Ну, мало ли, – говорит Сережа, – потом она еще скажет, что вообще не любила меня… А если будут заверенные копии…
Мы подходим к Сережиному дому. Сережа – сын брандмейстера пожарной части. И поэтому мне интересно к нему зайти.
Сережа кладет на стол три письма и три уже заранее переписанные копии.
Мне не хочется подписывать копии, но Сережа настаивает. Он говорит:
– Мы уже взрослые. Наши детские годы прошли… Я очень прошу тебя подписать.
Не читая, я пишу на каждом листке копий: «С подлинным верно». И подписываю свою фамилию.
В знак благодарности Сережа ведет меня во двор и там показывает мне штурмовую лестницу и пожарные шланги, которые сушатся на солнце.
Я спешу к заутрене. Стою перед зеркалом, затянутый в гимназический мундир. В левой руке у меня белые лайковые перчатки. Правой рукой я поправляю свой изумительный пробор.
Я не особенно доволен своим видом. Очень юн.
В шестнадцать лет можно было бы выглядеть постарше.
Небрежно набросив на плечи шинель, я выхожу на лестницу.
По лестнице поднимается Тата Т.
Сегодня она удивительно хороша, в своей короткой меховой жакетке, с муфточкой в руках.
– Вы разве не идете в церковь? – спрашиваю я.
– Нет, мы встречаем дома, – говорит она улыбаясь. И, подойдя ко мне ближе, добавляет: – Христос воскресе!.. Мишенька…
– Еще нет двенадцати, – бормочу я.
Обвив мою шею руками, Тата Т. целует меня.
Это не три пасхальных поцелуя. Это один поцелуй, который продолжается минуту. Я начинаю понимать, что это не христианский поцелуй.
Сначала я испытываю радость, потом удивление, потом – смеюсь.
– Что вы смеетесь? – спрашивает она.
– Я не знал, что люди так целуются.
– Не люди, – говорит она, – а мужчины и женщины, дурачок!
Она ласкает рукой мое лицо и целует мои глаза. Потом, услышав, что на ее площадке хлопнула дверь, она поспешно поднимается по лестнице – красивая и таинственная, именно такая, какую я хотел бы всегда любить.
Мы идем в Новую Деревню. Нас человек десять. Мы очень взволнованы. Наш товарищ Васька Т. бросил гимназию, ушел из дому и теперь живет самостоятельно, где-то на Черной Речке.
Он ушел из восьмого класса гимназии. Даже не дождался выпускных экзаменов. Значит, ему наплевать на все.
Втайне мы восхищены Васькиным поступком.
Деревянный дом. Гнилая шаткая лестница.
Мы поднимаемся под самую крышу, входим в Васькину комнату.
На железной койке сидит Васька. Ворот его рубахи расстегнут. На столе бутылка водки, хлеб и колбаса. Рядом с Васькой худенькая девушка, лет девятнадцати.
– Вот он к ней и ушел, – кто-то шепчет мне.
Я гляжу на эту тоненькую девушку. Глаза у нее красные, заплаканные. Не без страха она поглядывает на нас.
Васька лихо разливает водку по стаканам.
Я спускаюсь в сад. В саду – старая дама. Это Васькина мама.
Грозя вверх кулаком, мамаша визгливо кричит, и ее выкрики молча слушают какие-то тетушки.
– Это все она виновата, эта девчонка! – кричит мамаша. – Не будь ее, Вася никогда не ушел бы из дому.
В окне появляется Васька.
– Да уйдите вы, мамаша, – говорит он. – Торчите тут целые дни. Кроме суеты, ничего не вносите… Идите, идите. Не вернусь домой, сказал вам.
Скорбно поджав губы, мамаша садится на ступеньки лестницы.
Я лежу на операционном столе. Подо мной белая холодная клеенка. Впереди огромное окно. За окном яркое синее небо.
Я проглотил кристалл сулемы. Этот кристалл у меня был для фотографии. Сейчас мне будут делать промывание желудка.
Врач в белом халате неподвижно стоит у стола.
Сестра подает ему длинную резиновую трубку. Затем, взяв стеклянный кувшин, наполняет его водой. Я с отвращением слежу за этой процедурой. Ну что они меня будут мучить. Пусть бы я так умер. По крайней мере кончатся все мои огорчения и досады.
Я получил единицу по русскому сочинению. Кроме единицы, под сочинением была надпись красными чернилами: «Чепуха». Правда, сочинение на тургеневскую тему – «Лиза Калитина». Какое мне до нее дело?.. Но все-таки пережить это невозможно…
Врач пропихивает в мою глотку резиновый шланг. Все глубже и глубже входит эта отвратительная коричневая кишка.
Сестра поднимает кувшин с водой. Вода льется в меня. Я задыхаюсь. Извиваюсь в руках врача. Со стоном машу рукой, умоляя прекратить пытку.
– Спокойней, спокойней, молодой человек, – говорит врач. – Ну как вам не совестно… Такое малодушие… по пустякам.
Вода выливается из меня, как из фонтана.
У ворот – полицейский офицер. Кроме входного билета, он требует, чтоб я предъявил студенческий матрикул. Я достаю документы.
– Проходите, – говорит он.
Во дворе – солдаты и городовые с ружьями.
Сегодня годовщина смерти Толстого.
Я иду по университетскому коридору. Здесь шум, суета, оживление.
По коридору медленно выступает попечитель учебного округа – Прутченко. Он высокий, крупный, краснолицый. На белой груди под вицмундиром маленькие бриллиантовые запонки.
Вокруг попечителя живая изгородь из студентов – это студенты академической корпорации, «белоподкладочники». Взявшись за руки, они оцепили попечителя и охраняют его от возможных эксцессов. Командует и больше всех суетится какой-то длинновязый прыщеватый студент в мундире, со шпагой на боку.
Вокруг шум и ад. Кто-то кричит: «По улицам слона водили». Шутки. Смех.
Попечитель медленно идет вперед. Живая изгородь почтительно движется вместе с ним.
Появляется студент. Он мал ростом. Некрасивый. Но лицо у него удивительно умное, энергичное.
Подойдя к «изгороди», он останавливается. Невольно останавливается и изгородь с попечителем.
Подняв руку, студент водворяет тишину.
Когда становится тише, студент кричит, отчеканивая каждое слово: «У нас в России две напасти: внизу власть тьмы, вверху – тьма власти».
Взрыв аплодисментов. Хохот.
Длинновязый студент эффектно хватается за эфес шпаги. Попечитель устало бормочет: «Не надо, оставьте…»
Студент со шпагой кому-то говорит: «Узнайте фамилию этого хама…»
Повесился студент Мишка Ф. Оставил записку: «Никого не винить. Причина – неудачная любовь».
Я немного знал Мишку. Нескладный. Взъерошенный. Небритый. Не очень умный.
Студенты, впрочем, хорошо относились к нему – он был легкий, компанейский человек.
Из почтения к его трагедии решили выпить за его упокой.
Собрались в пивной на Малом проспекте.
Сначала спели «Быстры, как волны, все дни нашей жизни». Затем стали вспоминать о своем товарище. Однако никто не мог вспомнить ничего особенного.
Тогда кто-то вспомнил, как Мишка Ф. съел несколько обедов в университетской столовой. Все засмеялись. Стали вспоминать всякие мелочи и чепуху из Мишкиной жизни. Хохот поднялся невероятный.
Давясь от смеха, один из студентов сказал:
– Однажды мы собрались на бал. Я зашел за Мишкой. Руки ему не захотелось мыть. Он торопился. Он сунул пальцы в пудреницу и забелил под ногтями черноту.
Раздался взрыв смеха.
Кто-то сказал:
– Теперь понятно, отчего у него была неудачная любовь.
Посмеявшись, снова стали петь «Быстры, как волны». Причем один из студентов всякий раз вставал и рукой подчеркнуто дирижировал, когда песня доходила до слов: «Умрешь – похоронят, как не жил на свете».
Потом мы пели «Гаудеамус», «Вечерний звон» и «Дир-лим-бом-бом».
Вечер. Я иду домой. Мне очень грустно.
– Студентик! – слышу я чей-то голос.
Передо мной женщина. Она подкрашена и подпудрена. Под шляпкой с пером я вижу простое скуластое лицо и толстые губы.
Нахмурившись, я хочу уйти, но женщина говорит, сконфуженно улыбаясь:
– Я сегодня именинница. Зайдите ко мне в гости – чай пить.
Я бормочу:
– Извините… Мне некогда…
– Я иду со всеми, кто меня приглашает, – говорит женщина, – но сегодня я решила справить свои именины. Я решила сама кого-нибудь пригласить. Пожалуйста, не откажитесь…
Мы поднимаемся по темной лестнице, среди кошек. Входим в маленькую комнату.
На столе – самовар, орехи, варенье и крендель.
Мы молча пьем чай. Я не знаю, что мне говорить. И она сконфужена моим молчанием.
– Разве у вас никого нет – друзей, близких?
– Нет, – говорит она, – я приезжая, из Ростова.
Попив чаю, я надеваю пальто, чтоб уйти.
– Неужели я вам так не нравлюсь, что вы даже не хотите остаться у меня? – говорит она.
Мне весело и смешно. Я не чувствую к ней брезгливости. Я целую на прощанье ее толстые губы. И она спрашивает меня:
– Зайдешь еще разок?
Я выхожу на лестницу. Может быть, запомнить ее квартиру? В темноте я считаю, сколько ступенек до ее двери. Но сбиваюсь. Может быть, чиркнуть спичку – взглянуть на номер ее квартиры? Нет, не стоит. Я больше не приду к ней.
Я прохожу по вагонам. В руках у меня щипчики для пробивания железнодорожных билетов.
Мои щипчики высекают полумесяц.
Шикарная ветка Кисловодск – Минеральные Воды обслуживается летом студентами. И вот почему я здесь, на Кавказе. Я приехал сюда на заработок.
Кисловодск. Я выхожу на платформу. У дверей вокзала огромный жандарм, с медалями на груди. Он застыл, как монумент.
Вежливо кланяясь и улыбаясь, подходит ко мне кассир.
– Коллега, – говорит он мне (хотя он не студент), – на пару слов… В другой раз вы не пробивайте щипчиками билеты, а возвращайте мне…
Эти слова он произносит спокойно, улыбаясь, как будто речь идет о погоде.
Я растерянно бормочу:
– Зачем?.. Для того чтоб вы их… еще раз продали?..
– Ну да… У меня уже есть договоренность почти со всеми вашими… Доход пополам…
– Мерзавец!.. Вы врете! – бормочу я. – Со всеми?
Кассир пожимает плечами.
– Ну, не со всеми, – говорит он, – но… со многими… А что вас так удивляет? Все так делают… Да разве мог бы я жить на тридцать шесть рублей… Я даже не считаю это преступлением. Нас толкают на это…
Резко повернувшись, я ухожу. Кассир догоняет меня.
– Коллега, – говорит он, – если не хотите – не надо, я не настаиваю… только не вздумайте кому-нибудь об этом рассказать. Во-первых – никто не поверит. Во-вторых – доказать нельзя. В-третьих – прослывете лжецом, склочником…
Я медленно бреду к дому… Идет дождь…
Я удивлен больше чем когда-либо в жизни.
Станция Минутка. У меня тихая комната с окнами в сад.
Мое счастье и тишина длятся недолго. В соседнюю комнату въезжает прибывшая из Пензы актриса цирка Эльвира. По паспорту она – Настя Горохова.
Это здоровенная особа, почти неграмотная.
В Пензе у нее был короткий роман с генералом. В настоящее время генерал приехал с супругой на «Кислые воды». Эльвира приехала вслед за ним, неизвестно на что рассчитывая.
Все мысли Эльвиры с утра до ночи направлены в сторону несчастного генерала.
Показывая свои руки, которые под куполом цирка выдерживали трех мужчин, Эльвира говорит мне:
– Вообще говоря, я могла бы спокойно его убить. И больше восьми лет мне бы за это не дали… Как вы думаете?
– А, собственно, что вы от него хотите? – спрашиваю я ее.
– Как что! – говорит Эльвира. – Я приехала сюда исключительно ради него. Я живу тут почти месяц и, как дура, плачу за все сама. Я хочу, чтобы он хотя бы из приличия оплатил бы мне проезд в оба конца. Я хочу написать ему об этом письмо.
За неграмотностью Эльвиры, это письмо пишу я. Я пишу вдохновенно. Мою руку водит надежда, что Эльвира, получив деньги, уедет в Пензу.
Я не помню, что я написал. Я только помню, что, когда прочитал это письмо Эльвире, она сказала: «Да, это крик женской души… И я непременно его убью, если он мне ничего не пришлет после этого».
Мое письмо перевернуло все внутренности генерала. И он с посыльным прислал Эльвире пятьсот рублей. Это были громадные и даже грандиозные деньги по тогдашнему времени.
Эльвира была ошеломлена.
– Имея такие деньги, – сказала она, – просто было бы глупо уехать из Кисловодска.
Она осталась. И осталась с мыслями, что только я причина ее богатства.
Теперь она почти не выходила из моей комнаты.
Хорошо, что вскоре началась мировая война. Я уехал.
1915–1917
- Судьба ко мне добрее отнеслась,
- Чем к множеству других…
Я еду из Вятки в Казань за пополнением для моего полка. Еду на почтовых лошадях. Иного сообщения нет. Я еду в кибитке, завернутый в одеяла и в шубы.
Три лошади бегут по снегу. Кругом пустынно. Лютый мороз.
Рядом со мной прапорщик С. Мы вместе с ним едем за пополнением.
Мы едем второй день. Все слова сказаны. Все воспоминания повторены. Нам безумно скучно.
Вытащив из кобуры «наган», прапорщик С. стреляет в белые изоляторы на телеграфных столбах.
Меня раздражают эти выстрелы. Я сержусь на прапорщика С. Я грубо ему говорю:
– Прекрати… болван!
Я ожидаю скандала, крика. Но вместо этого я слышу жалобный голос в ответ. Он говорит:
– Прапорщик Зощенко… не надо меня останавливать. Пусть я делаю что хочу. Я приеду на фронт, и меня убьют.
Я гляжу на его курносый нос, я смотрю в его жалкие голубоватые глаза. Я вспоминаю его лицо почти через тридцать лет. Он действительно был убит на второй день после того, как приехал на позицию.
В ту войну прапорщики жили в среднем не больше двенадцати дней.
Мы входим в зал. На окнах малиновые бархатные занавеси. В простенках зеркала в золоченых рамах.
Гремит вальс. Это играет на рояле человек во фраке. У него в петлице астра. Но морда у него – убийцы.
На диванах и в креслах сидят офицеры и дамы. Несколько пар танцует.
Входит пьяный корнет. Поет: «Австрийцы надурачили, войну с Россией начали…»
Все подхватывают песню. Смеются.
Я сажусь на диван. Рядом со мной женщина. Ей лет тридцать. Она толстовата. Черная. Веселая.
Заглядывая в мои глаза, она говорит:
– Потанцуем?
Я сижу мрачный, хмурый. Отрицательно качаю головой.
– Спать хочется? – спрашивает она. – Тогда пойдем ко мне.
Мы идем в ее комнату. В комнате китайский фонарь. Китайские ширмочки. Китайские халаты. Это забавно. Смешно.
Мы ложимся спать.
Уже двенадцать. Глаза мои слипаются. Но я не могу заснуть. Мне нехорошо. Тоскливо. Беспокойно. Я томлюсь.
Ей скучно со мной. Она ворочается, вздыхает. Дотрагивается до моего плеча. Говорит:
– Ты не рассердишься, если я ненадолго пойду в зал? Там сейчас играют в лото. Танцуют.
– Пожалуйста, – говорю я.
С благодарностью она меня целует и уходит. Я тотчас засыпаю.
Под утро ее нет, и я снова смыкаю глаза.
Попозже она безмятежно спит, и я, тихонько одевшись, ухожу.
Я вхожу в избу. На столе керосиновая лампа. Офицеры играют в карты. На походной кровати, покуривая трубку, сидит подполковник.
Я здороваюсь.
– Располагайтесь, – говорит подполковник. И, обернувшись к играющим, почти кричит: – Поручик К.! Восемь часов. Вам пора идти на работу.
Лихого вида поручик, красивый, с тонкими усиками, сдавая карты, отвечает:
– Есть, Павел Николаевич… Сейчас… Вот только доиграю.
Я с восхищением гляжу на поручика. Сейчас ему идти «на работу» – в ночь, в темноту, в разведку, в тыл. Может быть, он будет убит, ранен. А он так легко, так весело и шутливо отвечает.
Просматривая какие-то бумаги, подполковник говорит мне:
– Вот отдыхайте, а завтра и вас «на работу» пошлем.
– Есть, – отвечаю я.
Поручик уходит. Офицеры ложатся спать. Тихо. Я прислушиваюсь к далеким ружейным выстрелам. Это моя первая ночь вблизи от фронта. Мне не спится.
Под утро возвращается поручик К. Он грязный, усталый.
Я сочувственно его спрашиваю:
– Не ранены?
Поручик пожимает плечами.
Я говорю:
– Сегодня мне тоже предстоит «работка».
Улыбаясь, поручик говорит:
– Да вы что думаете, что я на боевую операцию ходил? Я с батальоном ходил на работу. Отсюда три километра, в тыл. Мы там делаем вторую линию укрепления.
Мне ужасно неловко, совестно. Я едва не плачу от досады.
Но поручик уже храпит.
Два солдата режут свинью. Свинья визжит так, что нет возможности перенести. Я подхожу близко.
Один солдат сидит на свинье. Рука другого, вооруженная ножом, ловко вспарывает брюхо. Белый жир необъятной толщины распластывается на обе стороны.
Визг такой, что впору заткнуть уши.
– Вы бы ее, братцы, чем-нибудь оглушили, – говорю я. – Чего же ее так кромсать.
– Нельзя, ваше благородие, – говорит первый солдат, сидящий на свинье. – Не тот вкус будет.
Увидев мою серебряную шашку и вензеля на погонах, солдат вскакивает. Свинья вырывается.
– Сиди, сиди, – говорю я. – Уж доканчивайте скорей.
– Быстро тоже нехорошо, – говорит солдат с ножом. – Крайняя быстрота сало портит.
С сожалением посмотрев на меня, первый солдат говорит:
– Ваше благородие, война! Люди стонут. А вы свинью жалеете.
Сделав финальный жест ножом, второй солдат говорит:
– Нервы у их благородия.
Разговор принимает фамильярный оттенок. Это не полагается. Я хочу уйти, но не ухожу.
Первый солдат говорит:
– В Августовских лесах раздробило мне кость вот в этой руке. Сразу на стол. Полстакана вина. Режут. А я колбасу кушаю.
– И не больно?
– Как не больно? Исключительно больно… Съел колбасу. «Дайте, говорю, сыру». Только съел сыр, хирург говорит: «Готово, зашиваем». – «Пожалуйста», – говорю… Вот вам, ваше благородие, этого не выдержать.
– Нервы слабые у их благородия, – снова говорит второй солдат.
Я ухожу.
Ровно в двенадцать ночи мы выходим из окопов. Очень темно. В руках у меня «наган».
– Тише, тише, – шепчу я, – не гремите котелками.
Но грохот унять невозможно.
Немцы начинают стрелять. Досадно. Значит, они заметили наш маневр.
Под свист и визг пуль мы бежим вперед, чтобы выбить немцев из их траншей.
Поднимается ураганный огонь. Стреляют пулеметы, винтовки. И в дело входит артиллерия.
Вокруг меня падают люди. Я чувствую, что пуля обжигает мою ногу. Но я бегу вперед.
Вот мы уже у самых немецких заграждений. Мои гренадеры режут проволоку.
Неистовый пулеметный огонь прекращает нашу работу. Нет возможности поднять руку. Мы лежим неподвижно.
Мы лежим час, а может, два.
Наконец телефонист протягивает мне телефонную трубку. Говорит командир батальона.
– Отступайте на прежние позиции.
Я отдаю приказ по цепи.
Мы ползем назад.
Утром в полковом лазарете мне делают перевязку. Рана незначительная. И не пулей, а осколком снаряда.
Командир полка, князь Макаев, говорит мне:
– Я очень доволен вашей ротой.
– Мы ничего не сделали, ваше сиятельство, – сконфуженно отвечаю я.
– Вы сделали то, что требовалось. Ведь это была демонстрация, а не наступление.
– Ах, это была демонстрация?
– Это была просто демонстрация. Мы должны были отвлечь противника от левого фланга. Именно там и было наступление.
Я чувствую в своем сердце невероятную досаду, но не показываю вида.
Перед балконом дачи – красивая клумба со стеклянным желтым шаром на подставке.
Убитых привозят на телегах и складывают на траву возле этой клумбы.
Их складывают, как дрова, друг на друга.
Они лежат желтые и неподвижные, как восковые куклы.
Сняв стеклянный шар с подставки, гренадеры роют братскую могилу.
У крыльца стоят командир полка и штабные офицеры. Приходит полковой священник.
Тихо. Где-то далеко рявкает артиллерия.
Убитых опускают в яму на полотенцах.
Священник ходит вокруг и произносит слова панихиды. Мы держим руки под козырек.
Могилу утрамбовывают ногами. Водружают крест.
Неожиданно приезжает еще подвода с убитыми.
Командир полка говорит:
– Ну, как же так, господа. Надо было бы вместе.
Фельдфебель, приехавший на телеге, рапортует:
– Не всех сразу нашли, ваше сиятельство. Эти были на левом краю, в лощине.
– Что же делать? – говорит командир.
– Разрешите доложить, ваше сиятельство, – говорит фельдфебель. – Нехай эти полежат. Может, завтра будет еще. И тогда вместе захороним.
Командир согласен. Убитых относят в сарай.
Мы идем обедать.
Полк растянулся по шоссе. Солдаты измучены, устали. Второй день, почти не отдыхая, мы идем по полям Галиции.
Мы отступаем. У нас нет снарядов.
Командир полка приказывает петь песни.
Пулеметчики, гарцуя на лошадях, запевают: «По синим волнам океана».
Со всех сторон мы слышим выстрелы, взрывы. Такое впечатление, будто мы в мешке.
Мы проходим мимо деревни. Солдаты бегут к избам. У нас приказ – уничтожить все, что на шоссе.
Это мертвая деревня. Ее не жалко. Здесь нет ни души. Здесь нет даже собак. Нет даже ни одной курицы, которые обычно бывают в брошенных деревнях.
Гренадеры подбегают к маленьким избам и поджигают соломенные крыши. Дым поднимается к небу.
И вдруг в одно мгновение мертвая деревня оживает. Бегут женщины, дети. Появляются мужчины. Ревут коровы. Ржут лошади. Мы слышим крики, плач и визг.
Я вижу, как один солдат, только что поджегший крышу, сконфуженно гасит ее своей фуражкой.
Я отворачиваюсь. Мы идем дальше.
Мы идем до вечера. И потом идем ночью. Кругом зарево пожаров. Выстрелы. Взрывы.
Под утро командир полка говорит:
– Теперь я могу сказать. Два дня наш полк был в мешке. Сегодня ночью мы вышли из него.
Мы падаем на траву и тотчас засыпаем.
Я запомнил название этой деревни – Тухла.
Здесь мы наспех вырыли окопы. Но проволочные заграждения натянуть не успели. Колючая проволока в больших мотках лежит позади нас.
Вечером я получаю приказ – идти в штаб. Под свист пуль я иду вместе с моим вестовым.
Я вхожу в землянку штаба полка.
Командир полка, улыбаясь, говорит мне:
– Малыш, оставайтесь в штабе. Адъютант в дальнейшем примет батальон. Вы будете вместо него.
Я ложусь спать в шалаше. Снимаю сапоги в первый раз за неделю.
Рано утром я просыпаюсь от взрыва снарядов. Я выбегаю из шалаша.
Командир полка и штабные офицеры стоят у оседланных лошадей. Я вижу, что все взволнованы и даже потрясены. Вокруг нас падают снаряды, визжат осколки и рушатся деревья. Тем не менее офицеры стоят неподвижно, как каменные.
Начальник связи, отчеканивая слова, говорит мне:
– Полк окружен и взят в плен. Минут через двадцать немцы будут здесь… Со штабом дивизии связи нет… фронт разорван на шесть километров.
Нервно дергая свои седые баки, командир полка кричит мне:
– Скорей скачите в штаб дивизии. Спросите, какие будут указания… Скажите, что мы направились в обоз, где стоит наш резервный батальон…
Вскочив на лошадь, я вместе с ординарцем мчусь по лесной дороге.
Раннее утро. Солнце золотит полянку, которая видна справа от меня.
Я выезжаю на эту полянку. Я хочу посмотреть, что происходит и где немцы. Я хочу представить себе полную картину прорыва.
Я соскакиваю с лошади и иду на вершину холма.
Я весь сияю на солнце – шашкой, погонами и биноклем, который я прикладываю к своим глазам. Я вижу какие-то далекие колонны и конную немецкую артиллерию. Я пожимаю плечами. Это очень далеко.
Вдруг выстрел. Один, другой, третий. Трехдюймовые снаряды ложатся рядом со мной. Я еле успеваю лечь.
И, лежа, вдруг вижу внизу холма немецкую батарею. До нее не более тысячи шагов.
Снова выстрелы. И теперь шрапнель разрывается надо мной.
Ординарец машет мне рукой. Другой рукой он показывает на нижнюю дорогу, по которой идет батальон немцев.
Я вскакиваю на лошадь. И мы мчимся дальше.
Карьером я подъезжаю к высоким воротам. Здесь штаб дивизии.
Я взволнован и возбужден. Воротник моего френча расстегнут. Фуражка на затылке.
Соскочив с лошади, я вхожу в калитку.
Ко мне стремительно подходит штабной офицер, поручик Зрадловский. Он цедит сквозь зубы:
– В таком виде… Застегните ворот…
Я застегиваю воротник и поправляю фуражку.
У оседланных лошадей стоят штабные офицеры.
Я вижу среди них начальника дивизии, генерала Габаева, и начальника штаба, полковника Шапошникова.
Я рапортую.
– Знаю, – раздраженно говорит генерал.
– Что прикажете передать командиру, ваше превосходительство?
– Передайте, что…
Я чувствую какую-то брань на языке генерала, но он сдерживается.
Офицеры переглядываются. Начальник штаба чуть усмехается.
– Передайте, что… Ну, что я могу передать человеку, который потерял полк… Вы зря приехали…
Я ухожу сконфуженный.
Я снова скачу на лошади. И вдруг вижу моего командира полка. Он высокий, худой. В руках у него фуражка. Седые его баки треплет ветер. Он стоит на поле и задерживает отступающих солдат. Это солдаты не нашего полка. Командир подбегает к каждому с криком и с мольбой.
Солдаты покорно идут к опушке леса. Я вижу здесь наш резервный батальон и двуколки обоза.
Я подхожу к офицерам. К ним подходит и командир полка. Он бормочет:
– Мой славный Мингрельский полк погиб.
Бросив фуражку на землю, командир в гневе топчет ее ногой.
Мы утешаем его. Мы говорим, что у нас осталось пятьсот человек. Это не мало. У нас снова будет полк.
Мы сидим в каком-то овине. До окопов семьсот шагов. Свистят пули. И снаряды рвутся совсем близко от нас. Но командир полка Бало Макаев радостен, почти весел. У нас снова полк – наспех пополненный батальоном.
Трое суток мы сдерживаем натиск немцев и не отступаем.
– Пишите, – диктует мне командир.
На моей полевой сумке тетрадь. Я пишу донесение в штаб дивизии.
Тяжелый снаряд разрывается в десяти шагах от овина. Мы засыпаны мусором, грязью, соломой.
Сквозь дым и пыль я вижу улыбающееся лицо командира.
– Ничего, – говорит он, – пишите.
Я снова принимаюсь писать. Мой карандаш буквально подпрыгивает от близких разрывов. Через двор от нас горит дом. Снова с ужасным грохотом разрывается тяжелый снаряд. Это уже совсем рядом с нами. С визгом и со стоном летят осколки. Маленький горячий осколок я для чего-то прячу в карман.
Нет нужды сидеть в этом овине, над которым теперь нет даже крыши.
– Ваше сиятельство, – говорю я, – разумней перейти на переднюю линию.
– Мы останемся здесь, – упрямо говорит командир.
Ураганный артиллерийский огонь обрушивается на деревню. Воздух наполнен стоном, воем, визгом и скрежетом. Мне кажется, что я попал в ад.
Мне казалось, что я был в аду! В аду я был двадцать пять лет спустя, когда через дом от меня разорвалась немецкая бомба весом в полтонны.
В руках у меня чемодан. Я стою на станции Залесье. Сейчас подадут поезд, и я через Минск и Дно вернусь в Петроград.
Подают состав. Это все теплушки и один классный вагон. Все бросаются к поезду.
Вдруг выстрелы. По звуку – зенитки. На небе появляются немецкие самолеты. Их три штуки. Они делают круги над станцией. Солдаты беспорядочно стреляют в них из винтовок.
Две бомбы с тяжелым воем падают с самолетов и разрываются около станции.
Мы все бежим в поле. На поле – огороды, госпиталь с красным крестом на крыше и поодаль какие-то заборы.
Я ложусь на землю у забора.
Покружившись над станцией и сбросив еще одну бомбу, самолеты берут курс на госпиталь. Три бомбы почти одновременно падают у заборов, взрывая вверх землю. Это уже свинство. На крыше огромный крест. Его не заметить нельзя.
Еще три бомбы. Я вижу, как они отрываются от самолетов. Я вижу начало их падения. Затем только вой и свист воздуха.
Снова стреляют наши зенитки. Теперь осколки и стаканы нашей шрапнели осыпают наше поле. Я прижимаюсь к забору. И вдруг через щелочку вижу, что за забором артиллерийский склад.
Сотни ящиков с артиллерийскими снарядами стоят под открытым небом.
На ящиках сидит часовой и глазеет на самолеты.
Я медленно поднимаюсь и глазами ищу место, куда мне деться. Но деться некуда. Одна бомба, попавшая в ящики, перевернет все вокруг на несколько километров.
Сбросив еще несколько бомб, самолеты уходят.
Я медленно иду к поезду и в душе благословляю неточную стрельбу. Война станет абсурдом, думаю я, когда техника достигнет абсолютного попадания. За этот год я был бы убит минимум сорок раз.
Звоню. Дверь открывает Надя В. Она вскрикивает от удивления. И бросается мне на шею.
На пороге ее сестры и мама.
Мы идем на улицу, чтоб спокойно поговорить. Мы садимся на скамью у памятника «Стерегущему».
Сжимая мои руки, Надя плачет. Сквозь слезы она говорит:
– Как глупо. Зачем вы мне ничего не писали. Зачем уехали так неожиданно. Ведь прошел год. Я выхожу замуж.
– Вы любите его? – спрашиваю я, еще не зная, о ком идет речь.
– Нет, я его не люблю. Я люблю вас. Я больше никого не полюблю. Я откажу ему.
Она снова плачет. И я целую ее лицо, мокрое от слез.
– Но как я могу ему отказать, – говорит Надя, медленно перебивая себя. – Ведь мы обменялись кольцами. И была помолвка. В этот день он подарил мне именье в Смоленской губернии.
– Тогда не надо, – говорю я. – Ведь я же снова уеду на фронт. И что вам меня ждать? Может, я буду убит или ранен.
Надя говорит:
– Я все обдумаю. Я все решу сама. Не надо мне ничего говорить… Я вам отвечу послезавтра.
На другой день я встречаю Надю на улице. Она идет под руку со своим женихом.
В этом нет ничего особенного. Это естественно. Но я взбешен.
Вечером я посылаю Наде записку о том, что меня срочно вызывают на фронт. И через день я уезжаю.
Это был самый глупый и бестолковый поступок в моей жизни.
Я ее очень любил. И эта любовь не прошла до сих пор.
У подъезда я встречаю Тату Т. Она так красива и так ослепительна, что я отвожу от нее глаза, как от солнца.
Она смеется, увидев меня. Она с любопытством рассматривает мою форму и трогает мою серебряную шашку. Потом говорит, что я стал совсем взрослым и что даже неприлично, если люди увидят нас вместе. Непременно будут сплетни.
Мы поднимаемся по лестнице.
Позвякивая шпорами, я вхожу в ее квартиру.
У зеркала Тата поправляет свои волосы. Я подхожу к ней и обнимаю ее. Она смеется. Удивляется, что я стал такой храбрый. Она обнимает меня так, как когда-то на лестнице.
Мы целуемся. И в сравнении с этим весь мир кажется мне ничтожным. И ей тоже безразлично, что происходит кругом.
Потом она смотрит на часы и вскрикивает от страха. Говорит:
– Сейчас придет мой муж.
И в эту минуту открывается дверь, и входит ее муж.
Тата едва успевает поправить свою прическу.
Муж садится в кресло и молча смотрит на нас.
Тата, не растерявшись, говорит:
– Николай, ты только посмотри на него, какой он стал. Ведь он только сию минуту приехал с фронта.
Кисло улыбаясь, муж смотрит на меня.
Разговор не вяжется. И я, церемонно поклонившись, ухожу. Тата провожает меня.
Открыв дверь на лестницу, она шепчет мне:
– Приходи завтра днем. Он уходит в одиннадцать.
Я молча киваю головой.
Лицо ее мужа и кислая его улыбка целый день не выходят из моей головы. Мне кажется ужасным – и даже преступным – пойти к ней завтра днем.
Утром я посылаю Тате записку о том, что я срочно уезжаю на фронт.
Вечером я уезжаю в Москву и, пробыв там несколько дней, возвращаюсь в полк.
Я командир батальона. Я обеспокоен тем, что дисциплина у меня падает.
Мои гренадеры с улыбкой отдают мне честь. Они почти подмигивают мне. Вероятно, я сам виноват. Я слишком много беседую с ними. Около моей землянки целый день толкутся люди. Некоторым нужно написать письма. Другие приходят за советом.
Какие могут быть советы, если я за спиной слышу, что они меня называют «внучек».
Дошло до того, что из моей землянки стали пропадать вещи. Исчезла трубка. Зеркало для бритья. Исчезают конфеты, бумага.
Надо будет всех подтянуть и приструнить.
Мы на отдыхе. Я сплю в избе на кровати.
Сквозь сон я вдруг чувствую, что чья-то рука тянется через меня к столу. Я вздрагиваю от ужаса и просыпаюсь.
Какой-то солдатик стремительно выскакивает из избы.
Я бегу за ним с «наганом» в руках. Я взбешен так, как никогда в жизни. Я кричу: «Стой!» И если бы он не остановился, я бы в него выстрелил. Но он остановился.
Я подхожу к нему. И он вдруг падает на колени. В руках у него моя безопасная бритва в никелированной коробочке.
– Зачем же ты взял? – спрашиваю я его.
– Для махорки, ваше благородие, – бормочет он.
Я понимаю, что его надо наказать, отдать под суд. Но у меня не хватает сил это сделать. Я вижу его унылое лицо, жалкую улыбку, дрожащие руки. Мне отвратительно, что я погнался за ним.
Вынув бритву, я отдаю ему коробку. И ухожу, раздраженный на самого себя.
Я стою в окопах и с любопытством посматриваю на развалины местечка. Это – Сморгонь. Правое крыло нашего полка упирается в огороды Сморгони.
Это знаменитое местечко, откуда бежал Наполеон, передав командование Мюрату.
Темнеет. Я возвращаюсь в свою землянку.
Душная июльская ночь. Сняв френч, я пишу письмо.
Уже около часа. Надо ложиться. Я хочу позвать вестового. Но вдруг слышу какой-то шум. Шум нарастает. Я слышу топот ног. И звяканье котелков. Но криков нет. И нет выстрелов.
Я выбегаю из землянки. И вдруг сладкая удушливая волна охватывает меня. Я кричу: «Газы!.. Маски!..» И бросаюсь в землянку. Там у меня на гвозде висит противогаз.
Свеча погасла, когда я стремительно вбежал в землянку. Рукой я нащупал противогаз и стал надевать его. Забыл открыть нижнюю пробку. Задыхаюсь. Открыв пробку, выбегаю в окопы.
Вокруг меня бегают солдаты, заматывая свои лица марлевыми масками.
Нашарив в кармане спички, я зажигаю хворост, лежащий перед окопами. Этот хворост приготовлен заранее. На случай газовой атаки.
Теперь огонь освещает наши позиции. Я вижу, что все гренадеры вышли из окопов и лежат у костров. Я тоже ложусь у костра. Мне нехорошо. Голова кружится. Я проглотил много газа, когда крикнул: «Маски!»
У костра становится легче. Даже совсем хорошо. Огонь поднимает газы, и они проходят, не задевая нас. Я снимаю маску.
Мы лежим четыре часа.
Начинает светать. Теперь видно, как идут газы. Это не сплошная стена. Это клуб дыма шириной в десять саженей. Он медленно надвигается на нас, подгоняемый тихим ветром.
Можно отойти вправо или влево – и тогда газ проходит мимо, не задевая.
Теперь не страшно. Уже кое-где я слышу смех и шутки. Это гренадеры толкают друг друга в клубы газа. Хохот. Возня.
Я в бинокль гляжу в сторону немцев. Теперь я вижу, как они из баллонов выпускают газ. Это зрелище отвратительно. Бешенство охватывает меня, когда я вижу, как методически они это делают.
Я приказываю открыть огонь по этим мерзавцам. Я приказываю стрелять из всех пулеметов и ружей, хотя понимаю, что вреда мы принесем мало – расстояние полторы тысячи шагов.
Гренадеры стреляют вяло. И стрелков немного. Я вдруг вижу, что многие солдаты лежат мертвые. Их – большинство. Иные же стонут и не могут подняться.
Я слышу звуки рожка в немецких окопах. Это отравители играют отбой. Газовая атака окончена.
Опираясь на палку, я бреду в лазарет. На моем платке кровь от ужасающей рвоты.
Я иду по шоссе. Я вижу пожелтевшую траву и сотню дохлых воробьев, упавших на дорогу.
Наш полк снова на отдыхе.
На розвальнях мы едем в обоз второго разряда – там предстоит ужин.
Начальник обоза встречает дорогих гостей.
На столе бурдюки с вином, шашлыки и всякая снедь.
Я сижу за столом с сестрой милосердия Клавой. Я уже пьян. Но нужно пить еще. Каждый стакан сопровождается тостом.
Я чувствую, что мне не следует больше пить. После газов у меня непорядки в сердце.
Чтобы не пить, я выхожу на улицу. И сажусь на крыльцо.
Приходит Клава и удивляется, что я сижу без пальто на морозе. Она за руку ведет меня в свою комнату. Там тепло. Мы садимся на ее постель.
Но отсутствие наше уже замечено. Со смехом и шутками офицеры стучат в окно нашей комнаты.
Мы снова идем к столу.
Утром мы возвращаемся на стоянку полка. И я как камень засыпаю на своей походной койке.
Я просыпаюсь от воя и взрыва бомб. Немецкий самолет бомбит деревню. Это не та бомбежка, что мы знаем из последней войны. Это четыре бомбы – и самолет улетает.
Я выхожу на улицу. И вдруг чувствую, что не могу дышать. Сердце мое останавливается. Я берусь за пульс – пульса нет.
С невероятным трудом, держась за заборы, я дохожу до нашего околотка.
Врач, покачивая головой, кричит:
– Камфору!
Мне впрыскивают камфору.
Я лежу, почти умирая. У меня немеет левая часть груди. Пульс у меня сорок.
– Вам нельзя пить, – говорит врач. – Порок сердца.
И я даю себе слово больше не пить.
Меня везут в госпиталь по талому февральскому снегу.
1917–1920
- Обратно к войскам поскакал на коне,
- И новым повеяло ветром в стране…
Первые числа марта. С вокзала я еду на извозчике домой.
Я еду мимо Зимнего дворца. Вижу на дворце красный флаг.
Значит – новая жизнь. Новая Россия. И я – новый, не такой, как был. Пусть все позади – мои огорчения, нервы, моя хандра, мое больное сердце.
С восторгом я вхожу в свой родной дом. И в тот же день обхожу всех моих друзей. Я вижу Надю и ее мужа. Встречаю Тату Т. Захожу к товарищам по университету.
Я вижу кругом радость и ликование. Все довольны, что произошла революция. Кроме Нади, которая сказала мне: «Это ужасно. Это опасно для России. Я не жду ничего хорошего».
Два дня я чувствую себя прекрасно. На третий день у меня снова хандра, снова перебои сердца, мрак и меланхолия.
Я ничего не понимаю. Я теряюсь в догадках, откуда возникла эта тоска. Ее не должно быть!
Вероятно, нужно работать. Вероятно, нужно все силы отдать людям, стране, новой жизни.
Я иду в главный штаб, к представителю Временного правительства. Я прошу его снова назначить меня в армию.
Но я негоден в строй, и меня назначают комендантом главного почтамта и телеграфа.
То, что мне больше всего неприятно, – исполнилось. Я сижу в кабинете и подписываю какие-то бумаги. Эта работа мне противна в высшей степени.
Я иду снова в штаб и прошу командировать меня куда-либо в провинцию.
Мне предлагают Архангельск – адъютантом дружины. Я соглашаюсь.
Через неделю я должен ехать.
За мной заходит правовед Л. Мы собираемся идти в один весьма аристократический дом – к княгине Б.
Л. просит меня надеть все мои ордена.
– Ей будет приятно, – говорит он. – Ее муж до сих пор на фронте. Он командует гвардейской дивизией.
Я показываю свои ордена. Один орден – на моей кавказской шашке. Два ордена приклепаны на моем портсигаре. Четвертый орден носится на шее. Мне вообще как-то неловко его надеть. Пятый орден я не получил на руки – только в приказе.
Л. настаивает. Он прилаживает орден под воротник моего френча.
Чувствуя себя неважно, я иду с правоведом на Офицерскую.
Мне не приходилось раньше бывать среди аристократии. Февральская революция сломала сословные перегородки. И вот я иду в этот дом.
В маленькой гостиной два гвардейских офицера, несколько правоведов и лицеист.
Княгиня нехороша собой – небольшого роста, с мелкими чертами лица. Но она держится очень просто. И я не чувствую неловкости.
Лакей бесшумно вкатывает в комнату стеклянный столик на колесиках. Княгиня разливает чай.
Разговор все время вокруг царской фамилии. Все время речь идет о Николае, об отречении, о здоровье того или иного члена царской семьи. О самочувствии супруги. И о всяких придворных делах и поступках.
Я как бревно сижу в кресле, со своим орденом на шее. Мне абсолютно нечего сказать на эту тему. Я с тоской посматриваю на моего знакомого правоведа. Он отводит глаза от меня.
Попив чай, мы переходим в большую гостиную. Однако тема разговора не меняется.
Наконец кто-то из правоведов начинает петь модную тогда песенку: «По улицам ходила большая крокодила…» Все подхватывают эту песенку.
Они поют ее пять или шесть раз и при этом смеются. Один из правоведов берет в зубы какой-то шарф, когда песенка доходит до слов: «В зубах она держала кусочек одеяла…»
Все страшно смеются. И княгиня снисходительно посмеивается.
В семь часов мы выходим на улицу. Л. спрашивает меня, как мне понравилось. Я пожимаю плечами.
Я приехал в Архангельск мрачный, в ужасной тоске. Тем не менее, а может быть и поэтому, меня там начали сватать.
Мне прочили в невесты Ваву М. – дочь очень богатого рыботорговца.
Я не видел эту девушку, и она не видела меня. Но там было принято такое сватовство. Это занимало дам, которым нечего было делать.
Мою встречу с невестой обставили торжественно – в зимнем саду какого-то богатого дома.
Передо мной была очень юная, очень тихая девушка.
Нас оставили вдвоем, чтоб мы побеседовали.
Я всегда был неразговорчив. Но в тот вечер случилась просто катастрофа. Я клещами вытаскивал из себя слова, чтобы заполнить ужасающие паузы.
Девушка испуганно смотрела на меня и тоже молчала.
Я ниоткуда не ждал спасения. Все ушли в дальние комнаты и плотно прикрыли дверь зимнего сада.
Тогда я стал читать стихи.
Я стал читать стихи из модной книжки В. Инбер – «Печальное вино». Потом я стал читать Блока и Маяковского.
Вава слушала меня внимательно, не проронив слова.
Когда в гостиную вошли люди, я был почти весел. Я спросил Ваву, понравилось ли то, что я ей читал. Она тихо сказала:
– Я не люблю стихи.
– Так зачем же вы целый час слушали их! – воскликнул я, глухо пробормотав: «Дура».
– Это было бы невежливостью с моей стороны не слушать то, что вы говорите.
Почти по-солдатски я повернулся на каблуках и, взбешенный, отошел от девушки.
По вторникам и субботам мы бываем у Д. Это молодая женщина, вдова морского офицера.
У нее всегда очень весело. Она остроумна и кокетлива.
Я не имею у нее успеха. Ей нравится мичман Т. – добродушный широкоплечий офицер.
Вечер. Мы играем у нее в покер. Д. кокетничает с мичманом. Она как бы невзначай прикасается рукой к его руке и подолгу смотрит в его глаза. Похоже на то, что она пригласит его бывать у себя не только по вторникам и субботам.
Впрочем, со мной она тоже приветлива. Но не настолько. Она говорит, что я слишком инертен, немужественен, печален. Меланхолия – это не ее идеал.
Мы уходим от нее ночью. И на улице подшучиваем над мичманом, который загадочно улыбается.
Утром я не нахожу свои перчатки. Мне очень жаль их. Это английские замшевые перчатки. Должно быть, я оставил их у Д.
По телефону я звоню Д. В ответ я слышу продолжительный смех. Сквозь смех она говорит мне:
– Ах, это ваши перчатки? Я почему-то была уверена, что это перчатки мичмана…
Я захожу к ней в назначенный час. Она не отпускает меня, и мы пьем чай в ее будуаре.
Попив чай, она склоняет свою голову мне на грудь. И я ухожу от нее через три часа.
В передней она подает мне мои замшевые перчатки.
– Вот ваши перчатки, плутишка, – говорит она, улыбаясь. – Согласитесь сами, что это немножко наивный прием – оставить перчатки, чтоб потом прийти к даме.
Я бормочу извинения. Смеясь, она грозит мне пальцем. Вздохнув, говорит:
– Как видите, я оценила вашу милую уловку. Вы предприимчивы. Я не ожидала этого от вас…
– Мадам, – говорю я, – уверяю вас… Я случайно забыл перчатки… Я не имел никаких намерений…
Я пожалел о том, что я так сказал. Лицо ее стало некрасивое, желтое, почти старое.
– Ах, вот как, – сказала она сквозь зубы. – В таком случае я очень сожалею… О, пусть мне это будет уроком!
Она меня больше не приглашала к себе.
Я бы так же поступил на ее месте.
В кресле против меня французский полковник. Чуть усмехаясь, он говорит:
– Завтра, в двенадцать часов дня, вы можете получить паспорт. Через десять дней вы будете в Париже… Вы должны благодарить мадемуазель Р. Это она оказала вам протекцию.
– Я не просил об этом мадемуазель Р., – говорю я полковнику.
Прищурившись, он смотрит на меня.
– Ах, вот как, – говорит он. – В таком случае извините, я не знал, что это идет вразрез с вашим желанием.
Я говорю:
– Я не собираюсь никуда уезжать, полковник. Это недоразумение.
Пожав плечами, он говорит:
– Мой друг, вы отдаете себе отчет, что происходит в вашей стране?.. Прежде всего это небезопасно для жизни – пролетарская революция… Мы здесь, в Архангельске, чувствуем это еще не в такой степени… Вы должны подумать. Я завтра ожидаю вас в двенадцать.
– Хорошо, я подумаю, – говорю я. Хотя мне нечего думать. У меня нет сомнений. Я не могу и не хочу уехать из России. Я ничего не ищу в Париже.
Вечером ко мне приходит мадемуазель Р. Она француженка. Она не очень хороша собой. Но она очень веселая и смешливая. Кое-что я не понимаю в ней. Она всякий раз берет из пепельницы мой окурок папиросы и прячет его в сумку. «Это на память», – говорит она. Я не могу ее отучить от этой дурной манеры. Вероятно, она провинциалка. Но она утверждает, что она родилась в Париже.
Она спрашивает меня, видел ли я полковника. Я ей рассказываю все, что было. Она немного раздражена. Сердито говорит:
– Это глупо. Все ваши уезжают. Вы здесь все равно не останетесь. Дороги ведут в Париж.
Восторженно она говорит о Париже и о том, как мы сказочно там будем жить.
Я спускаю ее с облаков. Я говорю ей:
– В таком случае зачем же вы уехали из Парижа? Вы здесь всего – гувернантка, учительница. А там вы будете швея.
Она говорит:
– Я приехала сюда к миллионеру. Это интересно… А там я буду не швея, а кокотка.
Мы смеемся.
Я взбегаю на третий этаж одним духом. Сердце мое колотится.
Я звоню у Надиных дверей. Никто не отворяет. Я стучу в дверь сначала тихо, потом стучу ногой.
Открывается соседняя дверь.
– Вам нужно В.? – спрашивает старуха. – Они все уехали.
– Куда?
– Не знаю. Спросите дворника.
Я стою у ворот. Передо мной дворник. Он узнал меня. Улыбается.
– Все В. уехали, – говорит он почти радостно.
– Когда?
– В том месяце. В феврале.
– А вы не знаете, куда они уехали?
– Куда же они могли уехать? К белым… Ну, так ведь папаша – генерал… А тут ваших дробили – красота!.. Конечно, уехали…
Должно быть, увидев смятение на моем лице, дворник сочувственно вздыхает.
– Да вы по ком страдали-то? – спрашивает он. – Что-то я не помню – по Наденьке или по Катеньке.
– По Наденьке.
– Очень милая госпожа, – говорит он. – Папа – генерал, супруг – помещик… Ясно… Взяла младенца и уехала.
– Разве у нее был ребенок?
– Я же говорю – взяла только что родившегося ребенка и уехала.
Я иду домой. Весь мир мне кажется тусклым.
Я сижу на низеньком табурете. На моих коленях чей-то потрепанный сапог. Рашпилем я подравниваю только что прибитую кожу подметки.
Я – сапожник. Мне нравится моя работа. Я презираю интеллигентский труд – это умственное ковыряние, от которого, должно быть, исходят меланхолия и хандра.
Я не вернусь больше к прошлому. Мне довольно того, что у меня есть.
Напротив меня, за низким грязным столом, сидит хозяин Алексей Алексеевич – толстый сапожник в никелированных очках. Рядом с ним его племянник – подросток Андрюшка. Они оба работают сосредоточенно.
Подросток не без лихости бьет молотком по подметке.
Позади, на деревянном диване, – белобрысый хозяйский сын. Оболтусу двадцать лет. Он поступает в консерваторию, на класс скрипки. По этой причине он не работает. Он сидит с газетой в руках.
Засмеявшись, подросток Андрюшка начинает рассказывать историю о том, как летом один жилец свалился из окна второго этажа. Выпив денатурату, он заснул на подоконнике и, потянувшись во сне, упал в сад. Побился, но не убился.
Третью неделю я каждый день слышу эту историю. Тем не менее все смеются. И я тоже смеюсь – это почему-то смешно.
На наш смех иной раз выходит из кухни хозяйка и, встав у дверей, тоже смеется, утирая передником рот и глаза.
Хозяин, впрочем, не позволяет рассказывать эту историю. Он сердится и бранится, когда начинается этот рассказ. Но его самого захватывают подробности, и он смеется сильнее всех, держась рукой за живот. У него язва желудка, и ему нельзя смеяться. Поэтому он запрещает этот рассказ.
Однако подросток либо хозяйский сын нарочно заводят об этом речь. Они начинают издалека, как бы с посторонних предметов – с выпивки, с денатурата, со спящих людей. Но всякий раз подгоняют рассказ к происшествию.
На этот раз подросток начинает с дворника, который испугался. Хозяйский сын подбрасывает несколько фраз не в пользу дворника. И тогда подросток, взвизгивая от смеха, рассказывает подробности – как бросился бежать этот дворник, когда рука падающего жильца ударила его по плечу и затылку.
От смеха хозяин мотается на табуретке, по временам охая и хватаясь за живот.
Наконец он выскакивает на кухню.
Я говорю:
– Не следует его смешить. Видите – ему опять нехорошо.
Хозяйский сын говорит:
– Чепуха. У папаши тошнота. Всем известно – это облегчает людей.
Возвращается хозяин, утирая рот рукавом.
Мы снова молча работаем.
Бывшая помещичья усадьба «Маньково» в Смоленской губернии. Сейчас здесь совхоз.
При исполкоме я прилично сдал экзамены на звание птицевода. И теперь я заведующий птицеводческой фермой.
Я брожу среди птиц с книгами в руках. Некоторые породы птиц я видел только в жареном виде. И вот теперь учебники мне приходят на помощь.
Две недели я не отхожу от птиц, почти ночую с ними, стараясь изучить их характер и нравы.
На третью неделю я позволяю себе небольшие прогулки в окрестности.
Я хожу по проселочным дорогам. По временам встречаю крестьян.
Всякий раз меня ошеломляют эти встречи. Шагов за пятнадцать крестьянин снимает свою шапку и низко кланяется мне.
Я вежливо приподнимаю свою кепку и сконфуженно прохожу.
Сначала я думаю, что эти поклоны случайны, но потом вижу, что это повторяется всякий раз.
Быть может, меня принимают за какую-нибудь важную шишку?
Я спрашиваю старуху, которая только что поклонилась мне почти в землю.
– Бабушка, – говорю я, – почему вы так кланяетесь мне? В чем дело?
Поцеловав мою руку и ничего не сказав, старуха уходит.
Тогда я подхожу к крестьянину. Он пожилой. В лаптях. В рваной дерюге. Я спрашиваю его, почему он содрал с себя шапку за десять шагов и поклонился мне в пояс.
Поклонившись еще раз, крестьянин пытается поцеловать мою руку. Я отдергиваю ее.
– Чем я тебя рассердил, барин? – спрашивает он.
И вдруг в этих словах и в этом его поклоне я увидел и услышал все. Я увидел тень прошлой привычки жизни. Я услышал окрик помещика и тихий рабский ответ. Я увидел жизнь, о которой я не имел понятия. Я был поражен, как никогда в жизни.
– Отец, – сказал я крестьянину, – вот уже год власть у рабочих и крестьян. А ты собираешься лизать мне руку.
– До нас не дошло, – говорит крестьянин. – Верно, господа съехали со своих дворов, живут по хатам… Но кто ж его знает, как оно будет…
Я иду с крестьянином до его деревни. Я захожу в его избу.
На каждом шагу я вижу чугунную тень прошлого.
Я стою в крестьянской избе. На столе лежит умирающий старик.
Он лежит уже третий день и не умирает.
Сегодня у него в руке восковая свечка. Она падает и гаснет, но ее снова зажигают.
У изголовья родственники. Они смотрят на старика не отрываясь. Вокруг невероятная бедность, грязь, тряпки, нищета…
Старик лежит ногами к окну. Лицо у него темное, напряженное. Дыхание неровное. Иной раз кажется, что он уже умер.
Наклонившись к старухе – его жене, я тихо говорю ей:
– Я съезжу за доктором. Не дело, что он третий день лежит на столе.
Старуха отрицательно качает головой.
– Не надо его тревожить, – говорит она.
Старик открывает глаза и мутным взором обводит окружающих. Губы его что-то шепчут.
Одна из женщин, молодая и смуглолицая, наклоняется к старику и молча слушает его бормотанье.
– Что он? – спрашивает старуха.
– Титьку просит, – отвечает женщина. И, быстро расстегнув свою кофту, берет руку старика и кладет ее на свою обнаженную грудь.
Я вижу, как лицо старика светлеет. Нечто вроде улыбки пробегает по его губам. Он дышит ровней, спокойней.
Все стоят молча, не шевелясь.
Вдруг тело старика вздрагивает. Рука его беспомощно падает вниз. Лицо делается строгим и совсем спокойным. Он перестает дышать. Он умер.
Тотчас старуха начинает голосить. И вслед за ней голосят все.
Я выхожу из избы.
На столе керосиновая лампа под кокетливым розовым абажуром. Мы играем в преферанс.
Мои партнеры – толстая дама Ольга Павловна, старик с гнилыми зубами и его дочь – молодая красивая женщина Вероника. Это бывшие помещики из соседних районов. Они не пожелали уехать далеко от своих владений. Сняв у крестьян эту избу, они живут здесь на правах частных людей.
Вот уже четыре часа мы сидим за столом. Мне осточертела эта игра. Я бы с наслаждением ее бросил. Но мне неудобно – я в проигрыше, у меня большой ремиз наверху.
Мне безумно не везет. Везет Ольге Павловне, которая с каждой удачей делается все более шумной и радостной.
Открыв «10 игры», она от восторга ударяет ладонью по столу.
– Я счастливая! – кричит она. – Мне всегда и во всем везло… Пройдет два-три месяца, и я уверена, что получу обратно свое имение…
Старик с гнилыми зубами начинает смеяться.
– Одно дело карты, почтеннейшая Ольга Павловна, – говорит он, – а другое дело – Россия, политика, революция.
– Безразлично! – кричит Ольга Павловна. – В жизни мы тоже играем в карты. Одному везет, другому не везет. А мне всегда и во всем везло – и в жизни, и в карты… Вот увидите, я скоро получу обратно свое «Затишье»…
Сдавая карты, она говорит:
– Получу свое «Затишье», немного попорю своих мужиков, и все пойдет по-старому.
– После такой революции только лишь попорете? – спрашивает гнилозубый старик, перестав смеяться.
Ольга Павловна, прекратив сдачу, говорит:
– Я не такая безмозглая, чтобы сажать в тюрьму своих мужиков. Я не намерена остаться без рабочей силы. Имейте это в виду…
– Ну нет, почтеннейшая Ольга Павловна, – говорит старик. – Я категорически не согласен с вами… Я буду возражать против вашей политики… Двоих я вешаю – я знаю кого. Пятерых отправлю на каторгу. Остальных порю и штрафую. Пусть они год работают только на меня.
Я бросаю свои карты так, что они подскакивают на столе и рассыпаются по полу.
– Ох! – надменно восклицает Ольга Павловна.
– Негодяи, преступники! – говорю я тихо. – Это из-за вас такая беда, такая темнота в деревне, такой мрак…
Я выгребаю из карманов деньги и швыряю их на стол.
Меня колотит лихорадка.
Я выскакиваю в сени и, нащупав шубу, с трудом всовываю в нее свои руки.
В комнате тихо. Даже никто не шепчется. Я жду, что в сени выйдет Вероника, но она не выходит.
Я иду во двор. Вывожу лошадь из ворот. Ложусь в розвальни.
Лошадь бойко бежит – она сама знает дорогу.
Над моей головой темное небо, звезды. Вокруг снег, поля. И ужасная тишина.
Зачем я приехал сюда? Для чего я тут, среди птиц и шакалов? Я завтра же уеду отсюда.
Я сижу за столом. Переписываю приказ по полку. Этот приказ мы набросали сегодня утром вместе с командиром и комиссаром полка.
Я – адъютант 1-го Образцового полка деревенской бедноты.
Передо мной карта северо-западной России. Красным карандашом отмечена линия фронта – она идет от берега Финского залива через Нарву – Ямбург.
Наш штаб полка в Ямбурге.
Я переписываю приказ красивым четким почерком.
Командир и комиссар уехали на позиции. У меня порок сердца. Мне нельзя скакать на лошади. И поэтому они редко берут меня с собой.
Кто-то стучит в окно. Я вижу какую-то штатскую фигуру в изодранном, грязном пальто. Постучав в окно, человек кланяется.
Я велю часовому пропустить этого человека. Часовой нехотя пропускает.
– Что вам угодно? – спрашиваю я.
Сняв шапку, человек мнется у дверей.
Я вижу перед собой человека очень жалкого, очень какого-то несчастного, забитого, огорченного. Чтобы ободрить его, я подвожу его к креслу и, пожав ему руку, прошу сесть. Он нехотя садится.
Он говорит, еле шевеля губами:
– Если Красная Армия будет отходить – отходить ли нам вместе с вами или оставаться?
– А кто вы будете? – спрашиваю я.
– Я пришел из колонии «Крутые ручьи». Там наша колония прокаженных.
Я чувствую, как мое сердце падает. Незаметно я вытираю свою руку о свои ватные штаны.
– Не знаю, – говорю я. – Я один не могу решить этого вопроса. Кроме того, речь идет не о нашем отступлении. Я не думаю, что фронт отойдет дальше Ямбурга.
Поклонившись мне, человек уходит. Из окна я вижу, что он показывает свои язвы часовому.
Я иду в лазарет и карболкой мою свои руки.
Я не заболел. Вероятно, у нас преувеличенный страх к этой болезни.
Я потерял сознание, когда утром вышел из штаба, чтобы пройтись немного по воздуху.
Часовой и телефонист приводили меня в чувство. Они почему-то терли мои уши и разводили мои руки, как утопленнику. Тем не менее я очнулся.
Командир полка сказал мне:
– Немедленно поезжайте отдохнуть. Я вам дам две недели отпуска.
Я уехал в Петроград.
Но в Петрограде я не чувствовал себя лучше.
Я пошел в военный госпиталь за советом. Послушав мое сердце, мне сказали, что для армии я негоден. И оставили меня в госпитале до комиссии.
И вот вторую неделю я лежу в палате.
Кроме того, что я плохо (себя) чувствую, я еще голоден. Это – девятнадцатый год! В госпитале дают четыреста граммов хлеба и тарелку супа. Это мало для человека, которому двадцать три года.
Моя мать изредка приносит мне копченую воблу. Мне совестно брать эту воблу. У нас дома большая семья.
Напротив меня на койке сидит молодой парень в кальсонах. Ему только что привезли из деревни два каравая хлеба. Он перочинным ножом нарезает куски хлеба, мажет их маслом и посылает в свой рот. Это он делает до бесконечности.
Кто-то из больных просит:
– Свидеров, дай кусочек.
Тот говорит:
– Дайте самому пожрать. Пожру и тогда дам.
Заправившись, он разбрасывает куски по койкам. Спрашивает меня:
– А тебе, интеллигент, дать?
Я говорю:
– Только не бросай. А положи на мой стол.
Ему досадно это. Он хотел бы бросить. Это интересней.
Он молча сидит, поглядывает на меня. Потом встает с койки и, паясничая, кладет кусок хлеба на мой столик. При этом театрально кланяется и гримасничает. В палате смех.
Мне очень хочется сбросить это подношение на пол. Но я сдерживаю себя. Я отворачиваюсь к стене.
Ночью, лежа на койке, я съедаю этот хлеб.
Мысли у меня самые горькие.
Каждый день я подхожу к забору, на котором наклеена «Красная газета».
В газете «Почтовый ящик». Там ответы авторам.
Я написал маленький рассказ о деревне. И послал в редакцию. И вот теперь не без волнения ожидаю ответа.
Я написал этот рассказик не для того, чтоб заработать. Я – телефонист пограничной охраны. Я обеспечен. Рассказ написан просто так: мне казалось это нужным – написать о деревне. Рассказ я подписал псевдонимом – М. М. Чирков.
Моросит дождь. Холодно. Я стою у газеты и просматриваю «Почтовый ящик».
Вижу: «М. М. Чиркову. – Нам нужен ржаной хлеб, а не сыр бри».
Я не верю своим глазам. Я поражен. Может быть, меня не поняли?
Начинаю вспоминать то, что я написал.
Нет, как будто бы правильно написано, хорошо, чистенько. Немножко манерно, с украшениями, с латинской цитатой… Боже мой! Для кого же это я так написал? Разве так следовало писать?.. Старой России нет… Передо мной – новый мир, новые люди, новая речь…
Я иду на вокзал, чтобы ехать в Стрельню на дежурство. Я сажусь в поезд и час еду.
Черт меня дернул снова склониться к интеллигентскому труду. Это в последний раз. Больше этого не будет. В этом виновата моя неподвижная, сидячая работа. У меня слишком много времени для того, чтобы думать.
Я переменю работу.
Ночь. Темно. Я стою на каком-то пустыре Лигова.
В кармане моего пальто – «наган».
Рядом со мной работник угрозыска. Он шепчет мне:
– Вы встаньте у окна так, чтобы моя пуля не задела вас, если я буду стрелять… Если он выскочит в окно – стреляйте… старайтесь в ноги…
Затаив дыхание, я подхожу к окошечку. Оно освещено. Спиной я прижимаюсь к стене. Скосив глаза, заглядываю поверх занавески.
Я вижу кухонный стол. Керосиновую лампу.
Мужчина и женщина сидят за столом, играют в карты.
Мужчина сдает грязные, лохматые карты. Ходит, прихлопывая карту ладонью. Оба смеются.
Н. и три работника розыска наваливаются на дверь одновременно.
Это ошибка. Нужно было найти иной способ открыть дверь. Она не сразу поддается усилиям.
Бандит тушит лампу. Темно.
Дверь с треском раскрывается. Выстрелы…
Я поднимаю «наган» на уровне окна.
Тихо.
Мы зажигаем лампу в избе. На табуретке сидит женщина – она бледна и дрожит. Ее партнера нет – он ушел в другое окно, которое было заколочено досками.
Мы рассматриваем это окно. Доски были приколочены так, что они отваливались от легкого нажима.
– Ничего, – говорит Н., – мы поймаем его.
На рассвете мы задерживаем его на четвертой версте. Он стреляет в нас. И потом стреляет в себя.
Холодно. Идет пар изо рта.
Обломки моего письменного стола лежат у печки. Но комната нагревается с трудом.
На постели лежит моя мать. Она в бреду. Доктор сказал, что у нее испанка – это ужасный грипп, от которого в каждом доме умирают люди.
Я подхожу к матери. Она – под двумя одеялами и двумя пальто.
Кладу свою руку на ее лоб. Жар обжигает мою руку.
Гаснет коптилка. Я поправляю ее. И сажусь рядом с матерью, на ее кровать.
Долго сижу, всматриваюсь в ее измученное лицо.
Кругом тихо. Сестры спят. Уже два часа ночи.
– Не надо, не надо… не делайте этого… – бормочет мать.
Я подношу к ее губам теплую воду. Она делает несколько глотков. На секунду открывает глаза. Я наклоняюсь к ней. Нет, она снова в бреду.
Но вот ее лицо делается спокойней. Дыхание ровней. Может быть, это был кризис? Ей будет лучше…
Я вижу – как будто бы тень проходит по лицу моей матери. Боясь что-нибудь подумать, я медленно поднимаю свою руку и дотрагиваюсь до ее лба. Она умерла.
У меня почему-то нет слез. Я сижу на кровати не двигаясь. Потом встаю и, разбудив моих сестер, ухожу в свою комнату.
Деревянные сани на деревянных полозьях. На санях стоит некрашеный гроб.
Впрягшись в веревку, я везу эти сани на кладбище.
За санями идут мои сестры и мой маленький брат.
Вот уже Смоленское кладбище. У ворот множество таких саней с гробами. Привычных колесниц и лошадей под сетками нет. Вероятно, лошади съедены, как и съедена их пища – овес.
Гроб несут в церковь. Я остаюсь на улице. Я сажусь на ступеньках храма. И сижу рядом с нищими. Я сам нищий. У меня нет ничего впереди. И я ничего не хочу. У меня нет никаких желаний. Мне только жалко мою мать.
Гроб снова выносят из церкви. И я снова везу сани в дальнюю аллею. Там могила моего отца, который умер четырнадцать лет назад.
Рядом с этой могилой вырыта новая.
Я приподнимаю крышку гроба и целую мертвую руку матери.
На тележке маленький письменный стол, два кресла, ковер и этажерка.
Я везу эти вещи на новую квартиру.
В моей жизни перемена.
Я не мог остаться в квартире, где была смерть.
Одна женщина, которая меня любила, сказала мне:
– Ваша мать умерла. Переезжайте ко мне.
Я пошел в загс с этой женщиной. И мы записались. Теперь она моя жена.
Я везу вещи на ее квартиру, на Петроградскую сторону.
Это очень далеко. И я с трудом толкаю мою тележку.
Передо мной – подъем на Тучков мост.
У меня больше нет сил толкать мою тележку. Ужасное сердцебиение. Я с тоской посматриваю на прохожих. Быть может, найдется добрая душа – поможет мне взять это возвышение.
Нет, прохожие, равнодушно посматривая, проходят мимо.
Черт с ними! Я должен сам… Если б только не перебои сердца… Глупо умереть на мосту, перевозя кресла и стол.
Изнемогая, я вкатываю тележку на мост.
Теперь легко.
1920–1926
- Если б со счастьем дружил я, поверь,
- Не этим бы стал заниматься теперь.
Этот дом на углу Мойки и Невского.
Я хожу по коридору в ожидании литературного вечера.
Это ничего не значит, что я следователь уголовного розыска. У меня уже две критические статьи и четыре рассказа. И все они очень одобрены.
Я хожу по коридору и смотрю на литераторов.
Вот идет А. М. Ремизов. Маленький и уродливый, как обезьяна. С ним его секретарь. У секретаря из-под пиджака торчит матерчатый хвост. Это символ. Ремизов – отец-настоятель «Обезьяньей вольной палаты». Вот стоит Е. И. Замятин. Его лицо немного лоснится. Он улыбается. В руке у него длинная папироса в длинном изящном мундштуке.
Он с кем-то разговаривает по-английски.
Идет Шкловский. Он в восточной тюбетейке. У него умное и дерзкое лицо. Он с кем-то яростно спорит. Он ничего не видит – кроме себя и противника.
Я здороваюсь с Замятиным.
Обернувшись ко мне, он говорит:
– Блок здесь, пришел. Вы хотели его увидеть…
Вместе с Замятиным я вхожу в полутемную комнату.
У окна стоит человек. У него коричневое лицо от загара. Высокий лоб. И нетемные, волнистые, почти курчавые волосы.
Он стоит удивительно неподвижно. Смотрит на огни Невского.
Он не оборачивается, когда мы входим.
– Александр Александрович, – говорит Замятин.
Медленно повернувшись, Блок смотрит на нас.
Я никогда не видел таких пустых, мертвых глаз. Я никогда не думал, что на лице могут отражаться такая тоска и такое безразличие.
Блок протягивает руку – она вялая и безжизненная.
Мне становится неловко, что я потревожил человека в его каком-то забытьи… Я бормочу извинения.
Немного глухим голосом Блок спрашивает меня:
– Вы будете выступать на вечере?
– Нет, – говорю я. – Я пришел послушать литераторов.
Извинившись еще раз, я торопливо ухожу.
Замятин остается с Блоком.
Я снова хожу по коридору. Меня душит какое-то волнение. Теперь я почти вижу свою судьбу. Я вижу финал своей жизни. Я вижу тоску, которая меня непременно задушит.
Я спрашиваю кого-то: «Сколько лет Блоку?» Мне отвечают: «Около сорока».
Ему нет сорока лет! Но Байрону было тридцать, когда он сказал:
- То пресыщенье? Оно теперь следит
- За мной, как тать, везде. В душе разбитой тьма,
- И красота меня уж больше не пленяет,
- И даже – ты сама…
У Байрона нет вопросительного знака после слов «То пресыщенье». Это я мысленно ставлю этот вопрос. Я думаю – неужели это пресыщенье?
Начинается литературный вечер.
Это кафе на Садовой, двенадцать. Я сижу здесь за столиком с моими товарищами.
Кругом пьяные крики, шум, табачный дым.
Играет скрипка.
Я бормочу стихи Блока:
- Вновь сдружусь с кабацкой скрипкой…
- Вновь я буду пить вино…
- Все равно не хватит силы дотащиться до конца
- С трезвой жалкою улыбкой, за которой
- Страх могилы, беспокойство мертвеца…
К нашему столику, неуверенно шагая, подходит человек. Он в черной бархатной блузе. На груди у него большой белый кисейный бант.
Лицо этого человека обсыпано пудрой.
Губы и брови подведены.
На лице улыбка – пьяная и немного сконфуженная. Кто-то говорит:
– Сережа, садись с нами.
Теперь я вижу, что это Есенин.
Он грузно садится за наш столик. Сердито смотрит на какого-то пьяного. Бормочет: «Дам в морду… уходи…»
Я поглаживаю руку Есенина. Он успокаивается. Снова улыбается как-то сконфуженно и жалко.
За краской его намалеванного рта я вижу бледные губы.
Кто-то еще подходит к нашему столику.
Кто-то кричит: «Надо составить столы».
Начинают сдвигать столы.
Я выхожу на улицу.
Мы входим на кухню. На плите – большие медные кастрюли.
Мы проходим через кухню в столовую.
Навстречу нам идет Горький.
Что-то изящное в его бесшумной походке, в его движениях и жестах.
Он не улыбается, как это полагается хозяину, но лицо у него приветливое.
В столовой он садится за стол. Мы рассаживаемся на стульях и на низенькой пестрой тахте. Я вижу – Федина, Всеволода Иванова в солдатской шинели, Слонимского, Груздева.
Покашливая, Горький говорит о литературе, о народе, о задачах писателя.
Он говорит интересно и даже увлекательно. Но я почти не слушаю его. Я смотрю, как он чуть нервно барабанит пальцами по столу, как он улыбается едва заметно в свои усы. Я смотрю на его удивительное лицо – умное, грубоватое и совсем не простое.
Я смотрю на этого великого человека, у которого легендарная слава. Вероятно, это нехорошо, беспокойно, утомительно. Я бы не хотел этого.
Как бы в ответ на мои мысли, Горький говорит, что его далеко не все знают, что вот на днях он ехал в машине и охрана задержала его. Он сказал, что он Горький, но один из охраны сказал: «Горький ты или сладкий – это нам безразлично. Предъяви пропуск».
Горький чуть улыбается. Потом снова говорит о литературе, о народе, культуре.
Кто-то за моей спиной записывает то, что говорит Горький.
Мы встаем. Прощаемся.
Чуть прикоснувшись рукой к моему плечу, Горький спрашивает:
– Что вы такой хмурый, мрачный? Почему?
В ответ я что-то бормочу о своем сердце.
– Это нехорошо, – говорит Горький. – Надо полечиться… Вы на днях зайдите ко мне – поговорим о ваших делах.
Мы снова идем через кухню. Выходим на лестницу.
Выходим на Кронверкский проспект – на проспект Горького.
По бесконечным лестницам я хожу вверх и вниз. В руках у меня папка с бумагами, с бланками. В эти бланки я вписываю сведения о жильцах. Это – всесоюзная перепись населения.
Я взял эту работу, чтоб увидеть, как живут люди.
Я верю только своим глазам. Как Гарун аль Рашид, я хожу по чужим домам. Я хожу по коридорам, кухням, захожу в комнаты. Я вижу тусклые лампочки, рваные обои, белье на веревках, ужасную тесноту, мусор, рвань. Да, конечно, только недавно миновали тяжелые годы, голод, разруха… Но все же я не думал, что увижу то, что увидел.
Я вхожу в полутемную комнату. На койке, на грязном тюфяке, лежит человек. Он неприветливо меня встречает. Даже не поворачивается ко мне. Глядит в потолок.
– Где вы работаете? – спрашиваю я.
– Работают ослы и лошади, – говорит он. – Лично я не работаю и не собираюсь работать. Так и запишите в ваши паршивые бумаги… Можно приписать – хожу в клуб, играю в карты…
Он раздражен. Может быть, болен. Я хочу уйти, чтоб взять сведения у соседей. Уходя, я смотрю на него. Где-то я видел это лицо.
– Алеша! – говорю я.
Он садится на койке. Лицо у него небритое, хмурое.
Я вижу перед собой Алешу Н. – гимназического товарища. Он был старше меня классом. Это был чистюля, зубрила, первый ученик, маменькин сынок…
– Что случилось, Алеша? – бормочу я.
– Ровным счетом ничего не случилось, – говорит он. Я вижу досаду на его лице.
– Может, я могу помочь тебе чем-нибудь.
– Абсолютно ничего не надо, – говорит он. – Впрочем, если у тебя есть деньги, дай пятерку, схожу в клуб.
Я ему даю значительно больше, но он берет только пять рублей.
Через несколько минут я сижу на его койке, и мы с ним беседуем, как когда-то, десять лет назад.
– В сущности, история самая пошлая, – говорит он. – Ушла жена с одним прохвостом. Начал пить. Пропил все, что было. Потерял работу. Стал играть в клубе… А теперь, понимаешь, не хочется вернуться к тому, что было. Мог бы, но не хочу. Все ерунда, чушь, комедия, вздор, дым…
Я беру с него слово, что он зайдет ко мне.
На моей подушке лежат письма в редакцию «Красной газеты». Это жалобы на банные непорядки. Эти письма мне дали, чтоб я написал фельетон.
Я просматриваю эти письма. Они беспомощны, комичны. Но вместе с тем они серьезны. Еще бы! Речь идет о немаловажном житейском деле – о банях.
Набросав план, я принимаюсь писать.
Уже первые строчки смешат меня. Я смеюсь. Смеюсь все громче и громче. Наконец хохочу так, что карандаш и блокнот падают из моих рук.
Снова пишу. И снова смех сотрясает мое тело.
Нет, в дальнейшем, переписывая рассказ, я уже не буду так смеяться. Но первая запись меня всегда невероятно смешит.
От смеха я чувствую боль в животе.
В стену стучит сосед. Он бухгалтер. Ему завтра рано вставать. Я мешаю ему спать. Он сегодня стучит кулаком. Должно быть, я его разбудил. Досадно.
Я кричу:
– Извините, Петр Алексеевич…
Снова берусь за блокнот. Снова смеюсь, уже уткнувшись в подушку.
Через двадцать минут рассказ написан. Мне жаль, что так быстро я его написал.
Я подхожу к письменному столу и переписываю рассказ ровным, красивым почерком. Переписывая, я продолжаю тихонько смеяться. А завтра, когда буду читать этот рассказ в редакции, я уже смеяться не буду. Буду хмуро и даже угрюмо читать.
Два часа ночи. Я ложусь. Но долго не могу заснуть. Обдумываю темы новых рассказов.
Светает. Я принимаю бром, чтоб заснуть.
Редакция толстого журнала «Современник».
Я дал в этот журнал пять самых лучших маленьких рассказов. И вот пришел за ответом.
Передо мной один из редакторов – поэт М. Кузмин. Он изысканно вежлив. Даже сверх меры. Но по его лицу я вижу, что он намерен мне сообщить нечто неприятное.
Он мнется. Я выручаю его.
– Вероятно, мои рассказы не совсем в плане журнала? – говорю я.
Он говорит:
– Понимаете, у нас толстый журнал… А ваши рассказы… Нет, они очень смешны, забавны… Но они написаны… Ведь это…
– Чепуха, вы хотите сказать? – спрашиваю я. И в моем мозгу загорается надпись под гимназическим сочинением – «Чепуха».
Кузмин разводит руками.
– Боже сохрани. Я вовсе не хочу этого сказать. Напротив. Ваши рассказы очень талантливы… Но согласитесь сами – это немножко шарж.
– Это не шарж, – говорю я.
– Ну, взять хотя бы язык…
– Язык не шаржирован. Это синтаксис улицы… народа. Быть может, я немного утрировал, чтоб это было сатирично, чтоб это критиковало…
– Не будем спорить, – говорит он мягко. – Вы дайте нам обыкновенную вашу повесть или рассказ… И поверьте – мы очень ценим ваше творчество.
Я ухожу из редакции. У меня нет тех чувств, какие я когда-то испытывал в гимназии. У меня нет даже досады.
«Бог с ним, – думаю я. – Обойдусь без толстых журналов. Им нужно нечто «обыкновенное». Им нужно то, что похоже на классику. Это им импонирует. Это сделать весьма легко. Но я не собираюсь писать для читателей, которых нет. У народа иное представление о литературе».
Я не огорчаюсь. Я знаю, что я прав.
День. Солнце. Я иду по Невскому. Навстречу идет С. Есенин.
Он в элегантном синем пальто с поясом. Без шляпы.
Лицо у него бледное. Глаза потухшие. Он медленно идет. Что-то бормочет. Я подхожу к нему.
Он хмур, неразговорчив. Какое-то уныние во всем его облике.
Я хочу уйти, но он не отпускает меня.
– Вам нехорошо? Вы нездоровы? – спрашиваю я его.
– А что? – тревожно спрашивает он. – У меня плохой вид?
И вдруг смеется. Говорит:
– Старею, милый друг… Скоро ударит тридцать…
Мы доходим до Европейской гостиницы.
Минуту Есенин стоит у подъезда, потом говорит:
– Зайдемте напротив. В пивную. На минуту.
Мы входим в пивную.
За столиком поэт В. Воинов с друзьями. Он радостно идет нам навстречу. Мы садимся за его столик. Кто-то разливает пиво по кружкам.
Есенин что-то говорит официанту. И тот приносит ему стакан рябиновки.
Закрыв глаза, Есенин пьет. И я вижу, как с каждым глотком к нему возвращается жизнь. Щеки его делаются ярче. Жесты уверенней. Глаза зажигаются.
Он хочет снова позвать официанта. Чтобы отвлечь, я прошу его почитать стихи…
Он соглашается почему-то с готовностью и даже с радостью.
Встав со стула, он читает поэму «Черный человек».
Вокруг столика собираются люди. Кто-то говорит: «Это Есенин».
Нас окружает почти вся пивная.
Еще минута, и Есенин стоит на стуле и, жестикулируя, читает свои короткие стихи.
Он чудесно читает, и с таким чувством, и с такой болью, что это всех потрясает.
Я видел многих поэтов на эстраде. Я видел их необычайный успех, видел овации, восторг всего зала, но я никогда не видел таких чувств и такой теплоты, как к Есенину.
Десятки рук подхватывают его со стула и несут к столику. Все хотят чокнуться с ним. Все хотят дотронуться до него, обнять, поцеловать.
Тесным кольцом толпа окружает столик, за которым он теперь сидит.
Я выхожу из пивной.
Вечер. Я иду по Невскому с К.
Я познакомился с ней в Кисловодске.
Она красива, остроумна, весела. В ней та радость жизни, которой нет во мне. И, может быть, это меня больше всего в ней прельщает.
Мы идем, нежно взявшись за руки. Мы выходим на Неву. Идем по темной набережной.
К. без конца что-то говорит. Но я не очень вникаю в ее речь. Я слушаю ее слова, как музыку.
Но вот я слышу какое-то недовольство в этой музыке. Я прислушиваюсь.
– Вторую неделю мы ходим с вами по улицам, – говорит она. – Мы обошли все эти дурацкие набережные, сады. Мне просто хотелось бы посидеть с вами в какой-нибудь гостиной, поболтать, выпить чаю.
– Зайдемте в кафе, – говорю я.
– Нет, там нас могут увидеть.
Ах, да. Я совсем забыл. У нее сложная жизнь. Ревнивый муж, очень ревнивый любовник. Много врагов, которые сообщат, что нас видели вместе.
Мы останавливаемся на набережной. Обнимаем друг друга. Целуемся. Она бормочет:
– Ах, как глупо, что это улица.
Мы снова идем и снова целуемся. Она закрывает свои глаза рукой. У нее кружится голова от этих бесконечных поцелуев.
Мы доходим до ворот какого-то дома. К. бормочет:
– Я должна зайти сюда, к портнихе. Вы подождите меня здесь. Я только примерю платье и сейчас же вернусь.
Я хожу около дома. Хожу десять минут, пятнадцать, наконец она появляется. Веселая. Смеется.
– Все хорошо, – говорит она. – Получается очень милое платье. Оно очень скромное, без претензий.
Она берет меня под руку, и я провожаю ее до дома.
Я встречаюсь с ней через пять дней. Она говорит:
– Если хотите, сегодня мы можем встретиться с вами в одном доме – у одной моей знакомой.
Мы подходим к какому-то дому. Я узнаю этот дом. Здесь, у ворот, я ждал ее двадцать минут. Это дом, где живет ее портниха.
Мы поднимаемся на четвертый этаж. Она открывает квартиру своим ключом. Мы входим в комнату. Это хорошо обставленная комната. Непохоже, что это комната портнихи.
По профессиональной привычке я перелистываю книжку, которую я нахожу на ночном столике. На заглавном листке я вижу знакомую мне фамилию. Это фамилия возлюбленного К.
Она смеется.
– Да, мы в его комнате, – говорит она. – Но вы не беспокойтесь. Он на два дня уехал в Кронштадт.
– К., – говорю я, – я беспокоюсь о другом. Значит, тогда вы были у него?
– Когда? – спрашивает она.
– Тогда, когда я ждал вас у ворот двадцать минут.
Она смеется. Закрывает мой рот поцелуем. Говорит:
– Вы были сами виноваты.
Окно моей комнаты выходит на угол Мойки и Невского.
Я подхожу к окну. Необыкновенная картина – река вздулась, почернела. Еще полметра – и вода выйдет из берегов.
Я бегу на улицу.
Ветер. Неслыханный ветер дует с моря.
Я иду по Невскому. Я взволнован и возбужден. Дохожу до Фонтанки. Фонтанка почти сравнялась с мостовой. Кое-где вода плещется на тротуаре.
Я вскакиваю в трамвай и еду на Петроградскую сторону. Там живет моя семья – жена и крошечный сын. Они живут у своих родных. Я переехал в Дом искусств, чтоб крики младенца не мешали моей работе.
Теперь я спешу к ним. Они живут в первом этаже на Пушкарской. Быть может, им нужно перебраться во второй этаж.











