Читать онлайн De feminis
- Автор: Владимир Сорокин
- Жанр: Современная русская литература
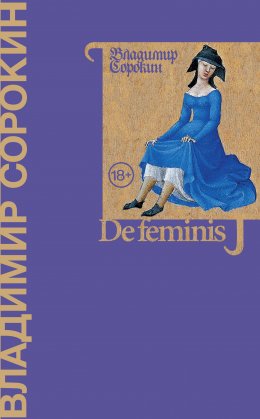
© В. Сорокин, 2022
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2022
© ООО “Издательство АСТ”, 2022
Издательство CORPUS ®
Татарский малинник
Накануне того самого дня Алине приснился дурацкий сон:
Она идёт после школы со своей любимой учительницей биологии по Интернациональной улице, как обычно, до поворота на улицу Фрунзе, учительница что-то рассказывает ей о медицине и анатомии, потому что Алина уже год как решила, что после школы поедет поступать в Киев, в медицинский институт. О чём бы учительница ни рассказывала, это было всегда очень интересно и ново, Алина слушает её умную речь, как и всегда, не только с интересом, но и с удовольствием, потому что учительница переехала в Евпаторию из Ленинграда и говорит правильно, без южного акцента, совсем как дикторы в телевизоре или известные советские актёры. Они доходят до поворота, учительница поворачивается к Алине и произносит своим спокойным, уверенным, слегка кошачьим голосом:
– Учи латынь, но не просто так, а собирай гербарий или бабочек и записывай их латинские названия, чтобы привыкнуть к этому великому языку. Не забывай, что он хоть и мёртвый, но раньше на нём говорила вся Европа.
Учительница кивает Алине и улыбается своим небольшим, пухлым, кошачьим лицом. И вдруг Алина произносит:
– Наталья Родионовна, пожалуйста, научите меня правильно какать.
Это так неожиданно глупо, ужасно и дурасссно, что Алине становится страшно стыдно и она застывает на месте, как дерево. Она ждёт, что учительница скажет ей что-то беспощадно умное и унизительно резкое, отчего Алина побежит домой и будет долго рыдать в подушку и кусать свой кулак. Но совсем та вдруг спокойно произносит:
– Как захочется – приходи.
И вот Алина идёт к ней. Ночь. Евпатория спит, улицы темны, пыльно-душны, непривычно узки и завалены всяким хламом. Алина сворачивает на улицу Фрунзе, та вообще сузилась невероятно и наполнена рухлядью, как помойка. Алине приходится протискиваться, перебираться через всё это трухлявое, ветхое, рассыпающееся, а иногда и ползти. Наконец, она находит дом учительницы. Он такой маленький, кособокий, гнилой, как старый курятник соседей. Роскошное абрикосовое дерево сжалось до ободранного куста с засохшими ягодами, а вместо каменного крыльца здесь какая-то квадратная дверца, словно форточка.
Алина пролезает в эту форточку и вдруг оказывается в огромном пространстве. Это лес невероятных деревьев, широченных и уходящих ввысь мощными кронами, которые в вышине переплетаются, пропуская редкие солнечные лучи. В лесу сумрачно и великолепно. У Алины замирает сердце от величия этого леса.
– Пришла? – раздаётся голос учительницы.
Наталья Родионовна выходит из-за гигантского дерева. По сравнению с ним она – шахматная фигурка с кошачьей головой.
– Раздевайся.
Трепеща, Алина раздевается догола.
– Теперь пошли на полянку.
Учительница берёт её за руку и ведёт по лесу на небольшую поляну. Пробившийся сверху солнечный луч освещает её.
– Присядь, – звучит спокойный умный голос.
Алина опускается на корточки. Под ногами мягкие огромные листья, попадавшие с великих деревьев.
– Теперь успокойся и какай правильно, как ответственный и внимательный ученик нашей советской эпохи, который знает чем инфузории отличаются от обязательных домашних заданий медицинских кибернетиков геометрического труда космического гербария matricaria chamomilla чтобы в кабинете завуча накопление корневых минеральных веществ мясомолочных запасных ног директора знало подвиги восьмого “Б” если внимательные пробирки будут наполнены проросшими семенами магния и натрия а те в свою очередь принесут удобрительное освобождение квадратным сельскохозяйственным растениям…
Алина начинает какать, слушая этот спокойный, умный голос, ей так хорошо сидеть в солнечном луче на тёплых огромных листьях, так приятно, что она цепенеет от удовольствия и начинает благодарно всхлипывать, понимая, что теперь какать всю свою жизнь будет только в этом волшебном лесу, который открыла ей мудрая Наталья Родионовна, и всё в жизни Алины будет теперь правильно и хорошо, она всхлипывает, всхлипывает, всхлипывает. И просыпается.
Очнувшись в ночи, она поняла, что очень хочет в туалет по-большому. Она встала, босая пошла по освещённому луной коридору, миновала дверь кухни, вошла в туалет, совмещённый с ванной, включила свет, зажмурилась. Глазам стало ярко. Ванна была наполнена водой, и на полу всё было заставлено кастрюлями, бидонами и банками с водой, которую, как всегда, ещё с августа стали давать только по утрам. Алина села на большой старый унитаз с новым, сделанным дедушкой деревянным кругом и стала какать. Это был не понос. Просто почему-то захотелось ночью, что случалось с ней очень редко. “Дыню ела, рис с кабачком, котлету…” – стала сонно вспоминать она. Закончив, подтёрлась нарезанной газетой “Крымская правда”, дёрнула металлическую ручку на цепочке, уходящей к висящему наверху зелёному бачку. С рёвом хлынула вода. Потом бачок заурчал.
Алина вернулась в постель. Бабушка спала на своей кровати с медными шарами, похрапывая и пришепётывая.
Накрывшись пустым пододеяльником, Алина вспомнила сон, застонала от своей глупости, потом засмеялась в подушку. И заснула.
В это утро они с бабушкой проспали рыбный рынок. А мама с дедушкой заночевали у тёти Капы в Заозёрном.
– Сони мы с тобой садовыя! – сокрушённо трясла кудрявой седой головой полная и добрая бабушка, сидя на своей провисшей скрипучей кровати. – Уплыли наши луфарики! Мамка нам спасибо скажет.
Позавтракав яичницей и помидорами, выпив вкусного, разведённого кипятком сгущённого какао с бабушкиным печеньем, Алина занялась гербарием, вклеивая засушенные цветы в альбом и подписывая их по-русски и по-латински, потом почитала журнал “Пионер”, помогла бабушке вынимать косточки из вишен для варенья. Когда бабушка принялась за варку, Алина насыпала себе в карман платья жареных тыквенных семечек и, грызя их, отправилась бродить по городу.
Погода стояла жаркая, август дышал зноем, плавя асфальт, пыль летала по горячим улицам, хоть их по утрам и поливали похожие на усатых жуков поливальные машины. Пройдя по рынку и никого из знакомых сверстников не встретив, кроме противной Вики Бытко, помогающей крикливой мамаше торговать персиками и творогом, Алина свернула с Гагарина на улицу Токарева, затем прошла мимо длинного дома ихтиологов, пролезла в дырку забора санатория МПС, двинулась парком, где всегда пахло эвкалиптами и перегревшейся на солнце туей, снова пролезла в дырку и оказалась на территории детского санатория. Здесь лечили больных полиомиелитом и ревматизмом детей. Мама рассказывала, что раньше это был санаторий НКВД, а потом его передали министерству здравоохранения.
Лузгая семечки, Алина двинулась по санаторскому саду. Больные дети ей не повстречались, ясно, они все были на пляже, который начинался внизу за большим садом. Санаторный пляж Алину не интересовал. Да и выгнать могли няньки в белых халатах. Она подошла к облупившемуся процедурному корпусу и двинулась мимо, заглядывая в окна. Кабинеты пустовали, лишь в одном у распахнутого окна стояли две медсестры с врачихой, курили и что-то весело обсуждали. Они даже не глянули на Алину.
“Все врачи курят, – подумала она. – Надо курить научиться перед поступлением”.
Сонька и Верка из 9-го “Б” уже вовсю курили с парнями на переменах.
Свернув за угол корпуса, пройдя по бетонной дорожке, Алина полезла через кусты спиреи, стряхивая бронзовых жуков с белых мелких цветов, и оказалась на игровой площадке. Здесь стояли небольшая карусель с красными конями, пара качелей, четыре столба с баскетбольными корзинами и большой деревянный танк. На гусенице танка сидел мальчик в очках и тюбетейке. Худая женщина, тоже в очках и широкой соломенной шляпе, кормила его вишней из кулька. Мальчик ел, плюясь косточками, побалтывая своими голыми ногами, одна из которых была очень тонкой. На этой ноге у него был массивный чёрный ботинок, вторая нога была босой. В руках мальчик вертел водяной пистолет, периодически пуская струйки в муравьев. Под деревянным грибком-мухомором в песочнице сидела толстая девочка с няней. Няня читала газету, а девочка делала куличи и выставляла их на край песочницы, что-то непрерывно бормоча. Формой для куличей у неё была чайная чашка, хотя рядом валялись обычные жестяные формы для песочных куличей. Алина заметила, что девочка – взрослая, почти её ровесница. Она прислушалась.
– Расстрелять сначала всех королей, а потом всех шморолей, всех домработниц, всех шмоработниц, потом всех почтальонов и всех мордальонов, потом и всех бульонов, а потом и всех училок, а потом и всех мучилок… – бормотала девочка с серьёзным выражением лица.
И вдруг громко рыгнула, закрыла глаза и широко открыла рот, словно ожидая, что в него что-то положат. Но нянька сидела, не обращая внимания. Девочка закрыла рот и снова забормотала своё.
Алина прошла мимо, двинулась к кирпичному забору.
– Ты чего тут расплевалась? – спросили её сверху.
Она подняла голову. На лестнице, приставленной к персиковому дереву, сидел старик садовник.
– Ничего, – буркнула Алина и, не переставая лузгать семечки, зашагала дальше.
В заборе она нашла знакомую дыру, протиснулась и вылезла в проход-коридор между двумя заборами соседствующих санаториев. У полиомиелитного санатория забор был бетонный, а у лёгочного – кирпичный, с решёткой. Между ними лежала бугристая от селевых потоков земля, по заборам росла пыльная крапива. И валялись разные старые вещи. Сторонясь крапивы, Алина двинулась по проходу вверх, откуда в дожди текли потоки воды. Вещи попадались самые разные: колесо от тачки, ржавые консервные банки, тряпки, куски толя, сломанная мотыга, дырявая лейка, кусок бетона, бутылка, какой-то ржавый прибор, голова пластиковой куклы. Алина вытащила голову из земли, обтёрла. Голова была без волос и глаз, с красными пухлыми губками. Надев голову на палец, Алине пошла выше, здесь вода вымыла целый овраг со слипшимся, сохлым хламом на дне. Из оврага пованивало тухлятиной. Алина обошла его, обожглась крапивой, уронила голову на дно оврага, чертыхнулась и вскоре вышла из прохода на пустырь, заросший малинником. Оба забора расходились, образуя этот пустырь. Место называлось “Татарский малинник”. Бабушка рассказывала, что раньше здесь татары выращивали садовую малину, очень вкусную. А потом их всех выселили из Крыма за то, что во время оккупации “они немцам жопу лизали”. Маленькая Алина это не очень понимала и представляла, что каждый татарин, встретив на улице загадочного немца, должен был опуститься на колени, немец спускал штаны, подставлял ему попу, а татарин лизал. “И за это их всех повыселяли?”
Алина ступила в малинник. Он совсем одичал, разлеперился, подзарос полынью и крапивой, местами высох. В нём было жарко, душно и пахло особенно, сладким горячим перегноем. Малина давно отошла, но на ветках остались висеть подсохшие ягоды. Их было вкусно жевать. Двинувшись по малиннику, Алина стала рвать сохлые ягоды. Ещё в этом малиннике водились змеи. Пожёвывая, глядя под ноги, она шла в душном межрядье. И вдруг услыхала стон. Он шёл из глубины малинника. Стонала женщина. Алина прошла дальше по межрядью, глянула направо и присела.
На земле в сохлой траве лежали двое. Худощавый, мускулистый, почти чёрный от загара мужчина в белой исподней майке и чёрных брюках лежал на женщине в цыганском платье. Её ноги были оголены и раскинуты, лицо повёрнуто набок, щекой прижалось к траве. В руке у мужчины был нож. Острие его упиралось в другую щёку женщины. Глаза у женщины, чёрные, смоляные, метались, хотя прижатое к земле лицо было неподвижно – оно боялось ножа. Чёрные штаны мужчины были приспущены, и виднелся худой бледный зад. И на этом заду, на каждой ягодице, было вытатуировано по глазу. Открытому глазу с ресницами. Зад настойчиво двигался, хотя сам мужчина лежал на женщине неподвижно. И глаза глядели с ягодиц. Женщина слабо стонала. Её худые руки в браслетах раскинулись бессильно. Периодически мужчина что-то рычал в лицо женщине, и ноги её начинали странно содрогаться, словно пытаясь помочь ему. Но они были такие худые, беспомощные, что ничего не могли. Алина сидела на корточках, затаив дыхание. Сухие ягоды остались у неё во рту. Зад мужчины всё двигался и двигался бесконечно, он был как бы отдельно, мужчина рычал, ноги женщины трепетали и дёргались, а зад двигался и двигался. И это длилось и длилось. Время застыло. И Алина вместе с ним. Рядом застрекотала цикада. И сразу – вторая. Они стрекотали, стрекотали так, словно помогали глазастому заду двигаться, подлаживаясь под его движение.
Алина сидела, не дыша. В глазах её всё сгустилось вокруг лежащих.
Вдруг мужчина задёргался, зарычал и грубо выругался. Глазастый зад перестал двигаться. Полежав на женщине, мужчина приподнялся. И Алина увидела его член. Он был как палка и весь красный от крови. Мужчина вытер член о платье женщины, засунул его в брюки, подтянул их, застегнулся и встал. Расставив ноги, он стоял над женщиной. Лицо его Алина не видела. Он был коротко острижен. И плечи, руки его были татуированы. Он сложил нож, убрал в карман, плюнул на женщину, пробормотал что-то, шагнул в сторону и исчез в малиннике.
Женщина осталась лежать. Облитая палящим солнцем, в ярком цыганском платье, с раскинутыми ногами, тёмным пахом, она лежала неподвижно, слабо постанывая. Потом, забормотав по-цыгански, подняла кудрявую черноволосую голову и села, опершись руками о землю. Пошарила чёрными безумными глазами по земле. И нашла большой кусок окровавленной ваты. У Алины уже второй год были месячные, она тут же поняла, что это за вата. Цыганка взяла вату, нашла трусики, болтающиеся на левой ноге, вложила в них вату, откинувшись на землю, подтянула. Оправив платье, встала на колени. Туфелька с одной её ноги валялась неподалёку. Она дотянулась, взяла, надела её на ногу и глянула по сторонам. Неподалёку лежала большая соломенная сумка с торчащими из неё отрезами текстиля. С трудом встав, цыганка упёрлась рукой в поясницу, застонала и грязно выругалась по-русски. Заметила, что платье её испачкано кровью, и бессильно завыла, запричитала, качая головой с большими серебряными серьгами. Подхватила сумку, надела на плечо. И вдруг встретилась своими быстрыми чёрными глазами с глазами Алины.
– Замри, сука! – злобно выкрикнула цыганка, зашипела, повернулась и пошла из малинника.
Алина замерла, как в известной детской игре. Сидя на корточках, она не двигалась. Над примятой, выжженной солнцем травой, где только что лежали мужчина и женщина, в душном, перегретом воздухе осталась пустота. Алина её вдруг увидела. И почувствовала. Раньше для неё это было просто слово: пустота и пустота. То есть – нет ничего, пусто. А здесь эта пустота была пустотой. Она висела над примятой травой. И висела как-то очень серьёзно и невероятно спокойно. И чем сильнее Алина всматривалась в пустоту, тем лучше ей становилось. И не просто лучше, а совсем хорошо, хорошо, просто так хорошо, как никогда не было, и так протяжно хорошо, так по-новому хорошо, словно нет ничего, вообще ничего, а есть только пустота, которой нет нигде, только здесь на поляне, над этой выгоревшей травой, эта пустота, в которую можно смотреть и смотреть бесконечно, и эта пустота говорит без слов то, чего никто Алине не сказал, и это такое важное, умное, от чего вдруг всё становится ясно, просто всё, всё, всё, и эта ясность всего – самое нужное на свете.
В глазах у Алины побелело.
И она упала без чувств на горячий, пахнущий перегноем валежник.
В нью-йоркской галерее David Bohomoletz с предсказуемым успехом прошла выставка известной американской художницы Alina Molochko, которая показала свою очередную работу из уже хорошо знакомой серии “TR”. Инсталляция под номером 36 представляла собой всё тот же сюжет, что повторялся ежегодно с различными вариациями в течение тридцати пяти лет во всех предыдущих тридцати пяти инсталляциях, экспонировавшихся в разных галереях и музеях мира: восемь великолепно изготовленных из искусственных материалов кустов малины окружали поляну, устланную пожелтевшей травой; на поляне лежала темнокожая женщина в белом бальном платье, ноги её были раздвинуты; на женщине лежал бритоголовый азиат в синей изношенной робе; брюки его были приспущены, на обнажённом заду проступала не очень аккуратная татуировка: два открытых человеческих глаза; обе фигуры были подробнейше изготовлены из пластических материалов и практически неотличимы от живых людей; азиат насиловал женщину, зад его ритмично двигался, женщина слабо стонала, красивые длинные ноги её в белых лакированных туфлях периодически подрагивали; на инсталляцию сверху неторопливо падал редкий снег.
Алина и её молодая подруга Виктория, или просто Вик, после шумного вернисажа не вернулись в отель The Ludlow, снятый для них модным галеристом, серебряноволосым и словоохотливым Дэвидом, где они уже успели провести неделю, готовя выставку, а полетели к себе в СанФранциско. Такси помчало их из аэропорта по хайвею, покачало на родных холмистых улицах и подъехало к двухэтажному деревянному дому с четырьмя старыми пальмами, выкрашенному в цвет маренго. Служанка Тян встретила путешественниц, занесла в дом оба чемодана. На крыльце Алина глянула в небо. Край большой тёмно-жёлтой луны был объеден невидимым небесным слизнем. В отличие от дождливого Нью-Йорка октябрь здесь был прекрасен, в тёплом и чистом ночном воздухе висел знакомый, дурманящий аромат бругмансий. Алина вошла в дом и не успела с наслаждением втянуть в себя запах прихожей, как высокая, большая Вик оплела сзади сильными длинными руками, поцеловала в шею нежными губами:
– Старый наш и… сладкий дом.
– Мы в нём.
Алина повернулась, ответно обняла её. Они стали целоваться. И во время долгого поцелуя Алина вдруг почувствовала, как устала за сегодняшний вечер:
– Неужели мы…
– Катапультировались…
– Из экспозиционного гноя?
– Да… да…
Вик заторможенно отстранилась, пошла в гостиную, где Тян уже всё накрыла для ночного чаепития. Вик всегда двигалась как во сне.
Алина пошла за ней. Просторная гостиная, обставленная покойной Эстер в стиле шестидесятых, всегда радовала и успокаивала. Алина глянула на чёрную деревянную статую африканского идола, чьи острые уши были увешаны бусами Эстер, и улыбнулась. Слышно было, как наверху, в спальне Тян уже распаковывает чемоданы. Вик качала головой, словно не веря возвращению. И вдруг выкрикнула глубоким сильным голосом, подняв кверху тяжёлое, красивое лицо:
– Тя-а-ан!
– Да! – ответно крикнула служанка.
– В моём чемодане зелёная банка! Принеси сюда!
– Что там? – не поняла Алина, массируя себе затылок.
– Матча от Гвинет. От милой, доброй Гвинет. Она пришла к нам. Она любит твоё искусство. Выпьем сейчас, да? И ещё еда её в пакете… Тя-а-а-ан! И пакет с суперфудс! Белый! Тоже сюда неси! В холодильник!
– Сейчас… матча… – Алина глянула на настенные часы, показывающие четверть третьего. – Поздновато? Или рановато.
– Да нет… не рановато… – С привычно тяжёлым вздохом Вик снова обняла её сзади, покачала. – Ты была такая сегодня… божественная… они все ползали вокруг тебя, как пчёлы… замёрзшие…
– И этот рой стал гудеть как-то слишком… жалко.
– Замороженно! Мороз. Вечный мороз этого города.
– Невыносимая музыка. Признаться, нью-йоркская арт-сцена стала невыносимой. Пандемия что-то сделала с людьми. И это всё неслучайно.
– Это… тяжко… мне холодно до сих пор… ты согреешь меня?
– Конечно, милая. Мороз экзистенциальный, ты права. Если это та самая новая метафизика, то её разрушительность только начинает проявляться. А что будет через год, два?
Вик обречённо покачивала красивой большой головой:
– Нет, нет, нет. Нас там точно не будет. Никогда.
И сейчас мы вовремя… вовремя…
– Там припёрся этот идиот из “Артфорума”. Он опять напишет про мой “мучительно-неизбежный опыт травматического самоцитирования”!
– Напишет… гнусно… по-ледяному…
Алина нервно зевнула.
– И кого же мне травматически цитировать? Бёрдена? Или Аккончи?
Вик качала Алину:
– Тёплая моя… хочу… хо-чу, хо-чу…
– Вик, милая, я сейчас просто рухну.
– Не дам, не дам, не-дам… ты выпьешь матча милой Гвинет… и я…
– И ты…
– И я… и ты… и мы… Тян!!
Служанка вошла в гостиную с банкой и пакетом.
– Завари нам чая из этой банки.
– Сейчас.
В айфоне Алины послышался сигнал сообщения. Вик взяла его большой белой рукой, активировала:
– Это Элисон. Тайвань. Всё! Немцы опоздали.
– Уже?!
– Уже. Китайская роба…
– Сделала погоду? Или геополитический страх недоимперцев?
– Уже… уже…
– А может, просто потому, что он насилует её без маски?
Вик улыбнулась так, словно увидела забытый добрый сон. Рассмеявшись, Алина потянулась, помотала головой, подошла к низкому чайному столику, села, хлопнула в ладоши:
– Быстро! Стремительно. Т-35 продавалась четыре месяца, а?
– Всё не случайно… всё для тебя, божественная… лёд треснул.
– Новые старые времена?
Чай пили, как всегда, молча. Затем Вик привычно взяла Алину на руки и понесла в спальню на второй этаж.
После ласк на огромной квадратной кровати с фиолетовой простынёй Вик заснула. Полежав рядом, Алина встала и голая вышла из спальни в свою большую мастерскую. Её построила Эстер специально для Алины тридцать семь лет тому назад, сломав две межкомнатные перегородки и ещё отдав свой кабинет. В мастерской стояли три больших рабочих стола с эскизами, монитором, фотографиями, альбомами, фигурками, куклами, вырезками из газет и журналов. Здесь же были массивный мольберт, на котором Алина уже давно не работала, сундук с красками, вазы с кистями, проигрыватель, аудиоколонки, полки с альбомами, книгами, пластинками. Глухую стену мастерской полностью занимали фотографии в одинаковых рамках. Алина подошла к фотографиям. Слева направо по стене шла летопись её жизни: детство, Крым, Евпатория, мама, бабушка, школа, Киев, медицинский институт, Москва зимы 1983-го, Эстер и Алина, обнимающиеся на фоне Кремля, они же в ванной с бокалами в руках, они же целующиеся в сугробе, зал суда, Алина на скамье подсудимых, высланная Эстер, дающая интервью в аэропорте Нью-Йорка, Алина в зарешеченном окне тюремной психлечебницы, Эстер с феминистками на демонстрации у посольства СССР, 1986-й, пресс-конференция Алины, выпущенной из советской психушки и только что прилетевшей в США, Алина и Эстер со Сьюзен Зонтаг, Нэнси Рейган, Иосифом Бродским, Патти Смит, Мартиной Навратиловой, Ивом Монтаном, Катрин Денёв и Джорджем Харрисоном; Калифорнийский институт искусств, дипломная работа Алины – огромная голова женщины в прозрачном кубе с кипящей водой, ещё два объекта и вот – TR-1, первая инсталляция, родившая в арт-мире новое имя – Alina Molochko: настоящие кусты малины, живая Алина в ярком платье, отдающаяся манекену с ножом и вытатуированными на заднице глазами; TR-2, TR-3, TR-4 и знаменитый пятый TR, произведший фурор на Венецианском биеннале, – белокожий робот-альбинос, идеальная копия человека, насилующий чернокожую женщину, такого же робота, кусты малины тогда шевелились, как живые, ягоды меняли цвет, переливаясь алым и бордовым; TR-5, TR-6… TR-12, TR-18, TR-30… сколько их уже было – каждый год в галереях и музеях, венецианских палаццо и выставочных залах; менялись кусты, их цвет и форма, менялись и фигуры лежащих на поляне между кустами, их пропорции, цвет кожи, качество исполнения антропоморфных роботов, стиль татуировки на ягодицах мужчины; менялись одежда, формы ножей, оттенки стонущих и рычащих голосов, движения татуированных ягодиц и дрожащих женских ног, дождь, снег или просто разнообразный свет, сопровождающие инсталляцию.
Пустая рамка для TR-36 лежала на столе. Осталось только распечатать на цветном принтере фото инсталляции, вставить и повесить на стену рядом с TR-35.
“Завтра…” – подумала Алина и улыбнулась, поняв, что завтра уже наступило, за окном рассвело.
И этот бледный утренний свет ниоткуда, наполнивший мастерскую и раздвинувший её стены, заставил вспомнить то, что думалось каждый раз, когда очередной TR завершался фотографией в узкой рамке на стене. Алина подошла к дальнему правому углу мастерской. Он был пуст, и на полу в этом углу всегда лежала сухая трава.
Алина присела на корточки, глядя в угол. Её голое стройное пятидесятипятилетнее тело с холёной кожей и ещё молодой грудью замерло.
– Пустота! – скомандовала она громко.
И тут же в углу вспыхнула голограмма: смуглое черноглазое женское лицо в ореоле кудрявых чёрных волос.
– Замри, сука! – со злобой выкрикнула женщина по-русски и исчезла.
Обняв себя за колени, Алина уставилась в пустой угол. Она вся напряглась, сосредоточившись, и перестала дышать. Взгляд её карих глаз упёрся в белое пространство угла. Прошла минута. Сердце стучало, билось всё тяжелее и чаще, отдаваясь в горле и в висках. Не прошло и второй минуты, как Алина бессильно опустилась на пол и жадно задышала.
Отдышавшись, подняла голову.
Глянула в угол.
Но угол был по-прежнему пуст.
Жук
Концлагерь был небольшим, на две тысячи женщин, совершивших преступления против Рейха. Восемь бараков стояли вокруг старого кирпичного здания, где были: пошивочная мастерская, прачечная, гладильная, мыловаренный цех, гараж с грузовиком и “опелем” коменданта, мехмастерская. Мужчины были: комендант лагеря, унтерштурмфюрер Мальц, его заместитель – штурмшарфюрер Тышлер, водитель Клаус, четверо ремонтников и взвод охраны СС. Надзирательницами были двенадцать женщины в форме вспомогательных войск СС. Начальниками цехов были поставлены женщины из заключённых. На кухне и в бане тоже работали заключённые; у СC, естественно, были свои повара и своя кухня. Лагерь шил солдатское исподнее, полотенца, наволочки, пододеяльники и варил мыло. Раньше семья Маришки жила в Котбусе, её отец был немец, рабочий, сочувствующий коммунистам, а мать – венгерка из-под Шопрона. Их всех арестовали в 1941-м за то, что по ночам слушали английское радио. Отец пропал. Маришку с матерью отправили сначала в большой лагерь под Мюнхеном, но потом разделили – Маришка оказалась в бельевом лагере, а мать поехала куда-то на восток. Куда – Маришка так и не узнала. К этому времени Маришке исполнилось семнадцать лет. Она работала в пошивочном цеху и шила наволочки. Однажды во время короткого обеденного перерыва, выйдя из длинного дощатого сортира, Маришка нашла на земле майского жука, положила его на липовый листок, присела на корточки и произнесла:
- Käfer, wach auf!
- flieg und lauf,
- such mir einen Bräutigam
- und bring mich drauf![1]
Маришка стала заворачивать жука в листок, чтобы, как положено, зашвырнуть его повыше в небо, но вдруг над ней раздалось зловещее:
– Ты что здесь ковыряешься, сучка?
Маришка оцепенела. Это был голос надзирательницы Ирмы по прозвищу Пружина. Вместо плётки или палки та ходила всегда с длинной узкой пружиной, вделанной в деревянную рукоятку. От этой пружины на спинах у заключённых оставались живописные синяки, похожие на татуировку. Несмотря на относительно миловидное лицо, Ирма всегда была налита злобой. Она была невысокой, с длинными руками, хранящими в сильных узловатых пальцах опыт крестьянской жизни. На Ирме была серая форма вспомогательного подразделения СС: серая пилотка, не очень длинная юбка, мужские сапоги, ремень и кобура с пистолетом.
– Встать! – Пружина ударила по идеально начищенному сапогу надзирательницы и кратко прозвенела.
Маришка встала, повернулась.
– Что у тебя в руке?
– Жук, Frau Aufseherin[2].
– Жук? Покажи!
Маришка разжала кулак. Жук лежал, шевелясь, в смятом липовом листе.
– Зачем тебе жук?
Маришка рассказала. Возникла пауза. Маришка внутренне сжалась, ожидая удара пружиной. Но удара не последовало.
– И так делали ваши девки?
– Да, Frau Aufseherin.
– И помогало? – Пружина постукивала по сапогу, позванивая.
– Да.
Ирма зло усмехнулась.
– И тебе помогло?
– Помогло, Frau Aufseherin.
– Жук принёс женишка?
– В меня после этого влюбился один парень, Frau Aufseherin.
– Трахнул тебя?
– Нет. Мы ходили в кино и целовались.
Ирма помолчала, постукивая пружиной по сапогу.
– Как его звали?
– Хорст.
– И где твой Хорст?
– Не знаю, Frau Aufseherin.
– Выкинь эту дрянь и ступай работать.
Ирма не ударила Маришку на прощанье. День прошёл как обычно: полосатые робы заключённых женщин, их унылые лица, команды, окрики, удары. Ночью, засыпая в своей кровати, Ирма думала всё о том же: почему у семи из двенадцати надзирательниц есть парни из взвода охраны, а у неё – нет. Даже такие уродины, как Эльфриде и Йоханна, нашли себе пару и отдаются парням в кладовой или в бельевой, а она, красивая Ирма, до сих пор ходит одна. Солдаты словно не видят её. Хотя она болтала больше обычного, шутила и вообще всячески заигрывала, привлекая к себе внимание. А результат – ноль.
Как сомнамбула, она заходила в бельевую или кладовую, когда их покидала очередная пара, и втягивала ноздрями запах пота и спермы. Её трясло от желания и бессилия. Это трансформировалось в злобу, и пружина Ирмы гуляла по полосатым телам заключённых. Она лупила их беспощадно. Пружина звенела. От Ирмы шарахались. Одной заключённой она выбила глаз. Польскую девку забила до бесчувствия. Старшая надзирательница сделала ей замечание: скот не калечить. Ей казалось, что подельницы подсмеиваются над ней. Засыпая, она засовывала кулак между ног и сжимала его ляжками. Работа в лагере, конечно, была противной. В феврале 44-го она нашла её по объявлению в газете, когда уже полгода проработала в ганноверском военном госпитале сиделкой и уборщицей. До этого она успела поработать на консервном заводе и в прачечной. Там было трудно, она валилась на кровать в конце дня как труп. А в госпитале было полегче, но платили гроши. Четырёх братьев забрали в вермахт, на Михеля уже пришла похоронка из Украины, трое воевали где-то восточней, в чёртовой России, письма от них перестали приходить. Старая мать-вдова не справлялась с крестьянским хозяйством, на работников нужны были деньги. А в лагере платили неплохо: 102 марки. Почти как на консервном заводе. Семьдесят она посылала матери в деревню, на остальные что-то позволяла себе, когда отпускали в местный городок: кино, мороженое, какао со взбитыми сливками в красивом кафе “Шарлотта”. Там сидели штатские и военные, но к ней ни разу никто не подсел.
“Словно заговорённая…” – думала она.
Как и все женщины в её деревне, она верила в заговоры и проклятия. Очень хотелось парня. Парня хотелось. Очень. Чтобы обнимал, говорил, лелеял и брал, брал по ночам. Теперь уже просто даже назло другим. И эта дурочка с жуком подтолкнула её. Сразу за колючей проволокой лагеря был луг, за ним – маленькая роща. Кончался апрель, жуки уже летали. И летали они, как она помнила по деревне, всегда вечерами. Отпросившись после ужина на прогулку у старшей надзирательницы, она вышла из лагеря, миновала луг и вошла в рощу. Солнце заходило. В роще росли дубы и берёзы. Прямо за рощей был овраг, куда сбрасывали из лагеря пристреленных больных и умерших. Их слегка присыпали землей. Из оврага смердело. Встав над оврагом, Ирма стала смотреть на заходящее солнце. И вскоре заметила жуков, летящих через дальнее поле к рощице. Солнце золотило их подкрылья, и жуков было хорошо видно из рощи. Большинство, пролетая поле, сразу поднимались выше и садились на берёзы. Один жук летел низко. Сняв пилотку, Ирма побежала и сбила его пилоткой. Он упал на край оврага. Выхватив его из травы, она надела пилотку, вошла в рощу, сорвала пару дубовых листьев, завернула в них ворочающегося и поскрипывающего жука, повернулась к солнцу, произнесла заклинание и изо всех сил зашвырнула жука в вечернее небо.
И вернулась в лагерь.
Прошёл день, другой. Ничего не изменилось в её жизни. Солдаты так же смотрели сквозь неё.
Первого мая комендант устроил пикник в честь национального Дня труда. Были офицеры, командиры отделений взвода и надзирательницы. Как положено, разложили майский костёр. Двое из взвода хорошо играли на аккордеоне, роттенфюрер Хюттель, выросший во Фленсбурге на севере, пел любимые морские песни. Голос у него был прекрасный, не хуже, чем у Ханса Альберса:
- Kleine weiße Möwe
- Über Meer und Deck,
- Kleine weiße Möwe,
- Flieg nicht wieder weg[3]…
Пели и другие. Сабина с шарфюрером Шпрёде спели дуэтом “Liebe kleine Schaffnerin[4]”. Все подпевали, раскачиваясь. Из городка завезли пива, шнапса, жареных цыплят и сосисок. Глотнув для храбрости шнапса, Ирма вызвалась спеть популярную у солдат “Drei Lilien”[5]. Голос у неё был никакой; старалась, из кожи вон лезла, вся раскраснелась. Песню любили, все ей подпевали. А после того как совсем стемнело и костер прогорел, подвыпившие мужчины стали обнимать и тискать захмелевших надзирательниц. Некоторые парочки двинулись в рощу. А к Ирме даже никто и не подсел.
Ночью она рыдала. Две из четырёх коек в их комнате были пусты, а пьяная толстуха Хермине храпела вовсю.
Год протянулся как десять. Парня не было. Работу свою она всё сильней ненавидела. Дважды брала отпуск и ездила к матери в деревню. Двое братьев пропали без вести, один писал странные письма, в конце каждого рисуя розу с перепончатыми крыльями. Ирма целовала эти розы. Мать стала неразговорчивой и делала по дому всё как машина. Но Ирма наняла для неё постоянную работницу. Когда через пару недель вернулась в лагерь, там произошли изменения: стало много молодых полячек, чешек, венгерок, русских и украинок. Вместо двух тысяч в лагере было уже три тысячи шестьсот двадцать три заключённых. Шили они по-прежнему солдатские исподние, простыни с наволочками, но в мыльном цеху, помимо варки мыла, проваривали в мыльном растворе окровавленные бинты, проглаживали их и снова сворачивали. Кровавые бинты завозили грузовики из госпиталей почти каждый день. Кучи этих бинтов пахли смертью. В конце 44-го фронт приблизился, слышна была канонада, летали по небу и дрались между собой самолёты. Чувствуя катящуюся на Германию армию врага, эсэсовцы зверели: слабых и больных женщин пристреливали беспощадно, ров за рощей был почти полон. Надзирательницы тоже озлобились, лупили палками и плётками направо и налево. А Ирме, наоборот, почему-то совсем расхотелось бить женщин своей пружиной. Внутри у неё нарастала тревога и предчувствие плохого, что больше её и надвигается на всех них, как ледник. Пружину она повесила на гвоздь и ходила по баракам и цехам без неё. Стали поговаривать об эвакуации лагеря, провели учебную эвакуацию. Во время “эвакуации” пристрелили двух женщин. Заключённых было положено гнать пешком до городка, потом грузить в вагоны. Но до этого дело не дошло: в январе 45-го после массированных бомбометания и артподготовки началось мощное и быстрое наступление Красной армии. Танки ударного полка полковника Вырыпаева ворвались в городок и смяли оборону. Немцы бежали. Танки пошли веером по деревенским окрестностям, расстреливая дома и поливая из пулеметов всё живое. Три танка выкатились к лагерю, один раз выстрелили по зданию бельевого цеха и проломили ограждение. Им никто не сопротивлялся: эсэсовцы-охранники удирали из лагеря на двух битком набитых грузовиках. Ирма, Берта и один солдат замешкались с вещами в кладовой, в это время танк выстрелил по крыше здания. Побросав вещи, они выбежали, а грузовики дали ходу. Оставшиеся побежали за грузовиками. Танки стали стрелять по грузовикам, те прибавили ходу и скрылись. Трое продолжали бежать за грузовиками. Сидевшие по баракам заключённые высыпали танкам навстречу. Один танк погнался за тремя беглецами, стреляя по ним из пулемёта. Берту и солдата скосило очередью. Ирма остановилась и подняла руки.
Танк подъехал – большой, выкрашенный белой краской, с красной надписью “За Сталина!” на башне. На броне сидели четверо солдат из двух приданных танковому полку рот, составленных из уголовников: рядовые узбеки Шарипов и Каримов, осетин Джанаев и тамбовчанин Витька Баранов.
– Хенде хох! – прокричал Витька своим высоким наглым голосом одну из пяти фраз, которые выучил по-немецки.
Но Ирма и так держала руки кверху. В незастёгнутой серой шинели, чёрных сапогах и серой пилотке она стояла, глядя на танк. Верхний люк танка открылся, выглянул командир, лейтенант Козлов. Его серое, постаревшее за годы войны лицо со впалыми щеками и тусклыми глазами ничего не выражало. Он был разочарован, что погнался на своём ударном танке за бабой.
– Мадамка отстала, тащь командир! – объяснил ему Витька. – Раш-ш-ишите разобраться?
Ничего не произнеся, лицо Козлова исчезло, люк захлопнулся.
С автоматом в руке Витька спрыгнул с танка на замёрзшую, слегка припорошенную снегом землю. Узбеки заворочались, чтобы тоже спрыгнуть, но Витька предупредительно поднял руку:
– Отзынь на полкило!
Солдаты остались сидеть на броне. Танк резво развернулся и, чадя выхлопом, поехал в сторону лагеря.
В белом поле остались стоять Витька и Ирма.
Витька направил на неё автомат:
– Раздевайсь!
Она не поняла.
– Раздевайсь, сучара! – повысил он голос и добавил: – Капут-цурюк, бля!
Она поняла. Сняла шинель, положила на землю и снова встала с руками кверху.
– Раздевайся, пизда, я чо сказал?! – закричал Витька.
Ростом он был меньше Ирмы, в грязном ватнике, подпоясанном солдатским ремнём, ватных штанах и шапке-ушанке с красной звёздочкой. Лицо его было почти мальчишеским.
Несмотря на свои восемнадцать, он был урка со стажем, уже трижды судимый за кражи и грабежи. Из последнего колымского лагеря по срочному спецпризыву для уголовников, чей срок не превышал два года (а Витька и получил тогда двушку за кражу), он попал в Белоруссию, в армию маршала Рокоссовского, и участвовал в операции “Багратион”. Год на фронте шёл за год в лагере. По блатным понятиям, пойдя на сделку с лагерным начальством, он “ссучился”, но тогда ему было плевать – сидеть на Колыме в военные годы было несладко даже в блатном, привилегированном бараке, тем более что он ходил там в “шестёрках”, прислуживая авторитетным ворам.
Немецкие пули облетали Витьку: одна разорвала ему ватник под мышкой, другая обожгла скулу. Он был уверен, что это из-за алюминиевого крестика, что ещё со второго лагеря висел у него на шее и на котором дружбан по бараку, одесский вокзальный вор Канатик, нацарапал гвоздём: “Спаси и сохрани!”
– Гельд абгемахт давай, сучара! – Витька направил автомат на Ирму.
Она вытащила из кармана тридцать рейхсмарок с мелочью и протянула Витьке. Скинув шерстяную перчатку, снятую им с убитого немца, он выхватил уже бесполезные деньги из Ирминой руки. Не пересчитывая, сунул в карман и нервно облизал тонкие губы:
– Раздевайсь!
Она не поняла.
– Раздевайсь, сука, чо стоишь, бля?! – закричал он, подкинув её серую юбку дулом автомата.
Она поняла. И стала раздеваться. Сняла портупею с кобурой. Положила на шинель. Сняла китель. Потом сняла юбку. Тоже положила на шинель. Сняла исподницу. Сняла лифчик. Сняла длинные, обтяжные до самых сапог, трусы. И осталась стоять перед Витькой голой, в одних сапогах.
– Лягай! – Витька указал автоматом на шинель.
Она поняла, легла и развела ноги. Не отрывая от неё взгляда, Витька положил автомат рядом, расстегнул ширинку, лёг на Ирму и со словами “Молчи, сука!” стал тыкаться в её пах, ища входа. Вход не находился. Тогда он громко харкнул себе в горсть, смазал слюной член, грубо подхватил её под колени, навалился и сразу вошёл – резко и больно. Она застонала. И вдруг заметила татуировку на кулаке у Витьки: жук.
Жук!
На кулаке был вытатуирован жук!
Кликуха у вора Витьки Баранова была – Жучок.
– Молчи, сука! – выдохнул он с нарочитой злобой и стал насиловать её, быстро и сильно.
Свой первый половой акт Витька совершил в четырнадцать лет с двадцатилетней проституткой. Последний был в пересыльном лагере в Котласе, когда шестеро блатных затащили в холодный предбанник двух женщин, подняли им юбки с исподницами и завязали над головами. Эти безликие и безголовые женские тела долго насиловали при свете мутного окошка. Витька был один из шестерых. Ему очень понравилось тогда.
Сейчас он насиловал Ирму, зло бормоча в такт движению:
– Молчи, сука, молчи, молчи, молчи…
После того как Ирма увидела жука на руке Витьки, она забыла про боль. Боль ушла сразу, испарилась, уступив место тому, что мучило и разрывало её изнутри весь этот последний год. Это большое, желанное и бесконечно нежное навалилось на неё сейчас, как облако, вместе с Витькой и стало наполнять, наполнять, наполнять с каждым его движением.
Витька и был этим чудом, пахнущим соляркой, махоркой и давно не мытым мужчиной. И говорил на чудесно непонятном языке.
“Жук!” – подумала она и радостно улыбнулась, осознав, что с ней происходит настоящее чудо.
Настоящее чудо.
Кончив, Витька отвалился, встал, тяжело дыша. Раскорячив ноги, стал застёгиваться. Лицо его раскраснелось. Слетевшая с головы шапка лежала возле Ирмы.
– Вот так, сука, вот так… – бормотал он.
Голая Ирма лежала на своей шинели, разведя ноги в сапогах и глядя на Витьку, на это чудо в грязном ватнике, чудо с пылающим мальчишеским лицом и взъерошенными, слипшимися русыми волосами. В этом парне всё было чудесно. На фоне серого зимнего неба Витька стоял молодым богом, обожаемым и бесконечно любимым. Глаза Ирмы наполнились слезами, сердце её сжалось.
Застегнувшись, Витька шмыгнул носом, взял автомат, поднял шапку, нахлобучил себе на голову и воровато огляделся. Он заметил портупею с кобурой, лежащие на шинели Ирмы. Вынул из кобуры маленький браунинг, сунул в карман. Снова огляделся. Вокруг было только заснеженное поле. В полуверсте, в лагере, слышались человеческие голоса и радостные крики.
– Вот так, бля, – произнёс он без злобы, повесил автомат на плечо, повернулся и зашагал к лагерю.
Ирма вскочила на ноги:
– Warte![6]
Он обернулся, не поняв.
– Warte, bitte, warte![7] – выкрикнула Ирма и пошла к нему.
– Чево?
Она шла к нему, протягивая руки. Глаза её были полны слёз, лицо дрожало. Всё её тело было наполнено любовью, это чудесное облако впервые в жизни вошло в неё.
– Чево?
Он попятился.
– Verlass mich nicht, bitte, mein Liebster, ich liebe dich, ich liebe dich[8]… – забормотала она, пытаясь его обнять.
В её лице Витька увидел то, что ему было непонятно. Непонятное его с детства пугало и выводило из себя. Когда он шестилетним увидел, как корова не может разродиться (теленок шёл ногами вперёд), он убежал на сеновал и, уткнувшись лицом в сено, рыдал и трясся. Потом всякий раз, сталкиваясь с непонятным, он стал действовать решительней.
Ирма схватила его за ватные плечи:
– Hab so lange auf dich gewartet![9]
Её лицо надвинулось. Витька вдруг увидел это лицо, наполненное чем-то таким большим, плотным и невероятно серьёзным, что оторопел. Это плотное и большое хотело Витьку. Хотело его всего, навсегда. Это желание исходило от лица этой немки, словно плотный невидимый свет. Витькино сердце застыло от ужаса.
Молниеносным движением он выхватил из валенка кортик СА, ловко украденный им у мудака Морушко из первой роты, и всадил его в голый живот Ирмы.
Не заметив удара, она продолжала бормотать своё, держа его за плечи. Вытащив нож, он отскочил назад. Она же по-прежнему стояла с протянутыми руками, бормоча и улыбаясь дрожащими губами. Из её глаз текли слёзы; тонкая струйка тёмной, смешавшейся со спермой крови тонко и скупо текла по внутренней стороне её бёдра.
Из незаметной раны в животе просочилась другая кровь – алая. И закапала на снег.
Ирма замолчала, опустила полные радостных слёз глаза. И посмотрела на свою рану.
– Вот так, бля… – пробормотал Витька.
Опустившись вниз, лицо её перестало давить на него невидимым светом. Замершее сердце Витьки ожило и тяжко забилось, как после кружки чифиря.
– Вот так, бля…
Справляясь с оторопью, он сунул нож в валенок, где для этого невероятно красивого оружия Витькой были заботливо вшиты кожаные ножны. Хотел сплюнуть, но в пересохшем рту слюны не нашлось. Он вдруг почувствовал, что как-то сильно, как-то очень устал, словно день проработал, как фраер, на лесоповале. Пугливо глянув на Ирму, он повернулся и быстро пошёл к лагерю.
А потом побежал, побежал.
Побежал.
– Nein! – вскрикнула Ирма, заметив, что её чудо удаляется. – Nein! Nein! Bitte…[10]
Но тут боль заставила её схватиться за живот и присесть.
– Nein, nein, nein… – зашептала она.
Боль стала сильной, нестерпимой. Ирма застонала, упала на мёрзлую землю, поджав ноги к животу.
Кровь текла из раны сквозь пальцы, согревая их.
Тёплая, тёплая, тёплая кровь.
Вместе с кровью жизнь стала покидать тело Ирмы.
Она поискала глазами фигуру убегающего чуда. И не нашла. Вокруг было лишь белое поле.
Веки её прикрылись.
И побелевшие губы произнесли последнее слово:
– Жук.
К вечеру повалил снег и стал заносить скорчившееся остывающее тело Ирмы.
Утром на этом месте возник сугроб, из которого выглядывал носок хорошо начищенного сапога. Но вскоре пропал и он.
Золотое ХХХ
I
– Я чрезвычайно редко использую What’s App. – Виктория повела острыми плечами, словно сбрасывая опостылевшую мантию. – Вы уже догадались, Борис, что я катастрофически старомодна. В этом веке я проживаю чужую жизнь, не свою. Мой век другой.
– Мой тоже. – Борис следовал за ней изгибистой тенью.
Он не заметил, как они оказались на Воробьёвых горах: воздвиглись свежие массивы майских лип, зашелестел легкомысленный бред тёплого ветра, асфальтовые реки понесли стайки яркой и громкой молодёжи на скейтбордах. С небесной лазури беззвучно сдирался шёлк высоких московских облаков.
– В таком случае что есть наша биография? – сумрачно произнесла Виктория, обращаясь к панораме залитой неярким солнцем Москвы. – Череда вынужденных событий, обидных паллиативов, зигзагов в тёмном лабиринте экзистенциальной беспомощности? Или просто шизофрения?
– А если – то и другое? – Борис снова догнал и снова попытался взять её за руку.
И она снова лёгким движением высвободила свою тонкую, хрупкую, такую мучительно желанную руку:
– Я до сих пор не могу осознать одного: если век-волкодав растворял биографии в коллективном кипящем тигле, чтобы выплавить нового послушного гомункулуса, смотрящего на звёзды и спрашивающего: “Что это?”, то век Silicon Valley штампует биороботов, которые…
– …смотрят на звёзды и называют формулу термоядерной реакции, порождающей звёздный свет. Виктория!
Она остановилась, как окликнутое животное, не оборачиваясь к нему.
– Почему вы отказываете мне в радости прикосновения?
– Борис, я же сказала, что безнадёжно старомодна.
– Старомодность не означает бесчувственность. Вы прикрываете этим свой страх потерять со мной какую-то важную степень свободы? Поверьте, я не отниму у вас ничего. Скорее – добавлю. Чистое прикосновение! Это же… так прекрасно! Я столько раз прикасался к вашим стихам! Почему же вы запрещаете потрогать вас? Просто потрогать! А? Неужели одно противоречит другому? Nonsense! Здесь прошёлся загадки таинственный ноготь. Поздно. Поздно, высплюсь, чем свет перечту и пойму. А пока не разбудят…
– Любимую трогать так, как мне, не дано никому… – продолжила она со вздохом обречённости. – Ах, Борис, это великолепно, что вы романтик. Но вы и агностик. Я догадываюсь, что для вас любовь – всего лишь сумма прикосновений. Пусть и романтических.
– Неправда!
– Вы придумали меня.
– Вы уже есть.
– Вы лепите миф.
– Я очарован вами, Виктория.
– Поэтом, поэтом…
– Женщиной! Жен-щи-ной! Я иду рядом не с поэтом, а с женщиной. С вами! Я… так очарован. К счастью, это невыразимо…
– Вы очарованы собой, придумавшим очаровательную Викторию.
– Ваши речи – безумие! По-вашему, я банальный соблазнитель? Вика, побойтесь Бога!
– О, я боюсь Его, боюсь… – вздохнула она, двинувшись дальше, как сомнамбула.
Борис пошёл рядом, любуясь её острым профилем редкой птицы, навсегда изгнанной из крикливой стаи. Этот профиль разрезал панораму Москвы, смарагдовые глаза пронизывали весенний ландшафт, волосы цвета индиго обрушивались на её очаровательные угловатые плечи отравленным водопадом. Она двигалась завораживающе плавно и легко, но в этом не было никакого расчёта, никакой позы, у неё всё выходило само собой. Это гипнотизировало.
– Давайте лучше читать стихи, – предложила она, неотрывно глядя вперёд.
– Ваши? Мои?
– Нет, не мои и не ваши. Вернее, вот что…
Она нервно усмехнулась.
– Что? – спросил Борис.
– Договор.
– Какой же?
– Старомодный.
– Кровью? Согласен!
– Нет, пока не кровью. И даже не спермой.
– Чем же?
– Словами: вы читаете стихотворение. Если оно удивит, я позволю вам взять меня за руку.
– Любое?
– Нет. Серебро. Только русское Серебро. Не золото, не бронзу и не тефлон.
– Прекрасно! В трюмо испаряется чашка какао…
– …качается тюль, и – прямой дорожкою в сад, в бурелом и хаос к качелям бежит трюмо, – тут же продолжила она.
– Меня преследуют две-три случайных фразы…
– …весь день твержу: печаль моя жирна.
Борис сорвал молодой клейкий липовый лист, свернул, понюхал:
– Было душно от жгучего света…
– …а взгляды его как лучи.
Борис скомкал и отбросил лист:
– От твоей любви загадочной, как от боли, в крик кричу.
– Стала жёлтой и припадочной, еле ноги волочу.
Виктория подхватывала каждую строфу, как волан. Они миновали церковь и двинулись по асфальтовой протоке, сдавленной аллеей неухоженных постсоветских лип. Борис хранил молчание шестьдесят шесть шагов, словно готовясь к старту на этой пустой дорожке.
– Ты войдёшь и молча сядешь близ меня, в вечерний час…
– …и рассеянно пригладишь на груди атлас…
Он снова замолчал. И рассмеялся:
– Виктория, я обожаю вас всё сильнее!
– Не заговаривайте мне зубы, дамский угодник.
– Вы… удивительная. Вы потрясающая. Вы неповторимая.
Она молчала, плавно и легко двигаясь по пустой аллее. Её чёрные туфельки без каблуков бесшумно ступали по асфальту. Она словно шла себе навстречу.
Борис решительно вздохнул:
– Ищи меня в сквозном весеннем свете. Я весь – как взмах неощутимых крыл.
– Я звук, я вздох, я зайчик на паркете.
Зло хлопнув в ладоши, Борис тут же продолжил:
– О путях твоих пытать не буду, милая, ведь всё сбылось.
– Я был бос, а ты меня обула ливнями волос и слёз.
Он выбросил вперёд руку, словно пытаясь раздвинуть аллею:
– Рас-стояние: вёрсты, мили! Нас рас-ставили, рас-садили!
– Чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли.
Зло вскрикнув, Борис забежал вперёд, развернулся и угрожающе замедленно двинулся на Викторию:
– Да, я знаю, я вам не пара, я пришёл из другой страны…
– … и мне нравится не гитара, а дикарский напев зурны.
– Вика, это невозможно! – Он топнул ногой по неотзывчивому асфальту. – Вы Лилит? Чёрт возьми! Что вы делаете здесь, в нашем мире изгнанных из рая?!
– Сдаётесь, жалкий соблазнитель?
– Нет, нет, нет!! – взвопил он так, что с липы сорвалась ворона и с карканьем полетела в сторону сталинской громады университета.
– Зачем ты за пивною стойкой?! Пристала ли тебе она?! Здесь нужно быть девицей бойкой! Ты нездорова и бледна!!
– С какой-то розою огромной у нецелованных грудей, – а смертный венчик, самый скромный, украсил бы тебя милей.
Борис замахал на неё руками, словно на навязчивое привидение:
– Пурпурный лист на дне бассейна сквозит в воде, и день погас…
– Я полюбил благоговейно текучий мрак печальных глаз.
Он оцепенел мраморной статуей навечно проклятой аллеи, кусая губы:
– Двадцать первое. Ночь. Понедельник. Очертанья столицы во мгле.
– Сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле, – произнесла на ходу Виктория нараспев, запрокидывая лицо к линяющему небу.
Борис прыгнул с места, снова забежал вперёд, остановился перед ней, изображая ладонями букву “Т”:
– Well, give me a break! A break!
– Да, пожалуйста… – Виктория со вздохом обошла его, словно севший на мель дредноут. – Вон там можно испить кофия.
Он доверил свой взор её пальцу: в зелени различались белые оконные переплёты.
– Кофе… да, да, кофе… – забормотал он, как после ледяного душа. – Мы непременно должны сейчас выпить кофе.
Она молча направилась к переплётам. Он извивался вокруг:
– Не кончено, не кончено, желанная и жестокая! Клянусь, я одолею вас. Я не могу не одолеть… я… я жажду сокрушить вас, пробить железный панцирь ложных страхов… и испить чашу прикосновения. Я раскрою вас, мраморная устрица! И выпью вас до дна! Осушу одним глотком!
– Смотрите не захлебнитесь. – Она сорвала большой ореховый лист, положила на левый кулак и звучно прихлопнула правой ладонью.
Свежевыкрашенным “Летучим голландцем” кафе выплыло на них из сочной зелени.
Борис кинулся к стоящему у веранды столику, отодвинул пластиковый стул и, рухнув на колени, обнял его, как золотой трон Клеопатры:
– Ловлю ваше божественное тело, о временно недоступная!
Виктория опустилась на стул, закинула ногу на ногу, раскрыла обсыпанную бисером сумочку, извлекла из неё чёрную стрелу мундштука, вставила сигарету.
Коленопреклонённый Борис тут же возжёг маленький факел. Прикурив и затянувшись, она выпустила струю дыма в приближающегося официанта:
– Кофе! Чёрный, как смерть.
– А мне ни-че-го… – пропел заворожённый её профилем Борис.
Внутри решётчатой веранды молодая компания перекидывалась угловатыми междометиями.
– Здравствуй, быдло младое, незнакомое… – сощурилась на них Виктория, качнула ногой и прикрыла ладонью своё острое колено. – Как вы полагаете, Борис, восстанет русская культура когда-нибудь из радиоактивного красного пепла?
– Даже сквозь бетон прорастают цветы. – Борис стоял на коленях, до боли в пальцах сжимая ребристый пластик стула, словно тюремную клетку.
– А если этот бетон радиоактивен?
– Тогда прорастёт диковинный цветок.
– Багрово-фиолетовая орхидея?
– С запахом гниющей плоти.
– Слишком красиво, чтобы быть правдой… – Она стряхнула пепел и замолчала.
Борис остался стоять на коленях, притягивая человеческие взоры. Молодая компания ненадолго смолкла, уставившись на него сквозь решётку террасы. Борис глянул на них:
– Корнями двух клыков и челюстей громадных оттиснув жидкий мозг в глубь плоской головы…
– … о махайродусы, владели сушей вы в третичные века гигантских травоядных.
Борис грозно расхохотался и с рычанием впился зубами в пластиковый подлокотник.
– Давайте только фауну и флору оставим в покое, – произнесла Виктория.
– D’accord!
Перед Викторией на столе возникла чашка кофе. Её тонкие губы протянулись к чёрному озеру, коснулись и отпрянули, убедившись:
– Магма.
Это заставило Бориса встать и сесть за стол. Его взгляд покрыл Викторию омофором желания.
Она почувствовала. И привычно повела острыми плечами, сбрасывая невидимую ткань:
– И долго вы намерены отмалчиваться?
Лицо Бориса вмиг окаменело:
– Вооруженный зреньем узких ос, сосущих ось земную, ось земную…
– Я чую всё, с чем свидеться пришлось, и вспоминаю наизусть и всуе.
Борис замолчал. Но ненадолго:
– Что сердце? Лань. А ты стрелок, царевна. Но мне не пасть от полудетских рук…
Она продолжила с выпускаемым дымом:
– И промахнувшись, горестно и гневно ты опускаешь неискусный лук.
Каменное лицо Бориса стало чугунным. Он разлепил потяжелевшие губы, но Виктория предупредила:
– Я буду пить кофе.
И он замер с полуоткрытым ртом.
Виктория подносила чашку к губам, словно пила саму себя. Этот напиток не радовал, но успокаивал её. Опустошив чашку, она встала и пошла:
– Рассчитайтесь, несчастный.
Борис швырнул в официанта комом денег и громко поспешил за ней:
– В глазах пески зелёные и облака…
– По кружеву краплёному скользит рука.
Она вытянула из мундштука окурок, кинула в лужу, из которой пил голубь:
– Борис, вы предсказуемы. Хотя и сильный поэт.
– Не оскорбляйте меня, Виктория!
– Я просто называю вещи своими именами…
– Наше поприще не завершено.
– Я готова продолжить, пожалуйста.
Они спустились к Москве-реке.
– Корабли оякорили бухты… – Виктория сощурилась на прогулочный катер, причаливающий к пристани. – Прокатите меня, рыцарь бледный.
– Avec plaisir!
Они устроились на корме спереди. Катер отчалил. На палубе присутствовали редкие пассажиры.
Катер поплыл, рассекая сонную воду. Виктория рассекала взглядом влажное пространство.
Борис с нескрываемой ненавистью обсасывал глазами её острый профиль:
– Я сжечь её хотел, колдунью злую, но у неё нашлись проклятые слова.
– И вновь я увидал её живую: вся в пламени и в искрах голова, – донеслось в ответ.
Борис ударил кулаком в леерную стойку так, что та загудела:
– Язычница! Как можно сочетать твою любовь с моею верой? Ты хочешь красным полымем пылать, а мне – золой томиться серой.
Острый профиль Виктории молча разрезал нечистую воду Москвы-реки. Борис торжествующе воздел кулаки к высокому небу, раскрыл их двумя победными звёздами-пятернями. И набрал в лёгкие побольше речного воздуха для торжествующего крика.
Но тут губы Виктории беспощадно разошлись:
– Ищи себе языческой души, такой же пламенной и бурной, – и двух огней широкие ковши одной скуются яркой урной.
Борис замер с воздетыми руками, словно Орион, пронзённый стрелой Дианы. Вместо победного вопля изо рта его бесцветной змеёй выполз стон разочарования в себе.
Чтобы прийти в себя, разочарованного собою, ему пришлось нанести по стойке ещё несколько гулких ударов.
Виктория качала левой ногой, положив её на правую.
Борис наступил на горло своему разочарованию:
– Пришла опять, желаньем поцелуя и грешной наготы в последний раз покойника волнуя, и сыплешь мне цветы.
Её нога качнулась в такт размеру:
– А мне в гробу приятно и удобно, я счастлив, – я любим! Восходит надо мною так незлобно кадильный синий дым.
Теперь Борис замолчал надолго.
Молча проплыли мимо Кремля.
– Я проголодалась, – сообщила Виктория.
Он кивнул.
Они сошли на Фрунзенской набережной. Неподалёку покачивался плавучий ресторан.
– Сюда? – рассеянно предложил Борис.
– Сегодня мне почему-то всё равно, куда и с кем, – ответила она.
– Потому что сегодня вы злая и бесчувственная.
– Я обычная, обычная…
Вскоре они сидели на веранде ресторана и Виктория пригубливала тосканское вино.
Борис заказал себе водки. Выпив рюмку, он кинул в рот большую жирную маслину, зло пожевал и громко выплюнул косточку на пол:
– Листья падали, падали, падали, и никто им не мог помешать.
Виктория сделала глоток:
– От гниющих цветов, как от падали, тяжело становилось дышать.
Борис с ненавистью уставился на неё.
– Ну что вы яритесь, юноша. – Она спокойно выдержала его взор. – Я же не принуждала вас к договору.
– Скажите, Виктория, вы… человек?
– Сдаётся мне, что да.
– Может, вы репликант?
– Не играйте в голливудскую банальщину. Это не ваше. И не наше.
– Но я теряюсь! Просто теряюсь!
– О, ещё не всё потеряно, друг мой. – Она подняла бокал. – Хочу выпить за вашу настойчивость.
Он молча налил себе водки и тут же размашисто выпил, запрокидывая голову. Виктория отпила, покачала бокал, ловя вином уходящее золото солнца. Снова отпила.
Подошёл рослый официант.
– Я хочу рыбу из Средиземного моря, – сообщила ему Виктория.
– А я… не знаю… что-нибудь… – забормотал Борис. – Мясо… мясо какого-нибудь быка…
– Есть дорада и сибас, аргентинская говядина, свинина тамбовская, цыплята подмосковные, – забубнил официант.
– Дорада.
– Бык.
Официант исчез.
Борис снова выпил.
Виктория с полуулыбкой разглядывала его краснеющее от водки лицо:
– Вы сейчас напьётесь и начнёте читать Есенина.
– Я из него почти ничего не помню. Сыпь, гармоника, частую, частую…
– Пей, выдра, пей… – Она утопила смешок в бокале. – Пью.
Уперевшись взглядом в её бледное лицо, Борис почти запел:
– Зелёною кровью дубов и могильной травы когда-нибудь станет любовников томная кровь.
– И ветер, что им шелестел при разлуке: “Увы”, “Увы” прошуршит над другими влюблёнными вновь. Послушайте, Борис. Давайте не будем смешивать поэзию с едой. Смените слова на мясо. Временно.
Они замолчали.
Быстро прикончив двухсотграммовый графинчик водки, Борис угрюмо заказал трёхсотграммовый. Чем больше он пил, тем мрачнее становился. Виктория потягивала вино, глядя в свои миры сквозь Бориса.
Еда не заставила долго ждать: жаренная на гриле дорада и огромный стейк возникли на столе. Виктория перекрестилась и стала хладнокровно препарировать дораду. Опьяневший Борис ел громко и неряшливо. Его графин быстро пустел. Вдруг он замер, уставясь на недоеденный стейк, как на саламандру. Вскинул руку и поманил мизинцем официанта.
Тот подошёл.
– Любезный, что это? – Борис поддел ножом янтарную прослойку жира с края стейка.
– Это говяжий жир.
– Жир? – Борис поднял на официанта остекленевшие глаза.
– Жир. У рибая всегда имеется.
– Жир? Имеется?
– Да, жир.
– Говяжий?
– Да, говяжий жир.
Борис вырезал жир, положил на ладонь и отвернулся от официанта:
– Зови администратора.
Официант удалился. Борис сидел с жиром на ладони.
– Я слышала, что вы скандалите, когда выпиваете. Для стихов это хорошо?
– Совсем охамела ресторанная сволочь… – пробормотал Борис.
Лицо его налилось кровью. В остекленевших глазах вспыхнула ярость. Виктория отложила вилку и нож, дожёвывая, быстро промокнула губы.
Подошли официант и невзрачная молодая женщина на лабутенах.
– В чём проблема? – с кислой приветливостью улыбнулась администратор.
– Вот в чём! – Борис показал жир.
Но едва она открыла рот, чтобы что-то произнести, он с силой швырнул жир ей в лицо:
– Хамьё-ё-ё-ё!!
Жир попал администратору в левый глаз.
Были крики и взвизги. Был топот охраны. Был опрокинутый стул. Была неравная борьба. Была разорванная рубашка Бориса, связанного и уложенного в кабинете администратора на диван. Был угрожающий рёв Бориса в диван. Был наряд полиции. Был звонок Виктории старому поклоннику из администрации президента. Были отданные деньги. Был блюющий на набережной Борис. Был Борис, грозящий Кремлю кулаком. Был Борис, мочащийся в Москва-реку. Был Борис, читающий свои стихи Виктории и двум бомжам. Был Борис, воющий на луну. Был Борис, падающий на руки Виктории.
Он проснулся.
Солнце пробивало шторы.
Поднял голову, оглядываясь. Незнакомая комната. Книжные полки. Книги. Картина. Кабаков. Фото. Виктория. Виктория с отцом. Виктория с сыном. Юная Виктория с Бродским.
“Я у неё? O, my God…”
Он сел на узкой кровати. Рядом на спинке стула висел синий китайский халат, а на сиденье стояла бутылка воды. Он глянул на своё тело: голый.
– Так. Интересно…
Взял бутылку, открыл и жадно ополовинил.
Рыгнул. Вспомнил вчерашнее. Рассмеялся:
– Когда б вы знали…
Покачал головой: не болит. То есть совсем не болит. Фантастика.
“А! Я же блевал. Блевал? Да. Точно блевал”.
– …из какого сора растут стихи, не ведая стыда…
“Поэтому и похмелья нет…”
– Проблеваться полезно, Боря.
Встал, надел приятно прохладный халат. Завязал узкий пояс. Прошёлся босиком до двери. Открыл.
На небольшой, белой, залитой солнцем кухне пила кофе Виктория. Из белого радиоприёмника чуть слышно звучала музыка, песня, которую Борис хорошо знал: Procol Harum “Homburg”. Её любил покойный старший брат Бориса – вечный хиппи московских семидесятых.
– Доброе утро, рыцарь говяжьего жира.
Он молча вошёл на кухню.
Виктория сидела за белым столом. На ней был халат серого шёлка.
– Вашу разодранную варварами рубашку я выбросила. Остальное стирается. От моего последнего мужа остались две рубашки. К сожалению, он ещё жив, поэтому можете смело выбирать. Кофе будете? Или душ?
Он стоял. Смотрел на бледную кожу в проёме её халата. На голые колени. Она тоже была босой. Узкие ступни. Короткие, почти детские пальцы ног. Крохотные ногти. Винный лак.
Она не покачивала, а именно болтала ступнёй под столом. Совсем как девочка.
“Под халатом нет ничего”.
У него резко потеплело в солнечном сплетении.
И шевельнулся его маяковский.
– Мы… не закончили, – произнёс Борис севшим голосом.
– Да? Ну, тогда у вас последняя попытка.
Волна вольфрамовых иголок покатилась от его поясницы вверх, вверх. По спине, плечам, шее. К мочкам ушей. Знакомая колючая волна.
– Последняя строфа, рыцарь.
Он кивнул.
Развязал пояс.
Распахнул халат.
Восставший маяковский закачался над столом.
Смарагдовые глаза Виктории остановились на маяковском.
– Вот моя последняя строфа, – с трудом справляясь с дрожью в голосе, произнёс Борис. – Я жду вашу.
Она молча встала. Пальцы дёрнули кончик узла пояска. Халат упал беззвучно.
Бледное нежное тело. Острые плечи. Небольшая грудь с девичьими сосками. Стройные бёдра. Беспомощные бёдра. Завораживающие бёдра. Желанные бёдра.
– А вот моя. – Она развела их.
Её голый лобок. Розовая щель. Зашитая трижды крест-накрест. Толстой золотой нитью: ХХХ.
Борис замер.
– Простите, Борис, я не сказала вам. Уже пятый день как я прозаик, а не поэт. Я пишу великий роман. И чтобы его написать, нужно соответствовать.
Борис молча смотрел.
– Вы знаете хоть один великий роман, написанной женщиной? Хотя бы уровня “Улисса”?
– Нет… – прохрипел Борис, не в силах оторвать взгляда от золотого ХХХ.
– И я не знаю. Джойс! А что говорить о Достоевском, Сервантесе, Рабле?
Борис стоял парализованно.
– Я собираюсь нарушить эту безнадёжную, порочную традицию. Поэтому нужны радикальные решения. Я наступаю на горло своей женственности. Беспощадно!
– На… горло? За…чем?
– Метафизическая проза и женственность несовместны.
Маяковский вздрогнул.
– И… когда это…
– Я перережу? Когда закончу великий роман. А великие романы, дорогой мой рыцарь полной луны и волчьего воя, не пишутся быстро.
Легко наклонившись, она подняла халат, облачилась в шёлк, села, качнула ногой:
– Скажу откровенно, не самое уютное чувство. Но нужно терпеть. Per aspera ad astra. Так скажите, кофе или душ?
Борис стоял молча.
- You’d better take off your Homburg
- ‘Cause your overcoat is too long
- Your trouser cuffs are dirty…
Ожидаемые похмельные слёзы наполнили его глаза.
Одна из которых.
Сорвалась.
И упала.
На.
Голову маяковского.
II
Из Успенского собора вышли порознь, словно чужие. Анна обернулась, перекрестилась широко, с силой. Поклонилась, словно лбом невидимый лёд сомнений разбивая. Виктория вышла враскачку, как модель по подиуму, – руки в карманах короткой шубы соболиной, лицо бледно-узкое, секирой стрелецкой, глаза – антрацит, маслом горным сочащийся.
И тут же: тёмная толпа нищих калек по грязному снегу. Метнулась.
Анна швырнула в них приготовленными медяками. Виктория выхватила из кармана шубы большой чёрный кольт-1911. В сырой воздух пальнула.











