Читать онлайн Поправка-22
- Автор: Джозеф Хеллер
- Жанр: Зарубежная классика, Книги о войне, Литература 20 века
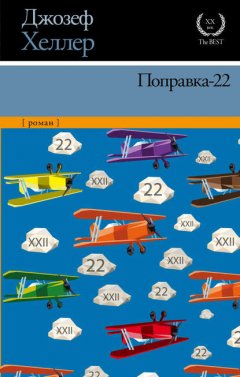
© Joseph Heller, 1955, 1961
© Перевод. А. А. Кистяковский, наследники, 2015
© Издание на русском языке AST Publishers, 2015
Была только одна поправка – Поправка-22
Остров Пьяноса, расположенный в Средиземном море на восемь миль южнее острова Эльба, безусловно, чересчур мал, чтобы вместить описанные события. Как и окружающая обстановка, персонажи романа тоже вымышлены.
Глава первая
Техасец
Йоссариан полюбил капеллана мгновенно.
С первого взгляда и до последнего вздоха.
А в госпиталь он попал из-за болей в печени – хотя до желтухи его болезнь не дотягивала. Не дотягивала, к явному замешательству врачей, да и все тут. Если б она обернулась желтухой, они принялись бы ее лечить. Если б сошла на нет, отправили бы Йоссариана обратно в часть. Но желтуха не проявлялась, а Йоссариан не поправлялся, и это решительно сбивало их с толку.
Каждое утро они делали обход – трое деловито серьезных врачей, с уверенными речами и растерянными глазами, в сопровождении деловито серьезной мисс Даккит, одной из палатных сестер, которая недолюбливала Йоссариана. Изучив температурную карточку на спинке его госпитальной койки, они со скрытым нетерпением осведомлялись, как он себя чувствует. Их, видимо, раздражал его ответ, когда он говорил, что, мол, по-прежнему.
– И стула не было? – вопрошал врач в чине полковника.
Йоссариан отрицательно качал головой. Врачи переглядывались.
– Дайте ему еще одну таблетку.
Мисс Даккит заносила распоряжение в свой блокнот и перемещалась вслед за врачами к следующей койке. Все палатные сестры недолюбливали Йоссариана. Печень у него уже прошла, но он предпочитал об этом помалкивать, и врачи вроде бы ни о чем не догадывались. Они, впрочем, догадывались, что со «стулом» он их дурачит, облегчаясь в уборной тайком и украдкой.
Йоссариану нравилась госпитальная жизнь. Кормили тут вполне сносно, и еду ему приносили прямо в палату. Больным полагалась дополнительная порция мяса, а когда наступала послеполуденная жара, им давали холодный фруктовый сок или шоколадный напиток. Кроме врачей и сестер, никто здесь не досаждал Йоссариану. По утрам он, правда, трудился часок-другой как военный цензор, зато уж потом с чистой совестью мог валяться на койке до самого вечера. Ему вольготно жилось в госпитале, причем выписки он ничуть не боялся, потому что температура у него устойчиво держалась градуса на полтора выше нормы. Ему было даже вольготней, чем Дэнбару, который грохался временами в обморок – чтоб и его кормили прямо в палате, – а так ведь и морду расшибить недолго.
Решив проболеть до конца войны, Йоссариан написал всем своим знакомым, что попал в госпиталь, но почему – утаил. А потом его осенила блестящая идея. Он сообщил знакомым, что ему предстоит выполнить опаснейшее боевое задание. «Объявлен набор добровольцев. Риск смертельный, но ведь кто-то должен решиться. Я черкну вам пару строк, как только вернусь». И с тех пор он больше уж никому не писал.
Офицеры содержались в госпитале отдельно от унтер-офицеров и солдат, а по утрам досматривали их письма. Это была нудная работа, поскольку солдаты американской армии, как с досадой убедился Йоссариан, жили едва ли менее уныло, чем офицеры. Ему стало скучно в первый же день. Чтобы развлечься, он начал придумывать цензорские игры. Смерть определениям, решил он однажды – и принялся вымарывать из писем, которые проверял, все прилагательные и все наречия. На следующий день он объявил войну предлогам. А потом его посетило высокое вдохновение, и он решил оставлять в письмах только предлоги. Листки с разрозненными закорючками предлогов обретали подспудный, внутренний драматизм, а сообщения становились гораздо универсальней. Когда и это ему надоело, он начал вычеркивать обращение и подпись, но текст письма оставлял нетронутым. А однажды, тщательно вымарав текст, оставил только зачин – «Дорогая Мэри» – и внизу приписал: «Тоскую по тебе безумно. Э. Т. Тапмэн, капеллан ВВС США». Тапмэн был их полковым священником.
Когда игры с письмами ему приелись, он занялся конвертами – начал вычеркивать адреса и фамилии, изничтожая, словно Всевышний, беспечным росчерком пера отдельных людей и целые семьи, дома, улицы, города и штаты. Поправка-22 предписывала, чтоб на каждом досмотренном письме ставилась фамилия цензора. Большинство писем Йоссариан теперь просто не читал. Только ставил на них свой росчерк. А прочитав письмо, назывался Вашингтоном Ирвингом или для разнообразия Ирвингом Вашингтоном. Вскоре его цензурные вымарки на конвертах привели к самым серьезным последствиям, заставив слегка взволноваться некие высочайшие военные сферы, и это легкое волнение выплеснуло к воротам госпиталя тайного агента военной прокуратуры из Отдела по борьбе с преступностью. Агент ОБП, или в просторечии обэпэшник, водворился в офицерской палате как новый пациент. По желанию свести знакомство с Ирвингом или Вашингтоном и нежеланию досматривать письма – он отказался от этой унылой повинности на второй день – все сразу же поняли, кто он такой.
А вообще-то палата у них подобралась на славу, Йоссариан и Дэнбар никогда еще, пожалуй, в такой не лежали. Их соседом был, во‑первых, двадцатичетырехлетний капитан с жидкими золотистыми усиками – летчик-истребитель, сбитый прошлой зимой над Адриатическим морем и даже не простудившийся. Сейчас-то стояло лето, но капитан, которого больше не сбивали, утверждал, что у него грипп. Справа от Йоссариана обессиленно покоился – всегда на животе – обомлевший офицер с малярийной инфекцией в крови и укусом комара на заднице. За проходом стояла койка Дэнбара, а возле Дэнбара лежал артиллерийский капитан, с которым Йоссариан отказался играть в шахматы. Игроком-то артиллерист был очень сильным, так что всякая партия превращалась у них в хитроумный поединок – хитроумный до идиотизма, как сказал Йоссариан, когда отказался с ним играть. А еще в их палате обретался образованный техасец, выглядевший героем цветного фильма, и патриотическое чутье подсказывало ему, что состоятельный, то есть достойный, человек должен иметь на выборах больше голосов, чем какой-нибудь бродяга, мошенник, недоумок, атеист или, допустим, шлюха, то есть люди несостоятельные, а стало быть, и недостойные.
В тот день, когда к ним в палату принесли техасца, Йоссариан деловито выламывал из писем смысловую основу. Это был самый обычный, по-госпитальному бестревожный и жаркий летний день. Жара, тяжкой ладонью придавившая крышу, глушила все мирные дневные звуки. Дэнбар неподвижно лежал на спине, уставившись, будто кукла, в потолок. Он усердно удлинял время жизни. Он добивался этого, углубляя скуку. Он так успешно удлинял время жизни, что казался Йоссариану мертвым. Техасца положили на койку, и вскоре он обнародовал свои взгляды.
– Во-во! – стремительно привскочив, гаркнул Дэнбар. – То-то я думал – чего, думаю, нам не хватает, не хватает, да и все тут! А теперь, значит, понял. – Он шмякнул кулаком по ладони и удовлетворенно заключил: – Патриотизма у нас нету.
– Верна! – гаркнул ему в ответ Йоссариан. – Верна, верна и верна! Дедовы капиталы… да свои домашние причиндалы – вот что все защищают! А кто, спрашивается, защищает достойных людей? Кто воюет за их голоса? Нет у нас патриотизма! И даже матриотизма нету!
– А и наплевать, – безучастно сказал младший лейтенант, лежащий слева от Йоссариана. Высказавшись, он перевалился на другой бок с намерением уснуть.
Техасец оказался редкостно благородным, благодушным и благонравным. Дня через три его уже никто не мог выносить.
При встречах с ним зуд унылого раздражения охватывал человека, словно въедливая чесотка спинного хребта, и все шарахались от него – все, кроме солдата в белом, у которого не было выбора. Солдат этот был водворен к ним в палату контрабандой, под покровом ночной темноты, и они увидели его только утром – горизонтальный гипсово-марлевый кокон и четыре странные конечности, задранные к потолку с помощью свинцовых противовесов, угрожающе застывших в воздухе над неподвижным туловом. Конечности казались лишними, особенно задние. А в гипсовую оболочку передних, с внутренней стороны на уровне локтей, были вставлены два шланга, по которым из прозрачного сосуда струилась вниз прозрачная жидкость. Между задними конечностями – там, где они отходили вверх от бедер, – в гипс была вмонтирована цинковая трубка, изогнутая плавной дугой и нисходящая к полу; недалеко от нижнего ее среза к ней примыкали две резиновые, для дренажа почек; объединенные таким образом отходы стекали в прозрачный сосуд, стоящий у койки на полу. Жизненный процесс длился непрерывно, и, когда верхний сосуд пустел, а нижний наполнялся, их быстро и неприметно меняли местами. Общую стерильность солдата в белом нарушало одно-единственное темное пятно – размухренное от дыхания отверстие надо ртом.
Солдат в белом лежал возле техасца, и тот, сидя боком на своей койке, весь день благожелательно журчал, растягивая слова с приятной ленцой американских южан. Его не смущало, что собеседник молчит.
Температуру им мерили два раза в сутки. Ранним утром и под вечер сестра мисс Крэймер входила в палату и, неторопливо двигаясь от койки к койке, наделяла каждого больного градусником. Солдату в белом она вставляла градусник туда, где под размухренной дырой в марлевой маске предполагался рот. Потом мисс Крэймер возвращалась к двери и делала второй обход, записывая температуру в карточки. И вот однажды, глянув на градусник, вынутый изо рта у солдата в белом, она обнаружила, что солдат умер.
– Убийца, – негромко проговорил Дэнбар.
На губах у техасца появилась неуверенная улыбка.
– Душегубец, – пояснительно обронил Йоссариан.
– О чем это вы, ребята? – с беспокойством спросил техасец.
– Ты убил его, – сказал Дэнбар.
– Погубил душу живу, – добавил Йоссариан.
– Да вы просто спятили, ребята, – пробормотал, отпрянув, техасец.
– Ты убил его, – повторил Дэнбар.
– Я слышал, как ты его приканчивал, – добавил Йоссариан.
– Ты убил его, потому что он черномазый, – сказал Дэнбар.
– Вы просто спятили! – выкрикнул техасец. – Нету здесь никаких черномазых! Их содержат отдельно.
– Сержант положил его сюда тайком, – сказал Дэнбар.
– Сержант-то, он ведь красный, – пояснил Йоссариан.
– И ты это знал, – заключил Дэнбар.
Младшему лейтенанту, левому соседу Йоссариана, было наплевать на солдата в белом. Ему на все было наплевать, и он обычно молчал, а если и заговаривал, то исключительно чтобы выразить вслух свое раздражение.
Накануне встречи Йоссариана с капелланом в госпитальной столовой взорвалась газовая печь, и огонь мигом охватил одну из деревянных стен. По госпиталю медленно поползла волна удушливого жара. Даже в палате Йоссариана, футов за триста от столовой, слышался рев пламени и сухой треск полыхающих досок. Минут через пятнадцать с аэродрома приехали аварийные машины, и пожарные больше получаса не могли одолеть разбушевавшийся огонь. А когда победа была близка, небо над госпиталем привычно взбухло монотонным гулом бомбардировщиков, которые возвращались с очередного задания, и бойцы аварийной команды, торопливо скатав пожарные рукава, умчались восвояси, чтобы быть наготове, если какой-нибудь самолет гробанется при посадке и вспыхнет. Все самолеты приземлились, однако, благополучно. Как только последний самолет сел, пожарные ринулись обратно в госпиталь. Когда грузовики одолели подъем – госпиталь стоял на холме, – оказалось, что пожар кончился, испустил дух сам по себе, и разочарованные пожарные, не отыскав ни одной головешки, которую стоило бы заливать, выпили остывший кофе, а потом долго слонялись по госпиталю, пытаясь утешиться с дежурными сестрами.
Капеллан появился на следующее утро. Йоссариан был погружен в работу – вычеркивал из очередного письма все, кроме любовных слов, – когда тот сел на стул между койками и спросил его, как он себя чувствует. Сел пришелец бочком, на краешек стула, и Йоссариан увидел поначалу только капитанские нашивки на вороте его рубахи. Не зная, кто к нему пришел, Йоссариан решил, что это новый врач или еще один сумасшедший.
– Прекрасно, – ответил он. – Печень слегка пошаливает и со стулом довольно туго, но в общем и целом я чувствую себя прекрасно.
– Это хорошо, – сказал капеллан.
– Да, – сказал Йоссариан, – это хорошо.
– Мне хотелось наведаться раньше, – снова заговорил капеллан, – да я неважно себя чувствовал.
– А вот это плохо, – сказал Йоссариан.
– Просто насморк, – поспешно уточнил капеллан.
– А у меня температура, – так же поспешно уточнил Йоссариан.
– Это плохо, – сказал капеллан.
– Да, – сказал Йоссариан, – это плохо.
Капеллан поерзал на краешке стула.
– Может, вам что-нибудь нужно? – спросил он.
– Да нет, – вздохнул Йоссариан. – Врачи, по-моему, делают все возможное.
– Да нет, – слегка зардевшись, проговорил капеллан, – я не про это. Я про книги… или там сигареты… или, к примеру, игрушки…
– Да нет, – отозвался Йоссариан. – Большое спасибо. У меня вроде все есть – все, кроме здоровья.
– А вот это плохо, – сказал капеллан.
– Да, – сказал Йоссариан, – это плохо.
Капеллан опять немного поерзал. Потом несколько раз огляделся по сторонам, поднял взгляд к потолку и посмотрел на пол. А потом глубоко вздохнул и сообщил:
– Лейтенант Нетли шлет вам привет.
Йоссариана огорчило, что у них есть общий знакомый.
Дело, значит, было не только в их обоюдной симпатии.
– Вы знаете лейтенанта Нетли? – разочарованно спросил он.
– Прекрасно знаю, – откликнулся капеллан.
– Он ведь немного того, правда?
Капеллан встревоженно улыбнулся.
– Вы думаете? – спросил он. – Я все же не настолько хорошо его знаю, чтобы об этом судить.
– Сомневаться тут не приходится, – уверил капеллана Йоссариан. – Он, как и все они, с большим приветом.
Капеллан веско помолчал, а потом вдруг отрывисто спросил:
– Вы ведь капитан Йоссариан, я не ошибся?
– У Нетли плохая наследственность. Он из хорошей семьи.
– Простите, бога ради, – испуганно сказал капеллан. – Возможно, я совершаю серьезнейшую ошибку. Вы действительно капитан Йоссариан?
– Да, – признал Йоссариан, – я действительно капитан Йоссариан.
– Из Двести пятьдесят шестой эскадрильи?
– Из Двести пятьдесят шестой боевой эскадрильи. И я не знаю другого капитана Йоссариана. Насколько мне известно, я единственный капитан Йоссариан, которого я знаю, и больше мне про Йоссариана ничего не известно.
– Понятно, – с несчастным видом сказал капеллан.
– А если б нас было двое, то, возведенные в восьмую степень, мы составили бы номер нашей эскадрильи, – добавил Йоссариан, – это я на тот случай, если вы собираетесь писать про нас символическую поэму.
– Да нет, – промямлил капеллан, – я не собираюсь писать про вас символическую поэму.
Внезапно Йоссариан подобрался и выпрямился: он заметил серебряный крестик на вороте рубахи у своего собеседника – справа нашивки капитана, а слева крестик. Ему никогда не доводилось разговаривать с капелланом, и он радостно обалдел от подобной возможности.
– Так вы, стало быть, капеллан! – восторженно воскликнул он.
– В общем, да, – откликнулся капеллан. – Так вы, стало быть, не знали, что я капеллан?
– В общем, нет, – сказал Йоссариан. – Я, стало быть, не знал, что вы капеллан. – Он зачарованно смотрел на собеседника и широко улыбался. – Я раньше ни разу не видел капеллана.
Капеллан вспыхнул и смущенно опустил взгляд. Это был худощавый человек чуть за тридцать, с узким бледным лицом, рыжеватыми волосами и застенчивыми карими глазами. На щеках у него виднелись невинные оспинки – следы юношеских прыщей. Может, он в чем-нибудь нуждается, участливо подумал Йоссариан.
– Может, вы в чем-нибудь нуждаетесь? – участливо спросил капеллан.
Йоссариан, по-прежнему улыбаясь, отрицательно покачал головой.
– Да нет, – сокрушенно сказал он, – у меня вроде есть все, что мне нужно. Решительно все. Я ведь вообще-то даже и не болен.
– А вот это хорошо, – сказал капеллан. Его смутили собственные слова, и, обеспокоенно хихикнув, он прижал к зубам костяшки согнутых пальцев, но Йоссариан промолчал, и капеллан смутился еще сильней. – Мне надо навестить всех наших однополчан, – с ноткой вины в голосе после паузы выговорил он. – Я скоро опять к вам наведаюсь… может быть, даже завтра.
– А вот это хорошо, – сказал Йоссариан.
– Непременно наведаюсь, – повторил капеллан. – Но только если я и правда вам нужен, – застенчиво опустив голову, добавил он. – Если я не буду вам в тягость… как многим другим.
– Не будете! – просияв от любовного расположения, заверил его Йоссариан. – Вы очень мне нужны, можете не сомневаться.
Лицо капеллана озарила благодарная улыбка, а потом он украдкой посмотрел на листок бумаги, который все время держал в руке, стараясь чтоб Йоссариан этого не заметил. Пересчитав койки – Йоссариан видел, как у него шевелятся губы, – капеллан неуверенно воззрился на Дэнбара.
– Вы не скажете, – шепотом спросил он, – это лейтенант Дэнбар?
– Да, – громко ответил Йоссариан, – это лейтенант Дэнбар.
– Благодарю вас, – прошептал капеллан, – благодарю вас, вы очень любезны. Мне надо поговорить с ним. Мне надо поговорить со всеми воинами нашего полка, которые попали в госпиталь.
– Даже с теми, кто лежит в других палатах?
– Даже с теми, кто лежит в других палатах.
– Будьте осторожны в других палатах, святой отец, – предостерег его Йоссариан. – Это психические палаты. Там полно психов.
– Меня не обязательно называть «отец». Я анабаптист.
– Будьте осторожны, – мрачно повторил Йоссариан. – И не надейтесь на помощь военной полиции: там служат бесноватые маньяки. Я бы проводил вас, да сам боюсь их всех до смерти. Безумие заразительно. Наша палата единственное место, где собраны нормальные люди. Единственное место в госпитале, а может, и на всей земле.
Капеллан поспешно встал и бочком, бочком отступил от койки Йоссариана. Потом смущенно улыбнулся и пообещал вести себя с должной осторожностью.
– А теперь мне надо к лейтенанту Дэнбару, – заключил он. Однако не сдвинулся с места, и вид у него был немного виноватый. – Как он, по-вашему? Ничего?
– Нормальный парень, – заверил его Йоссариан. – Уникальный тип, и что самое замечательное – никакой самоотверженности.
– Да нет, я не об этом, – снова перейдя на шепот, заторопился капеллан. – Он очень болен?
– Да нет, не очень. Он и вообще-то не болен.
– А вот это хорошо. – Капеллан облегченно вздохнул.
– Да, – вздохнул и Йоссариан, – это хорошо.
– Капеллан! – воскликнул Дэнбар, когда тот поговорил с ним и ушел. – Представляешь себе? Капеллан!
– А какова обходительность? – вопросительно утвердил Йоссариан. – Ему, пожалуй, должны дать не меньше трех голосов.
– Кто это ему должен? – подозрительно спросил Дэнбар.
В дальнем углу их палаты, за зеленой фанерной ширмой, трудился в поте лица своего на госпитальной койке представительный полковник лет сорока пяти, и его каждый день навещала миловидная молодая женщина со слегка волнистыми светло-пепельными волосами – не сестра милосердия, не дамочка из Красного Креста и не девица из Женского вспомогательного батальона, она тем не менее ежедневно приходила в госпиталь на Пьяносе, – грациозная молодая женщина в изящных платьях пастельных тонов, нейлоновых чулках с идеально прямыми швами и белых лодочках на невысоких каблучках. До болезни полковник был связистом, но и, заболев, трудился буквально с утра до вечера: получив очередной липкий рапорт о своем внутреннем состоянии, он методично запечатывал его в квадратный марлевый пакет и переправлял на низенький столик у койки, в белое ведерко с крышкой. Полковник этот поражал воображение. У него было темное, словно бы из тусклого серебра, лицо, провалившийся рот, впалые щеки и глубоко ввалившиеся, тоскливые, с мутной поволокой глаза. Он все время откашливался – негромко, сдержанно – и мешкотно, с привычным отвращением прижимал квадратики марли к бесцветным губам.
А вокруг волновалось море специалистов, которые специализировались на его недугах, пытаясь определить, в чем же с ним дело. Чтобы увидеть, как он видит, они высвечивали ему слепящими лучами глаза; чтобы почувствовать, как он чувствует, вгоняли в нервы иголки; а чтобы ощутить его ощущения – на латыни рефлексы, – лупили молотками по локтям и коленям. Психиатр исследовал у полковника психику, психолог – психологию, невропатолог – нервы, лимфатолог – лимфу, кистолог – кисту, а китолог – педантичный лысеющий доктор из Гарвардского университета, которого загребли на военную службу, потому что у компьютера в призывной комиссии сгорело сопротивление, и доктор биологии стал врачом, – пытался обсуждать с ним, хотя он едва дышал, художественность «Моби Дика».
Словом, обследовали полковника дотошно и всесторонне. У него не было органа, который укрылся бы от внимания врачей. Их все до единого высветили и выследили, прослушали и прощупали, продезинфицировали и унифицировали, проанализировали и заанестезировали, вскрыли, удалили, умалили и пересадили. Хрупкая, опрятная и стройная, словно тростинка, женщина, сидя рядом с ним на стуле, часто дотрагивалась узкой ладонью до его плеча, а улыбка ее лучилась воплощением царственной печали. Сам он был высокий, худой и сутулый, а встав, сгибался почти пополам и двигался вперед будто высохший вопросительный знак, медленно, дюйм за дюймом передвигая по полу подошвы почти не гнущихся в коленях ног. Под глазами у него темнели фиолетовые мешки. Посетительница разговаривала с ним очень тихо – даже тише, чем он откашливался, – и никто в палате не знал, какой у нее голос.
Да и опустела вскоре палата, потому что их всех разогнал техасец. Первым сломался артиллерист, положив начало массовому исходу. Дэнбар, Йоссариан и летчик-истребитель выписались одновременно. Дэнбара перестали мучить головокружения, Йоссариан окончательно понял, что печень у него совсем не болит, а летчик-истребитель вдруг напрочь избавился от насморка. Исцеление было всеобщим и безболезненным. Сбежал даже невозмутимый младший лейтенант. Меньше чем за десять дней техасец вернул их всех на боевые посты, к исполнению долга, – всех, кроме обэпэшника, который заразился от летчика-истребителя простудой и подхватил воспаление легких.
Глава вторая
Клевинджер
И все же обэпэшнику крупно повезло – ведь за пределами госпиталя продолжалась война. Люди обезумели и получали за это медали. По обе стороны линии фронта, рассекавшей мир, молодые парни шли на смерть – за родину, как им говорили, – и всем, похоже, казалось, что так и надо, особенно молодым парням, которые шли на смерть, не успев пожить. И не было, не предвиделось этому конца. Йоссариан-то, впрочем, предвидел конец – свой собственный; он мог бы отлеживаться в госпитале до второго пришествия, не явись туда техасец с его патриотизмом, взъерошенной башкой, почти упирающейся в пол челюстью и вечной, растянувшейся от уха до уха улыбкой. Ему хотелось осчастливить всех соседей по палате. Кроме Йоссариана с Дэнбаром. Больной, он и есть больной.
А впрочем, Йоссариан и сам не видел причин для счастья, так что техасец был тут ни при чем, он видел войну – и ничего веселого в этом не видел. За пределами госпиталя продолжалась война, но никто ее, казалось, не замечал. Только Йоссариан с Дэнбаром. А когда Йоссариан пытался открыть людям глаза, когда он хотел образумить их, они шарахались от него и называли безумцем. Даже Клевинджер, который мог бы кое-что понять, но не понимал, сказал ему перед его отправкой в госпиталь, что он безумец, псих.
– Ты псих! – заорал Клевинджер, с лютым ожесточением глядя на Йоссариана и вцепившись обеими руками в столешницу.
– Клевинджер, ну чего ты пристаешь к людям? – устало спросил его Дэнбар, перекрыв на мгновение невнятный гомон офицерского клуба.
– Псих, – упрямо повторил Клевинджер.
– Они стараются меня убить, – рассудительно сказал Йоссариан.
– Да почему именно тебя? – выкрикнул Клевинджер.
– А почему они в меня стреляют?
– На войне во всех стреляют. Всех стараются убить.
– А мне, думаешь, от этого легче?
Клевинджер уже дернулся, полупривскочил со стула – глаза мокрые, губы выцвели и трясутся. Как и обычно, когда начинался спор о святых для него принципах, он был обречен закончить его, яростно задыхаясь от негодования и смаргивая горькие слезы неразделенной веры. Клевинджера переполняла вера в святые принципы. Он был псих.
– Да кто «они»-то? – удалось все же выкрикнуть ему сквозь гневную одышку. – Кто, по-твоему, старается тебя прикончить?
– Каждый из них.
– Из кого «из них»?
– А как ты думаешь?
– Понятия не имею!
– А раз понятия не имеешь, так откуда ж ты знаешь, что они не стараются?
– Да ведь они… ведь я… – брызгая слюной, закудахтал было Клевинджер и безнадежно умолк.
Клевинджер искренне считал, что он прав, но Йоссариан опирался на неоспоримые доводы, поскольку совершенно незнакомые ему люди обстреливали его из зениток, стараясь прикончить, когда он сбрасывал на них бомбы, и в этом не было ничего веселого. Да и все остальное было не веселей. Ну можно ли веселиться, если живешь, будто бродяга, на диком острове, прижатый нагло раскорячившимися горами к безмятежно голубому морю, которое, однако, проглотит тебя при случае, так что ты и глазом не успеешь моргнуть, а потом выплюнет через пару дней на берег – распухшего, лилового, осклизлого и свободного от житейских невзгод, со струйкой воды из каждой холодной ноздри?
К палатке, в которой он жил, почти вплотную подступали заросли тусклого мелколесья, отделявшего их эскадрилью от эскадрильи Дэнбара, а вдоль стены деревьев тянулась траншея заброшенной железной дороги с временным бензопроводом, из которого заправлялись на взлетном поле бензовозы. Благодаря Орру, его соседу по палатке, их жилище было самым роскошным в эскадрилье. Всякий раз, как Йоссариан возвращался после отдыха в госпитале или отпуска в Риме, он обнаруживал новые роскошества – камин, водопровод, бетонный пол, – появившиеся стараниями Oppa, пока его не было. Место для палатки выбрал в свое время Йоссариан, а ставили они ее вместе – Орр, улыбчивый рыжий гномик с «крылышками» пилота и кудрявой густой шевелюрой, разделенной на прямой пробор, был главным распорядителем, а высокий, массивный, здоровенный и проворный Йоссариан покорно выполнял его распоряжения. Жили они вдвоем, хотя палатка вместила бы и шестерых. Когда настало лето, Орр поднял, скатав, боковые стенки, чтоб застоявшийся внутри горячий воздух выдувало ветерком с моря, который никогда не дул.
Ближайшим соседом Oppa и Йоссариана был Хавермейер, любитель козинака и ночной стрельбы по мышам: живя в двухместной палатке один, он еженощно пристреливал громадной крупнокалиберной пулей крохотную полевую мышь, для чего ему и понадобилось украсть у мертвеца из палатки Йоссариана пистолет сорок пятого калибра. Чуть дальше стояла палатка Маквота и Клевинджера, где Маквот коротал жизнь без прежнего напарника, потому что Клевинджер жил теперь отдельно – да его, впрочем, и не было, когда Йоссариан вернулся, – а переселившийся к Маквоту Нетли ухаживал в Риме за своей любимой сонной шлюхой, которой до смерти обрыдли и все мужчины вообще, и влюбленный Нетли в частности. Маквот был псих. Он летал над палаткой Йоссариана как можно чаще и как можно ниже – просто чтобы посмотреть, может ли его напугать, – а потом сворачивал, по-прежнему на бреющем, в сторону моря и с чудовищным, угрожающе близким ревом проносился над голыми солдатами, которые купались за песчаной косой возле деревянного плота, лениво покачивающегося среди волн на пустых бочках из-под бензина. Жить в одной палатке с психом не так-то просто, но Нетли плевать на это хотел. Он тоже был псих и в свободное время строил офицерский клуб, куда Йоссариан не вложил ни капли труда.
Вообще-то существовало множество офицерских клубов, куда Йоссариан не вложил ни капли труда, но клубом на Пьяносе он особенно гордился. Это был могучий – и нерукотворный, если говорить о Йоссариане, – памятник его решительной непреклонности. Пока клуб строили, Йоссариана там никто не видел, а когда строительство завершилось, его практически только там в свободное время и можно было увидеть: очень уж нравился ему этот приземистый и крытый щепой, но вместительный и добротный дом. Дом был построен на совесть, а главное, Йоссариан проникался горделивым чувством полновесного свершения всякий раз, как он подходил к нему и вспоминал, что туда не вложено ни капли его труда.
А когда они с Клевинджером обзывали друг друга психами, их было четверо за столиком в офицерском клубе. Они сидели в глубине зала, у стола для игры в кости, на котором Эпплби неизменно выигрывал. Эпплби так же искусно метал кости, как играл в пинг-понг, а играл в пинг-понг так же ловко, как делал любое дело. Ему превосходно удавалось все, за что бы он ни взялся, этому светловолосому парню из Айовы, который ухитрялся верить в Бога, Святое Материнство и Американский Образ Жизни, никогда не задумываясь о столь сложных понятиях, – причем каждый, кто его знал, относился к нему с искренней симпатией.
– Ненавижу поганца, – жалобно проворчал Йоссариан.
А спор с Клевинджером начался у них на несколько минут раньше, когда под руками у Йоссариана не оказалось пулемета. Народу было в клубе – не протолкнешься. К бару не протолкнешься, к столу для пинг-понга не протолкнешься, к столику для игры в кости не протолкнешься, а люди, которых Йоссариан хотел расстрелять из пулемета, беззаботно напевали, протолкавшись к стойке, старые чувствительные песенки – и никому, кроме него, эти песенки почему-то не надоедали. За отсутствием пулемета он со злобным сладострастием растоптал каблуком шарик для пинг-понга, подкатившийся ему под ноги.
– Ну Йоссариан, – ухмыльчиво перемолвились игроки и, покачав головами, достали из коробки другой шарик.
– Ну Йоссариан, – тотчас же отозвался Йоссариан.
– Йоссариан, – шепотом предостерег его Нетли.
– Понял, про что я толковал? – спросил Клевинджер.
– Ну Йоссариан! – с откровенным смехом и гораздо громче повторили игроки, услышав, как он их передразнил.
– Ну Йоссариан! – эхом откликнулся Йоссариан.
– Ну пожалуйста, Йоссариан! – умоляюще прошипел Нетли.
– Понял, про что я толковал? – спросил Клевинджер. – У него антисоциальный психоз.
– Да уймись ты, – сказал Клевинджеру Дэнбар. Ему нравился Клевинджер, потому что тот наводил на него тусклое уныние и время тянулось медленней.
– Так ведь Эпплби-то здесь даже нет! – с торжеством уязвил Йоссариана Клевинджер.
– А кому здесь нужен Эпплби? – спросил Йоссариан.
– И полковника Кошкарта нет.
– А кому здесь нужен полковник Кошкарт?
– Да какого же поганца ты ненавидишь?
– А кто из поганцев здесь есть?
– Нет, с тобой бессмысленно разговаривать, – решил Клевинджер. – Ты даже не знаешь, кого ненавидишь.
– Прекрасно знаю, – возразил Йоссариан. – Того, кто пытается меня отравить.
– Никто тебя не пытается отравить.
– Два раза уже пытались – неужто не помнишь? Когда мы штурмовали Феррару и Болонью.
– Тогда всех чуть не отравили, – напомнил ему Клевинджер.
– А мне, думаешь, от этого легче?
– Так не отравили же! – лютея от беспомощности, выкрикнул Клевинджер.
Насколько ему помнится, принялся с терпеливой улыбкой растолковывать Клевинджеру Йоссариан, кто-то всегда пытается его прикончить. Кое-кому он по нраву, а все остальные его ненавидят – видимо, за то, что он ассириец, – и хотят сжить со свету. Да только ничего они с ним не сделают, потому что у него в невинном теле здоровый дух, а сил – как у буйвола. Ничего они с ним не сделают, потому что он Тарзан, Мандрэйк и Флеш Гордон. Он Билл Шекспир. Он Каин, Улисс и Летучий Голландец. Он Лот в Содоме и Деирдре Печальница. Он Свинни в соловьином саду. Он таинственный элемент Зэт-247. Он…
– Псих! – завопил Клевинджер. – Законченный псих!
– … величайший из величайших. Грозный, неистовый, самый-распресамый трехкулачный победимчель. Я сверхчеловерх.
– Ты? Сверхчеловек? – вскинулся Клевинджер.
– Сверхчеловерх, – поправил его Йоссариан.
– Да прекратите вы, ради бога, – просительно забормотал Нетли. – Все и так уже на нас пялятся.
– Ты псих! – смаргивая злобные слезы, выкрикнул Клевинджер. – У тебя комплекс Иеговы, ты…
– Нафанаил?
– Это кто еще такой – Нафанаил? – с трудом обуздав свой пафос, подозрительно спросил Клевинджер.
– Какой Нафанаил? – невинно поинтересовался Йоссариан.
– Какой бы там ни был – Нафанаил так Нафанаил. А ты в каждом подозреваешь Иегову. Ты хуже Раскольникова…
– Какого Раскольникова?
– А такого Раскольникова, который…
– Раскольников?
– … который считал, что ему дозволено убить старуху…
– Даже хуже?
– … да-да, считал, что дозволено… топором!.. И я могу доказать! – Судорожно ловя ртом воздух, Клевинджер начал перечислять болезненные симптомы Йоссариана: бесноватая убежденность, что все вокруг психи, одержимость убийством нормальных людей из пулемета, навязчивая тяга к извращению прошлого, сумасшедшая подозрительность и мания преследования.
Но Йоссариан был уверен в своей правоте, потому что ему, как он объяснил Клевинджеру, еще ни разу не случалось ошибиться. А если вокруг разумного молодого человека безумствуют психи, он поневоле должен заботиться о своей безопасности. И заботиться как следует, иначе ему не выжить.
После госпиталя Йоссариан решил получше присмотреться ко всем в эскадрилье. Мило Миндербиндера на месте не было, он отправился в Смирну за финиками. Однако столовая прекрасно работала и без него. Еще сидя в госпитальной машине, пока она тяжко скакала вниз по извилистой и бугристой, словно драная подтяжка, дороге, он с вожделением принюхивался к пряному аромату приправленного острыми специями барашка. На обед в тот день подавался шашлык – сочные куски мяса, аппетитно шипевшие над жаровней, будто сатанинские змеи, да еще и промаринованные до этого трое суток в особом растворе, рецепт которого Мило Миндербиндер выведал обманным путем у жуликоватого ливанского торговца, – а гарниром к шашлыку служил персидский рис и спаржа с пармезаном; после шашлыка можно было освежиться на десерт вишневым желе и чашечкой турецкого кофе с рюмкой ликера или бренди. Столы в столовой были застланы камчатыми скатертями, а еду, огромными порциями, разносили проворные итальяночки, которых завербовал в Италии майор… де Каверли и отдал на откуп Мило Миндербиндеру.
Йоссариан набивал брюхо, пока не почувствовал себя взрывоопасным, а потом в бессильном оцепенении откинулся на спинку стула, ощущая во рту сочный привкус только что съеденного обеда. С тех пор как Мило Миндербиндер стал начальником столовой, обыденные трапезы превратились у них в роскошные пиршества, и на мгновение Йоссариану показалось, что все в мире не так уж плохо. Но потом он рыгнул, вспомнил об угрожающей ему насильственной смерти и, сорвавшись с места, помчался разыскивать доктора Дейнику, чтобы тот освободил его от полетов и отправил домой. Доктор Дейника грелся возле своей палатки на солнышке.
– Пятьдесят боевых вылетов, – сообщил он Йоссариану, покачав головой. – Пятьдесят боевых вылетов – приказ полковника.
– Вот-вот! А у меня только сорок четыре!
Доктор Дейника, унылый человек, напоминающий издали птицу, но с хищными, остренькими чертами откормленной крысы на лопатообразном лице, окинул Йоссариана равнодушным взглядом.
– Пятьдесят боевых вылетов, – качая головой, повторил он. – Пятьдесят вылетов – приказ полковника.
Глава третья
Хавермейер
Йоссариану не удалось присмотреться после госпиталя ко всем в эскадрилье, потому что на месте были только Орр да мертвец из их палатки. Мертвец из их палатки очень досаждал Йоссариану, хотя он никогда его не видел. Делить палатку с мертвецом никому не понравится, и Йоссариан даже ходил несколько раз в штаб – жаловался на мертвеца сержанту Боббиксу, который неизменно отказывался признать, что мертвец существует, и спорить с ним было трудно. Но еще труднее было спорить с майором Майором, высоким и костлявым командиром эскадрильи, немного похожим на удрученного Генри Фонду, который выскакивал из палатки в окно всякий раз, как Йоссариан прорывался к нему, сломив сопротивление сержанта Боббикса. А попробуй-ка уживись по-человечески с мертвецом! Мертвец этот портил жизнь даже Орру, с которым тоже нелегко было ужиться и который встретил Йоссариана, когда он вернулся из госпиталя, равнодушным «Привет», не отрываясь от возни с форсункой для подачи топлива в печку, украсившую стараниями Oppa их палатку, пока Йоссариан лечился.
– Чем это ты тут занимаешься? – осторожно спросил его Йоссариан, хотя все и так было ясно.
– Да вот форсунка, понимаешь ли, подтекает, – ответил Орр. – Надо починить.
– Прекрати, пожалуйста, – сказал Йоссариан. – Это действует мне на нервы.
– Когда я был мальчишкой, – тотчас же отозвался Орр, – я ходил с дынькой за пазухой. Пристрою под рубашкой и хожу.
Йоссариан отставил в сторону свой вещевой мешок и настороженно замер. Однако после минутной паузы все же не выдержал.
– Для чего? – спросил он.
– А чтоб не совать за пазуху арбуз, – победно хихикнув, ответил Орр.
Он стоял на коленях в глубине палатки и терпеливо, безостановочно возился с форсункой – разбирал ее, аккуратно раскладывал на бетонном полу маленькие детальки, внимательно считал их, потом брал каждую в руку и подолгу рассматривал, будто никогда ничего похожего не видел, а потом, тщательно собрав форсунку, принимался неторопливо разбирать – снова и снова и снова и снова и снова и снова, – без устали и с большим интересом, споро, спокойно и методично. Йоссариан напряженно следил за этой бесконечной возней и понимал, что вскоре Oppa придется убить. Он посмотрел на охотничий нож, подвешенный мертвецом в день приезда к раме противомоскитной сетки. Нож висел рядом с пустой кобурой, из которой Хавермейер украл мертвецов пистолет.
– Когда мне не удавалось добыть дыньку, – продолжал Орр, – я совал за пазуху небольшой арбуз. По размеру-то он примерно с дыньку, но форма у него гораздо хуже – хотя не в форме, конечно, дело.
– Для чего ты совал за пазуху дыню или арбуз? – спросил его Йоссариан. – Вот что мне хотелось бы узнать.
– А чтоб не ходить с камнем за пазухой, – объяснил ему Орр. – Что ж я, по-твоему, злодей?
– Для чего, – со злобным восхищением повторил Йоссариан, – ну скажи ты мне на милость, для чего тебе, треклятому золоторучному починяльному отродью, понадобилось ходить со всяким дерьмом за пазухой?
– Не с дерьмом, – отозвался Орр, – а с дынькой. Я ходил с дынькой за пазухой. Ну, правда, когда у меня не было под руками дыньки, я ходил с арбузом. За пазухой.
Орр хихикнул. Йоссариан твердо решил молчать – и промолчал. Орр терпеливо выжидал. Йоссариан оказался терпеливей.
– Так и ходил – с дынькой, – сказал Орр.
– Зачем?
– За пазухой, за чем же еще! – радостно подхватил промашку Йоссариана Орр. – Я ж тебе говорил.
Йоссариан одобрительно усмехнулся, но смолчал.
– Странная штука, – снова углубившись в работу, пробормотал Орр.
– А чего тут странного?
– Да мне всегда хотелось…
– Ох и зануда, – сообразив, что опять попался, вздохнул Йоссариан. – Так зачем…
– За пазухой, сколько раз можно объяснять? Мне, понимаешь ли, всегда хотелось грудь колесом.
– Колесом?
– Опять ты за свое! Не в форме дело, я ж тебе говорил. Мне хотелось, чтоб у меня была могучая грудь. Мощная, понимаешь? На форму мне было наплевать. Я хотел выглядеть могучим и старался переупрямить природу, вроде тех психов, которые мнут с утра до ночи резиновые мячики в руках, чтобы у них выросли здоровенные кулаки. Я и мячики в руках мял…
– Для чего?
– Для рук, для чего же еще? Возьму в каждую руку по мячику и мну.
– Да зачем ты их мял?
– А затем, что мячики…
– Лучше арбуза?
Орр засмеялся и отрицательно покачал головой.
– Нет, мячики мне были нужны для сохранения репутации: если б кто-нибудь сказал, что у меня камень за пазухой, я бы раскрыл ладони, и он понял бы, что не камень, а мячики, и не за пазухой, а в руках. Трудно не понять, верно? Только вот не уверен я, что меня понимали: иногда, бывало, поглядит человек на мои здоровенные кулаки – я ведь их здорово мячиками укрепил – и думает, что у меня камень за пазухой.
Йоссариан поглядел на крохотные кулачки Oppa и решил, что у него за пазухой все же сердце, а не камень.
Сердце, правда, весьма скрытное и лукавое, так что продолжать с ним разговор не имело смысла. Йоссариан прекрасно знал Oppa – и знал, что черта с два от него добьешься, зачем ему нужна была грудь колесом. Так же в точности, как невозможно было от него добиться, почему случайная ночная партнерша лупила его однажды утром по башке своей туфлей в тесном коридорчике римского борделя, рядом с открытой дверью комнатенки, где ютилась обычно младшая сестра любимой шлюхи Нетли. Здоровенная и рослая, дебелая и длинноволосая, с ярко-голубыми венами под матово-золотистой кожей, она выкрикивала ругательства и высоко подпрыгивала, держа туфлю в правой руке и стараясь лупить его точно по макушке острым, как гвоздь, каблуком. Оба они были голые, да и те, кого взбудоражил поднятый ими шум, тоже стояли голые на порогах своих комнатенок – по голой паре в каждом дверном проеме, – и только два человека были среди них одеты: скромная старуха, которая укоряюще квохтала, да похотливый старикан, который сладострастно смотрел на них и радостно хохотал с видом завистливого, но чванливого превосходства. Девка вскрикивала, а Орр хихикал. Каждый раз, как она ударяла его острым каблуком по голове, он хихикал все громче, распаляя ее все пуще, и она подпрыгивала все выше, так что ее пышные телеса сотрясались все страшней и роскошней, а звук от удара становился все короче и резче. Девка вскрикивала, а Орр хихикал, и она лупила его, пока наконец не угодила ему точнехонько в висок – звук получился отрывистый и четкий, как выстрел, – после чего хихиканье прекратилось, a Oppa отправили на носилках в госпиталь с неглубокой ранкой на виске и легким сотрясением мозга; так что он избавился от полетов только на двенадцать дней.
Никто не смог дознаться, что же у них произошло, даже квохтавшая старуха и хохотавший старик, а уж им ли, казалось, было не знать обо всех происшествиях в этом громадном борделе с его бесконечными, дверь в дверь, комнатенками по обеим сторонам узких коридоров, разделенных просторной гостиной с одной-единственной лампой и зашторенными окнами. Встречая потом Oppa, пышнотелая шлюха проворно задирала платье и презрительно материла его, а когда он прятался с опасливым хихиканьем за спину Йоссариана, принималась хрипло хохотать. Но что именно Орр сделал или хотел или не сумел сделать за плотно прикрытой дверью, так и осталось для всех тайной. Его партнерша не рассказала об этом ни своим товаркам по борделю, ни постоянным посетителям вроде Нетли или Йоссариана. Орр, пожалуй, мог бы сейчас проговориться, однако Йоссариан твердо решил не вымолвить больше ни слова.
– Так хочешь узнать, для чего мне понадобилась могучая грудь? – спросил его Орр.
Йоссариан демонстративно промолчал.
– А помнишь, как та девица, которую от тебя воротит, долбила меня минут пятнадцать, если не все двадцать, по башке? Так хочешь узнать – почему?
Нет, невозможно было себе представить, за какие провинности она вдруг стала лупить его туфлей, но не разозлилась все же настолько, чтобы просто схватить за ногу да и шмякнуть башкой об стену. Сил у нее на это, безусловно, хватило бы. Гномик Орр с его заячьими зубами и глазами навыкат был даже меньше Хьюпла, который жил как дурак на территории административного отдела, где стояла палатка Обжоры Джо, регулярно будившего неистовыми воплями всех соседей.
Территория административного отдела, на которой Джо по ошибке разбил палатку, была зажата между траншеей заброшенной железной дороги с ее ржавыми рельсами и черным, вьющимся вверх по склону холма асфальтовым шоссе. На шоссе всегда можно было подобрать девчонку, пообещав отвезти ее, куда ей нужно, – молодую грудастую и щербатую хохотушку, – а потом свернуть в поле и забавляться с ней сколько душе угодно на сухой жесткой траве, что Йоссариан и проделывал всякий раз, когда мог, но гораздо реже, чем хотелось бы Обжоре Джо, который в любое время умел добыть джип, да зато не умел его водить и постоянно канючил, чтоб Йоссариан составил ему компанию. Палатки солдат и унтер-офицеров стояли по другую сторону шоссе, рядом с полевым кинотеатром, где на складном экране для развлечения смертников лихо воевали ничего не знающие о них киногерои и где в тот вечер, когда Йоссариан вернулся, должна была выступать бригада артистов из армейского спецуправления отдыха и развлечений, а сокращенно АСОР.
Артистов рассылал по боевым частям генерал Д. Д. Долбинг, обосновавшийся со своим штабом в Риме и ничем другим, кроме рассылки артистов да интриг против генерала Дридпа, не занимавшийся. Генерал Долбинг больше всего на свете ценил в подчиненных аккуратность. Это был подтянуто щеголеватый и занудливо обходительный педант. Он знал длину окружности Земли по экватору – его собственное выражение, – и что-либо большое всегда оказывалось у него значительных размеров. Генерал Долбинг был болваном, и никто не понимал этого лучше генерала Дридла, который просто обезумел от ярости, узнав, что последний приказ генерала Долбинга предписывает разбивать палатки на Средиземноморском театре военных действий – тоже выражение генерала Долбинга – параллельными рядами, с входом, горделиво обращенным к памятнику Вашингтона за океаном. Для Дридла, боевого генерала, приказ этот звучал издевательским идиотизмом. Да и какого дьявола совал Долбинг свое тыловое рыло в дела боевых подразделений? Неистовый межведомственный спор двух высочайших военных властителей разрешил в пользу генерала Дридла рядовой экс-первого класса Уинтергрин, писарь из штаба Двадцать седьмой воздушной армии. Он просто стал выбрасывать послания генерала Долбинга в мусорную корзину. Они казались ему чересчур многословными. А депеши генерала Дридла, написанные не столь витиевато, он обрабатывал и отсылал высшему начальству с добросовестной исполнительностью дисциплинированного служаки. Генерал Дридл стал победителем в споре из-за отсутствия возражений.
Чтобы восстановить полуутраченный престиж, генерал Долбинг принялся рассылать бригады асоров с удвоенной энергией, возложив на полковника Каргила персональную ответственность за должный энтузиазм зрителей на их выступлениях.
Но в эскадрилье Йоссариана их принимали без должного энтузиазма. В эскадрилье Йоссариана люди мрачно, по нескольку раз на дню шествовали нестройными рядами к сержанту Боббиксу в надежде узнать, не получен ли приказ об их отправке домой. Они уже совершили положенные пятьдесят боевых вылетов, и ряды их постоянно пополнялись. Некоторые ждали приказа еще с той поры, как Йоссариана увезли в госпиталь. Их грызло беспокойство, и они грызли ногти. У них выработались повадки крабов – всегда бочком и сторонкой. Они карикатурно походили на отчаявшихся людей времен Великой депрессии. Они ждали, когда из штаба Двадцать седьмой армии в Италии придет утвержденный там приказ об их отправке домой, к безопасной жизни, а пока что их грызло беспокойство, и они грызли ногти и мрачно шествовали по нескольку раз на дню к сержанту Боббиксу, чтобы спросить, не получен ли утвержденный приказ об их отправке домой, к безопасной жизни, – и больше им делать было нечего.
А время работало против них, и они это знали. Они знали по горькому опыту, что полковник Кошкарт в любую минуту может издать приказ об увеличении числа боевых вылетов, необходимых для отправки домой. У них не было иного дела, кроме необходимости ждать. И только Обжора Джо, отлетав положенное, отыскивал себе другие занятия. Он исходил воплями в ночных кошмарах и устраивал рукопашные схватки с кошкой Хьюпла. А когда к ним приезжали асоры, он делал снимки – ракурсом снизу, под подол, – желтоволосой певицы с такими женскими прелестями, что ее украшенное блестками платье не лопалось только чудом. Но хотя фотографировал он ее из первого ряда, снимки у него никогда не получались.
Могучий и румяный полковник Каргил, спецуполномоченный генерала Долбинга по энтузиазму, подвизался до войны – как напористый, расторопный администратор – на ниве сбыта продукции. Это был никуда не годный администратор. Настолько никуда не годный, что многие фирмы в погоне за убытками для уменьшения налога наперебой зазывали его к себе в управляющие отделом сбыта. Он был известен всему цивилизованному миру, от Бэттери-парка до Фултон-стрит, как непревзойденный мастер по сокращению налогов. Ему платили огромные гонорары, потому что существенные убытки вовсе не всегда легко достижимы. Он должен был развалить процветающую фирму, а с благожелательными друзьями в правительстве это не так-то просто. Великая цель требовала многих месяцев каторжного труда и тяжелейших просчетов. Человек поминутно просчитывается и разбазаривает средства, дезорганизует и разваливает работу, промаргивает очевидные выгоды, не замечает элементарных опасностей и находит самые безысходные тупики, а когда дело близится к завершению, из Вашингтона ему подкидывают делянку строевого леса или нефтеносный участок земли, и все его титанические усилия идут кошке под хвост. Однако полковник Каргил справлялся с любыми трудностями и мог довести до краха любую фирму. Причем всеми своими славными неудачами он был обязан только себе.
– Вы американские офицеры, – тщательно вымеряя паузы между словами, начал он свою речь в эскадрилье Йоссариана. – Никакая иная армия не могла бы дать вам подобного статуса. Подумайте об этом.
Сержант Найт подумал об этом и вежливо сообщил оратору, что тот выступает перед нижними чинами и что офицеры ждут его за шоссе. Полковник Каргил с достоинством поблагодарил его и отправился, излучая самодовольство, к офицерам. Он горделиво ощущал, что двадцать девять месяцев армейской службы ничуть не ослабили его способность всегда попадать впросак.
– Вы американские офицеры, – тщательно вымеряя паузы между словами, начал он во второй раз свою речь. – Никакая иная армия не могла бы дать вам подобного статуса. Подумайте об этом. – Помолчав, чтобы офицеры подумали об этом, он неожиданно заорал: – К вам приехали гости! Приехали за три тысячи миль, чтобы вас развлечь! Каково им будет, если вы не пожелаете развлекаться? Кто потом залечит их нравственные раны? Мне-то, в общем, наплевать. Но эта девушка, которая хочет сыграть для вас на аккордеоне, – она ведь в матери, можно сказать, годится! Каково вам было бы, если б ваша мать приехала за три тысячи миль кого-нибудь развлечь, а на нее даже не захотели бы смотреть? Каково будет мальчонке, чью мать вы не желаете принять радушно, по-мужски, когда он вырастет и обо всем узнает? Ответ, по-моему, ясен. Прошу понять меня правильно. Посещение концерта – дело, разумеется, добровольное. И я далек от мысли приказывать вам идти на концерт и развлекаться, но пусть каждому из вас будет ведомо, что тот, кто не болен – а больные лежат, как известно, в госпитале, – обязан пойти на концерт и приятно развлечься, потому что это приказ!
Йоссариану стало худо и захотелось в госпиталь, а после трех боевых вылетов стало еще хуже, особенно когда доктор Дейника, меланхолически покачав головой, отказался освободить его от полетов.
– Это тебе-то худо? – грустно упрекнул он Йоссариана. – А что ж тогда сказать обо мне? Восемь лет перебивался я с хлеба на воду, чтобы стать врачом. И потом еще несколько лет едва-едва сводил концы с концами, пока не создал приличную практику. А когда дело наладилось и я собрался пожить как человек, меня загребли в армию. Так объясни мне, пожалуйста, ты-то на что жалуешься?
Доктор Дейника был приятелем Йоссариана и не сделал бы почти ничего возможного, чтобы ему помочь. Йоссариан внимательно слушал рассказы доктора Дейники про командира полка Кошкарта, который хотел стать генералом, про командира бригады генерала Дридла с его сестрой милосердия и про всех других генералов из штаба Двадцать седьмой воздушной армии, считавших, что за сорок боевых вылетов пилот целиком и полностью выплачивает свой воинский долг.
– Тебе бы улыбаться да радоваться жизни, – уныло сказал доктор Дейника Йоссариану. – Почему ты не берешь пример с Хавермейера?
Йоссариан содрогнулся. Хавермейер был ведущим бомбардиром и всегда шел к цели без противозенитных маневров, чем во много раз увеличивал опасность для пятерки своих ведомых.
– Хавермейер, какого дьявола ты пер на цель без уклоняющихся маневров? – злобно спрашивали его, приземлившись, летчики.
– А ну перестаньте цепляться к Хавермейеру! – приказывал им полковник Кошкарт. – Он лучший бомбардир, чтоб ему провалиться, у нас в полку!
Хавермейер ухмылялся и норовил рассказать, как он надрезает охотничьим ножом пистолетные пули, делая из них заряды дум-дум, чтобы расстреливать по ночам полевых мышей. Хавермейер и правда был у них лучшим, чтоб ему провалиться, бомбардиром, но пер от исходного пункта до цели без каких бы то ни было уклоняющихся маневров, на одной высоте и с постоянной скоростью, а впрочем, и отбомбившись, продолжал переть прямо, чтобы заметить, как легли бомбы, вздымавшие внизу оранжевые вспышки с густыми лохмами черного дыма, сквозь который фонтанировали, словно гейзерные струи, исчерна-серые, вдрызг искрошенные груды обломков. Он тянул за собой пять ведомых машин, превращая смертных – экипажи – в смертников, а сам с интересом следил за бомбами, позволяя стоящим у прицелов зенитчикам без спешки нажать спусковой рычаг, дернуть за шнур, или что они там делают, когда собираются прикончить людей, которых ни разу и в глаза не видели.
Хавермейер был ведущим бомбардиром, потому что никогда не мазал. А Йоссариана убрали из ведущих бомбардиров, потому что ему с некоторых пор стало наплевать, накрыта цель или нет. Он решил выжить или по крайней мере бороться за свою жизнь до последнего вздоха, и его единственной целью, когда он поднимался в воздух, было вернуться на землю живым.
Люди любили выходить за ним к цели, поскольку он маневрировал как никто другой – то нырял, то резко набирал высоту, бросался вправо, уходил влево, пикировал чуть ли не до самой земли, а потом свечой карабкался в небо, так что пилоты ведомых самолетов едва успевали повторять его маневры и у них не оставалось времени для страха, а он обрывал горизонтальный полет, как только бомбы уходили вниз, и тогда уж закладывал такие виражи, выделывал такие немыслимые фортели, уходя из зоны заградительного огня, что его шестерка рассыпалась в небе наподобие стайки ошалевших грачей, и любой самолет, окажись тут истребители, стал бы для них беззащитной добычей, но это не имело ни малейшего значения, поскольку истребители у немцев перевелись, и Йоссариан намеренно рассыпал строй, чтобы не угодить, чего доброго, под обломки, если кого-нибудь собьют зенитчики. И только вырвавшись из зоны огня, выдравшись из безумного штурма и натиска, он сдвигал со лба над взмокшими волосами тяжелую каску и прекращал орать бешеные команды Маквоту за штурвалом, который не находил ничего остроумней, чем спросить в такую блаженную минуту, накрыли их бомбы цель или нет.
– Бомбы сброшены! – докладывал сержант Найт, сидящий у пулемета в хвостовом отсеке.
– Ну и как там мост? – осведомлялся Маквот.
– Я не видел, сэр, меня так болтало, что мне ничего не удалось рассмотреть. А сейчас ничего сквозь дым не увидишь.
– Эй, Аафрей, мы накрыли цель?
– Цель? – удивлялся капитан Аардваарк, пухлощекий навигатор с трубкой в зубах, сидевший возле Йоссариана над грудой карт, когда его назначали в полет вместо Аафрея. – Так мы у цели? А я и не знал.
– Йоссариан, накрыли наши бомбы мост?
– Какой еще мост? – переспрашивал Йоссариан, думавший только о зенитном огне.
– Эх, мать, – запевал Маквот, – двум смертям не бывать, на одну наплевать.
Йоссариану в отличие от Хавермейера и других ведущих бомбардиров было неважно, поражена цель или нет, так что второй раз под огонь зениток он никогда не совался. А Хавермейер вызывал иногда у летчиков такую злость, что, приземлившись, они лезли к нему драться.
– Сколько раз я вам говорил: перестаньте цепляться к Хавермейеру! – раздраженно осаживал их полковник Кошкарт. – Сколько раз я вам говорил: он у нас лучший, чтоб ему провалиться, бомбардир; говорил или нет?
Хавермейер с ухмылкой выслушивал слова полковника Кошкарта и совал за щеку очередную порцию козинака.
Пистолет, который он украл у мертвеца из палатки Йоссариана, палил по ночам без промаха. Положив на пол конфету, Хавермейер заранее хорошенько прицеливался и держал пистолет в правой руке, так что в любую секунду мог нажать на спусковой крючок, а леску, привязанную к выключателю голой, без абажура, лампочки над головой, – в левой, и, когда полевая мышь хватала зубами конфету, дергал и без того туго натянутую леску. Одного легкого движения пальцем было достаточно – и мощная лампа заливала слепящим светом крохотную дрожащую тварь. Хавермейер удовлетворенно хмыкал и с холодным интересом наблюдал, как мышь затравленно поводит глазами в поисках нарушителя уютной темной тишины. Когда их взгляды встречались, он разражался громким хохотом и одновременно нажимал на спусковой крючок, отсылая с дымным грохотом душу своей жертвы к Творцу и разбрызгивая по палатке микроскопические останки ее смрадной шерстистой тушки.
Однажды ночью, в ответ на выстрел Хавермейера, Обжора Джо оголтело выскочил босиком из своей палатки и, пробегая с пронзительными воплями мимо, разрядил в него собственный пистолет сорок пятого калибра, а потом, преодолев на огромной скорости железнодорожную траншею, нырнул в одну из бомбовых щелей, возникших, словно по волшебству, возле каждой палатки наутро после того, как ночью стараниями Мило Миндербиндера на них обрушился бомбовый налет. Это случилось перед рассветом, во время Достославной осады Болоньи, когда ночная тьма кишела призрачно безмолвными мертвецами, а Обжора Джо, завершивший очередной раз боевые вылеты и освобожденный от завтрашней операции, чуть не рехнулся. Выуженный из промозглой щели, он нечленораздельно бормотал про полчища крыс, пауков и змей. Но когда щель осветили фонариками, там не обнаружилось ничего, кроме застоявшейся на дне дождевой воды.
– Убедились? – приставал ко всем Хавермейер. – Я же предупреждал. Я же предупреждал вас, что он псих, много раз предупреждал.
Глава четвертая
Доктор Дейника
Обжора Джо был, безусловно, псих, и никто не понимал этого лучше Йоссариана, который всячески старался ему помочь. Но Обжора Джо даже слушать его не хотел. Обжора Джо не хотел его слушать, считая, что он псих.
– А с чего б ему тебя слушать? – поинтересовался доктор Дейника, уставившись в землю.
– Так ведь плохо ему приходится, – сказал Йоссариан.
– Это ему-то плохо? – Доктор Дейника презрительно фыркнул. – А что ж тогда сказать обо мне? Я, конечно, не жалуюсь, – горестно усмехнувшись, добавил он. – Во время войны жаловаться не приходится. Во время войны многие должны обречь себя на страдания ради общей победы… Да только почему именно я?! Почему в армию загребли меня, а не одного из тех старых болтунов, которые публично горланят от лица врачей, что они, мол, готовы на великие жертвы? Я, может, не хочу делать из себя жертву. Я хочу делать деньги.
Доктор Дейника был опрятный чистюля и находил отраду только в нытье. Темноволосый и скорбный, под глазами на крысьем смышленом личике унылые мешки, он беспрестанно тревожился о своем здоровье и почти каждый день исследовал, нормальная ли у него температура, опасливо доверяя поставить себе градусник одному из двух солдат, Гэсу или Уэсу, которые орудовали за него в медпалатке – орудовали столь успешно, что ему самому практически нечего было там делать, и он целыми днями грел свой заложенный нос на солнцепеке, недоуменно размышляя, чем же это люди так обеспокоены. Гэс и Уэс довели древнее искусство врачевания до строгой научной безыскусности. Больных с температурой на три градуса выше нормы они срочно отправляли в госпиталь, а всем остальным, кроме Йоссариана, мазали десны и пальцы на ногах лиловым раствором горечавки, а потом давали слабительное, от которого следовало избавиться в ближайших кустах. И только Йоссариан, с его температурой, повышенной всего на полтора-два градуса, мог получить направление в госпиталь, когда ему вздумается, потому что не боялся подручных доктора Дейники.
Всех, похоже, устраивала эта прекрасно отработанная система, и доктор Дейника мог без помех целыми днями наблюдать, как впечатываются в землю подковы, которые метал на своей персональной площадке майор… де Каверли, так до сих пор и не снявший с глаза прозрачную нашлепку, сделанную для него доктором Дейникой из узкой полоски целлулоида, которую доктор по-воровски откромсал от целлулоидного окошка в штабной палатке майора Майора несколько месяцев назад, когда майор… де Каверли вернулся с поврежденной роговицей из Рима, где он снял две квартиры – нижним чинам и офицерам, – чтоб они проводили там отпускное время. Доктор Дейника заглядывал теперь в свою медпалатку, только когда чувствовал себя безнадежно больным – то есть ежедневно – для осмотра, который проводили Гэс и Уэс. По их всегдашнему заключению, все у него было в порядке. Состояние нормальное, температура нормальная… «если, конечно, господин доктор не против». Господин доктор был решительно против. Он постепенно утрачивал доверие к своим избранникам и собирался отослать их обратно в автопарк, а потом заменить кем-нибудь, кто смог бы определить наконец, что же все-таки с ним не в порядке.
Да и о каком порядке можно было говорить, если вокруг, по его наблюдениям, царил опаснейший беспорядок? Он ощущал острую тревогу, думая, помимо здоровья, про Тихий океан и летное время. За человеческое здоровье никто не мог поручиться надолго. Тихий океан, беспорядочное скопище зловещих волн, окружал со всех сторон берега, зараженные несметным количеством смертельных болезней, в самой гуще которых он рисковал оказаться, если б разгневал полковника Кошкарта, освободив Йоссариана от полетов. А летное время он должен был проводить на борту самолета, чтобы получать дополнительное жалованье. Доктор Дейника ненавидел самолеты. Он ощущал в полете полнейшую безысходность. На борту самолета, куда ни пойдешь, все равно останешься на том же самом борту. Доктор Дейника слышал, что человек, добровольно лезущий в самолет, просто поддается навязчивому желанию залезть обратно в материнское чрево. Он слышал об этом от Йоссариана, который помогал ему получать дополнительное жалованье без извращений с разными чревами. По просьбе Йоссариана Маквот записывал доктора Дейнику в бортовой журнал, когда они совершали тренировочные или транспортные полеты.
– Ты же все понимаешь, – льстиво, со свойским подмигиванием говорил доктор Дейника Йоссариану. – Ну зачем без нужды рисковать?
– Незачем, – соглашался Йоссариан.
– Да и какая разница, в самолете я или нет?
– Никакой.
– Вот-вот. Живи, как говорится, и жить давай другим. Сперва ты протянешь мне руку, потом я тебе. Согласен?
Йоссариан был согласен.
– Да нет, я не про это, – сказал доктор Дейника, когда Йоссариан протянул ему руку. – Я про руку помощи. Про взаимную выручку. Сперва ты мне поможешь, потом я тебе. Соображаешь?
– Так помоги мне, – оживился Йоссариан.
– Невозможно, – отрезал доктор Дейника.
Чем-то жалким и жутеньким веяло от доктора Дейники, одиноко сидящего день-деньской на солнцепеке возле своей палатки в летней форменной одежде – рубахе с короткими рукавами и шортах, – вылинявшей из-за ежедневных стирок, составлявших особую заботу доктора Дейники, до цвета стерильной, но сероватой от долгого хранения ваты. Он походил на замороженного однажды ужасом, да так и не оттаявшего потом человека. Горестный и нахохленный, с головой, ушедшей в птичьи плечи, он зябко поглаживал бледными ладонями – от плеч к локтям – сложенные на груди загорелые руки, и на пальцах у него тускло поблескивали холодные ногти. Но внутреннего тепла ему было не занимать: жаркая жалость к себе тлела в нем неугасимо.
– Почему именно я? – с горькой печалью вопрошал он, и вопрос этот звучал вполне здраво.
Йоссариан уважительно присоединил его к своей коллекции здравых вопросов, которыми он срывал общеобразовательные занятия, проводимые у них раньше два раза в неделю под надзором Клевинджера в палатке разведотдела очкастым капралом, про которого все знали, что он, видимо, подрывной элемент. Начальник разведотдела капитан Гнус знал это совершенно точно – а иначе почему капрал носил очки, произносил слова вроде «панацея» или «утопия» и поносил Гитлера, который сделал все возможное для истребления в Германии антиамериканской деятельности? Йоссариан посещал общеобразовательные занятия в надежде выяснить, отчего совершенно незнакомые ему люди только тем и занимаются, что норовят его убить. Народу на эти занятия сходилось не так уж много, зато вопросы были почти у каждого, причем вопросы по-своему вполне здравые, что и обнаружилось, как только Клевинджер совершил после первого же занятия серьезнейшую ошибку, спросив, есть ли у присутствующих вопросы.
– Кто такая Испания?
– Что еще вдруг за Гитлер?
– Какой такой козырь в Мюнхене?
– Как это левые справа?
– А ху-ху не хо-хо?
– Да ты чего нам тут порешь-то?
Все эти свидетельства здравой воинской любознательности сыпались на капрала в очках как из рога изобилия, пока Йоссариан не задал вопрос, на который не было ответа:
– А где сейчас прошлогодние Снегги?
Вопрос прозвучал убийственно, потому что Снегги погиб в прошлом году над Авиньоном, когда опсихевший Доббз вырвал у Хьюпла штурвал.
– Что-что? – словно бы не расслышав, переспросил капрал.
– Где сейчас прошлогодние Снегги?
– Мне, простите, не совсем понятно…
– Où sont les Neiges d’autan?[1] – повторил для пущей ясности по-французски Йоссариан.
– Parlez en anglais[2], ради бога, – взмолился капрал. – Je ne parle pas français[3].
– Я тоже, – отозвался Йоссариан, готовый допрашивать его на любых языках, лишь бы прорваться по возможности к истине, но в разговор поспешно вмешался Клевинджер – бледный, тощий, речь уже пресекается, а на малахольных глазах серебрятся крупные слезы.
В штабе полка тоже забеспокоились, потому что мало ли до чего могут люди доспрашиваться, если начнут задавать бесконтрольные вопросы. Полковник Кошкарт отрядил в эскадрилью подполковника Корна, и тот быстренько упорядочил непорядок с вопросами. Это был гениальный ход, как сообщил он в рапорте полковнику Кошкарту. По его инструкции право задавать вопросы получали только те, кто никогда их не задавал. Вскоре на занятия стали являться только те, кто имел право задавать вопросы, потому что никогда их не задавал. Из-за отсутствия вопросов занятия, как решили Клевинджер, капрал и подполковник Корн, потеряли смысл и были отменены, ибо у людей, которые отказываются задавать вопросы, невозможно повысить общеобразовательный уровень.
Полковник Кошкарт, подполковник Корн и все остальные штабисты, кроме капеллана, жили в здании штаба. Это был огромный, выстроенный из розового песчаника и насквозь продуваемый сквозняками старинный дом, который постоянно содрогался от гулко клокочущей в канализационных трубах воды. Рядом со штабом стараниями полковника Кошкарта оборудовали тир для стрельбы по тарелочкам, и полковник Кошкарт намеревался допускать туда только штабных офицеров, а генерал Дридл обязал весь личный состав полка проводить там не меньше восьми часов в месяц.
Йоссариан охотно стрелял по тарелочкам – и всегда мазал. А Эпплби всегда попадал. Со стрельбой у Йоссариана было так же плохо, как с игрой в азартные игры. Особенно на деньги. Он неизменно мазал и неизменно проигрывался. Он проигрывался, даже если мухлевал, потому что люди, которых ему хотелось обмухлевать, всегда мухлевали лучше, чем он. Для него давно уже не было тайной – и он покорно смирился со своей судьбой, – что хорошим стрелком и денежным мешком ему никогда не стать.
«Только человек с ясной головой способен не стать у нас денежным мешком, – вещал полковник Каргил в одном из своих поучительных посланий, предназначенных для распространения в боевых частях за подписью генерала Долбинга. – Любой дурак может стать сейчас денежным мешком, да так оно в большинстве случаев и происходит. А люди умные и талантливые? Назовите, к примеру, имя хоть одного поэта, который заработал бы много денег…»
– Т. С. Элиот, – сказал рядовой экс-первого класса Уинтергрин и повесил трубку. Он наткнулся на откровения полковника Каргила, разбирая почту в своей каморке при штабе Двадцать седьмой воздушной армии, где служил писарем.
Полковник Каргил был озадачен.
– Кто это звонил? – спросил генерал Долбинг.
– Понятия не имею, – ответил полковник Каргил.
– А что ему было нужно?
– Понятия не имею.
– А что он сказал?
– «Т. С. Элиот».
– Это что еще такое?
– Т. С. Элиот.
– Просто Т. С. Элиот?
– Да, сэр. Больше он ничего не сказал. Только «Т. С. Элиот».
– Что бы это, интересно, значило? – раздумчиво сказал генерал Долбинг. Полковнику Каргилу тоже было интересно.
– Т. С. Элиот? – с мрачным недоумением пробормотал генерал Долбинг.
– Т. С. Элиот, – замогильным эхом откликнулся полковник Каргил.
Генерал Долбинг немного помолчал, а потом елейно ухмыльнулся и встал. Лицо у него расцветилось утонченным коварством, а глаза озарились язвительным злодейством.
– Распорядись-ка соединить меня с генералом Дридлом, – приказал он полковнику Каргилу. – Да присмотри, чтоб ему не сообщили, кто его вызывает.
Полковник Каргил выполнил приказ генерала Долбинга, и на Корсике, в штабе генерала Дридла, раздался телефонный звонок.
– Т. С. Элиот, – сказал генерал Долбинг и повесил трубку.
– Кто это звонил? – спросил полковник Мудис.
Генерал Дридл не ответил. Полковник Мудис был его зятем, и он дал ему возможность подключиться к своим военным занятиям по просьбе жены, хотя делать этого, конечно, не следовало. Он глянул на зятя с устоявшейся неприязнью. Ему был отвратителен весь облик полковника Мудиса, который служил у него адъютантом, а поэтому всегда торчал на виду. Генерал Дридл возражал против брака дочери и Мудиса, потому что не любил свадебных церемоний. Озабоченно и сурово нахмурившись, он подошел к большому зеркалу и бросил взгляд на свое отражение. Перед ним стоял коренастый, в генеральской форме человек с агрессивной квадратной челюстью, тускло-серыми клоками бровей и седоватыми волосами. На лице у него отпечаталось тяжкое раздумье – он размышлял о таинственном телефонном звонке. Потом, осененный удачной мыслью, генерал Дридл облегченно вздохнул и злонамеренно усмехнулся.
– Соедини меня с Долбингом, – приказал он полковнику Мудису. – Да проследи, чтоб этот выродок не понял, откуда его вызывают.
– Кто это звонил? – спросил в Риме полковник Каргил.
– Да все тот же тип, – встревоженно отозвался генерал Долбинг. – Добрался, стало быть, и до меня.
– А что ему нужно?
– Понятия не имею.
– А что он сказал?
– То же самое, что и тебе.
– «Т. С. Элиот»?
– «Т. С. Элиот». И больше ничего. – Генерал Долбинг задумался, а потом с надеждой сказал: – Может, это новый шифр или сегодняшний пароль? Да-да, вполне может быть, проверь, пожалуйста, у связистов.
Связисты сообщили, что такого шифра и пароля нет.
– Позвоню-ка я в штаб Двадцать седьмой воздушной армии, – сообразил вдруг полковник Каргил, – может, они что-нибудь слышали. У меня есть там приятель, писарь Уинтергрин, он, между прочим, сказал мне однажды, что наша проза грешит многословием.
Рядовой экс-первого класса Уинтергрин уведомил полковника Каргила, что никаких сведений о Т. С. Элиоте в штабе Двадцать седьмой воздушной армии нет.
– А как наша проза? – решил заодно поинтересоваться полковник Каргил. – Не подсократила свое многословие?
– Все такая же многословная, – ответил Уинтергрин.
– Это, наверно, дридловские штучки, – решил наконец генерал Долбинг. – Вроде его штучек с тиром Кошкарта.
Генерал Дридл запустил в штабной тир полковника Кошкарта весь личный состав полка. Он хотел, чтобы офицеры и солдаты проводили там как можно больше времени. Стрельба по тарелочкам, на его взгляд, очень повышала их меткость. Она повышала их меткость при стрельбе по тарелочкам.
Дэнбар охотно стрелял по тарелочкам, потому что ненавидел это занятие, и каждая минута в тире растягивалась для него на целую вечность. Он считал, что час, проведенный в тире с людьми вроде Хавермейера или Эпплби, можно приравнять к семижды семидесяти годам.
– Вот и видно, что ты псих, – сказал ему Клевинджер.
– А кого это интересует? – откликнулся Дэнбар.
– Псих и есть, – упрямо повторил Клевинджер.
– А кого это волнует? – откликнулся Дэнбар.
– Да хотя бы меня. Я могу, пожалуй, допустить, что жизнь кажется дольше…
– Тянется дольше…
– Ладно, тянется дольше… Тянется? – Ну хорошо, пусть тянется… если ее заполняют годы трудностей и невзгод…
– А ты вот угадай-ка: с какой быстротой…
– Чего – с быстротой?
– Да проходят они.
– Кто проходит?
– Годы.
– Годы?
– Они, – подтвердил Дэнбар. – Годы, годы и годы.
– Клевинджер, ну чего ты пристал к человеку? – вмешался Йоссариан. – Ему же чертовски тяжело.
– Ничего, – великодушно сказал Дэнбар. – Время у меня пока еще есть. Так знаешь ли ты, – снова спросил он Клевинджера, – с какой быстротой проходит год, когда он уходит?
– И ты тоже уймись, – осадил Йоссариан Oppa, который начал подхихикивать.
– Да я просто вспомнил ту девицу, – объяснил Орр. – Из Сицилии. Девицу из Сицилии, с плешивой головой.
– Лучше уймись, Орр, – предостерег его Йоссариан.
– А все из-за тебя, – сказал Йоссариану Дэнбар. – Пусть бы он хихикал себе на здоровье. Лишь бы молчал.
– Ну ладно. Давай хихикай, если хочешь.
– Так знаешь ли ты, как быстро проходит год, когда он уходит? – снова спросил Клевинджера Дэнбар. – Вот как! – Он щелкнул пальцами. – Раз – и нету. Еще вчера ты поступал в колледж, юный и свежий, как наливное яблочко. А сегодня уже старик.
– Старик? – с изумлением переспросил Клевинджер. – Это про что это ты толкуешь?
– Конечно, старик.
– Вовсе я не старик.
– Не старик? Да тебя подстерегает смерть при каждом вылете, разве нет? Ты в любую секунду можешь отправиться на тот свет, как самый дряхлый старик. Минуту назад ты кончал школу и расстегнутый лифчик у твоей девушки наполнял тебя вечным блаженством. А за полминуты до этого ты был первоклашкой с двухмесячными каникулами, которые длились тысячелетия и все же пролетали как один миг. Хоп – и канули, а ты и мигнуть не успел… Так чем еще, скажи на милость, можно растянуть время?! – Последние слова Дэнбар произнес почти гневно.
– Может, ты и прав, – хмуро уступил Клевинджер. – Может, невзгоды и правда удлиняют жизнь. Да только кому она такая нужна?
– Мне, – сказал Дэнбар.
– Зачем? – спросил Клевинджер.
– А что у нас еще-то есть?
Глава пятая
Вождь Белый Овсюг
Доктор Дейника жил в пятнистой вылинявшей палатке с индейцем по имени Вождь Белый Овсюг, которого он презирал и боялся.
– Могу себе представить, какая у него печень, – пробурчал однажды, разговаривая с Йоссарианом, доктор Дейника.
– А ты лучше представь себе, какая печень у меня, – посоветовал ему Йоссариан.
– Да у тебя-то с печенью все в порядке, – равнодушно сказал доктор Дейника.
– Вот и видно, что ты не в курсе, – блефуя, сказал Йоссариан и поведал доктору Дейнике про трудности со своей печенью, которая доставила немало трудных минут госпитальным врачам и сестрам, растерянно ждавшим, когда он поправится или дотянет до настоящей желтухи.
– Это у тебя-то трудности? – без всякого интереса спросил доктор Дейника. – А что тогда сказать обо мне? Эх, побывал бы ты у меня в приемной перед самой войной!
Доктор Дейника украсил свою приемную аквариумом с золотыми рыбками и обставил самым лучшим из дешевых мебельных гарнитуров. Все, что было можно, даже золотых рыбок, он купил в рассрочку, а на остальное обзаведение занял денег у алчных родственников, пообещав им долю в будущих барышах. Он обосновался на Стэйтен-Айленде, в нью-йоркском пригороде за Гудзоном, неподалеку от паромной пристани и по соседству с большим универмагом, тремя дамскими парикмахерскими – они, разумеется, именовались салонами красоты – и двумя аптеками, где орудовали фармацевты, прекрасно знавшие, как обделывать выгодные делишки. Дом, облюбованный доктором Дейникой для своей приемной, – двухквартирная ловушка, откуда невозможно выбраться при внезапном пожаре, – стоял на бойком перекрестке, но это ничуть не помогало. Население в нью-йоркском заречье почти не менялось, а коренные жители привычно лечились у проверенных многолетней практикой врачей. Пациентов не было, и деньги на счету у доктора Дейники быстро таяли. Вскоре ему пришлось распрощаться с любимой медицинской аппаратурой; сперва за неуплату очередного взноса у него отобрали купленный в рассрочку арифмометр, а потом и пишущую машинку. Золотые рыбки издохли. Надвигалась катастрофа, от которой доктора Дейнику спасла война.
– Это был дар божий! – торжественно провозгласил доктор Дейника. – Многие местные врачи ушли в армию, и моя жизнь вдруг чудесно преобразилась. Бойкий перекресток наконец-то дал себя знать, и вскоре пациенты валом ко мне повалили – у меня даже не хватало времени как следует их обслужить. Фармацевты из соседних аптек стали мне платить в наших сделках гораздо больше. Салоны давали два-три аборта в неделю. Словом, жизнь моя устраивалась наилучшим образом… и ты только послушай, что потом вышло. Ко мне явился субчик из призывной комиссии. Я считался запасным четвертой категории. Я тщательно себя обследовал и установил, что не годен к военной службе. Казалось бы, все ясно – ведь меня высоко ценили и в Медицинском обществе нашего округа, и в районной Палате предпринимателей. Так нет же – им, видно, поперек горла встала моя ампутированная под самое бедро нога, не говоря уж про ревматический полиартрит, навеки приковавший меня к постели, и они прислали этого субчика… Таков наш век, Йоссариан, век тотального безверия и повсеместной утраты духовных ценностей. А все же это ужасно, – дрожащим от волнения голосом заключил доктор Дейника. – Ужасно, когда страна, которую ты преданно любишь, сначала выдает тебе официальное разрешение быть врачом, а потом ни в грош не ставит твою добросовестность и профессиональную компетентность.
Доктора Дейнику призвали на военную службу, загнали в тесную каюту теплохода и отправили хирургом на Пьяносу в Двадцать седьмую воздушную армию, хотя он до смерти боялся летать.
– Как будто у меня мало трудностей на земле, – обиженно и близоруко помаргивая карими бусинами глаз, пожаловался доктор Дейника. – Мне просто незачем искать их в небе, они сами меня ищут. Вроде тех молодоженов, которые свалились мне на голову перед войной.
– А что молодожены? – поинтересовался Йоссариан.
– Да вот, понимаешь, явились однажды прямо с улицы, даже без предварительной записи. Он и она. Никогда мне ее не забыть! Юная, свеженькая, фигурка – во сне такой не увидишь, а на шее цепочка и медальон со святым Антонием. Святого-то Антония я, конечно, чуть попозже разглядел, когда увел ее в смотровой кабинет, чтоб обследовать – они жаловались, что у них нет детей. Ну, все у нее было в порядке, и я пожелал им счастья, и они без всяких возражений заплатили мне сколько нужно, а, прощаясь, я пошутил. «Нельзя, – говорю, – так страшно искушать святого Антония». «Это кто еще такой – святой Антоний?» – сразу же вцепился в меня ее муженек. «А вы спросите, – говорю, – жену, она вам объяснит». «Спрошу», – говорит, и они ушли. А через пару дней является он ко мне один и объявляет моей медсестре, что ему надо со мной повидаться – сию же минуту и без всяких промедлений. Ну, провела она его ко мне в кабинет, и, как только мы остались одни, он двинул меня по уху.
– Двинул по уху?
– По уху. Обозвал умником и двинул. «Так ты, стало быть, умник?» – спрашивает. И со всего размаха по уху бац! Я только на полу и опомнился. Без всяких шуток.
– Какие уж тут шутки, – сказал Йоссариан. – А за что?
– Откуда же мне знать – за что? – брюзгливо откликнулся доктор Дейника.
– Может, все дело в святом Антонии? – предположил Йоссариан.
– Да кто он, собственно, такой, этот святой Антоний? – с тупым недоумением спросил доктор Дейника.
– А я почем знаю? – сварливо отозвался Вождь Белый Овсюг, влезая в палатку с бутылкой виски, нежно прижатой к могучей груди. Пошатнувшись, он плюхнулся на койку между Йоссарианом и доктором Дейникой.
Доктор Дейника молча схватил стул и выбрался из палатки, горестный и сгорбленный под бременем вечных несправедливостей. Ему было невыносимо общество соседа.
Вождь Белый Овсюг считал его психом.
– Неведомо что у парня в башке, – с укором проворчал он. – Мозгов у него нету, что ли? Ему бы давно уж взяться за лопату, а он? И ходить никуда не надо – просто копай прямо в палатке, под моей койкой. Копнешь разок-другой – и наткнешься на нефть. Он что, не слышал, что ли, про того солдата, который наткнулся на нефть? Еще в Штатах. Этот, как его – крысенок-то недоделанный, сопляк из Колорадо…
– Уинтергрин.
– Во-во, Уинтергрин.
– Он боится, – сказал Йоссариан.
– Уинтергрин-то? – Вождь Белый Овсюг с явным восхищением покачал головой. – Ну нет, этот сопливый умник, он, стервец вонючий, никого не боится, даром что салажонок.
– Доктор Дейника боится, – объяснил ему Йоссариан. – В том-то все и дело.
– А чего ему бояться?
– Тебя и за тебя. Он боится, что ты умрешь от воспаления легких.
– Ну, тут-то у него правильно мозги работают, пускай боится, – одобрительно сказал Вождь Белый Овсюг, и в груди у него зарокотало могучее басовитое ржание. – Обязательно умру. Дай только срок.
Вождь Белый Овсюг, смуглый и красивый оклахомский индеец с массивным, словно бы высеченным из камня, лицом и вечно взъерошенными черными волосами, твердо решил умереть от воспаления легких, потому что так ему предписывала, как он объяснял, его вера. Это был вспыльчивый, мстительный и отнюдь не романтичный индеец, считавший, что все ненавистные ему чужаки вроде гнусов, корнов, кошкартов и хавермейеров должны убраться восвояси – туда, откуда явились их поганые предки.
– Ты не поверишь, Йоссариан, – доверительно, но так, чтобы слышал и затравленный доктор Дейника, проговорил он, – до чего хорошо было в нашей стране, пока они не испоганили ее своим похабным благочестием.
Вождь Белый Овсюг вступил на тропу мщения белому человеку. Он читал по складам, а писать почти не умел, и капитан Гнус назначил его своим помощником по разведке.
– Некогда мне было учиться читать и писать, – распаляя на страх доктору Дейнике свою воинственную мстительность, рассказывал Вождь Белый Овсюг. – Ведь ихние нефтяники ровно стервятники вокруг нас кружили: только мы раскинем стойбище, они уже тут как тут и сразу начинали бурить. И, как только начинали бурить, сразу натыкались на нефть. А как только натыкались на нефть, сразу прогоняли нас в другое место. Мы были для них вроде волшебной лозы – даром, что живые люди, – чтоб отыскивать им нефть. У нас ведь от рождения чутье на эту самую нефть, вот нефтяные фирмы со всего света за нами и охотились. Мы все время кочевали. Попробуй тут воспитай ребенка – ни шиша у тебя не получится. Я, пожалуй, никогда в одном месте больше недели и не жил.
Геологи помнились ему с самых первых младенческих лет.
– Только, бывало, родится новый Белый Овсюг, – продолжал он, – нефтяные акции на бирже враз дорожают. И вот вскорости за нами повсюду стали таскаться ихние буровики со своим снаряжением, чтобы, значит, опередить друг друга, как только мы выберем место для стойбища. А нефтяные фирмы все время объединялись – им ведь было выгодно отряжать за нами поменьше людей, – да толпа-то вокруг нас все равно росла. Нам даже ночью не давали спокойно поспать. Только мы остановимся, останавливались и они. А когда мы сворачивали стойбище, они тащились за нами следом со всеми бульдозерами, буровыми вышками, походными кухнями да вспомогательными движками. И превратились мы в бродячих подсобников бизнесу, так что многие отели, даже из самых шикарных, стали присылать нам приглашения, чтоб мы, значит, оживляли у них в городах деловую жизнь. Ихние предложения сулили нам райскую благодать, да оказывались потом липой, потому что мы были индейцы, а индейцам в шикарные отели вход заказан. Расовые предрассудки страшная штука, Йоссариан. Страшней войны. Ты только подумай, как страшно, когда мирного и приличного индейца не отличают от желторотого китаезы, бледнозадого итальяшки или черномазого негритоса! – Вождь Белый Овсюг с мрачным осуждением покачал головой. – И вот, Йоссариан, вскорости мы подошли к началу конца – да иначе-то и быть не могло. Им, значит, взбрело в голову преследовать нас впереди. Они норовили угадать, где мы раскинем стойбище, чтобы начать бурить, пока нас нет, и мы уж нигде не могли остановиться. Только нам, бывало, захочется отдохнуть, а они уже тут как тут и гонят нас прочь. У них прорезалась такая вера в наше чутье, что они гнали нас еще до ихней проверки, есть ли под нашей палаткой нефть. А мы так устали, что даже не всполошились, когда попали в последнюю передрягу. Однажды поутру они окружили нас кольцом, чтобы прогнать, куда бы мы, бедолаги, ни двинулись. Они отовсюду зорко следили за нами, будто индейцы перед атакой. Это был конец. Мы не могли остаться на месте, потому что нас гнали прочь. И не могли сдвинуться с места, потому что нас везде ждали, чтобы прогнать. Только война спасла мне жизнь. Она разразилась в последнюю секунду. Власти вызволили меня повесткой из этого гиблого кольца и отправили на призывной пункт в Колорадо. Вот почему я остался жив – один-единственный из всей нашей семьи.
Йоссариан знал, что все это выдумки, но не перебивал Белого Овсюга, который навеки, как он сказал, потерял из виду родителей. Да не очень, впрочем, огорчился, потому что они были его родителями только по их собственным словам, а врали ему так часто, что и об этом вполне могли наврать. Зато про судьбу двоюродных братьев и сестер он знал гораздо лучше – они прорвались обманным маневром на север и забрели по ошибке в Канаду. Когда им захотелось вернуться, их задержали на границе американские иммиграционные власти. Им не разрешили жить в Штатах на том основании, что они красные.
Шутка получилась остренькая, но доктору Дейнике было не до смеха – и он ни разу не улыбнулся, пока Йоссариан, после следующего боевого вылета, опять не попросил его об освобождении от полетов. Тут доктор Дейника мимолетно усмехнулся и начал бубнить, как обычно, про собственные беды, среди которых первое место занимал Вождь Белый Овсюг, пристававший к нему с предложением померяться силами в индейской борьбе, а последнее – Йоссариан, опсихевший, как считал доктор Дейника, до потери сознания.
– Ты напрасно теряешь время, – сказал он.
– Неужели тебе трудно освободить от полетов психа?
– Почему же трудно? Я просто обязан это сделать. Такова инструкция.
– Так освободи меня. Я же псих. Спроси хоть у Клевинджера.
– А где он, твой Клевинджер?
– Да спроси кого угодно. Все они скажут, что я законченный псих.
– Так они сами психи.
– А почему ж ты не освобождаешь их от полетов?
– А почему они меня об этом не просят?
– Потому что психи, вот почему.
– Правильно, психи. И поэтому не им решать, псих ты или нет. Согласен?
Йоссариан пытливо посмотрел на доктора Дейнику и попытался начать с другого конца.
– Ну а Орр – псих? – спросил он.
– Разумеется, псих, – ответил доктор Дейника.
– И ты можешь освободить его от полетов?
– Разумеется, могу. Но он сам должен меня об этом попросить.
– Так почему ж он не просит?
– А потому что псих. Его ведь уже несколько раз сбивали, а он продолжает летать. Стопроцентный псих. Разумеется, я могу освободить его от полетов. Но он сам должен меня об этом попросить. Такова инструкция.
– Значит, по инструкции ты можешь его освободить?
– Не только могу, но просто обязан.
– И ты освободишь его?
– Нет. Не получится.
– А что, есть какая-нибудь закавыка?
– Да уж не без этого. Поправка-22. «Всякий, кто хочет уклониться от выполнения боевого задания, нормален», – процитировал на память доктор Дейника.
Была только одна закавыка – Поправка-22, – но этого вполне хватало, потому что человек, озабоченный своим спасением перед лицом реальной и неминуемой опасности, считался нормальным. Орр летал, потому что был псих, а будучи нормальным, отказался бы от полетов – чтоб его обязали летать, как всякого нормального пилота, по долгу воинской службы. Летая, он проявлял себя психом и получал право не летать, но, реализуя это право, становился нормальным и отказаться от полетов не мог. Пораженный всеобъемлющей простотой Поправки-22, Йоссариан уважительно присвистнул.
– Да, поправочка что надо, – сказал он.
– Лучше не придумаешь, – подтвердил доктор Дейника.
Поправка-22, эллиптически замкнутая на себя – по образцу планетарной – система с нерасторжимо сбалансированными парами, была неумолимо логичной и абсолютно самодостаточной. Ее бесподобное совершенство казалось Йоссариану таким же устрашающе законченным, как совершенная бесподобность современного искусства, а современное искусство казалось ему порой таким же сомнительным, как темнота в глазах у Эпплби, про которую толковал ему Орр. Орр уверял его, что у Эпплби темно в глазах.
– Неужели не замечал? – сказал Орр, когда Йоссариан подрался в офицерском клубе с Эпплби. – Точно тебе говорю: у него темно в глазах, только сам он про это не знает. А настоящего-то мира и не видит.
– Как же он может не знать? – удивился Йоссариан.
– А как он может узнать? – с нарочитым терпением переспросил Орр. – Ну как он увидит, что у него темно в глазах, если у него темно в глазах?
Это выглядело ничуть не бессмысленней, чем все остальное вокруг, и Йоссариан решил поверить Орру на слово – тем более что тот вырос в темной глухомани далеко от Нью-Йорка и знал о первобытной жизни с ее первозданной темнотой куда больше Йоссариана, а главное, никогда не врал ему про что-нибудь важное, как делали все йоссарианские свояки и кровные родственники, учителя и духовные наставники, приятели, соседи, газетчики и правители. Йоссариан внимательно обдумал сообщение Oppa, а дня через два поделился своим секретом с Эпплби – просто чтобы сделать доброе дело.
– Эпплби, у тебя в глазах темно, – доброжелательно шепнул он, когда они столкнулись возле парашютной палатки перед плевым налетом на Парму.
– Чего-чего? – вскинулся Эпплби, подозревая подвох, потому что Йоссариан давно уже с ним не разговаривал.
– У тебя в глазах темно, – повторил Йоссариан. – Темно, понимаешь? Вот ты этого и не видишь.
Эпплби с неприязненным изумлением воззрился на Йоссариана, молча обошел его и молча залез в джип, чтобы ехать на инструктаж, который проводил в инструктажной палатке суетливый майор Дэнби, собирая там перед вылетом всех ведущих пилотов, бомбардиров и штурманов. Когда джип выехал на прямую дорогу, Эпплби, стараясь, чтоб его не услышали водитель и капитан Гнус, развалившийся с закрытыми глазами на переднем сиденье, вполголоса обратился к Хавермейеру.
– Послушай, Хавермейер, – неуверенно пробормотал он, – у меня в глазах темно?
– Бревно? – удивленно сморгнув, переспросил Хавермейер.
– Да нет, я говорю: у меня в глазах темно?
– Темно? – Хавермейер опять удивленно сморгнул.
– Вот-вот, в глазах. Так посмотри: темно?
– Ты что – псих? – спросил его Хавермейер.
– Я-то не псих, это Йоссариан псих. А все-таки посмотри – темно или нет? Только не скрывай. Потому что мне надо знать.
Хавермейер слизнул с ладони последние крошки козинака, нагнулся к Эпплби и внимательно заглянул ему в глаза.
– Нисколько не темно, – объявил он.
Эпплби глубоко и с огромным облегчением вздохнул. У Хавермейера к носу, щекам и губам прилипли крошки козинака.
– Вытрись, – посоветовал ему Эпплби. – У тебя от козинака даже в ноздрях черно.
– Лучше уж в ноздрях, чем в глазах, – буркнул Хавермейер.
Офицеров пяти ведомых экипажей каждого звена из всех трех эскадрилий возили в грузовиках на общеполковой инструктаж, который начинался получасом позже, а нижние чины – радисты и стрелки – инструктаж вообще не проходили, поэтому их доставляли прямо на аэродром и высаживали у тех самолетов, в которые они были назначены на очередной вылет; тут им и полагалось ждать – вместе с механиками наземного обслуживания – проходящих инструктаж офицеров, а когда те приезжали и, с грохотом откинув задние борта грузовиков, спрыгивали на землю, собравшиеся наконец в единое целое экипажи рассаживались по самолетам.
При заводке остывшие за ночь моторы, скрытые торпедообразными обтекателями, недовольно прокашливались и урчали как бы с ленцой, но потом, разработавшись на режиме прогрева, заливали аэродром ровно рокочущим гулом; самолеты вздрагивали, отползали от стоянок и, сперва похожие на неповоротливых мастодонтов, медленно выруливали к взлетной полосе, стремительно разгонялись и уходили на взлет, чтобы, кружа над вершинами деревьев и низвергая вниз оглушительный рев, неспешно выстроиться в боевые порядки, скользнуть с чуть-чуть приподнятыми носами над лазурно сверкающим под ними морем и в плавном развороте взять курс на цель в Северной Италии или Южной Франции. Идя с пологим набором высоты, они пересекали линию фронта приблизительно в девяти тысячах футов от земли. Тут – и это всегда поражало – их охватывала бездонная всеобъемлющая тишина, нарушаемая лишь редкими репликами летчиков, монотонно звучащими в наушниках шлемофонов, короткими, для пробы, очередями пулеметов и под конец нарочито безучастным сообщением каждого бомбардира в каждом самолете, что они вышли на исходную точку и ложатся в разворот перед боевым курсом – последней прямой для бомбардировки цели.
Самолеты «Б-25», на которых они летали, были надежными, устойчивыми блекло-зелеными двухкилевыми и двухмоторными машинами с большой хордой крыла. Их единственный недостаток заключался, на взгляд Йоссариана, в том, что плексигласовую, вынесенную вперед кабину, где сидели пилоты, навигатор и бомбардир, отделял от аварийного люка гибельно тесный лаз – узкий, темный, холодный туннель, начинающийся за креслами пилотов, – мрачная ловушка для массивного человека вроде Йоссариана. Пухлый, с лунообразным лицом, плоскими глазками рептилии и вечной трубкой в зубах Аафрей тоже втискивался в него не без труда, и Йоссариан настойчиво гнал его из носового отсека, когда они, как сейчас, ложились на боевой курс.
Тогда наступали томительные минуты, в которые можно было только ждать – ничего не делая, не видя и не слыша, – пока зенитчики на земле прицелятся, чтобы распылить их для отправки к праотцам.
Туннель был узкой тропкой к спасению, но Йоссариан люто его проклинал, считая, что, если самолет будет сбит, туннель неминуемо обернется капканом, уготованным ему предательским провидением в давнем замысле сжить его со свету. И при этом он знал, что у него под ногами, в носовом отсеке «Б-25», было место для аварийного люка – место было, а люка не было. Вместо люка его ждал холодный лаз, и после нервотрепки при налете на Авиньон Йоссариан осознал, что ему ненавистен каждый бесконечный дюйм в этом лазе, который отделял его – секундами и секундами – сначала от парашюта, слишком громоздкого, чтобы брать его с собой в носовую кабину, а потом – опять секундами и секундами – от люка, прорезанного в дюралевом полу между приподнятой передней кабиной и средним отсеком, где сидел стрелок – безголовый, если смотреть на него от люка. Йоссариан жаждал оказаться там, куда он гнал дурака Аафрея, жаждал свернуться в крохотный клубок прямо на крыше аварийного люка в двух, или трех, или четырех бронежилетах, которые он припрятал бы на борту самолета, и в готовой к использованию парашютной сбруе – одна рука мертвой хваткой сжимает красное вытяжное кольцо парашюта, а другая ежесекундно готова нажать рукоятку сброса аварийного люка, чтобы мгновенно вывалиться из самолета при страшной встряске от настигшего их снаряда. Вот где жаждал оказаться Йоссариан, раз уж судьба загнала его в самолет, а он болтался, дьяволу на радость, как божий, черт бы его побрал, одуванчик между небесами, провались они в преисподнюю, и далекой землей, откуда зенитчики, чтобы им сдохнуть, проклятым убийцам, посылали ему на погибель снаряды, рвущиеся вокруг, словно адский фейерверк, – и спереди, и сзади, и сверху, и снизу – жаркими, кровожадными, угрожающе рявкающими, грозно грохочущими, плотоядно рычащими исчерна-грязновато-багровыми вспышками, которые сотрясали, швыряли из стороны в сторону, заставляли подпрыгивать и низвергали в ямы чудом не рассыпающийся на лету самолет, обреченный, как думал всякий раз Йоссариан, обратиться, вместе со всем экипажем, в ослепительно яркий сгусток пламени за сотую, даже тысячную долю секунды. Аафрей был вовсе не нужен Йоссариану – и как навигатор, и как кто бы то ни было, – поэтому он старался его прогнать, чтобы им не столкнуться возле узкого лаза, если туда потребуется лезть. Послушайся он Йоссариана, и ему никто бы не помешал притулиться там, где хотел быть Йоссариан, но Аафрей вместо этого торчал в кабине – прямой, как будто у него шомпол вместо хребта, – удобно положив свои пухлые руки, с зажатой в одной из них поганой трубкой, на высокие спинки пилотских кресел и ведя с Маквотом или вторым пилотом, который в тот день был назначен к ним в самолет, неторопливо-спокойную, словно бы светскую, беседу, а вернее, произнося шутливый монолог об увиденных вокруг погодных банальностях вроде ажурных тучек у горизонта, даром что пилотам было некогда его слушать. Маквот был слишком занят пилотажем: сначала, повинуясь указаниям Йоссариана, он выводил самолет на боевой курс, а потом Йоссариан принимался вопить, выдирая самолет руками Маквота из дымной чащобы заградительного огня с помощью истошных, пронзительных приказаний, похожих на завывания Обжоры Джо во время мучивших его ночью кошмаров. Аафрей раздумчиво попыхивал трубкой, следя за гиблой свистопляской войны в лобовой пилотский иллюминатор Маквота со спокойным любопытством стороннего наблюдателя. Аафрей был предан студенческому братству, легко впадал в жизнерадостный экстаз, вызываемый режиссерами всевозможных сборищ, охотно ходил на встречи одноклассников и не нажил достаточно ума, чтоб бояться. А Йоссариан, который очень даже нажил, не покидал свой пост в носовой кабине – хотя, как только начинался обстрел, его так и подмывало юркнуть в туннель, наподобие трусливой желтобрюхой крысы, – исключительно из боязни передоверить кому-нибудь противозенитные маневры на отходе от цели. Никто за него не смог бы, как ему казалось, руководить этим жизненно важным делом. Никто не умел так бояться, как он. Йоссариан был лучшим специалистом в полку по уклоняющимся маневрам, и руководил им инстинкт.
Уклоняющийся маневр невозможно разработать. Чтобы его выполнить, нужно только бояться. А боялся Йоссариан как никто другой – и Орр, и Обжора Джо, и Дэнбар, смирившийся с мыслью, что когда-нибудь он умрет, боялись далеко не так истово, как Йоссариан. Йоссариан не смирился с мыслью о смерти и боролся за жизнь с неослабевающей силой во время каждого боевого вылета – начинал вопить, избавившись от бомб, «КРУЧЕ, КРУЧЕ, КРУЧЕ, НЕДОНОСОК», или «РЕЗЧЕ, РЕЗЧЕ, РЕЗЧЕ, УБЛЮДОК», первому пилоту, которым шел обычно Маквот, с такой страшной ненавистью, будто именно по его вине он сейчас оказался в зоне огня и какие-то совершенно незнакомые ему люди пытаются отправить его на тот свет, причем никто, кроме самого Маквота, этих его воплей обыкновенно не слышал, потому что остальные члены экипажа всегда переключались на внешнюю связь – всегда, за исключением того прискорбного случая, когда во время бомбардировки Авиньона Доббз опсихел при уходе от цели и начал жалобно взывать о помощи.
– Помогите ему! Помогите! – надрывался Доббз.
– Кому? Кому? – заорал Йоссариан, воткнув штекер переговорного устройства, выдранный из гнезда, когда опсихевший Доббз неожиданно вырвал штурвал у Хьюпла и бросил машину в сумасшедшее пике, едва не вывернувшее их всех наизнанку и уткнувшее Йоссариана в потолок кабины, так что сначала он не мог пошевелиться, а потом беспомощно рухнул на пол, когда немного опомнившийся Хьюпл отобрал в свою очередь штурвал у Доббза и вывел их из пике под убийственный зенитный огонь, от которого они за минуту до этого ушли. ГОСПОДИ ГОСПОДИ ГОСПОДИ ГОСПОДИ, почти нечленораздельно причитал Йоссариан, прижатый головой к потолку кабины.
– Бомбардиру! Бомбардиру! – выкликнул Доббз, как только услышал голос Йоссариана. – Он не отвечает! Он не отвечает! Помогите бомбардиру! Помогите бомбардиру!
– Я и есть бомбардир! – заорал Йоссариан. – У меня все в порядке! У меня все в порядке!
– Так помоги ему! Помоги! – умоляюще вскричал Доббз.
А Снегги умирал в хвостовом отсеке.
Глава шестая
Обжора Джо
Обжора Джо совершил пятьдесят боевых вылетов, но лучше ему не стало. Он опять сидел на чемоданах и ждал отправки домой. По ночам его донимали жуткие кошмары, так что он будил душераздирающими воплями всех соседей, кроме пятнадцатилетнего пилота Хьюпла, который наврал в призывной комиссии, сколько ему лет, а потом, отправляясь на войну, прихватил любимую кошку и жил теперь в одной палатке с Обжорой Джо. Хьюпл спал довольно чутко, но утверждал, что никогда не слышит воплей соседа. Обжоре Джо было очень худо.
– А мне, думаешь, хорошо? – возмущенно огрызнулся доктор Дейника, когда Йоссариан попытался ему об этом сказать. – Ты знаешь, как у меня шли дела? Я выколачивал по пятьдесят тысяч в год и почти не платил налогов, потому что брал с пациентов только наличными. Меня поддерживало самое могучее торговое сообщество в мире. А что потом вышло? Не успел я встать на ноги, как они изобрели фашизм и заварили эту кровавую кашу, чтобы меня свалить. Да мне смеяться хочется, когда я слышу про всяких обжор, которые вывизгивают по ночам свои мозги! Просто смеяться хочется. Это ему-то худо? А он не хочет узнать, каково приходится мне?
Обжора Джо был слишком занят собственными бедами, чтобы узнавать, каково приходится доктору Дейнике. Взять, к примеру, звуки. Самые негромкие приводили его в ярость, и он сипло, до исступления орал на Аафрея за мягкие, словно бы влажные, причмокивания, когда тот посасывал трубку, на Oppa, когда тот что-нибудь паял или мастерил, на Маквота, который звонко щелкал при сдаче картой о колоду, и на Доббза, когда тот клацал зубами, натыкаясь в бесцельных блужданиях по лагерю на всех и вся. Обжора Джо казался бесформенным, конвульсивным сгустком вечно клокочущего раздражения. Чуть слышное тиканье часов в тихой комнате терзало его, будто капающий на голое темя кипяток.
– Слушай, парень, – сказал он однажды вечером Хьюплу, – если хочешь со мной ужиться, делай по-моему, понял? Прячь свои часы в шерстяной носок и запихивай их к ночи на дно вещевого мешка, а мешок задвигай в самый дальний угол палатки, ясно?
Хьюпл воинственно выпятил нижнюю челюсть, чтобы показать свою независимость, и беспрекословно сделал как велено.
Лицо у Обжоры Джо – череп, обтянутый кожей, – постоянно подергивалось от пульсирующих жилок, сплетенных, словно клубок разозленных змей, где-то за черными провалами глазниц. Это было лицо опасного в своих несчастьях горемыки, темное от мрачной тревоги и тоскливое, как брошенный город. Ел Обжора Джо торопливо и жадно, беспрестанно покусывал подушечки пальцев на руках, все время потел, ежился и почесывался, говорил то ли заикаясь, то ли запинаясь, то ли отхаркиваясь, поминутно слизывал с подбородка слюну и всегда держал наготове дорогой фотоаппарат, чтобы снимать голых девиц. Снимки у него никогда не получались. Он постоянно забывал вставить пленку, или включить вспышку, или снять с объектива колпачок. Добиться, чтобы голые девицы позировали перед фотоаппаратом, не так-то легко, но Обжора Джо собаку на этом съел.
– Моя большой человек! – орал он. – Моя фотографировать для шикарный журнал! «Лайф» знаете? Твоя в «Лайф» на всю обложку – шикарно! А потом в Голливуд. Si, Si![4] Главная суперзвезда. Много-много чав-чав. Много-много мужья. Много-много чпок-чпок. Давай, становись!
Мало кто из женщин мог устоять против столь искусного натиска, и проститутки рьяно вскакивали на ноги, принимая самые фантастические позы, выдуманные Обжорой Джо. Женщины были для него гибелью. Они внушали ему благоговейное обожание. Эти сексуальные идолицы – прекрасные, удивительные, сводящие с ума сосуды для наслаждения, слишком глубокого, чтобы его измерить, слишком острого, чтобы вынести, и слишком утонченного, чтобы им наслаждаться, – были, конечно, созданы не для него, человека низменного и никчемного. Он воспринимал доступность их голых тел как оплошность небес, которая вот-вот будет исправлена, и стремился извлечь из этого дарованного ему по ошибке мгновения все, что возможно, прежде чем Всемогущий Некто опомнится и мгновение будет упущено. Он никогда не мог решить, фотографировать ли ему девиц или использовать по прямому назначению, потому что был не в силах делать и то и другое одновременно. А в результате оставался ни с чем, раздираемый до полной несостоятельности противоречивыми чувствами и необходимостью страшно спешить. Снимки у него не получались, а на остальное не хватало времени. Интересно, что до войны он и правда работал фотографом в журнале «Лайф».
А сейчас был героем – величайшим, как считал Йоссариан, героем военно-воздушных сил, потому что совершил больше боевых вылетов, чем любой другой герой. Он уже шесть раз выполнил до конца свой воинский долг. Впервые он выполнил его, когда требовалось всего двадцать пять боевых вылетов, чтобы упаковать чемоданы, написать родным радостные письма и допекать потом сержанта Боббикса беззаботными вопросами про якобы утвержденный в штабе Двадцать седьмой армии приказ, который откроет Обжоре Джо путь домой. Он ждал приказа со дня на день, а пока его не было, бодро приплясывал у палатки оперативного отдела, весело осыпал всех проходящих язвительными шуточками и, завидев сержанта Боббикса, игриво обзывал его сучоночком.
Обжора Джо совершил свой двадцать пятый боевой вылет в ту неделю, когда под Салерно высадился десант, а Йоссариан попал в госпиталь с триппером, подхваченным от девицы из Женского вспомогательного батальона во время транспортного рейса на Марракеш. Йоссариан твердо решил сравняться с Обжорой Джо и уже почти сравнялся, сделав, когда они поддерживали высадку десанта, шесть вылетов за шесть дней, но при налете на Ареццо – это был двадцать третий вылет Йоссариана – погиб полковник Неверс, и с тех пор Йоссариан никогда уже больше не подступал так близко к отправке домой. На следующий день до ушей переполненный суровой гордостью полковник Кошкарт ознаменовал свое новое назначение патриотическим новшеством, увеличив необходимое для отправки в Штаты количество боевых вылетов с двадцати пяти до тридцати. Обжора Джо распаковал чемоданы и переписал радостные письма родным. Ему расхотелось награждать игривыми прозвищами сержанта Боббикса. Он возненавидел его, сконцентрировав на нем всю свою горькую злобу, хотя прекрасно понимал, что тот непричастен к появлению Кошкарта и не виноват в штабной волоките с утверждением приказа, который мог открыть ему дорогу домой за семь дней до и пять раз после смены командира полка.
С тех пор, когда Обжоре Джо снова приходилось ждать утверждения приказа об отправке домой, он напрочь терял человеческий облик, не в силах вынести напряженного бремени ожидания. Окончательно выполнив в очередной раз воинский долг, он отмечал освобождение от боевых вылетов широкой попойкой в узком кругу друзей. После первого четырехдневного рейса на связном самолете с Пьяносы в Италию он выставлял друзьям купленные там бутылки с бурбоном и быстро напивался, а потом жизнерадостно пел, плясал, хохотал и горланил, пока не засыпал мирным сном прямо у стола. Как только Йоссариан, Нетли и Дэнбар укладывали его в постель, он принимался истошно вопить, оповещая эскадрилью о навалившихся на него во сне чудовищных кошмарах. Когда утром он вылезал из палатки – осунувшийся, страшный, с печатью безотчетной вины на темном лице, – у него был вид обреченного на вечные муки полупокойника.
Кошмары душили Обжору Джо с дьявольской пунктуальностью: каждая ночь, проведенная им в своей палатке после очередного освобождения от боевых вылетов, когда он дожидался, так ни разу и не дождавшись, утвержденного приказа об отправке домой, – буквально каждая ночь оглашалась его душераздирающими воплями. Впечатлительные люди вроде Доббза и капитана Флума начали вскоре откликаться на его кошмарные вопли пронзительной разноголосицей собственных ночных кошмаров, и гулкая похабщина, гремящая в непроглядной тьме над расположением эскадрильи, романтично напоминала брачную перекличку ополоумевших от похоти певчих птиц. Подполковник Корн повел решительную борьбу с нездоровыми, как он выразился, тенденциями в эскадрилье майора Майора. По его приказу Обжору Джо назначили пилотом на связной самолет, так что он не ночевал у себя четыре раза в неделю, и это сразу же оздоровило обстановку, снова подтвердив действенность всех начинаний подполковника Корна.
Как только полковник Кошкарт повышал норму боевых вылетов и возвращал Обжору Джо к исполнению воинского долга, тот облегченно вздыхал и впадал в нормальное состояние смертельного страха, а ночные кошмары у него мигом прекращались. Йоссариан легко прочитывал на сморщенном лице Обжоры Джо последние новости. Если он выглядел плохо, то ничего плохого не намечалось, а если хорошо, то дела обстояли очень скверно. Это вывернутое наизнанку восприятие жизни удивляло всех, кроме Обжоры Джо.
– Какие кошмары? – поинтересовался он, когда Йоссариан спросил его про ночные кошмары.
– Ты бы сходил к доктору Дейнике, – посоветовал Йоссариан.
– Зачем это я пойду к доктору Дейнике? – удивился Обжора Джо. – Что я – больной?
– А как насчет кошмаров? – напомнил ему Йоссариан.
– Нет у меня никаких кошмаров, – соврал Обжора Джо.
– Может, он их все-таки снимет.
– Да почему их надо снимать? У всех небось кошмары.
– Каждую ночь? – решив, что поймал его, спросил Йоссариан.
– Да хотя бы и каждую, – отозвался Обжора Джо.
И Йоссариан вдруг понял вполне осмысленную правоту Обжоры Джо. Именно, что хотя бы и каждую! Разве не прав, разве бессмысленно ведет себя человек, если он мучительно вопит каждую ночь? Обжора Джо был куда больше прав и осмыслен, чем, например, Эпплби, который занудливо заботился об исполнении инструкций и приказал Крафту, чтобы тот обязал Йоссариана непременно принять атабрин перед их отправкой за океан, когда Эпплби и Йоссариан перестали разговаривать. Да и сам Крафт – какую правоту, какой смысл утвердил он своей смертью, бесславно отправившись над Феррарой прямо в преисподнюю, когда Йоссариан второй раз повел на цель свое звено из шести машин и зенитчики подорвали у Крафта двигатель? Их авиаполк не мог разбомбить мост под Феррарой семь дней подряд, а в бомбовый прицел у «Б-25» можно без труда разглядеть даже крохотную бочку на земле с высоты в сорок тысяч футов, но прошло уже семь дней с тех пор, как полковник Кошкарт вызвался послать своих людей на это задание, пообещав уничтожить мост за одни сутки, а они все еще ничего не сделали. Крафт был тощим и безобидным парнем из Пенсильвании, а стремился он всю жизнь только к тому, чтобы всем угодить, но даже и в этом убогом стремлении отнюдь не преуспел. Угождал, угождал, да и угодил на тот свет – кровавая искорка в исковерканном самолете, никем не замеченная даже на грани гибели, в последнее мгновение, когда его самолет с отвалившимся крылом, кувыркаясь, несся к земле. Он жил угодливо и недолго, а погиб над Феррарой в ослепительной вспышке пламени на седьмой день, когда Господь отдыхал и когда Маквот уже ушел из-под обстрела, а Йоссариан снова послал его к мосту, потому что Аафрей ошибся в расчетах и Йоссариану не удалось точно вывести машину на цель.
– Так что – опять заходить? – хмуро спросил его по внутреннему переговорному устройству Маквот.
– Придется, – отозвался Йоссариан.
– Так заходить?
– Заходи.
– Двум смертям не бывать, на одну наплевать, – уныло пропел Маквот.
И они снова пошли к мосту, хотя машины других звеньев благоразумно кружили в стороне, так что все зенитки из дивизии Германа Геринга сосредоточили свою грохочущую ярость только на них.
Доблестный полковник Кошкарт никогда не упускал случая получить для своих людей какое-нибудь важное и рискованное боевое задание. Ни одна цель не казалась ему чересчур опасной, так же как ни одна подача не оказывалась чересчур трудной для Эпплби, когда он играл в пинг-понг. Эпплби по праву считался превосходным пилотом и не имел равных за столом для пинг-понга. У него было темно в глазах, и ему требовалась ровно двадцать одна подача, чтобы нанести противнику позорное поражение. Он не терял ни одного очка и неизменно выигрывал – до тех пор, пока окосевший от коктейлей Орр не раскроил ему ракеткой лоб, проиграв предварительно все пять первых подач. Орр запустил в него ракетку, а потом вскочил на стол и раздрызганно, дико прыгнул ногами вперед, норовя влепиться Эпплби в морду обеими подошвами. Тому понадобилось не меньше минуты, чтобы выпростаться из кромешного ада бешено молотящих его по чему попало орровских рук и ног, а когда он ухитрился наконец встать и, вздернув Oppa с пола за ворот рубахи, хотел размозжить ему кулачищем голову, к нему уже подоспел Йоссариан и отнял у него Oppa, так что смертоубийства не произошло. Это был вечер сюрпризов для Эпплби, который не уступал Йоссариану ни ростом, ни силой и врезал ему от всей души, ввергнув Белого Овсюга в такое возбуждение, что он смачно саданул полковника Мудиса по носу; и охваченный благодарной радостью генерал Дридл приказал полковнику Кошкарту выдворить из клуба капеллана, а Белого Овсюга обязал жить в палатке доктора Дейники, чтобы он находился под врачебным присмотром двадцать четыре часа в сутки и был бы в наилучшей форме, когда генералу Дридлу снова захочется посмотреть, как полковник Мудис получает по носу.
Вождь Белый Овсюг предпочел бы остаться в трейлере, где его соседом был капитан Флум из отдела социальной пропаганды – молчаливый и углубленный в себя офицер, который печатал вечерами снимки, сделанные днем, чтобы рассылать их со своими комментариями представителям прессы. Капитан Флум сидел в темной фотокаморке до глубокой ночи, а потом тихонько ложился на койку, скрестив для избавления от беды пальцы рук и проверив, не потерялся ли случаем спасительный талисман – кроличья лапка, висящая у него на шее, – ложился, чтобы как можно дольше не спать. Капитан Флум смертельно боялся своего соседа по жилью. Его преследовала навязчивая мысль, что однажды ночью, когда он будет крепко спать, тот подкрадется на цыпочках к его койке и вспорет ему горло от уха до уха. Мысль эту внушил капитану Флуму сам Белый Овсюг, подкравшийся однажды ночью на цыпочках к его койке и зловеще прошипевший, что однажды ночью, когда капитан Флум будет крепко спать, он, Вождь Белый Овсюг, подкрадется на цыпочках к его койке и вспорет ему горло от уха до уха. Капитан Флум, который уже начал было задремывать, мгновенно очнулся, похолодел и замер, с ужасом глядя широко открытыми глазами в зрачки Белому Овсюгу, пьяновато поблескивающие и устрашающе близкие.
– За что? – сдавленно всхрипнул он.
– А вот за то самое, – был ответ.
С тех пор капитан Флум заставлял себя не спать по ночам как можно дольше. Ему очень помогали кошмарные вопли Обжоры Джо. Слушая ночь за ночью эти пронзительные вопли, он возненавидел Обжору Джо лютой ненавистью и очень хотел, чтобы Вождь Белый Овсюг подкрался однажды на цыпочках к его койке и вспорол бы от уха до уха горло ему. Но на самом-то деле капитан Флум спал по ночам как убитый и только видел во сне, что не спит. А проснувшись наутро, чувствовал себя таким изможденным от недосыпа, что сразу же засыпал опять.
Преображение капитана Флума наполняло Белого Овсюга дружелюбной гордостью. Капитан Флум лег однажды спать общительным бодрячком, а встал унылым анахоретом, и Вождь Белый Овсюг горделиво считал нового капитана Флума своим творением. Он вовсе не собирался вспарывать ему горло от уха до уха. Он просто пошутил – как шутил, говоря, что умрет от воспаления легких, или предлагая доктору Дейнике помериться с ним силами в индейской борьбе, или смачно врезая по носу полковнику Мудису, – такие уж у него были шутки. Когда он притаскивался вечерами пьяный в свой трейлер, ему хотелось просто лечь и уснуть, а вопли Обжоры Джо поминутно его будили. Ему становилось муторно, и он был бы очень рад, если б кто-нибудь подкрался на цыпочках к палатке Обжоры Джо, снял у него с лица спящую там кошку Хьюпла и вспорол бы ему горло от уха до уха, чтобы все, кроме капитана Флума, смогли наконец спокойно уснуть.
Белого Овсюга не жаловали в эскадрилье, даром что он бил время от времени, на радость генералу Дридлу, полковника Мудиса по носу. Не жаловали и майора Майора, а выяснил он это, когда узнал, что его назначили командиром эскадрильи, – узнал от полковника Кошкарта, который примчался к ним в своем яростно рычащем форсированном джипе наутро после того, как при бомбардировке Перуджи сбили майора Дулуса. Джип полковника Кошкарта замер, взвизгнув тормозами, у канавы, отделяющей шоссе от кособокой баскетбольной площадки, откуда майора Майора выгнали в конце концов – кулаками, пинками и камнями – его почти что друзья.
– Вас назначили командиром эскадрильи! – рявкнул ему через канаву полковник Кошкарт. – Да только ничего это не значит, не думайте, потому что вы будете только значиться командиром, а значит, ничего это не значит, понятно?!
Резко развернувшись, так, что у джипа пронзительно заскрипели шины, полковник Кошкарт с ревом умчался, а майор Майор даже не заметил, что лицо ему запорошило выброшенной из-под колес пылью. Его ошеломила сообщенная новость. Безмолвный и долговязый, стоял он с отвисшей челюстью у канавы, держа в длинных руках потертый баскетбольный мяч, а семена ядовитой злобы, посеянные полковником Кошкартом в благодатную, как вскоре выяснилось, почву, стремительно укоренялись в душах тех самых солдат, которые играли с ним в баскетбол и даже – небывалый для него случай! – почти дружили. Он судорожно екнул, тщетно пытаясь что-то сказать, а его растерянные глаза стали огромными и влажными, словно их застилал непроглядно-едкий туман издавна знакомого ему одиночества.
Полковник Кошкарт, как и его штабисты, был заражен духом демократизма – он считал, что все люди сотворены равными, и третировал своих подчиненных с равным высокомерием. Однако он верил в своих людей. Он верил – и часто повторял это, приезжая на инструктаж, – что его пилоты по крайней мере на десять боевых вылетов превосходят всех остальных, а тот, кто с ним не согласен, может катиться к чертовой матери или куда глаза глядят. Катиться куда глаза глядят, как узнал Йоссариан, навестив рядового экс-первого класса Уинтергрина, он мог после десяти дополнительных боевых вылетов.
– Что-то я не совсем понимаю, – запротестовал Йоссариан. – Так прав доктор Дейника или не прав?
– А сколько он сказал?
– Сорок.
– Доктор Дейника сказал тебе правду, – признал рядовой экс-первого класса Уинтергрин. – Сорок боевых вылетов достаточно – так считают в штабе Двадцать седьмой армии.
Йоссариан возликовал.
– Значит, я могу отправляться домой? У меня ведь уже сорок четыре.
– Ты что – псих? – осадил его рядовой экс-первого класса Уинтергрин. – Никто с тобой даже и разговаривать не будет об отправке домой.
– Да почему?
– Поправка-22.
– Поправка-22? – изумленно переспросил Йоссариан. – Она-то тут при чем?
– А при том, – терпеливо разъяснил ему доктор Дейника, когда Обжора Джо доставил его обратно на Пьяносу, – что ты всегда должен выполнять приказ своего непосредственного командира.
– Но ведь в штабе армии говорят, что после сорока вылетов я могу отправляться домой!
– Во-первых, про дом они ничего не говорят. А во‑вторых, по уставу ты обязан выполнять каждый приказ командира. И даже если полковник Кошкарт самоуправствует, ты все равно должен ему подчиняться, а иначе тебя обвинят в невыполнении приказа. И тогда уж тебе несдобровать, штаб армии об этом позаботится, будь уверен.
Йоссариан сокрушенно сник.
– Стало быть, мне придется дотягивать до пятидесяти вылетов? – с горечью спросил он.
– До пятидесяти пяти, – поправил его доктор Дейника.
– Каких еще пятидесяти пяти?
– А таких, которых требует теперь от вас полковник Кошкарт.
Услышав слова доктора Дейники, Обжора Джо облегченно вздохнул. Йоссариан сграбастал его за шиворот и заставил немедленно лететь обратно к Уинтергрину.
– Что мне сделают, – по секрету спросил он, – если я наплюю на новый приказ Кошкарта?
– Возможно, мы тебя расстреляем, – ответил ему рядовой экс-первого класса Уинтергрин.
– Мы? – удивленно воскликнул Йоссариан. – С чего это ты вдруг решил затесаться в их шатию?
– А что мне, по-твоему, делать, когда речь заходит про расстрел? – огрызнулся рядовой экс-первого класса Уинтергрин.
Йоссариан окончательно сник. Полковник Кошкарт снова заставил его спасовать.
Глава седьмая
Маквот
Самолет Йоссариана пилотировал обычно Маквот, брившийся по утрам в ярко-красной, неизменно чистой пижаме на свежем воздухе возле палатки и превосходно дополнявший в своей нелепой непостижимости безумную картину мира. Маквот, пожалуй, был среди них самым глубоким психом, потому что при всем его здравомыслии совершенно спокойно воспринимал войну. Коротконогий и широкоплечий, он постоянно насвистывал бодрые эстрадные мотивчики, а играя в покер или очко, звучно щелкал при сдаче картами о колоду, чем доводил Обжору Джо до исступленного отчаяния, так что он, злобно заикаясь, начинал поносить Маквота на чем свет стоит и даже норовил затеять с ним драку.
– Ты же щелкаешь, подлюга, только чтоб меня довести! – хрипло завывал он, пытаясь вырваться из цепких рук Йоссариана, который не пускал его к Маквоту. – Ему ж, распроподлюге, просто хочется послушать, как я ору! – хрипел, вырываясь, он.
Маквот виновато морщил свой веснушчатый нос и клялся, что больше не будет, но всегда об этом забывал. К пижаме у него полагались на ноги меховые шлепанцы, а спал он между свежевыглаженными цветными простынями вроде той, половину которой вернул ему однажды Мило Миндербиндер, так и не отдав за нее улыбчивому воришке-сластене обещанные финики без косточек, взятые взаймы у Йоссариана. Он поразил воображение Маквота, этот Мило Миндербиндер, с выгодой покупавший, на диво капралу Снарку, яйца по семь и продававший их по пять центов за штуку. Но куда сильней, чем Миндербиндер Маквота, поразил самого Миндербиндера Йоссариан – запиской, полученной благодаря своей печени от доктора Дейники.
– Это еще что? – встревоженно воскликнул Мило Миндербиндер, увидев, как два рабочих-итальянца, заарканенные для него в Италии майором… де Каверли, выносят из столовой картонную коробку, набитую жестяными банками с фруктовым соком и пакетами вяленых фруктов.
– Это Йоссариану, сэр, – чванливо ухмыльнувшись, объяснил ему капрал Снарк. По службе он был повар, а по натуре – интеллектуальный сноб и, считая, что опередил свое время лет на двадцать, неохотно снисходил до стряпни простым пилотам. – У него записка от доктора Дейники, по которой он может получать любые фрукты и фруктовые соки в любом количестве.
– Это еще что? – воскликнул Йоссариан, увидев, как Мило Миндербиндер побледнел и пошатнулся.
– Это Мило Миндербиндер, сэр, – иронически подмигнув ему, сказал сержант Снарк. – Один из новых пилотов. Его назначили начальником столовой, когда вы последний раз были в госпитале.
– Это еще что? – воскликнул вечером Маквот, увидев, как Мило Миндербиндер протягивает ему половину его цветной простыни.
– Это половина простыни, которую украли сегодня утром из нашей палатки, – самодовольно, но немного нервно подрагивая невезучими бурыми усиками, объяснил Мило. – Могу поспорить, что вы об этом даже и не знали.
– А кому, интересно, понадобилось красть полпростыни? – спросил Йоссариан.
– Да нет, вы не поняли, – засуетился Мило Миндербиндер. Йоссариан, кроме того, не понял, почему Мило так вцепился в записку доктора Дейники, где было сказано всего лишь о выдаче ему фруктов и сока. «Настоящим предписывается, – написал доктор Дейника, – выдавать капитану Йоссариану любые фрукты и фруктовые соки в любом количестве, т. к. считается, что у него печень».
– Такое предписание, – озабоченно мямлил Мило Миндербиндер, – может разорить самую богатую столовую на земле. – Он, словно плакальщик, тащился за коробкой с утраченной провизией через всю эскадрилью, чтобы еще раз прочитать у Йоссариана в палатке предписание доктора Дейники. – Я, значит, обязан выдавать тебе любые фрукты, так? А в предписании даже не сказано, что ты должен их съедать.
– И правильно не сказано, – откликнулся Йоссариан. – Я никогда их не ем. У меня же печень.
– Ах да, печень, – уважительно понизил голос Мило Миндербиндер. – А я и забыл. Очень беспокоит?
– Достаточно, – бодро заверил его Йоссариан.
– Понятно, – сказал Мило. – И как же ты?
– А так, что надо б лучше…
– В каком смысле?
– … да было б хуже. Понимаешь?
– Понимаю, – сказал Мило Миндербиндер. – Только не совсем.
– Да ты особенно-то не беспокойся. Пусть уж она меня беспокоит, моя печень, верно? У меня, впрочем, даже и не совсем печень. У меня синдром Гарнетта – Фляйшекера.
– Понятно, – сказал Мило Миндербиндер. – И что же это за синдром?
– Да все та же печень.
– Понятно, – сказал Мило Миндербиндер и принялся массировать лоб с видом человека, которого мучает какая-то внутренняя боль и он дожидается, когда она пройдет. – В таком случае, – заключил он, – тебе, видимо, надо быть очень осторожным с едой.
– Еще бы, – подтвердил Йоссариан. – Хороший синдром Гарнетта – Фляйшекера – редчайшая штука, к нему нельзя относиться легкомысленно. Вот почему я никогда не ем фруктов.
– Теперь понятно, – сказал Мило Миндербиндер. – Фрукты вредны для твоей печени.
– Да нет, фрукты полезны для моей печени. Поэтому-то я их и не ем.
– А что же ты с ними делаешь? – спросил Мило Миндербиндер, чтобы хоть на несколько секунд отсрочить вопрос, который все сильнее жег ему язык. – Продаешь?
– Просто отдаю.
– Кому? – ломким от испуга голосом вскричал Мило Миндербиндер.
– А кому попало! – гаркнул в ответ Йоссариан.
Резко отшатнувшись, Мило Миндербиндер издал протяжный стон, и на мертвенно-бледном лице у него выступили бисеринки пота. Потом, дрожа всем телом, машинально дернул себя за невезучий ус.
– Например, Дэнбару, – сказал Йоссариан.
– Дэнбару? – тупо повторил Мило.
– Дэнбару. Ему, правда, от фруктов никакой пользы, сколько б он их ни ел. А вообще-то я просто оставляю коробку возле палатки, чтоб каждый, кто хочет, мог их брать. Аафрей, к примеру, таскается сюда за черносливом – он говорит, что в меню его почти нет. Тебе надо бы с этим разобраться, когда будет время, а то мне ведь вовсе не весело терпеть около своей палатки Аафрея. Ну и вот, а всякий раз, как коробка пустеет, капрал Снарк снова мне ее наполняет. Нетли мешками возит фрукты в Рим. Он любит там одну шлюху, которая меня терпеть не может, а его терпит. У нее есть младшая сестра, и она вечно мешает им забраться в постель, да и не только она, там целый выводок девок – даром что у каждой своя комнатенка, – а живут они все под присмотром старика со старухой, и Нетли мешками таскает им фрукты.
– Он их там продает?
– Да нет, просто раздает.
– Щедрый, видно, парень, – хмуро проговорил Мило Миндербиндер.
– Это уж точно, – согласился Йоссариан.
– И все, стало быть, вполне законно, – заметил Мило, – раз на выдачу есть оправдательный документ. А со съестным там сейчас очень туго, и они, наверно, до смерти рады, когда он привозит им столько фруктов.
– Это уж точно, – подтвердил Йоссариан. – Его шлюха продает их со своей сестрой на черном рынке, чтобы покупать себе дешевые духи и побрякушки.
– Духи и побрякушки? – насторожившись, переспросил Мило Миндербиндер. – Этого я не знал. И сколько же они платят за дешевые духи?
– Старик тоже получает свою долю – на спиртное и порнографию. Он развратник.
– Развратник?
– Вот-вот. Просто удивительно.
– А хорошо идет в Риме порнография?
– Просто удивительно. Или взять, к примеру, Аафрея. Ведь никогда не подумаешь, верно?
– Что он развратник?
– Да нет, штурман. Ты ведь капитана Аардваарка знаешь? Милый такой парень, он наверняка подходил к тебе, когда ты прибыл к нам в эскадрилью. Подошел и представился: «Штурман Аардваарк, если вам не сказали: Аардваарком назвали, в штурманы призвали». Трубка у него будто приросла к губам, и еще он, я думаю, спрашивал, в каком колледже ты учился. Припоминаешь?
Но Мило не слушал.
– Возьми меня в компаньоны! – умоляюще выпалил он.
Йоссариан отказал ему, хотя превосходно понимал, что они смогут распоряжаться, как сочтут нужным, целыми грузовиками фруктов, полученных по записке доктора Дейники из запасов офицерской столовой. Мило Миндербиндер очень горевал, но с тех пор доверял Йоссариану все свои тайны, кроме одной, мудро рассудив, что человек, отказавшийся обворовывать любимую страну, не захочет обворовывать и кого бы то ни было из ее граждан. Он доверил ему все тайны, кроме одной: не открыл, где именно расположены среди холмов его тайники, куда он начал прятать свои деньги после возвращения из Смирны с грузом инжира – ему удалось до отказа набить им самолет, – когда Йоссариан рассказал, что в госпитале объявился обэпэшник. Для Мило Миндербиндера, который по простоте душевной, как он считал, добровольно согласился стать начальником офицерской столовой, эта должность была священной.
А при первом разговоре они говорили о Снарке.
– Я и не знал, что у нас в меню почти нет чернослива, – признался Мило Миндербиндер Йоссариану, притащившись к нему в палатку, чтобы познакомиться с ним и прочитать записку доктора Дейники. – У меня еще не было времени как следует осмотреться. Но я обязательно обсужу этот вопрос с моим шеф-поваром.
– С каким таким шеф-поваром? – остро глянув на него, спросил Йоссариан. – Нету у нас в столовой шеф-повара.
– Да это я про капрала Снарка, – виновато отводя взгляд, сказал Мило Миндербиндер. – Он у нас единственный повар, а значит, он и шеф, хотя на самом-то деле мне хочется перевести его в административный отдел. Он, по-моему, слишком творчески относится к своему делу. Ему кажется, что стряпня – это искусство, и он все время разглагольствует про насилие над его талантами. А зачем нам их насиловать? Вы, кстати, не знаете, за что его разжаловали и почему он до сих пор капрал?
– Знаю, – сказал Йоссариан. – Он отравил всю эскадрилью.
– Он… что? – опять побледнев, переспросил Мило Миндербиндер.
– Да намешал в сладкий картофель солдатского мыла, – объяснил Йоссариан. – Решил однажды доказать, что у людей нет вкуса и что они, вроде филистимлян, не способны отличить хорошее от плохого. Он всех здесь чуть не уморил. Даже боевые вылеты были отменены.
– Хорош, нечего сказать! – с осуждением поджав губы, воскликнул Мило Миндербиндер. – Ну а потом-то он хоть понял, что не прав?
– Наоборот, – сказал Йоссариан, – он понял, что абсолютно прав. Мы за обе щеки уплетали его стряпню и требовали добавки. Нам всем было потом очень худо, но жрали мы с наслаждением.
– Значит, его обязательно надо перевести в административный отдел, – дернув, словно испуганный заяц, невезучими усами, проговорил Мило Миндербиндер. – Я не могу допустить, чтоб такое повторилось при мне. Я, видите ли, хочу сделать нашу столовую образцовой, – доверительно и серьезно сообщил он. – Это ведь вполне достойная цель, правда? А если у начальника офицерской столовой нет такой цели, ему лучше отказаться от этого поста. Вы согласны?
Йоссариан недоверчиво окинул собеседника пытливым взглядом, но увидел перед собой открытое и простодушное лицо человека, явно неспособного к обману или коварству, – это было по-своему честное и правдивое лицо с чуть косящими глазами, черными бровями, рыжеватой шевелюрой и невезучими бурыми усами. Мило Миндербиндер беспрестанно пошмыгивал резко свернутым набок носом, который был всегда направлен, тонкий и необычайно длинный, в противоположную взгляду сторону. Этот по-своему цельный облик соответствовал характеру Мило, решительно не способного нарушить своих устоявшихся нравственных принципов, как не способен человек по собственной прихоти превратиться в осклизлую жабу. Основываясь на своих принципах, Мило Миндербиндер считал, к примеру, грехом запрашивать в сделках меньше, чем можно сорвать. Его часто обуревали приступы нравственного негодования, и он бурно вознегодовал, узнав от Йоссариана, что за ним охотится обэпэшник.
– Да не в тебе тут вовсе дело, – успокоительно сказал ему Йоссариан. – Он охотится за цензором из госпитальных пациентов, который расписывается на досмотренных письмах как Вашингтон Ирвинг.
– Я никогда нигде не расписывался как Вашингтон Ирвинг.
– Вот именно.
– Так это просто уловка! Они хотят заставить меня признаться в махинациях на черном рынке. – Мило Миндербиндер со злостью дернул себя за всклокоченный бурый ус. – Ненавижу таких молодчиков! Всегда они травят людей вроде нас. Почему б им не прижучить Уинтергрина, если уж у них так чешутся руки творить добро? Он плюет на все инструкции и вечно сбивает мне цены.
Мило Миндербиндер никак не мог ровно подстричь свои невезучие усы. Поэтому-то они и были у него невезучие – вроде глаз, которые никогда не глядели в одно и то же время на один и тот же предмет. Вообще-то Мило видел куда больше других, но очень своеобычно. Его здорово испугал обэпэшник, зато приказ полковника Кошкарта о повышении нормы боевых вылетов до пятидесяти пяти он воспринял со спокойным мужеством.
– Ничего не поделаешь – война, – сказал он. – У нас нет права жаловаться на тяготы жизни. Если полковник считает, что пятьдесят пять вылетов – наш долг, мы должны его выполнить.
– Никому я ничего не должен, – твердо объявил Йоссариан. – Мне обязательно нужно увидеться с майором Майором.
– Как же ты с ним увидишься? Его никто никогда не видит.
– Значит, придется мне залечь в госпиталь.
– Ты ж вернулся из госпиталя всего десять дней назад, – с упреком напомнил ему Мило Миндербиндер. – Разве это дело – удирать в госпиталь, когда тебе что-нибудь не нравится? Нет, Йоссариан, лучше уж честно отлетать положенное. Ведь это наш долг.
Чуткая совесть не позволила Мило позаимствовать пакет фиников из запасов столовой, когда он хотел обменять их на украденную у Маквота простыню в день знакомства с Йоссарианом, потому что вся вверенная ему провизия была свято казенной.
– Зато я могу занять немного фиников у вас, – сказал он тогда Йоссариану, – ведь они законно выданы вам по предписанию врача. Вы вольны распоряжаться ими как вам заблагорассудится – например, выгодно продавать их, а не раздавать. Хотите, будем торговать вместе?
– Да нет, спасибо.
– Тогда дайте мне пакет фиников взаймы, – не настаивая на совместной торговле, сказал Мило. – Я отдам. Честное слово, отдам, даже с процентами.
Мило Миндербиндер пунктуально сдержал свое слово. Вернувшись под вечер с улыбчивым жуликом-сластеной, который украл у Маквота желтую простыню, он вручил Йоссариану пакет фиников, обещанный жулику, и четверть Маквотовой простыни. Четверть простыни принадлежала теперь Йоссариану. Он заработал ее – хотя и не понял, каким образом, – когда мирно спал после обеда у себя в палатке. Маквот тоже не понял.
– Это еще что? – воскликнул он, остолбенело глядя на половину своей простыни.
– Это половина простыни, которую украли сегодня утром из вашей палатки, – объяснил ему Мило Миндербиндер. – Могу поспорить, что вы об этом даже и не знали.
– А кому, интересно, понадобилось красть полпростыни? – спросил Йоссариан.
– Да вы не поняли, – засуетился Мило. – Он украл всю простыню, и я выменял ее на пакет фиников, который вы вложили в дело. И теперь на вашу долю приходится четверть простыни. Это значительная прибыль, тем более что вы и финики получили обратно. А вам, – обратился Мило Миндербиндер к Маквоту, – полагается половина простыни, как бывшему владельцу целой, и я не понимаю, на что вы жалуетесь, ведь, если б мы с Йоссарианом не позаботились в этом деле о ваших интересах, вы и вовсе ничего бы не получили.
– Да я не жалуюсь, – отозвался Маквот. – Я просто не могу сообразить, что мне делать с половиной простыни.
– О, с ней много кой-чего можно сделать, – заверил его Мило Миндербиндер. – Четверть простыни я выделил в уплату за мою инициативу, находчивость и работу. Не для собственного обогащения, а на торговую фирму. Вот и вы могли бы вложить половину вашей простыни в торговую фирму. На ее дальнейшее расширение.
– Какую еще торговую фирму?
– Торговую фирму, которую я собираюсь учредить, чтобы обеспечивать вас всех достойным питанием.
– Вы хотите учредить торговую фирму?
– Совершенно верно. Или, еще вернее, не торговую фирму, а торжище. Вы знаете, что такое торжище?
– Это место, где покупают?
– И продают, – поправил его Мило Миндербиндер.
– И продают, – послушно повторил Маквот.
– Я всю жизнь мечтал о хорошем торжище. Торжище открывает перед человеком величайшие возможности. Но его нужно с чего-то начать.
– Вам нужно торжище?
– Торжище нужно всем, – сказал Мило Миндербиндер, – чтобы каждый получал свою долю.
Разговор пошел о предпринимательстве, и Йоссариан почти перестал его понимать, потому что почти ничего не понимал в предпринимательстве.
– Давайте я вам снова все объясню, – утомленно и с легким раздражением проговорил Мило Миндербиндер. – Мне было известно, что финики ему нужнее, чем простыня. – Мило ткнул большим пальцем в сторону жулика-сластены, который по-прежнему стоял с ним рядом и улыбался. – Но английского он не знает, а я вел дело на английском…
– Да его бы просто треснуть за воровство по башке, отобрать простыню, вот и все дело, – сказал Йоссариан.
– Это было бы насилие, – с достоинством поджав губы, отверг такой выход Мило Миндербиндер. – Насилие, как и воровство, – это зло, а от удвоенного зла добра не жди. Мой метод гораздо лучше. Когда я протянул ему финики и потянулся за простыней, он, возможно, подумал, что ему предлагают сделку.
– А что вы предлагали?
– Сделку и предлагал, да английского-то он не знает и доказать ничего не сможет.
– Ну а если он разозлится и все же потребует совершить сделку?
– Тогда мы просто треснем его по башке, – не задумываясь ответил Мило Миндербиндер, – вот и вся сделка. – Он перевел взгляд с Йоссариана на Маквота и обратно. – Ума не приложу, чем вы, собственно, недовольны. Ведь в барышах-то каждый из нас, кроме этого ворюги, а он даже человеческого языка не знает и вообще получил по заслугам, так чего о нем беспокоиться? Разве непонятно?
Но Йоссариану было непонятно еще и другое: как Мило Миндербиндер ухитрялся оставаться в барышах, покупая яйца на Мальте по семь центов за штуку и продавая на Пьяносе по пять.
Глава восьмая
Лейтенант Шайскопф
Даже Клевинджер не мог этого понять, а Клевинджер понимал и знал решительно все. Он знал все обо всем, включая войну, кроме ответа на вопрос, почему Йоссариану уготована смерть, а капралу Снарку – жизнь или почему Йоссариану уготована жизнь, а капралу Снарку – смерть. Это была дьявольская, чудовищная война, и Йоссариан прекрасно жил бы себе да жил без нее – может быть, целую вечность. Далеко не всем его соотечественникам суждено было умереть ради победы, и он вовсе не рвался разделить героическую судьбу погибших. Жить иль не жить – вот был вопрос, и Клевинджер чуть не свихнулся, пытаясь на него ответить. Безвременная смерть Йоссариана не изменила бы ход истории, а значит, для победы над врагом, торжества справедливости и дальнейшего прогресса вовсе не требовалось, чтобы он скоропостижно отправился на тот свет. Смерть, конечно, была необходимостью, но не случайная же смерть, и Йоссариану отчаянно не хотелось стать жертвой случайности. А разве на войне застрахуешься от смертельного случая? И только дети, избавленные от пагубного влияния родителей, да хорошие заработки отчасти примиряли Йоссариана с войной.
Что же до Клевинджера, то это был гений с пламенным сердцем и бледным лицом, вот почему он знал решительно все. Долговязый, нескладный и вечно взволнованный юнец с лихорадочными от жажды знаний глазами, он шел в Гарварде одним из первых учеников и не стал просто первым, причем по всем дисциплинам, потому что беспрерывно подписывал, распространял и опровергал студенческие воззвания, вступал в дискуссионные группы и выступал на конгрессах молодежи, выходил из дискуссионных групп и ходил пикетировать конгрессы молодежи, а остальное время тратил на создание комитетов для защиты уволенных преподавателей. Никто не сомневался, что его ждет блистательная университетская карьера. Короче, он был широко образованным и глубоко безмозглым, о чем знали все, кроме тех, кому это предстояло вскоре узнать.
А еще короче – олух. Он часто напоминал Йоссариану оголтелых интеллектуалов с обоими глазами на одной стороне лица от постоянной беготни по музеям современного искусства. Йоссариан поддавался этой иллюзии – воспринимал Клевинджера однобокозрячим из-за его неспособности посмотреть на что-нибудь хотя бы с двух разных сторон: Клевинджер неизменно видел только одну. В политике он придерживался строго либеральных взглядов и опасался сделать даже крохотный шажок вправо или влево, отвергая любые крайности. Он беспрестанно защищал своих левых друзей от правых врагов и правых друзей от левых врагов, а те в свою очередь никогда его не защищали, считая с единодушным презрением, что он просто олух.
Это был очень серьезный, очень искренний и очень добросовестный олух. После любого кинофильма он непременно пускался в рассуждения об Аристотеле и универсалиях, о сочувствии и сопереживании, о возможностях, правах и обязанностях кино, как вида искусства, в материалистическом обществе. Девушкам, с которыми он ходил в театр, нужно было дождаться первого антракта, чтобы узнать, хороший они смотрят спектакль или плохой, а уж в антракте они мигом начинали все понимать. Его воинствующему идеализму до обмороков претил расизм. Про литературу он знал все, кроме одного – как получать от нее удовольствие.
Став его соучеником по летному училищу в калифорнийском городке Санта-Анна, Йоссариан пытался ему помочь.
– Да не будь же ты олухом, – предостерегал Клевинджера Йоссариан, сидя рядом с ним на трибунах учебного плаца и наблюдая за Шайскопфом, который метался внизу, словно безбородый король Лир.
– Нет уж, я скажу ему, – уперся Клевинджер.
– За что? – взывал к небу Шайскопф.
– Не умничай, балбес, – отечески посоветовал Клевинджеру Йоссариан.
– Ничего-то ты не понимаешь, – упрямо отозвался Клевинджер.
– Зато знаю, что бывает с умниками, – сказал Йоссариан.
Лейтенант Шайскопф рвал на себе волосы и скрипел зубами. Его каучуковые щеки страдальчески содрогались. Ему отравляли жизнь безнравственные курсанты его авиароты, не желавшие как следует маршировать на строевых смотрах, которые происходили у них в училище каждое воскресенье. Курсанты были безнравственные, потому что не желали как следует маршировать и протестовали, когда лейтенант Шайскопф не разрешал им выбирать командиров из своей среды, а назначал их сам.
– Пусть мне кто-нибудь скажет! – умолял Шайскопф. – Если это моя вина, то вы обязательно должны мне сказать!
– Он хочет, чтоб ему сказали, – пуще прежнего взбодрился Клевинджер.
– Он хочет, чтоб никто не умничал, – отрезал Йоссариан.
– Да ты что – не слышишь? – запротестовал Клевинджер.
– Я-то слышу, – сказал Йоссариан. – А ты вот, похоже, не слышал, как он тысячу раз говорил нам, чтоб мы не умничали, если хотим спокойно жить.
– Я никого не накажу, – клялся Шайскопф.
– Он никого не накажет, – сказал Клевинджер.
– Он оторвет тебе уши, – сказал Йоссариан.
– Я никого не накажу, – клялся Шайскопф. – Я буду благодарен вам по гроб жизни, если вы откроете мне правду, клянусь!
– Он будет благодарен, – сказал Клевинджер.
– Он будет ненавидеть тебя по гроб жизни, – сказал Йоссариан. – Пока не загнется.
Лейтенант Шайскопф кончил в свое время курсы по подготовке офицеров запаса и приветствовал войну, потому что она дала ему возможность облачаться ежедневно в офицерскую форму и отрывисто, мужественно вылаивать «Бойцы!» молодым парням, попавшим на восемь недель к нему в лапы перед отправкой на бойню. Это был лишенный чувства юмора, тщеславный лейтенант, который выполнял свои обязанности истово и серьезно, а улыбался, только узнав, что какой-нибудь его соперник из офицеров училища свалился в тяжкой болезни. Война казалась ему особенно волнующей, потому что близорукость и хронический гайморит гарантировали ему до поры до времени службу в тылу. Из всех его особенностей самой лучшей была жена, а из всех особенностей жены самой лучшей была ее подруга Дори Даме, которая соглашалась, когда могла – а могла почти всегда, – и по первой просьбе одалживала свою униформу Женского вспомогательного батальона жене лейтенанта Шайскопфа, снимавшей ее по первой просьбе любого курсанта из роты своего мужа в любую субботу.
Дори Даме, девица в хаки с золотистой головкой, особенно охотно соглашалась на автобусных остановках и в телефонных будках или загородных сараюшках. Она многое испробовала и ничего не отвергала. Она была бесстыдной, ладной, девятнадцатилетней и боевитой. Десятки мужчин теряли из-за нее самоуважение и начинали себя презирать, вспоминая, как она подцепила их, взвалила на себя и бросила. Йоссариан любил ее. Она была очаровательной кошечкой и равнодушно сказала ему, согласившись всего один раз, что он «ничего». Страдая по ней, он с нетерпением смотрел, как жена лейтенанта Шайскопфа снимает для него по субботам ее униформу, и мстил таким образом Шайскопфу за Клевинджера, который страдал от мстительности Шайскопфа.
А жена лейтенанта Шайскопфа мстила мужу за его давнее преступление, которого не могла забыть, хотя не помнила, что и как он преступил. Розовая, томная и начитанная, она упрекала Йоссариана за его пошловатый, по ее мнению, выговор, а с книгой не расставалась даже в постели, когда на ней был только солдатский браслет Дори Даме и Йоссариан. Он слегка утомлялся от нее, но все же любил. Кончая Управленческий колледж, она, по безумию своему, специализировалась на математике и теперь ежемесячно ошибалась, не в силах правильно сосчитать до двадцати восьми.
– А знаешь, милый, у нас будет ребеночек, – говорила она каждый месяц Йоссариану.
– Совсем опсихела, – отзывался он.
– Да нет, я серьезно, – говорила она.
– Я тоже, – отзывался он.
– А знаешь, милый, у нас будет ребеночек, – говорила она мужу.
– Это с чего бы это? – ворчливо отзывался он. – На строевом смотру ребенка не сделаешь. А вот строевой смотр у нас будет.
Лейтенант Шайскопф жаждал отличиться на строевом смотру и обвинить курсанта Клевинджера в подстрекательстве к свержению назначенных Шайскопфом командиров, разобрав его поведение на заседании Дисциплинарного трибунала. Клевинджер был возмутитель спокойствия и грамотей. Лейтенант Шайскопф понимал, что за ним нужен глаз да глаз. Сегодня он баламутит училище, а завтра, глядишь, взбаламутит весь мир. Клевинджер был разгильдяй и грамотей, а лейтенант Шайскопф не раз замечал, что такие люди становятся иногда опаснейшими умниками. От них можно ждать чего угодно. Даже курсанты, выбранные по наущению Клевинджера командирами, дали бы против него веские показания. Дело прекрасно слаживалось. Оставалось только найти, в чем его обвинить.
Со строевой подготовкой к нему придраться было невозможно, потому что он воспринимал смотры почти так же серьезно, как сам лейтенант Шайскопф. Каждое воскресенье курсанты сонно выползали после обеда из бараков и строились в шеренги по двенадцать человек. Покряхтывая с похмелья, они спотыкливо маршировали к парадному плацу и, заняв там свое обычное место среди шестидесяти или семидесяти других курсантских рот, неподвижно стояли по часу, а то и по два на послеполуденной жаре, пока в обморок не грохалось достаточно людей, чтобы день мог именоваться полновесно учебным. Сбоку вдоль плаца выстраивались машины «Скорой помощи», из них вылезали санитары с носилками и портативными рациями, а на крышах машин располагались наблюдатели с биноклями. Училищный писарь отмечал количество обмороков, а заправлял первым этапом смотра офицер-медик со склонностью к бухгалтерскому учету. Он считал удары пульсов и проверял подсчеты писаря. Когда машины «Скорой помощи» заполнялись, медик давал знак дирижеру оркестра, тот начинал марш, и строевой смотр быстро завершался. Роты курсантов маршировали вдоль трибун, делали неуклюжий поворот кругом и тащились обратно в казармы.
А когда они проходили мимо трибун, их строевую выучку оценивали офицеры училища во главе с обрюзгшим усастым полковником. Лучшей роте каждого полка вручалось никому не нужное желтое знамя на деревянном древке. Лучшей роте училища вручалось никому не нужное бордовое знамя на очень длинном деревянном древке, и таскать его, из-за длинного древка, было еще муторней, чем желтое, а таскать приходилось всю неделю, до следующего воскресенья, пока знамя не доставалось очередной лучшей роте училища. Йоссариан считал такие награды сущей бессмыслицей. Денег они не приносили, привилегий тоже. Он мог сравнить их только с олимпийскими медалями и трофеями теннисных турниров, которые увенчивали награжденных дурацкой славой лучших мастеров никому не нужного дела.
Да и сами смотры представлялись ему откровенной бессмыслицей. Он их ненавидел. Они были до омерзения военными. Он ненавидел их музыку и топот, с ненавистью смотрел на них и с ненавистью принимал в них участие – поневоле. Ему была ненавистна судьба курсанта авиароты даже и без солдатской строевой муштры на убийственном солнцепеке. Ему была ненавистна судьба курсанта авиароты, потому что война, вопреки его ожиданиям, не желала кончаться к завершению его учебы. А он стал курсантом только в надежде на это. Новобранец, согласившийся стать авиакурсантом, неделями и неделями ждал, пока освободится место в авиароте, потом неделями и неделями учился, а потом еще неделями и неделями проходил оперативную подготовку, прежде чем его отправляли за океан. Поначалу Йоссариан не мог себе представить, что война продлится так долго, ведь Бог, как ему говорили, был на его стороне и направлял жизнь, как ему опять же говорили, по своему произволению, однако учеба Йоссариана подходила к концу, а конца войне не предвиделось.
Между тем лейтенант Шайскопф жаждал отличиться на строевом смотру и просиживал до глубокой ночи за теоретическими изысканиями, а жена пылко дожидалась его в постели, перечитывая на досуге любимые места из книги Крафта-Эбинга о половых извращениях, пока лейтенант Шайскопф пылко изучал строевые уставы. Сначала он манипулировал шоколадными солдатиками, но они быстро истаивали в его горячих ладонях, и он заказал по почте на вымышленное имя комплект пластмассовых ковбоев, чтобы расставлять их ночами в шеренги по двенадцать и прятать на рассвете от посторонних взглядов под замок. Анатомические исследования Леонардо он читал постоянно. А однажды почувствовал необходимость в живой модели и приказал жене пройтись по комнате строевым шагом.
– Голенькой? – с надеждой спросила она.
Лейтенант Шайскопф гневно прикрыл ладонями глаза. Это было тяжкое испытание для лейтенанта Шайскопфа – жена, которая думала только о своих похотливых прихотях, не замечая титанической борьбы мужа за недостижимый идеал, извечно привлекающий доблестных и благородных мужей.
– Почему ты никогда меня не выпорешь? – кокетливо надув губки, спрашивала его она.
– Это с чего бы это? – ворчливо отзывался он. – Мне некогда, понимаешь? У меня строевой смотр на носу.
И ему действительно было некогда. Наступало очередное воскресенье, и у него оставалось только семь дней для подготовки к следующему строевому смотру. Он просто не мог понять, куда уходит время. Три раза подряд его рота занимала на смотре последнее место, и, удрученный дурной славой своих курсантов, которая бросала тень и на него, он обдумывал самые фантастические способы прорваться к победе – вплоть до приколачивания каждой шеренги из двенадцати человек к длинному дубовому брусу, чтобы курсанты надежно держали строй. Но для этого нужно было раздобыть никелевые медицинские вертлюги, без которых приколоченные к брусу курсанты не смогли бы сделать поворот кругом, а лейтенант Шайскопф сомневался, что начальник снабжения или хирурги из госпиталя согласятся выделить ему нужное количество никелевых вертлюгов.
Но однажды, последовав совету Клевинджера, лейтенант Шайскопф разрешил курсантам самим выбрать себе командиров, и через неделю авиарота выиграла желтое знамя. Лейтенант Шайскопф так взбодрился от этого нежданного успеха, что хряпнул супругу по башке древком полученного знамени, когда она попыталась затащить его ночью в постель, чтобы отпраздновать победу демонстрацией презрения к сексуальному пуританству мелких буржуа. В следующее воскресенье авиарота выиграла на смотре бордовое знамя, и лейтенант Шайскопф был вне себя от восторга. А еще через неделю его авиарота вписала небывалую страницу в историю училища, снова выиграв бордовое знамя, второй раз подряд. Теперь лейтенант Шайскопф так уверовал в собственные возможности, что решился на показ своего великого новшества. Он открыл в ночных изысканиях, что человеку на марше не следует свободно размахивать руками, как это было принято раньше, а надобно отводить их вперед и назад от середины бедра не больше чем на три дюйма, то есть практически не размахивать руками вовсе.
Лейтенант Шайскопф готовился к демонстрации упорно и тайно. Все курсанты были приведены к присяге молчания и занимались строевой подготовкой только по ночам. Они выходили на учебный плац и маршировали в непроглядной тьме, поминутно натыкаясь друг на друга, но сохраняя спокойствие, и вскоре научились ходить в ногу, чтобы не наступать друг другу на пятки, и не махать руками, чтобы не выбивать друг другу глаза. Сначала лейтенант Шайскопф думал заказать у своего друга кровельщика никелевые штыри, вбить их каждому курсанту в тазобедренные кости и подвижно прикрепить к ним запястья медной проволокой трехдюймовой длины, но на это не хватило времени – его всегда не хватало, – да и разжиться во время войны добротной медной проволокой было нелегко. Он, впрочем, отказался от этой мысли еще и потому, что скованные таким образом курсанты не могли бы эффектно грохаться в обморок на первой стадии смотра, снижая тем самым у начальства общее впечатление от своей безупречной строевой выучки.
Сидя днем в офицерском клубе, он всю неделю самодовольно ухмылялся. Его ближайшие друзья сгорали от любопытства.
– Хотел бы я знать, что затевает наш Дерьмокумпол, – рассуждал лейтенант Энгл.
– В воскресенье узнаете, – говорил им с таинственной ухмылкой лейтенант Шайскопф. – Да-да, вы у меня узнаете.
Настало воскресенье, и лейтенант Шайскопф явил изумленным коллегам свое новшество с виртуозным мастерством профессионального импресарио. Он спокойно смотрел, ни слова не говоря, как мимо трибун расхлябанно и рутинно маршируют роты его соперников. Он ничего не сказал, даже когда под испуганные возгласы встревоженных коллег мимо трибун прошли первые шеренги его курсантов со свисающими по швам, будто полудохлые змеи, руками. Он молчал, пока обрюзгший усастый полковник не повернул к нему побагровевшее от ярости лицо, и только тогда произнес фразу, которая сделала его бессмертным.
– Как видите, никакой расхлябанности, полковник, – сказал он.
И вручил благоговейно замершим коллегам несколько должным образом заверенных фотокопий малоизвестной инструкции, которая послужила основой для его незабываемого триумфа. Это был звездный час лейтенанта Шайскопфа. Ему безоговорочно присудили первое место и навечно вручили переходящее бордовое знамя, положив конец воскресным строевым смотрам, потому что бордовое знамя так же трудно достать во время войны, как добротную медную проволоку. Лейтенанту Шайскопфу присвоили не сходя с места звание старшего лейтенанта, и с тех пор он стремительно пошел в гору. Мало кто из коллег сомневался теперь в его воинской гениальности.
– Да, у лейтенанта Шайскопфа мудрая голова, – заметил однажды лейтенант Треверс. – Военный гений, иначе не скажешь.
– Гений-то он, конечно, гений, – согласился лейтенант Энгл. – Жаль только, что этот хмырь не желает хорошенько выдрать свою жену.
– Не вижу тут никакой связи, – холодно сказал лейтенант Треверс. – Лейтенант Бемис регулярно дерет свою жену, а курсанты маршируют у него как мокрые курицы.
– Ну и что? – отозвался лейтенант Энгл. – Кому она нужна, твоя маршировка?
На самом деле она никому не была нужна, кроме лейтенанта Шайскопфа, а меньше всех других – обрюзгшему усастому полковнику, который был председателем Дисциплинарного трибунала и накинулся с грозным рыком на Клевинджера, как только тот вошел робкими шагами в комнату, чтобы опровергнуть обвинения, возводимые на него лейтенантом Шайскопфом. Полковник стукнул кулаком по столу и, больно ударившись, так разозлился на Клевинджера, что стукнул по столу еще сильней – и разъярился еще больше. Лейтенант Шайскопф поджал губы и окинул Клевинджера суровым взглядом, но, заметив и без того суровую ярость полковника, немного смягчился.
– Через два месяца вы отправитесь бить макаронников! – прорычал обрюзгший усастый полковник. – А вам, значит, все это вроде шуточек с усиками, да?
– Никак нет, сэр, для меня это вовсе не шуточки.
– А вы не перебивайте!
– Слушаюсь, сэр.
– И не забывайте «сэр», когда перебиваете, – вставил майор Меткаф.
– Слушаюсь, сэр.
– Вам приказано не перебивать? – холодно осведомился майор Меткаф.
– Да я же не перебиваю! – запротестовал Клевинджер.
– И не говорите «сэр». Приплюсуйте к его обвинениям, – скомандовал майор Меткаф капралу, который умел стенографировать. – Неперебивание без обращения «сэр».
– Меткаф, – сказал полковник, – вам известно, что вы болван?
– Так точно, сэр, – с трудом выдавил из себя майор Меткаф.
– А тогда помалкивайте. Чтоб я больше не слышал вашей треклятой околесины.
В состав Дисциплинарного трибунала входило три человека – обрюзгший усастый полковник, лейтенант Шайскопф и майор Меткаф, озабоченный выработкой стального взгляда. Как член трибунала, лейтенант Шайскопф должен был оценить весомость обвинений, выдвинутых против курсанта Клевинджера. Обвинения против курсанта Клевинджера выдвинул лейтенант Шайскопф. Курсант Клевинджер имел право на защиту. Обязанности защитника в Дисциплинарном трибунале исполнял лейтенант Шайскопф.
У Клевинджера от всего этого голова пошла кругом, и он испуганно трясся, слушая полковника, который вдруг вскочил, словно гигантский огненный смерч, со стула и прорычал, что повыдерет у него, труса вонючего, руки и ноги, откуда они, зараза, растут. Однажды Клевинджер споткнулся в строю, и теперь его судили «за самовольный выход из строя, преступные умыслы, оскорбительные вылазки, провокационные выпады, изменнические замыслы, безответственную пропаганду классической музыки, подрывные высказывания умника» и т. д. и т. п. Иными словами, Клевинджер обвинялся по всем статьям армейских законов, и он с ужасом слушал полковника, который прорычал еще раз, что через два месяца его ждут бои с макаронниками, а потом едко поинтересовался, как ему понравится, если его отчислят из училища и пошлют на Соломоновы острова хоронить мертвецов. Клевинджер почтительно ответил, что никак не понравится: будучи олухом, он предпочел стать потенциальным трупом, а не могильщиком. Внезапно успокоившись, полковник сел и неторопливо, с вкрадчивой вежливостью спросил:
– Так позвольте узнать: на каком основании вы утверждали, что мы не сможем вас наказать?
– Когда, сэр?
– Тут я задаю вопросы. А вы извольте отвечать.
– Слушаюсь, сэр. Мне…
– Или, по-вашему, вас вызвали сюда, чтоб вы задавали вопросы, а я отвечал?
– Никак нет, сэр. Мне…
– Так зачем вас сюда вызвали?
– Отвечать на вопросы.
– Именно, умник! – опять зарычал полковник. – Вот и отвечайте, да отвечайте порасторопней, чтоб я не размозжил, так ее перетак, вашу треклятую башку! На каком основании, грамотейское отродье, вы утверждали, умник вонючий, что мы не сможем вас наказать?
– Мне никогда…
– А погромче можно? Я ничего не слышу.
– Слушаюсь, сэр. Мне…
– А погромче можно? Он ничего не слышит.
– Слушаюсь, мэр. Мне…
– Меткаф!
– Слушаю, сэр.
– Вам было сказано помалкивать?
– Так точно, сэр.
– Вот и помалкивайте, когда вам сказано помалкивать. Ясно? Так можно погромче? Я ничего не слышу.
– Слушаюсь, сэр. Мне…
– Меткаф, это ваша нога? На которую я наступил?
– Никак нет, сэр. Это, наверно, лейтенанта Шайскопфа.
– Это вовсе не моя нога, – сказал лейтенант Шайскопф.
– Стало быть, все же моя, – решил майор Меткаф.
– Так уберите ее.
– Слушаюсь, сэр. Только сначала вам придется убрать свою. А то она стоит на моей.
– Вы предлагаете мне убрать ногу?
– Что вы, сэр! Никак нет, сэр!
– Тогда убирайте вашу и помалкивайте. Чтоб никакой мне тут околесины. Ясно? Так можно погромче? Я ничего не слышу.
– Слушаюсь, сэр. Мне никогда не приходило в голову утверждать, что вы не сможете меня наказать.
– Это про что же вы толкуете?
– Я просто отвечаю, сэр. Отвечаю на ваш вопрос.
– Что еще за вопрос?
– «Так на каком основании, грамотейское отродье, вы утверждали, умник вонючий, что мы не сможем вас наказать?» – прочитал свою запись капрал, который умел стенографировать.
– Ну ладно, – сказал полковник. – Так на каком таком растреклятом основании?
– У меня не было таких оснований, сэр.
– Когда?
– Что «когда», сэр?
– Опять вы задаете вопросы.
– Виноват, сэр. Я просто не понял, сэр.
– Когда у вас не было оснований? Теперь поняли?
– Никак нет, сэр. Не понял.
– Это вы уже говорили. А теперь отвечайте.
– Да как же я отвечу, сэр?
– Опять вопрос.
– Виноват, сэр. У меня никогда не было оснований.
– На что?
– Ни на что, сэр.
– Так-то лучше, мистер Клевинджер, – удовлетворенно сказал полковник. – Даром что это прямая ложь. Не далее как вчера вечером вы шептали в сортире, что мы не сможем вас наказать. Значит, вы считали, что основания-то у вас есть, тем более что этот грязный сукин сын, которого мы не одобряем… этот, как его…
– Йоссариан, – подсказал лейтенант Шайскопф.
– Вот-вот, Йоссариан. Теперь вспомнил… Йоссариан? Это что еще за фамилия такая – Йоссариан?
– Это у него такая фамилия, сэр, – всегда готовый ответить полковнику, пояснил лейтенант Шайскопф.
– Ладно, пусть фамилия. Так на каком основании вы нашептывали Йоссариану, что мы не сможем вас наказать?
– Виноват, сэр, но я же говорил Йоссариану совсем не то. Я говорил, что вы не сможете меня обвинить…
– Может, я, конечно, дурак, – перебил его полковник, – но мне что-то не видно разницы. Конечно же, я полный дурак – потому что не вижу разницы, да и все тут!
– М…
– А вы, значит, растреклятое грамотейское трепло, верно? У вас ведь никто не просит разъяснений, а вам, значит, не терпится. Я сказал, что сказал, а разъяснений у вас не просил. И вы, значит, позорное грамотейское трепло, так?
– Никак нет, сэр.
– Нет, сэр? Значит, трепло-то я?
– Что вы, сэр! Никак нет, сэр!
– А раз нет, значит, вы позорное трепло, верно?
– Никак нет, сэр.
– Вам что – хочется меня завести?
– Никак нет, сэр.
– Так трепло вы или нет?
– Никак нет, сэр.
– Значит, хочется. Ну так я перепрыгну сейчас через этот здоровенный вонючий стол и повыдергаю вам, трусу вонючему, руки и ноги, откуда они, зараза, растут!
– Повыдергайте, сэр! Обязательно повыдергайте! – подхватил майор Меткаф.
– Да и вы тоже трепло вонючее! – рявкнул на Меткафа полковник. – Говорил я вам, трусу дерьмовому, чтоб вы помалкивали, болван позорный?
– Так точно, сэр. Виноват, сэр.
– Вот и помалкивайте.
– Да я же именно и учусь помалкивать, сэр. Без ученья любое дело не дело, а мученье.
– Это кто так говорит?
– Все так говорят, сэр. Даже лейтенант Шайскопф.
– Вы так говорите, Шайскопф?
– Так точно, сэр, говорю. Да и все говорят.
– Ладно, Меткаф, надеюсь, вы научитесь помалкивать, если будете как следует учиться. Так на чем мы остановились? Прочитайте-ка мне последнюю фразу.
– «Прочитайте-ка мне последнюю фразу», – тотчас прочитал капрал, который умел стенографировать.
– Да, не мою последнюю фразу, болван! – заорал полковник.
– «Прочитайте-ка мне последнюю фразу», – тотчас прочитал капрал.
– Это моя последняя фраза! – взвыл полковник с побагровевшим от злости лицом.
– Никак нет, сэр, – поправил его капрал. – Это моя последняя фраза. Я вам только что ее сказал. Припоминаете, сэр? Пятнадцать секунд назад.
– Ох ты ж распрогоссссподи Иисусе Христе! Да прочитайте мне его последнюю фразу, болван! И назовите, кстати, свою вонючую фамилию, будь она неладна.
– Попинджей, сэр.
– Следующий вы, Попинджей. Этот разбор закончим и начнем ваш. Ясно?
– Так точно, сэр! А в чем меня будут обвинять?
– А какая, к дьяволу, разница, Попинджей? Вы слышали про ученье? Вот мы вас и научим – разберемся с Клевинджером и научим. Курсант Клевинджер, на каком… Вы ведь курсант Клевинджер, а не Попинджей?
– Так точно, сэр.
– Прекрасно. Так на каком…
– Попинджей – это я, сэр.
– Понятно, Попинджей. И вы, значит, сын миллионера, так? Или сенатора?
– Никак нет, сэр.
– Ну, тогда вы крепко вляпались, Попинджей. А может, ваш отец генерал или важный чин в Белом доме?
– Никак нет, сэр.
– Превосходно, Попинджей. Так чем занимается ваш отец?
– Он умер, сэр.
– Замечательно, Попинджей. Считайте, что вы вляпались по самую макушку, вам и с лопатой теперь не выбраться, ясно? А почему вы, кстати, Попинджей? Что это еще за фамилия такая – Попинджей? Вот уж не одобряю.
– Это у него такая фамилия, сэр, – объяснил полковнику лейтенант Шайскопф.
– Ладно, Попинджей, я еще повыдергаю вам, трус вонючий, руки и ноги, откуда они, зараза, растут, дайте только срок. Ну, Клевинджер, отвечайте ясно и коротко: что вы говорили или не говорили в сортире Йоссариану, и на каком основании?
– Слушаюсь, сэр. Я сказал, что вы не сможете меня обвинить…
– Ну что ж, начнем отсюда. Итак, на каком основании вы утверждали, что мы не сможем вас обвинить?
– Я не утверждал, что вы не сможете меня обвинить, сэр.
– Когда?
– Что «когда», сэр?
– Вы снова решили меня допрашивать?
– Никак нет, сэр. Виноват, сэр.
– Тогда отвечайте на вопрос. Когда вы не утверждали, что мы не сможем вас обвинить?
– Вчера поздно вечером в сортире, сэр.
– Это был единственный раз, когда вы так не утверждали?
– Никак нет, сэр. Я никогда этого не утверждал. А в сортире я просто сказал Йоссариану…
– Никто вас пока не спрашивает, что вы сказали Йоссариану. Мы спрашиваем, чего вы ему не говорили. Нас пока не интересует, что вы сказали, ясно?
– Так точно, сэр.
– А теперь пойдем дальше. Так что вы сказали Йоссариану?
– Я сказал ему, сэр, что вы не сможете признать меня виновным в тех преступлениях, которые на меня возводятся, и остаться верным делу…
– Какому еще делу? Вы очень мямлите.
– Не мямлите!
– Слушаюсь.
– И не забывайте «сэр», когда мямлите.
– Да помалкивайте же, Меткаф! А вы продолжайте.
– Слушаюсь, сэр, – промямлил Клевинджер. – Делу справедливости, сэр. Что вы не сможете…
– Справедливости? – изумленно переспросил полковник. – А что такое справедливость?
– Справедливость, сэр, это…
– Нет, Клевинджер, справедливость вовсе не это, – насмешливо сказал полковник и принялся стучать по столу в такт своим словам обрюзгшей ладонью. – Я тебе сейчас растолкую, что такое справедливость, сосунок. Справедливость – это молча коленом в пах, под покровом ночи с финкой на склад, где хранятся боеприпасы, снизу в челюсть и по башке нежданно, втихую. Удавить, чтобы победить. Справедливость сейчас – это жестокость и стойкость, которые помогают нам бить макаронников. Стрельба с бедра в любого врага. Понял, молокосос?
– Никак нет, сэр.
– А ты меня не сэрь!
– И добавляйте «сэр», когда не сэрите, – распорядился майор Меткаф.
Клевинджер был, разумеется, виновен, иначе ему не предъявили бы обвинений, а доказать это можно было, только признав его виновным, что судьи и сделали во исполнение своего патриотического долга. Ему определили меру наказания в пятьдесят семь штрафных маршей с полной выкладкой. Попинджея посадили для острастки под арест. А майора Меткафа отправили на Соломоновы острова хоронить мертвецов. И вот Клевинджер маршировал каждую субботу по пятьдесят минут перед зданием военной полиции, ощущая, что винтовка у него на плече наливается многотонной тяжестью.
Голова у него от всего этого шла кругом. Он видел много странного, но самой странной была для него ненависть – непреклонная, откровенная, остервенелая ненависть, неугасимо мерцавшая в узких, словно прорезь прицела, глазах его судей на глянцевито застывших, как маски мстительной злобы, лицах. Это открытие ошеломило Клевинджера. Им хотелось его растерзать. Трое вполне взрослых людей так ненавидели молодого парня, что желали ему смерти. Их ненависть воспламенилась еще до его появления в училище, полыхала, пока он учился, и не угасла с его отъездом – они люто лелеяли ее, будто заветную драгоценность, и сообща, и поодиночке.
Накануне суда Йоссариан всячески его предостерегал.
– Ты обречен, парень, – сказал он. – Они ненавидят евреев.
– Так я-то не еврей, – удостоверил Клевинджер.
– А это неважно, – предрек Йоссариан – и оказался прав. – Им все люди поперек горла.
От их ненависти хотелось отпрянуть, как от слепящей тьмы. Эти трое носили ту же форму, что и Клевинджер, говорили на его языке, жили там же, где он, однако, вглядевшись в их безжалостные лица, сведенные судорогой непреложной враждебности, он внезапно понял, что нигде на свете – ни во вражеских танках, подлодках и самолетах, ни в укрытиях за пулеметными щитками или у артиллерийских орудий, ни среди знаменитых зенитчиков из дивизии Германа Геринга, ни в мюнхенских пивных, где собираются за кружкой пива поганые потатчики фашизма, – словом, нигде в мире не найдутся люди, которые будут ненавидеть его сильнее, чем эти.
Глава девятая
Майор Майор Майор Майор
Майор Майор Майор Майор появился на свет с великим трудом.
Подобно Миниверу Чиви из стихотворения Робинсона, тосковавшему по минувшей эпохе, он родился слишком поздно – ровно на тридцать шесть часов позже, чем могла выдержать, без ущерба для здоровья, его матушка, кроткая и хворая женщина, настолько изможденная полуторасуточными родовыми муками, что у нее пропала всякая охота продолжать давний спор со своим мужем об имени нового младенца. А ее муж вышел в коридор с безулыбчивой решимостью человека, который точно знает, чего он хочет. Худой и долговязый, в массивных кожаных башмаках и плотном черном костюме, твердыми шагами приблизился он к дежурной сестре, недрогнувшей рукой заполнил свидетельство о рождении и с каменным лицом протянул ей заполненный бланк. Та молча взяла его и деловито ушла. Глядя ей вслед, он раздумчиво соображал, что у нее надето под халатом.
Когда он вернулся в палату, его жена обессиленно лежала под одеялом, похожая на дряблую репу – осунувшаяся, сморщенная, бесцветная, – и ее блеклое лицо казалось совершенно безжизненным. Она лежала возле внешней стены, у окошка с треснувшим, тусклым от въевшейся пыли стеклом. День был холодный и сумеречный, мутное небо истекало дождем. В других палатах белые как мел пациенты со старчески голубыми губами умирали без всяких проволочек. Отец новорожденного, прямой и мосластый, долго смотрел, стоя возле кровати, на свою жену.
– Я назвал мальчика Калебом, – помолчав, объявил он. – Твое желание исполнено. – Роженица не откликнулась, и он неспешно усмехнулся. Все у него было рассчитано до тонкости, ибо лежавшая в убогой палате женщина уже уснула и не узнала, что он ее обманул.
Столь бесславное начало породило в конце концов никудышного командира эскадрильи, который проводил большую часть своего рабочего дня на Пьяносе, подписывая официальные документы именем Вашингтона Ирвинга. Майор Майор предусмотрительно расписывался как Вашингтон Ирвинг не своим почерком, то есть левой рукой, надежно охраняемый от случайных соглядатаев ненавистной ему должностью да темными очками и фальшивыми усами – на тот случай, если кто-нибудь все же заглянет в целлулоидное палаточное окно, из которого какой-то воришка вырезал прямоугольную полосу. Эти два удара судьбы – рождение и повышение – были разделены тридцатью одним годом одиночества и неудач.
Майор Майор родился с незаурядным опозданием и заурядными способностями. Заурядность бывает врожденной, приобретенной и навязанной. Майору Майору достались все три. Он выделялся особой безликостью даже среди самых безликих людей, и при встрече с ним у всех ярко запечатлевалась в памяти его полнейшая бесцветность.
Помимо тройственной заурядности, судьба дала ему в удел тройное проклятие – матушку, отца и роковое сходство с Генри Фондой, – дала с рождения. Он еще и понятия не имел, кто такой Генри Фонда, а его уже постоянно подвергали нелестным сравнениям. Любой незнакомец мог пригвоздить его к позорному столбу этого сходства, и он сызмальства привык бояться людей, покаянно осуждая себя за то, что он не Генри Фонда. Ему было тяжко нести по жизни такое бремя, но сдаваться он даже не помышлял, унаследовав неистребимую стойкость от своего шутника отца.
А отец его, здравомыслящий и благочестивый человек, любил прилгнуть про свой возраст – так он представлял себе юмор. Это был фермер, долговязый и длиннорукий, богобоязненный, законопослушный, свободолюбивый и несгибаемый индивидуалист, убежденный, что государственная помощь кому-нибудь, кроме фермеров, подспудно сталкивает страну к социализму. Он проповедовал бережливость и неустанный труд, а распущенных женщин, которые ему отказывали, сурово осуждал. Все поля у него на ферме были отведены под люцерну, и он прекрасно кормился тем, что не засевал их. Правительство щедро платило ему за каждый бушель невыращенной люцерны. Чем больше люцерны он не сеял, тем больше денег получал – и бережливо вкладывал каждый незаработанный цент в покупку новых земель, чтобы не выращивать еще больше люцерны. Он трудился над этим успешливо и без устали. Долгими зимними вечерами он прилежно сидел дома, не починяя упряжь, и, едва прикорнув после обеда, спешил в поле, чтобы не засеять его как можно надежней. Он умело вкладывал деньги в землю и вскоре стал не выращивать больше люцерны, чем любой другой фермер в его округе. Соседи приходили к нему за советами, ибо он выколачивал из земли гораздо больше всех прочих, а значит, был мудр.
– Не посеешь – не пожнешь, – уверенно утверждал он.
– Воистину так, – скрепляли соседи.
Этот благочестивый фермер истово приветствовал экономию государственных средств, пока правительство исправно выполняло свой священный долг по закупке у фермеров всей выращенной ими люцерны, которая была никому не нужна, или по оплате всей не выращенной ими люцерны, которую они могли вырастить на своих полях. С гордой независимостью отвергал он закон о пособии безработным и никогда не уставал выклянчивать, выпрашивать, выцыганивать или вымогать все, что возможно, у кого было можно, ибо взывать к людям о своих богоугодных нуждах он мог всегда и везде.
– Господь Бог дал нам, добрым фермерам, две могучие длани, дабы загребали мы ими обеими все что можно, – вдохновенно провозглашал он со ступеней суда или перед дверьми магазинчика, принадлежащего концерну «Всеамериканская бакалейная торговля», поджидая, когда молоденькая вздорная кассирша, за которой он ухлестывал, выйдет с неизменной порцией жевательной резинки во рту на улицу, чтобы наградить его сварливым взглядом. – Если бы Господь наш не возжелал, дабы загребали мы, грешные, сколько сможем, – продолжал он, – нам не достались бы, его произволением, две добрые длани.
И присутствующие согласно бормотали:
– Воистину так.
Подобно кальвинистам, он верил в предопределение и без труда провидел, что любые несчастья, кроме его собственных, ниспосланы людям Господом. Он курил и выпивал, а из бесед особенно ценил мудрые и глубокие, приправленные добрым юмором, особенно свои собственные, особенно когда он врал, ради доброй шутки, про свой возраст или шутил насчет Господа Бога и затяжных родов своей жены. Шутка про роды жены и Господа заключалась в том, что Бог сотворил за шесть дней весь мир, а его жена тужилась целых полтора дня, чтобы произвести на свет одного-единственного майора Майора. Человек нестойкий просто промаялся бы на его месте эти полтора дня в больничном коридоре, а человек непоследовательный успокоился бы на полумере вроде Майера Незамайера или Майера Шмайера или, к примеру, дал бы сыну позорно куцее имя Майер Майер, чтобы крохоборно увековечить в нем себя и свой род, – да не на того напали: он ждал этого счастливого случая четырнадцать лет и не собирался его упустить. Тут наступало время для его коренной, как он считал, шутки. «Счастливый случай, он счастливый и есть: проморгай – и случаю настанет кончина». Эту шутку он повторял при каждом удобном случае.
А для его сына первая издевательская шутка судьбы – врожденное сходство с Генри Фондой – положила начало нескончаемой череде издевательских шуток, превративших его жизнь в горестное и унылое существование. Имя, данное отцом новорожденному, стало второй издевательской шуткой. О ней никто не знал, кроме его отца, пока сын не дорос до детского сада. При записи в детский сад имя открылось, и последствия были самые ужасные. Эта новость убила его матушку, которая потеряла волю к жизни, зачахла и скончалась, что очень воодушевило его отца, давно решившего жениться на кассирше из бакалейного магазина, если она по-прежнему будет проявлять строптивость, однако вовсе не уверенного, что ему удастся спровадить с фермы жену без приличного денежного пособия или хорошей взбучки.
Ребенок выжил, но с трудом. Известие, обрушенное на него взрослыми в столь нежном возрасте, пристукнуло его и навсегда ошеломило – известие, что он вовсе не Калеб Майер, как его звали с рождения и как он привык думать о себе сам, а какой-то совершенно неведомый ему Майер Майер Майер Майер, про которого у них никто никогда даже слыхом не слыхивал. Ребятишки-приятели – а их и раньше-то было немного – навсегда отшатнулись от него, с детства приученные сторониться чужаков, не говоря уже о чужаке, который много лет их надувал, выдавая себя не за того, кем был. Никто не хотел иметь с ним дела. У него стали заплетаться ноги и все валилось из рук. С робкой надеждой относился он к любому новому знакомству, но надежды его никогда не сбывались. Он отчаянно нуждался в друге, а поэтому был обречен на одиночество. Постепенно он превратился в долговязого, неуклюжего, чудаковатого и мечтательного юношу с застенчивым взглядом и неуверенной, легко расцветающей на нежных губах улыбкой, которая мгновенно усыхала при очередной неудаче или обиде.
Он слушался старших, которые терпеть его не могли. Он делал все, к чему они его призывали. Они призывали его семь раз отмерить, прежде чем отрезать, и он отмерял. Они призывали его никогда не откладывать на завтра то, что можно было сделать вчера, и он не откладывал. Они призывали его почитать отца своего и мать, и он почитал. Они призывали его не убивать, и он не убивал – до войны. Потом его призвали в армию, чтобы убивать, и он убивал. Он безропотно подставлял при необходимости другую щеку и неизменно поступал с ближними так, как ему хотелось, чтобы поступили с ним. Когда он творил милостыню, его левая рука не знала, что делает правая. Ни единого раза не упомянул он всуе имя Господа Бога своего, не пожелал жены ближнего или осла его. Он любил ближних и даже никогда не лжесвидетельствовал против них. Старшие терпеть его не могли, потому что он был вопиюще инаковерующий или дерзостно более правоверный, чем они.
Поскольку ему не удавалось хорошо пожить, он хорошо учился. В университете своего штата он занимался так серьезно, что гомосексуалисты считали его интеллектуалом, а интеллектуалы – гомосексуалистом. Он специализировался в английской истории, и это не прошло ему даром.
– Английская история? – разгневанно изумился сенатор их штата с густой серебряной гривой и сомнительной репутацией. – А почему не американская? Может, он думает, что она хуже других?
Незадачливый студент мигом переключился на американскую литературу, но ФБР уже внесло его в списки неблагонадежных. На захолустной ферме, которую он считал своим домом, жило шесть человек и шотландский терьер, причем пятеро из них, не считая терьера, оказались агентами ФБР. Вскоре они собрали на него достаточно компрометирующих материалов, чтобы сделать с ним все, что угодно. А угодно им было призвать его в армию рядовым – ничего лучшего они придумать не сумели, – где через четыре дня он стал майором, чтобы конгрессмены, у которых ни на что другое не хватало ума, могли бегать взад-вперед по улицам Вашингтона, округ Колумбия, с возгласами «Кто произвел новобранца в майоры? Кто произвел новобранца в майоры?».
А произвела его в майоры счетно-решающая машина фирмы «Ай-Би-Эм», с почти таким же благочестивым чувством юмора, как у его отца. Решив, что слово «Майер», повторенное к тому же четыре раза, – это просто ляпсус нерадивого писаря из призывной комиссии, который по небрежности исказил звание новоиспеченного офицера – майор, – а имя вставить забыл, она посчитала не слишком-то важным, как будет зваться человек, посылаемый на убой, и нарекла его воинским званием. Таким образом, урожденный Майер Майер Майер Майер машинально стал майором по имени Майор Майор Майор.
Когда началась война, он все еще был покладистым и послушным. Его призвали в армию рядовым, и он покорно подчинился. Его призвали перейти в летное училище, и он почтительно повиновался, а накануне, в три часа утра, уже безропотно месил босыми ногами ледяную грязь, стоя в строю перед здоровенным воинственным сержантом, который угрожающе сообщал новобранцам, что он может выбить к такой-то матери дух из любого салажонка в своем подразделении и готов подтвердить слова делом хоть сейчас. Всего за несколько минут до этого новобранцев из его взвода растолкали подхватистые капралы и приказали им собраться у административной палатки. С неба лило. Новобранцы выстроились, где было указано, в гражданской одежде, которую надели на себя три дня назад, когда уходили в армию. Тех, кто немного задержался в своих промозгло-темных палатках, чтобы торопливо обуться, отправили разуваться, и теперь они стояли босые в ледяной, раздрызганной их ногами грязи под беспощадным взглядом воинственного сержанта, который утверждал, что может выбить к такой-то матери дух из любого салажонка в своем подразделении. Им не захотелось с ним спорить.
Неожиданное производство одного из новобранцев в майоры тяжким грузом придавило воинственного сержанта к земле, потому что лишило его возможности выбить к такой-то матери дух из любого салажонка в своем подразделении. Несколько часов предавался он, как Саул, горестным раздумьям, сидя на койке в своей палатке и не желая никого видеть, а его отборная гвардия из подхватистых капралов уныло стояла у входа на карауле, преданно охраняя горький покой уединившегося командира. Однако к трем часам утра сержант разрешил-таки свое мучительное недоумение, и новобранцы опять были грубо подняты со своих волглых коек подхватистыми капралами, которые приказали им собраться босыми возле административной палатки, где их уже поджидал, воинственно подбоченясь, повеселевший сержант, настолько распираемый желанием высказаться, что он весь извелся, пока они сонно ковыляли на очередное рассветное собеседование.
– Мы с майором Майором, – тем же угрожающим, что и накануне, тоном сообщил он, – можем выбить к такой-то матери дух из любого салажонка в нашем подразделении.
Офицерам тоже пришлось расхлебывать в этот день заваренную электронной машиной майорскую кашу. Как им вести себя с новоиспеченным майором? Относиться к нему пренебрежительно значило бы унижать майорский чин. А держаться с ним на равных было для них просто немыслимо. Однако им повезло: он послушно попросился в летное училище. Под вечер приказ о его отправке был готов, и на следующее утро, ровно в три часа, его грубо подняли с койки, воинственный сержант пожелал, чтоб дорога была ему скатертью, и он отбыл на самолете в Калифорнию.
Лейтенант Шайскопф побледнел, как беленая дерюга, когда перед ним предстал босой, с грязными ногами майор Майор. А тот был уверен, что его грубо растолкали в три часа утра для построения перед палаткой сержанта, и оставил носки с башмаками под своей койкой. Его гражданская одежда была замызганной и мятой. Лейтенант Шайскопф, который тогда еще не завоевал славу великого мастера маршировки, онемело содрогнулся, представив себе босого майора Майора среди курсантов своей роты на очередном воскресном параде.
– Немедленно отправляйтесь в санчасть, – с трудом обретая дар речи, проблеял он, – и доложите, что вы больны. Лежите там, пока не получите свое денежное довольствие, чтобы купить себе военную форму. И башмаки. Обязательно купите башмаки.
– Слушаюсь, сэр.
– Вы не должны говорить мне «сэр», сэр, – почтительно указал майору Майору лейтенант Шайскопф. – Вы ведь выше меня по званию, сэр.
– Так точно, сэр, выше. Но вы мой командир, сэр.
– Так точно, сэр, – согласился лейтенант Шайскопф. – Я ваш командир, сэр. Поэтому выполняйте мои приказания, сэр, чтобы не нажить неприятностей. Отправляйтесь в санчасть, сэр, и доложите, что вы больны. Лежите там, пока не придет ваше денежное довольствие, а потом купите себе форму, сэр.
– Слушаюсь, сэр.
– И башмаки, сэр. Купите башмаки при первой возможности, сэр.
– Слушаюсь, сэр. Будет исполнено, сэр.
– Благодарю вас, сэр.
Жизнь в летном училище складывалась у майора Майора, как и везде. Все от него хотели избавиться. Инструкторы постоянно уделяли ему повышенное внимание, чтобы поскорее сбыть его с рук. Не успев опомниться, он получил «крылышки» пилота и был отправлен в Европу – и вот там-то впервые неожиданно обнаружил, что судьба ему улыбается. Всю жизнь он страстно мечтал об одном – оказаться среди кого-нибудь своим, и на Пьяносе его поначалу приняли за своего. Общая боевая служба слегка стирает разницу в званиях среди военных, так что отношения между солдатами и офицерами неизбежно упрощаются и смягчаются. Люди, которых он почти не знал, бросали ему на ходу «Привет» и приглашали сыграть в баскетбол или сходить искупаться. Лучезарнейшие часы своей жизни провел он на баскетбольной площадке, где игра длилась иногда весь день и где победа была никому не нужна. За счетом никто не следил, а игроков на площадке собиралось от одного до тридцати пяти. Майор Майор никогда раньше не играл в баскетбол, да и вообще спортом не занимался, но его высокий рост и великий энтузиазм отчасти заменяли ему и природное проворство, и спортивный опыт. Он ощущал полнейшее счастье на этой колдобистой баскетбольной площадке, перекидываясь мячом с малознакомыми офицерами и солдатами, которых определил для себя почти друзьями. О счете во время игры никто не думал, ни побежденных, ни проигравших там не бывало, и майор Майор остро наслаждался каждым своим жирафьим скачком, пока туда не прикатил в день гибели майора Дулуса на своем ревущем джипе полковник Кошкарт и не отнял у него эту радостную возможность навеки.
– Вы теперь командир эскадрильи, – грубо рявкнул ему через придорожную канаву полковник Кошкарт, – да только ничего это не значит, не думайте, потому что вы будете просто значиться командиром эскадрильи, а значит, ничего это не значит, понятно?
Майор Майор давно уже изводил полковника Кошкарта, как постоянно ноющий зуб. Лишний майор в списке личного состава нарушал идеальный воинский порядок у него в полку, а это было на руку интриганам из штаба Двадцать седьмой воздушной армии, которых он уверенно причислял к своим врагам и соперникам. Полковник Кошкарт постоянно молил судьбу о какой-нибудь счастливой случайности вроде смерти майора Дулуса. Его уже окончательно допек лишний майор, и теперь наконец он мог от него избавиться. Назначив майора Майора командиром эскадрильи, он умчался в своем рычащем джипе так же стремительно, как приехал.
А майор Майор навеки выбыл из игры. Мучительно покраснев, он словно столб застыл на месте, не в силах осознать всю глубину своей беды. Потом обернулся к почти-друзьям на площадке, ища поддержки, но сразу же попал под обстрел тупо любопытных и угрюмо враждебных взглядов. Его прохватила дрожь стыда и тревоги. Через несколько минут игра, впрочем, возобновилась, но лучше ему от этого не стало. Когда он вел мяч, игроки перед ним расступались; когда требовал паса, все ему повиновались; когда мазал по корзине, никто не пытался перехватить мяч, пока он сам его не подхватывал. И ни единого слова вокруг – тишину нарушал лишь его собственный голос. На другой день все повторилось, а на третий он играть не пошел.
Да и в эскадрилье люди, будто по команде, перестали с ним разговаривать, но зато начали пристально разглядывать. Он ходил с опущенными в землю глазами и горящими от смущения щеками – отверженный, ненавистный, презираемый и злобно подозреваемый во всех смертных грехах. Однополчане, которые раньше едва замечали его сходство с Генри Фондой, теперь, казалось, только об этом и говорили, причем некоторые из них едко намекали, что за сходство-то он и назначен их командиром. Капитан Гнус, давно метивший в командиры эскадрильи, утверждал даже, что майор Майор на самом-то деле вовсе не майор, а Генри Фонда, но по лживости характера не желает в этом признаться.
Зачумленный майор Майор мучительно барахтался среди бесчисленных несчастий. Ничего ему не сказав, сержант Боббикс перенес его пожитки в просторный трейлер, где раньше жил майор Дулус, а когда майор Майор, запыхавшись, ворвался в штабную палатку, чтобы подать рапорт о краже личного имущества, молоденький дежурный капрал напугал его почти до потери сознания, вскочив на ноги и рявкнув «Смир-р-рна!», как только он появился. Майор Майор замер по стойке «смирно» вместе со всеми остальными, лихорадочно пытаясь сообразить, что за важная птица влетела следом за ним в штабную палатку. Напряженная тишина нескончаемо длилась, и они могли проторчать там, не смея пошевелиться, вплоть до Судного дня, если бы майор Дэнби, полковой штабист, заглянувший к ним примерно минут через двадцать, чтобы поздравить майора Майора с назначением, не вывел их всех из этого присмирненного столбняка, отменив приказ архидисциплинированного капрала.
Но муку еще того горше и страшней пришлось испытать майору Майору в офицерской столовой, когда лучащийся улыбчивыми морщинками Мило Миндербиндер повлек его прямо от входа в палатку, которая служила им столовой, к отдельно сервированному столику с вышитой скатертью и букетом цветов в розовой стеклянной вазочке под хрусталь. Майор Майор замер на мгновение от ужаса, однако не посмел протестовать под взглядами новых подчиненных и покорно смирился. А те и правда таращились на него во все глаза, даже Хавермейер чуть приподнял над тарелкой свою тяжелую, непомерно длинную нижнюю челюсть. В общем, майор Майор так и просидел до конца трапезы, съежившись от стыда, за отдельным столом. Еда напоминала ему раскаленные угли, но он безропотно ел, страшась оскорбить отказом кого-нибудь из кухонной обслуги. И только потом попытался выразить Мило Миндербиндеру свой протест, объяснив ему, что не хочет есть за отдельным столом. Но Мило сказал, что так дело не пойдет.
– Да почему не пойдет? – удивился майор Майор. – Раньше-то ведь все вроде было в порядке.
– Раньше вы не были командиром эскадрильи.
– Майор Дулус был командиром эскадрильи, а ел вместе со всеми; разве нет?
– Так то майор Дулус, сэр.
– А какая разница?
– Мне бы не хотелось, чтоб вы меня об этом спрашивали, сэр, – сказал Мило Миндербиндер.
– Может, дело в том, что я похож на Генри Фонду? – отважился спросить его майор Майор.
– Кое-кто говорит, что вы и есть Генри Фонда, сэр, – уклончиво ответил Мило Миндербиндер.
– Да ведь это же чепуха! – дрожащим от досады голосом воскликнул майор Майор. – Да и не похож я на него! А если и похож, то какая разница?
– Никакой, сэр. Об этом-то я вам и толкую, сэр. Просто вы не майор Дулус, вот и все.
Мило Миндербиндер был прав, потому что, когда в следующий раз майор Майор поставил на поднос тарелки с едой и попытался сесть за общий стол, его мгновенно остановила непреодолимая волна всеобщей враждебности, и он беспомощно топтался на месте, едва удерживая в трясущихся руках поднос, пока Мило Миндербиндер не спас его, безмолвно препроводив, окончательно смирившегося и ручного, к отдельному столику. Больше майор Майор не бунтовал и безропотно ел в одиночестве за своим столом, сидя спиной ко всем остальным. Они, как он был уверен, презирали его за чванство, считая, что, сделавшись их командиром, он стал есть отдельно по собственной воле. Никто теперь даже не разговаривал при нем в столовой. Многие ели исключительно в его отсутствие. И все вздохнули с явным облегчением, когда он перестал туда ходить, решив питаться у себя в трейлере.
А расписываться на официальных документах как Вашингтон Ирвинг он начал после появления первого обэпэшника, который пытался выведать, не известно ли ему, кто занимается этим в госпитале, что и подвигло его на следующий же день последовать тамошнему примеру. Ему давно уже обрыдла его новая должность. Он решительно не представлял себе, чего от него ждут в должности командира эскадрильи, если только начальство не считало, в чем он все же сомневался, что ему достаточно ставить фальшивую роспись на официальных документах да уныло слушать, как брякаются об землю подковы майора… де Каверли за палаткой командного пункта эскадрильи, где для майора Майора был отгорожен крохотный закуток. Он постоянно терзался мыслью о невыполняемых – и, возможно, очень важных – должностных обязанностях, тщетно дожидаясь, что они вот-вот проявятся сами собой. Он все реже, и только при крайней нужде, выходил из палатки, не в силах привыкнуть к пристальным взглядам со всех сторон. Иногда его одиночное заключение нарушал случайный офицер или солдат, посланный к нему сержантом Боббиксом по какому-нибудь совершенно непонятному для него делу, и он неизменно отсылал их обратно, чтобы сержант Боббикс распорядился очередной раз по своему многоопытному сержантскому разумению. Если какие-то поступки и ожидались от командира эскадрильи, то совершал их не он. Его мучило мрачное уныние. Порой он серьезно подумывал, не обратиться ли ему со своими горестями к капеллану, но тот был настолько обременен собственными невзгодами, что было бы грешно наваливать на него еще и чьи-то чужие. А кроме того, майор Майор вовсе не был уверен, что капелланы обслуживают командиров эскадрилий.
Да и про майора… де Каверли он тоже не был уверен. Майор… де Каверли постоянно отлучался – нанимать квартиры или иностранных рабочих, – а возвращаясь, занимался только тем, что швырял подковы за палаткой КП, стараясь набросить их на стальные колышки, специально для этого вбитые в землю. Майор Майор подолгу следил, как подковы смачно плюхаются на траву или с отрывистым звоном цепляются за стальные колышки. Часами глядя на майора… де Каверли, он немало дивился, что столь величественный человек не находит себе более достойного занятия. Иногда, впрочем, и у него мелькала мысль присоединиться к игре, но, поразмыслив, он решал, что швырять целый день подковы так же маятно, как ставить роспись майор Майор Майор Майор на официальных документах, да и царственная осанка майора… де Каверли внушала ему благоговейную робость.
Он часто думал об их взаимной субординации. Майор… де Каверли был в эскадрилье начальником штаба, но майор Майор недостаточно хорошо знал, кто по армейским законам главней – командир или начальник, – чтобы окончательно решить, кем считать майора… де Каверли: кротким командиром или строптивым подчиненным. Ему не хотелось спрашивать об этом у сержанта Боббикса, которого он втайне побаивался, а больше спросить было некого, потому что всех остальных он боялся еще сильней, и майора… де Каверли в первую очередь. Да и не только он: мало кто решался обратиться с чем-нибудь к майору… де Каверли, а один самонадеянный офицерик, осмелившийся притронуться к его подкове, свалился на другой же день в страшной пьяносской горячке, про которую ни Гэс, ни Уэс, ни даже доктор Дейника и слыхом не слыхивали. Всем было ясно, что это возмездие глупцу за самонадеянную наглость, хотя как оно сработало, никто толком не понимал.
Львиная доля документов, получаемых майором Майором, не имела к нему ни малейшего отношения. В большинстве из них то и дело встречались ссылки на прежнюю официальную переписку, которой майор Майор никогда не видел. Да в этом не было и нужды, потому что любая официальная инструкция непременно отменяла все предыдущие. Часто случалось так, что ему следовало одновременно расписаться на дюжине официальных документов, каждый из которых обязывал его не принимать в расчет все остальные. Ежедневно приходили многословнейшие реляции за подписью генерала Долбинга, неукоснительно начинавшиеся жизнерадостными поучениями вроде «Медлительность стремительно приближает нас к смерти» или «Халатность – сестра распутности».
Читая корреспонденцию генерала Долбинга, майор Майор чувствовал себя халатным покойником и старался избавиться от нее как можно скорей. Вообще, из официальных документов его интересовала только вялая переписка о несчастном лейтенанте, сбитом над Орвиетой через два часа после прибытия в эскадрилью, так что он даже не успел толком распаковать свои пожитки, оставленные на койке в палатке Йоссариана. Этот злосчастный лейтенант явился с рапортом о прибытии не к дежурному по эскадрилье, а в оперативный отдел, поэтому сержант Боббикс счел за благо отрапортовать начальству, что тот вовсе к ним не являлся, и по официальным данным он числился теперь как бы испарившимся среди бела дня в чистом небе – да и не без оснований. Но так или иначе, а майор Майор все же благодарил судьбу за проходящую через его руки официальную переписку, потому что сидеть с утра до вечера в своей служебной палатке и расписываться на документах не так муторно, как сидеть там с утра до вечера без всякого дела. Переписка давала ему хоть какое-то занятие.
Всякий документ, на котором он расписывался, неизменно возвращался к нему самое большее через пять дней с новым листком для его новой росписи. Однако документ этот становился толще отнюдь не на один листок, потому что между двумя листками с его уже поставленной и еще только ожидаемой росписью к нему были подшиты листки для всех других офицеров, которые должны расписываться по своей воинской должности на официальных документах. Майор Майор со страхом наблюдал, как самое обычное официальное письмо превращается в толстенный фолиант. Сколько бы раз он ни расписывался на документе, тот обязательно возвращался к нему для новой росписи, и вскоре он начал опасаться, что каждый из документов будет возвращаться к нему вечно. Но однажды, на другой день после визита первого обэпэшника, майор Майор расписался именем Вашингтона Ирвинга – просто чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Получилось неплохо, очень даже неплохо, и, разохотившись, он до самого вечера расписывался на всех официальных документах как Вашингтон Ирвинг, хотя и предполагал, что за это бунтарское, а главное, легкомысленное своеволие его ожидает суровая расплата. На следующее утро он явился в служебную палатку, с трепетом пытаясь предугадать, что же теперь случится. Но ничего не случилось.
Он согрешил, и согрешил, как оказалось, во благо, потому что ни один документ, подписанный именем Вашингтона Ирвинга, к нему не вернулся. Это был явный успех, и майор Майор с воодушевлением принялся его развивать. Он, конечно, понимал, что истинного успеха ему таким способом не добиться, но имя Вашингтон Ирвинг наводило на него все же меньшее уныние, чем майор Майор Майор Майор. Когда ему прискучил Вашингтон Ирвинг, он заменил его Ирвингом Вашингтоном и ставил эту роспись, пока не надоело. А суровая расплата обернулась милостивой амнистией, и подписанные этим именем документы никогда уже к нему снова не приходили.
Зато пришел обэпэшник, но не прежний, а другой, замаскированный под летчика. Все узнали, что он обэпэшник, из его собственных, всегда секретных сообщений, со строгим наказом каждому никому об этом не сообщать.
– Никто, кроме вас, не знает, что я из отдела по борьбе с преступностью, – по секрету сообщил он майору Майору, – и нужно держать это в строжайшей тайне, чтоб мое расследование закончилось успешно.
– Сержант Боббикс знает.
– Да-да, я знаю, мне пришлось сообщить ему об этом – по секрету, разумеется, – чтобы он пропустил меня к вам. Но он ни при каких обстоятельствах никому об этом не сообщит.
– Мне сообщил, – сказал майор Майор. – Он сообщил мне, что меня хочет видеть агент ОБП.
– Вот ведь ублюдок! Надо будет послать на него запрос в отдел безопасности. И я бы на вашем месте не разбрасывал тут секретные документы. Хотя бы до тех пор, пока не завершится мое расследование.
– У меня нет секретных документов.
– Про них-то я и толкую. Пусть они хранятся в сейфе, чтоб сержант Боббикс не наложил на них лапу.
– Ключ от сейфа есть только у сержанта Боббикса.
– Боюсь, что мы даром теряем время, – холодновато проговорил второй обэпэшник. Это был проворный, словно катышек, легковозбудимый субъект с уверенными и точными движениями. Явился он в кожаной пилотской куртке с аляповато намалеванными на ней самолетами среди оранжевых зенитных разрывов и аккуратными рядочками бомб, уведомляющих о пятидесяти пяти боевых вылетах владельца, а под курткой он прятал напоказ что-то довольно объемистое – как выяснилось, пухлый красный конверт. Вытащив из конверта несколько фотокопий исписанных от руки листков, он спросил: – Вам знакомы эти документы?
– Нет, – ответил майор Майор, рассматривая с притворным равнодушием фотокопии личных писем из госпиталя, на которых военный цензор расписывался то как Ирвинг Вашингтон, то как Вашингтон Ирвинг.
– А эти?
Теперь обэпэшник показал майору Майору фотокопии писем официальных, на которых он сам ставил те же росписи.
– Нет, – повторил майор Майор.
– Но в вашей эскадрилье есть такой человек?
– Вы про кого? – спросил майор Майор. – Тут ведь расписывались-то двое.
– Именно про него одного, – ответил обэпэшник. – Мы полагаем, что он расписывается двумя разными фамилиями, чтобы сбить нас со следа. Это, знаете ли, обычный прием.
– Насколько мне известно, у нас в эскадрилье такие не значатся.
Лицо второго обэпэшника перекосила гримаса разочарования.
– Стреляный, значит, гусь, – определил он. – Пользуется третьей фамилией, чтобы выдать себя за кого-то другого. И мне кажется… да-да, я уверен, что знаю его третью фамилию. – С вдохновенным воодушевлением он выхватил из конверта еще одну фотокопию и показал ее майору Майору. – Ну а этот документ вам знаком?
Майор Майор слегка наклонился и увидел фотокопию солдатского письма, из которого Йоссариан вычеркнул все, кроме обращения «Дорогая Мэри!», а внизу приписал: «Тоскую по тебе безумно. Твой Э. Т. Тапмэн, капеллан ВВС США». Майор Майор покачал головой.
– Впервые вижу, – сказал он.
– А вам известно, кто такой Э. Т. Тапмэн?
– Это наш полковой священник.
– Все ясно, – сказал второй обэпэшник. – Ваш полковой священник – это Вашингтон Ирвинг.
– Наш полковой священник – это Э. Т. Тапмэн, – ощутив легкий укол тревоги, возразил майор Майор.
– Вы уверены?
– Вполне.
– А зачем полковому священнику такое писать?
– Так, может, это написал кто-то другой и просто подписался его именем, – предположил майор Майор.
– А зачем кому-то другому подписываться его именем?
– Ну, например, чтобы скрыть свое.
– Возможно, вы и правы, – немного поколебавшись, согласился второй обэпэшник и решительно чмокнул губами. – Возможно, тут орудует банда из двух человек с противоположно совпадающими именами. Да-да, я уверен, что так оно и есть. Один здесь, один в госпитале, и один где-то возле капеллана. Так, выходит, их трое? Вы абсолютно уверены, что через ваш КП не проходили эти документы?
– На них же нет моей росписи.
– А как бы вы на них расписались? – с коварной вкрадчивостью спросил второй обэпэшник. – Как майор или Вашингтон Ирвинг?.. Или, может, как Ирвинг Вашингтон?
– Разумеется, как майор, – ответил майор Майор. – Откуда же мне знать имя Ирвинга Вашингтона или Вашингтона Ирвинга?
Обэпэшник расплылся в улыбке.
– Я рад, что вы тут ни при чем, майор. Значит, мы сможем работать вместе, а мне нужен каждый человек, на которого я могу положиться. Где-то в Европе скрывается тип, имеющий доступ к вашей корреспонденции. У вас нет предположений, кто это может быть?
– Нет, – отрезал майор Майор.
– Ну а у меня есть, – сказал обэпэшник и, конфиденциально склонившись к майору Майору, прошептал: – Это ублюдок Боббикс. А иначе зачем бы ему раззванивать про меня на всю эскадрилью? Ладно, смотрите тут в оба и немедленно дайте мне знать, если кто-нибудь обронит хотя бы словечко про Ирвинга Вашингтона. А я пошлю запрос на капеллана и все его окружение.
Как только второй обэпэшник ушел, в палатку через окно впрыгнул первый – майор Майор с трудом узнал его – и потребовал, чтобы он рассказал ему, кто у него только что был.
– Он из ОБП, – сказал майор Майор.
– Черта с два! – уверенно объявил первый обэпэшник. – Это я ваш куратор от ОБП.
Майор Майор с трудом узнал его, потому что он явился на этот раз в бордовом, вылинявшем и разодранном под мышками вельветовом халате, ветхой фланелевой пижаме и домашних тапочках с одной полуоторванной, звучно шлепающей по земле подошвой – то есть в обычной госпитальной одежде, как решил майор Майор. После первого своего визита обэпэшник фунтов на двадцать раздобрел и полыхал цветущим здоровьем.
– Я совсем разболелся, – жалобно прохныкал он. – Заразился в госпитале от летчика-истребителя простудой, и у меня теперь тяжелое воспаление легких.
– Мне очень жаль, – вежливо сказал майор Майор.
– От вашей жалости здоровья у меня не прибудет, – проскулил в ответ первый обэпэшник. – Да и не нужна мне ваша жалость. Про здоровье это я просто к слову – чтоб вы знали, каково мне вас всех курировать. А пришел я предупредить, что Вашингтон Ирвинг орудует теперь, по-видимому, в вашей эскадрилье. Вы, случайно, не слышали, не упоминал тут кто-нибудь это имя?
– Да вообще-то слышал, – сказал майор Майор. – От того человека, который только что ушел. Он как раз про Вашингтона Ирвинга и говорил.
– В самом деле? – радостно вскричал первый обэпэшник. – Ну, теперь-то мы, пожалуй, запросто расколем этот чертов орешек. Только глядите тут в оба, пока я смотаюсь в госпиталь и запрошу у начальства дальнейшие инструкции. – Первый обэпэшник выпрыгнул в окно и мгновенно исчез.
А через минуту появился второй обэпэшник. Яростно отдуваясь, он торопливо откинул занавеску, отгораживающую закуток майора Майора, и, не успев перевести дух, заорал:
– Я только что видел какого-то типа в красной пижаме – он выпрыгнул из вашего окна и побежал по дороге. Вы, случайно, его не видели?
– Видел, – сказал майор Майор. – Он со мной разговаривал.
– То-то я и подумал: очень, думаю, подозрительный факт – человек выпрыгивает из окна в красной пижаме. – Обэпэшник деловитым колобком катался по крохотному закутку. – Сначала я заподозрил вас: ага, думаю, решил, стало быть, улепетнуть, голубчик, в Мексику. Но теперь вижу, что это не вы. Ну а тот тип – не упоминал он про Вашингтона Ирвинга?
– Да вообще-то упоминал, – оказал майор. – О нем он со мной и разговаривал.
– В самом деле? – обрадованно вскинулся второй обэпэшник. – Прекрасно! Теперь-то мы, пожалуй, за милую душу расколем этот дьявольский орешек. А вы не знаете, где сейчас можно найти этого типа?
– В госпитале, – ответил майор Майор. – Он совсем разболелся.
– Великолепно! – воскликнул второй обэпэшник. – Туда-то я, стало быть, за ним и отправлюсь. Но лучше всего мне оказаться там инкогнито. Объясню-ка я у вас в санчасти, кто я такой, и пусть они отправят меня туда как больного.
– Они отказались послать меня в госпиталь как больного, пока я не заболею, – возмущенно проворчал он, вернувшись к майору Майору. – А я, знаете ли, окончательно разболелся. Мне давно уже надо было лечь на обследование, и вот подвернулся наконец подходящий случай. Пойду-ка я в санчасть, и пусть они отправят меня на обследование.
– Посмотрите, что они со мной сделали! – возмущенно проворчал он, вернувшись к майору Майору с лиловыми деснами. Его горе было безутешным. Носки с башмаками он держал в руках, а пальцы ног тоже полиловели у него от раствора горечавки. – Скажите, слыхали вы хоть раз про агента ОБП с лиловыми деснами? – простонал он.
Он вышел из палатки КП, горестно опустив голову, но все же не заметил на пути противоналетную щель, скатился туда и сломал нос. Хотя температура у него не повысилась, Гэс с Уэсом, в виде исключения, выписали ему сопроводиловку в госпиталь и даже отправили его туда на машине «Скорой помощи».
Майор Майор солгал, и солгал во благо, но на этот раз уже не удивился. Он понял, что ложь, углубляя в человеке изобретательность и целеустремленность, помогает ему добиться успеха. Скажи он правду второму обэпэшнику, и ему несдобровать. Но он солгал – и мог теперь успешно продолжать свою работу.
Правда, после визита второго обэпэшника майор Майор стал работать гораздо осторожней. Расписывался исключительно левой рукой, всегда в темных очках и с фальшивыми усами, хотя ни очки, ни усы отнюдь не помогли ему вернуться к баскетбольным утехам. В виде дополнительной предосторожности он хитроумно переключился с Вашингтона Ирвинга на Джона Милтона. Это была краткая и выразительная роспись. А надоев, могла быть преобразована наоборот, как и Вашингтон Ирвинг. Она позволила ему почти удвоить производительность, потому что была гораздо короче и майора Майора Майора Майора, и Вашингтона Ирвинга. К тому же он открыл в ней странную многозначность и, расписываясь, мысленно задавал себе полусумасшедшие вопросы: «Я майор Джон Милтон, или Джон Милтон – майор Майор? Скажи, Джон, мил тон этой бумаги или не мил?», которые обещали изгнать скуку из его работы навеки. Когда Джон Милтон вместе с полусумасшедшими вопросами ему прискучил, он вернулся к Вашингтону Ирвингу.
Темные очки и фальшивые усы майор Майор купил в Риме, наивно решив раз и навсегда вырваться из трясины неудач, которая засасывала его с безжалостной неотвратимостью. Сначала он был жестоко унижен во время битвы за великую клятву верности, когда ни один из тридцати или сорока человек, распространявших конкурентные клятвы, не дал ему расписаться. Потом бесследно сгинул, словно бы растаяв среди бела дня в чистом воздухе, самолет Клевинджера вместе со всем экипажем, и вину за это таинственное несчастье целиком возложили на майора Майора, потому что он ни разу не подписал клятву верности.
Очки были в массивной красной оправе, а усы – черные, как у типичного шарманщика-итальянца, и он нацепил их однажды, окончательно истомившись от одиночества, чтобы пойти на баскетбольную площадку. Он явился туда с нарочито развязной беспечностью, безмолвно моля Всевышнего, чтоб его не узнали. Мольба, казалось, была услышана, его приняли в одну из команд, и он уже радостно предвосхищал веселую череду будущих игр, успешно отвоеванных у судьбы с помощью невинного мошенничества, когда кто-то из игроков грубо толкнул его и он упал на колени. Вскоре его опять сбили с ног, и он заподозрил, что бывшие почти-друзья лицемерно не узнали его, чтобы безнаказанно шпынять, пинать и травить. Ему не было среди них места. Он еще не успел это как следует осознать, а игроки обеих команд уже инстинктивно объединились в сплоченную, ревущую, кровожадную толпу и обступили его со всех сторон, осыпая грязными ругательствами и злобными ударами. Он упал, и они пинали его, пока он лежал, и продолжали молотить кулаками, когда ему удалось встать. Он закрыл лицо ладонями и больше уже ничего не видел, а они роились вокруг, нетерпеливо отталкивая друг друга, в бешеной жажде пнуть его и прибить, замордовать, растерзать, растоптать, раздавить. Он слепо кружился на месте, а они лупили его, оттесняя к придорожной канаве, и в конце концов он сверзился туда головой вниз и сполз на дно. Выкарабкавшись кое-как из канавы, он, шатаясь, поплелся прочь под градом издевательских выкриков и камней, которыми они провожали его, пока он не скрылся за палаткой КП. Единственное, что ему удалось, а он только об этом и заботился, – это удержать, сохранить на лице темные очки и фальшивые усы, чтобы спасти себя от страшной необходимости предстать перед своими истязателями их командиром в полноте воинской власти.
Добравшись до служебного закутка в штабной палатке, он беззвучно заплакал, потом вытер слезы, смыл с кровоточащих ссадин грязь и вызвал сержанта Боббикса.
– Отныне, – сказал он, – сюда никто не должен входить, пока я здесь. Ясно?
– Так точно, сэр, – отозвался сержант Боббикс. – А меня это касается?
– Касается.
– Понятно, сэр. Это все?
– Все.
– А что я должен говорить людям, которые придут к вам, сэр, пока вы здесь?
– Говорите им, что я здесь, и пусть ждут.
– Слушаюсь, сэр. А до каких пор им ждать?
– Пока я не уйду.
– А что мне потом с ними делать, сэр?
– Что хотите.
– А можно мне пускать их к вам после вашего ухода, сэр?
– Можно.
– Но вас уже здесь не будет, правильно я понял, сэр?
– Правильно.
– Слушаюсь, сэр. Это все?
– Все.
– Будет исполнено, сэр.
– Отныне, – сказал майор Майор солдату средних лет, который убирался в его трейлере, – вы не должны входить сюда, пока я здесь, чтобы спросить, нет ли у меня для вас какого-нибудь задания. Ясно?
– Так точно, сэр. А когда я должен входить сюда, чтобы спросить, нет ли у вас для меня какого-нибудь задания, сэр?
– Когда меня здесь нет.
– Слушаюсь, сэр. А что я должен тут делать?
– То, что я скажу.
– Но вас ведь здесь не будет, чтобы сказать, сэр. Я правильно вас понял?
– Правильно.
– И что же мне делать?
– То, что нужно.
– Слушаюсь, сэр.
– Это все, – сказал майор Майор.
– Слушаюсь, сэр. Так это все?
– Нет, – сказал майор Майор. – И убираться тоже не приходите, пока я здесь. Вообще не приходите, пока не уверитесь, что я ушел. Ясно?
– Так точно, сэр. Только как же я уверюсь, что вы ушли?
– А вы считайте, что я здесь, если не уверены, что меня нет, и держитесь отсюда подальше, пока не уверитесь, что я ушел. Ясно?
– Так точно, сэр.
– Жаль, что мне необходимо так разговаривать с вами, но это совершенно необходимо. Всего хорошего.
– Всего хорошего, сэр.
– И спасибо вам. Спасибо за все.
– Благодарю вас, сэр.
– Отныне, – сказал майор Майор Мило Миндербиндеру, – я не буду ходить в столовую. Распорядитесь, чтобы мне приносили еду в мой трейлер.
– Прекрасная мысль, сэр, – отозвался Мило Миндербиндер. – Теперь я смогу заказывать для вас особые блюда, так что другие офицеры даже знать ничего про них не будут. Надеюсь, вам понравится. Полковнику Кошкарту, к примеру, нравится.
– Не нужно мне никаких особых блюд. Присылайте мне только то, чем вы кормите остальных. Скажите посыльному, чтоб он стукнул один раз в дверь, когда придет, и оставил поднос на ступеньках. Ясно?
– Так точно, сэр. Совершенно ясно. У меня как раз припрятаны для особого случая живые омары из Ирландского моря, превосходный салат с рокфором и два замороженных эклера, тайно доставленных вчера вечером прямо из Парижа вместе с известным французским подпольщиком. Прислать вам это на ужин, сэр?
– Не надо.
– Слушаюсь, сэр. Мне все понятно.
На ужин Мило Миндербиндер прислал майору Майору свежих омаров из Ирландского моря, превосходный салат с рокфором и два замороженных эклера из Парижа. Майор Майор досадливо разволновался. Отошли он ужин назад, все это пошло бы в помойку или кому-нибудь другому. А майор Майор очень любил приготовленных на открытом огне омаров. Мысленно каясь, он съел присланный ужин. К обеду на следующий день Мило прислал черепаховый суп по-мэрилендски и целую кварту португальского портвейна «Дом Периньон» 1937 года, подвигнув майора Майора проглотить это все без каких бы то ни было угрызений совести.
Оставались еще подручные сержанта Боббикса в штабной палатке, и, чтобы не встречаться с ними, майор Майор залезал по утрам в свой закуток и выбирался оттуда вечерами через окно, закрытое тусклым целлулоидным прямоугольником на застежках. Довольно большое и расположенное невысоко над землей, оно вполне заменяло ему дверь. Выбравшись из окна, он осторожно огибал палатку и, если берег оказывался пустынным, торопливо пересекал открытое пространство, нырял в железнодорожную траншею и спешил, опустив голову, к спасительным зарослям мелколесья над ее откосами, а там, где траншея проходила мимо его трейлера, вылезал наверх и продирался прямо через низкорослый колючий подлесок. Единственным человеком, который помешал однажды майору Майору незаметно попасть домой, был капитан Флум, изможденный до полубесплотности и напугавший майора Майора до полусмерти, когда материализовался вдруг перед ним в кустах ежевики с жалобой на Белого Овсюга, угрожавшего вспороть ему горло от уха до уха.
– Если вы еще раз так меня напугаете, – рявкнул майор Майор, – то я сам вспорю вам горло от уха до уха! Ясно?
Капитан Флум придушенно хакнул и сгинул с глаз майора Майора навеки.
Думая о достигнутом, майор Майор чувствовал горделивое удовлетворение. На крохотном пятачке чужой земли, тесно заселенной двумя сотнями вездесущих однополчан, он исхитрился стать отшельником. Его немудрящая, но дальновидная проницательность лишила возможности поговорить с ним решительно всех его подчиненных, нисколько, впрочем, как он обнаружил, не огорчившихся, потому что никому из них даже в голову не приходило с ним поговорить. Вернее, никому, кроме безумца Йоссариана, который свалил его на землю с помощью классической подсечки, когда он пробирался к себе в трейлер, чтобы поесть.
Ничего хуже, чем свалиться на землю с горних высот затворничества от подсечки Йоссариана, майор Майор и представить себе не мог. Ладно бы уж кто-нибудь другой из подчиненных, но только не Йоссариан с его скандальной репутацией, бесстыдными разговорами о мертвеце, который, мол, не дает ему житья, хотя, по официальным данным, мертвеца попросту не существовало, и совсем уж непристойным поведением после налета на Авиньон, когда он разделся донага и потом упрямо не желал одеваться, шляясь по эскадрилье в чем мать родила много дней подряд, так что генерал Дридл, приехавший вручать ему медаль за героизм при штурме Феррары, награждал абсолютно голого срамника. Никто не имел права убрать разбросанные пожитки мертвеца из палатки Йоссариана. Майор Майор лишил всех такого права, разрешив сержанту Боббиксу отрапортовать начальству, что лейтенант, убитый над Орвиетой через два часа после прибытия в эскадрилью, вообще к ним не прибывал. Разве что Йоссариан, по мнению майора Майора, имел право убрать из своего жилища пожитки мертвеца, а впрочем, и у Йоссариана, по мнению майора Майора, не было такого права.
С коротким всхлипом упав на землю от подсечки Йоссариана, майор Майор попытался вскочить, но Йоссариан ему не дал.
– Капитан Йоссариан, – доложил сверху вниз Йоссариан, – просит разрешения немедленно поговорить с майором Майором о деле жизненной важности.
– Дайте мне встать, – жалобно приказал ему снизу вверх майор Майор. – А то я не могу ответить на ваше приветствие.
Йоссариан отпустил его, и он медленно поднялся. Потом Йоссариан вскинул руку в официальном приветствии и повторил свой рапорт.
– Пойдемте в штаб, – ответив на приветствие Йоссариана, сказал майор Майор. – Здесь, по-моему, не место для серьезного разговора.
– Слушаюсь, сэр, – сказал Йоссариан.
Они стряхнули с одежды гравий и в стесненном молчании отправились к штабной палатке.
– Дайте мне пару минут, чтобы прижечь ссадины, – приказал возле палатки Йоссариану майор Майор, – а потом пусть сержант Боббикс вас введет.
– Слушаюсь, сэр.
Майор Майор, глядя прямо вперед, с достоинством прошествовал мимо писарей за пишущими машинками к своему закутку. Потом неторопливо откинул и аккуратно опустил за собой занавеску. А потом ринулся к окну, чтобы выскочить из палатки и удрать. Но когда он выскочил, дорогу ему заступил капитан Йоссариан. Он стоял по стойке «смирно» и, увидев майора Майора, вскинул руку в официальном приветствии.
– Капитан Йоссариан просит разрешения немедленно доложить майору Майору о деле жизненной важности, – твердо повторил он.
– Доклад запрещается, – отрезал майор Майор.
– Как бы не так, – опроверг Йоссариан.
Майор Майор сдался.
– Ну ладно, – устало сказал он. – Давайте поговорим. Лезьте в окно.
– После вас.
Они влезли в окно, и майор Майор сел за свой стол, а Йоссариан встал перед ним по стойке «смирно» и объявил, что отказывается продолжать боевые полеты.
«Как тут поступить?» – мысленно спросил себя майор Майор. Но поступить он мог только по инструкции подполковника Корна – с надеждой на благополучный исход.
– А почему? – спросил он вслух.
– Боюсь.
– Тут нечего стыдиться, – утешил Йоссариана майор Майор. – Мы все боимся.
– Я не стыжусь, – откликнулся Йоссариан. – Я боюсь.
– Все нормальные люди иногда ощущают страх, – сказал майор Майор. – Даже самые храбрые. Преодолеть его – вот одна из наших величайших задач на боевом посту.
– Бросьте, майор. Давайте-ка обойдемся без этой нудни.
Майор Майор в замешательстве опустил голову и принялся суетливо теребить собственные пальцы.
– А что вы хотели бы от меня услышать?
– Что я отлетал положенное и могу вернуться домой.
– Сколько у вас боевых вылетов?
– Пятьдесят один.
– Вам же осталось всего четыре.
– Он опять добавит. Каждый раз, как я приближаюсь к концу, он добавляет.
– Может, на этот раз не добавит.
– Да ведь он все равно никого не отпускает. Держит нас тут, якобы дожидаясь утвержденного приказа об отправке домой, а когда людей в экипажах начинает не хватать, просто увеличивает норму боевых вылетов, и нам снова приходится летать. Как явился сюда, так и начал эти штучки.
– Вы не должны винить полковника Кошкарта за проволочку с приказами об отправке домой. Их утверждают в штабе армии.
– Так он мог бы вовремя запрашивать пополнение и сразу же отправлять нас домой, когда приказ наконец утвердят. К тому же мне говорили, что штаб армии требует от летчика всего сорок боевых вылетов, а пятьдесят пять – это уж его собственные штучки.
– Я бы не хотел это обсуждать, – сказал майор Майор. – Полковник Кошкарт – наш непосредственный командир, и мы должны выполнять его приказы. Почему вы не хотите дотянуть до пятидесяти пяти – вам ведь осталось всего четыре вылета – и посмотреть, что получится?
– Не хочу, и все.
«Как тут поступить?» – опять спросил себя майор Майор. Как он мог поступить с человеком, который открыто смотрел ему в глаза и говорил, что готов на смерть, но не желает быть убитым в бою, – с таким же взрослым и разумным человеком, как он сам, хотя должность вынуждала его притворяться более зрелым и мудрым. Что он мог сказать?
– А если мы дадим вам право выбирать и вы будете участвовать только в безопасных вылетах, чтобы, не рискуя жизнью, дотянуть до пятидесяти пяти? – спросил майор Майор.
– Не нужны мне безопасные вылеты. Я не хочу больше участвовать в этой войне.
– И вы готовы допустить, чтоб наша страна потерпела поражение?
– Да не потерпит она поражения! У нас куда больше людей, больше денег и материальных ресурсов. А главное, у нас есть миллионов десять вояк в тылу, которые могут меня заменить. У нас ведь один воюет и умирает, а десятеро обогащаются и живут в свое удовольствие. Нет уж, пускай теперь убивают кого-нибудь другого.
– А если каждый стал бы так рассуждать?
– Тогда-то я уж точно был бы полным кретином, если б рассуждал по-другому. Разве нет?
«Как, ну как тут поступить?» – горестно размышлял майор Майор. Не мог же он сказать, что помог бы ему, если б мог. Сказать такое значило бы признать, что подполковник Корн ошибается или творит несправедливость. Тот со всей определенностью объяснил ему это.
– К сожалению, – сказал он, – тут ничего нельзя сделать.
Глава десятая
Уинтергрин
Клевинджер отправился на тот свет. И это событие мрачно высветило роковую порочность его мировоззрения.
Однажды под вечер, возвращаясь на базу после еженедельной, рутинно безопасной бомбардировки Пармы, восемнадцать самолетов нырнули у берегов острова Эльба в серебристое облачко – нырнули восемнадцать, а вынырнули семнадцать. Восемнадцатый бесследно исчез – ни дымной вспышки в небе, ни маслянистого всплеска над нефритной гладью воды. Просто пропал. Вертолеты кружили там до самого заката. Ночью облачко унес ветер, и Клевинджер окончательно сгинул.
Его исчезновение было совершенно необъяснимым, воистину таким же необъяснимым, как Великое лиходейство в Лауэри-Филде, где после выдачи денежного довольствия одновременно и, как потом выяснилось, навсегда пропало шестьдесят четыре человека – вся казарма. Пока столь таинственно не сгинул Клевинджер, Йоссариан считал пропавших дезертирами. Его так воодушевило это массовое и единодушное попрание священного долга, что он сразу же помчался к рядовому экс-первого класса Уинтергрину.
– Ну а ты-то чего разъегозился? – глумливо спросил взволнованного Йоссариана рядовой экс-первого класса Уинтергрин, не снимая ноги в осклизлом от глины солдатском башмаке с лопаты, но устало распрямившись, чтобы привалиться в мрачном удовлетворении заслуженного роздыха к стене одной из ям, которые стали к тому времени его воинской специальностью.
Рядовой экс-первого класса Уинтергрин был злоехидный салажонок, навеки зараженный гаерским духом противоречия. Каждый раз, когда он удирал в самоволку, его ловили и приговаривали к хронометрированному – за определенный срок – рытью кубических, шесть-на-шесть-на-шесть футов, ям, которые он сам же должен был потом засыпать. Отработав приговор, он снова удирал в самоволку. Его вполне устраивала роль военного землекопа, и он исполнял ее не ропща и с усердием, как истинный патриот.
– Жизнь в общем сносная, – философски признавал он. – Тем более что кто-то все равно ведь должен делать эту работу.
Он мудро полагал, что рытье ям в Колорадо вполне сносное для военного времени задание. Поскольку ямы не пользовались особым спросом, он мог рыть их без спешки и редко перетруждался. Военный трибунал, правда, всякий раз лишал его солдатских отличий, и он горестно сожалел о потерянных привилегиях.
– Я ведь был не просто солдатом, а рядовым первого класса, – с грустью вспоминал он. – У меня было устойчивое общественное положение… если ты понимаешь, о чем речь. Я вращался в лучших кругах. – На лицо его легла печать хмурой покорности. – Но теперь все это позади. Теперь в самоволке я не буду отличаться от обычной солдатни – а это уже совсем не то. – Рытье ям не сулило ему жизненных перспектив. – Да и работа временная, – удрученно сетовал он. – Отработаешь приговор – и потерял. Стало быть, опять иди в самоволку, чтоб ее получить. А в самоволку-то мне больше нельзя. Есть, понимаешь ли, одна закавыка – Поправка-22. На этот раз после самоволки меня ждет каторжная тюрьма. Просто не знаю, что со мной теперь будет. Так ведь, пожалуй, можно и на фронт загреметь. – Ему вовсе не улыбалось рыть ямы до конца жизни, хотя до конца войны он вполне согласился бы их рыть – раз уж это стало его воинской специальностью. – Такой у меня воинский долг, – размышлял он вслух, – а каждый из нас должен свято выполнять свой долг. Мой воинский долг – рыть ямы до конца войны, и я выполняю его безукоризненно, меня даже представляли к медали «За примерную службу». Твой долг – учиться летать, с надеждой, что это тоже до конца войны. А долг боевых частей за океаном – поскорее выиграть войну, и хотелось бы, чтоб они выполняли свой долг так же безукоризненно, как я. Ведь будет несправедливо, если меня заставят трудиться еще и за них, верно я говорю?
Однажды рядовой экс-первого класса Уинтергрин повредил при рытье ямы водопроводную трубу, и его едва успели выудить, уже полузахлебнувшегося и почти без сознания, из радужно-глинистой жижи. По училищу разнесся слух, что он наткнулся на нефть. Вождь Белый Овсюг тотчас же был изгнан, а все, кто мог держать в руках лопату, оголтело бросились копать землю. Жидкая грязь буквально затопила училище, и вскоре оно стало похожим на остров Пьяносу, когда семь месяцев спустя Мило Миндербиндер подверг его ночной бомбардировке, послав туда всю армаду обслуживающих его синдикат самолетов, которые нанесли удар по аэродрому, ремонтным мастерским, складу боеприпасов и палаткам личного состава, после чего все оставшиеся в живых кинулись рыть противоналетные щели, закрывая их сверху украденными из мастерских бронещитами или откромсанными от соседних палаток кусками брезента. Вождь Белый Овсюг навсегда был изгнан из Колорадо, и его прислали потом на Пьяносу, чтобы заменить лейтенанта Кумбса, который решил узнать, что такое боевой вылет, и напросился пассажиром в самолет Крафта, убитого вместе с ним над Феррарой. Всякий раз, вспоминая Крафта, Йоссариан чувствовал себя виноватым – виноватым потому, что тот погиб из-за его второго захода на цель, а задолго до этого оказался невольно втянутым в знаменитый атабринный мятеж, начавшийся над океаном сразу после вылета из Пуэрто-Рико в Европу и завершившийся через десять дней на Пьяносе, когда переполненный должностным рвением Эпплби явился в штабную палатку эскадрильи с рапортом об отказе Йоссариана принять таблетку атабрина. Сержант предложил ему сесть.
– Благодарю, сержант, – сказал Эпплби, – можно, пожалуй, и сесть. А сколько мне придется ждать? У меня, знаете ли, масса дел: я хочу как следует подготовиться к завтрашним полетам, чтобы в любую секунду выполнить поутру свой воинский долг.
– Не понял, сэр.
– В каком смысле, сержант?
– Я не понял ваш вопрос.
– Сколько приблизительно времени мне придется ждать, чтобы увидеть командира эскадрильи?
– Вам придется ждать, пока он не уйдет обедать, сэр, – сказал сержант Боббикс. – Тогда вы сможете к нему войти.
– Но ведь его там не будет, правильно я вас понял, сержант?
– Правильно, сэр. Майор Майор не придет сюда, пока не кончится обед.
– Понятно, – с недоумением пробормотал Эпплби. – Так я, значит, вернусь, пожалуй, когда кончится обед.
Эпплби, слегка ошалелый, вышел из штабной палатки. И ему вдруг почудилось, что он заметил высокого, немного похожего на Генри Фонду темноволосого офицера, который выпрыгнул в окно и поспешно юркнул за угол. Эпплби замер и зажмурился. Его охватили тревожные подозрения. А что, если он заболел малярией или, того хуже, объелся до галлюцинаций атабрином? Он ведь принял вчетверо больше атабриновых таблеток, чем было предписано, чтобы летать вчетверо лучше других пилотов. Когда сержант Боббикс легонько хлопнул его по плечу, он все еще стоял зажмурившись, но, услышав слова сержанта, снова обрел прежнюю уверенность.
– Вы можете войти, сэр, потому что майор Майор уже ушел.
– Благодарю, сержант. А когда он вернется?
– Сразу после обеда. И тогда вам придется выйти, чтоб дождаться его ухода на ужин. Майор Майор никого не принимает в служебной палатке, пока он в служебной палатке.
– Что-что? Повторите, что вы сказали, сержант!
– Майор Майор никого не принимает в служебной палатке, пока он в служебной палатке, – повторил сержант Боббикс.
Эпплби строго воззрился на сержанта Боббикса и решил испробовать суровый тон.
– Вы, значит, хотите выставить меня дураком, потому что я новичок? Так мне вас понимать, сержант?
– Что вы, сэр, – почтительно ответил ему сержант Боббикс. – Я просто выполняю приказ. Можете спросить у майора Майора.
– Обязательно спрошу, сержант, не сомневайтесь. Так когда же я смогу его увидеть?
– Никогда, сэр.
Пунцовый от унижения, Эпплби написал рапорт об отказе Йоссариана принимать атабриновые таблетки на одном из листов блокнота, который протянул ему сержант Боббикс, и поспешил уйти, размышляя по дороге к своей палатке о том, что Йоссариан, весьма вероятно, не единственный безумец в офицерской форме.
Когда полковник Кошкарт повысил норму боевых вылетов до пятидесяти пяти, сержант Боббикс начал подозревать, что каждый человек в офицерской форме, весьма вероятно, безумец. Сержант Боббикс был худой и угловатый, с мягкими, почти до бесцветности светлыми волосами, впалыми щеками и крупными, словно белая пастила, зубами. Он заправлял делами эскадрильи и не получал от этого ни малейшего удовлетворения. Люди вроде Обжоры Джо поглядывали на него с достойной осуждения ненавистью, а Эпплби принялся мстительно досаждать ему, как только добился славы бесстрашного пилота и непобедимого игрока в пинг-понг. Сержант Боббикс заправлял делами эскадрильи, потому что никто другой не хотел ими заправлять. Его не интересовала война и военная карьера. Его интересовала антикварная мебель и археологические черепки.
Незаметно для себя сержант Боббикс стал мысленно именовать мертвеца из палатки Йоссариана на йоссарианский манер – мертвецом из палатки Йоссариана, – хотя именовать его так значило уклоняться от официально утвержденной истины. Он прибыл из пополнения, и его отправили на тот свет, не успев зачислить в эскадрилью. Он остановился у палатки оперативного отдела, чтобы спросить, как найти КП, а его сразу же послали в бой, потому что многие пилоты завершили к тому времени боевые вылеты – их тогда требовалось тридцать пять – и капитану Птичкарду с капитаном Краббсом было трудно сформировать запланированное штабом полка количество боевых экипажей. Его не зачислили, а значит, не могли отчислить, и сержант Боббикс предчувствовал, что официальная переписка о нем будет продолжаться вечно, как вечен океанский прибой.
Да и фамилия у этого несчастного лейтенанта была Трупп. Сержант Боббикс, безусловно одобряя бережливость и осуждая насилие, не мог без отвращения думать про ужасную расточительность, при которой человека отправляют на самолете за тридевять земель, чтобы через два часа после прибытия разодрать в клочья. Никто не запомнил, каким он был по облику и характеру, а капитан Птичкард с капитаном Краббсом знали только, что новый офицер зашел к ним в оперативный отдел, чтобы сразу же быть посланным на смерть, и смущенно краснели, когда о нем заходил разговор. Единственные люди, которые могли его запомнить, – те, кто вылетел вместе с ним на задание, – тоже были разодраны в клочья.
Зато Йоссариан знал совершенно точно, кем был Трупп. Он был неизвестным солдатом, обреченным на смерть, потому что все неизвестные солдаты обречены на смерть и большего о них знать никому не дано. Они обречены, и этим все сказано. Трупп был никому не известен, даром что его пожитки все еще в беспорядке валялись на койке – почти в таком же беспорядке, как он оставил их три месяца назад, чтобы никогда не вернуться, – пожитки, насквозь пропитанные смертным духом, который он ощутил на мгновение два часа спустя и который пропитал всю эскадрилью, когда через неделю началась Достославная осада Болоньи, пропитавшая тлетворным ядом даже сырой зеленоватый туман над палатками и осенившая каждого человека, назначенного в полет, удушливой пеленой уготованного ему тления.
Полет на Болонью стал для них неотвратимо реальным, когда полковник Кошкарт добровольно вызвался разбомбить силами своего полка склад боеприпасов, недоступный для тяжелых бомбардировщиков, базирующихся в Италии, потому что они могут вести бомбардировку только с большой высоты. Каждый день отсрочки лишь приближал неизбежное, углубляя всеобщую тоску. Въедливое, гнетущее предчувствие гибели непреодолимо усиливалось под шорох обложного дождя, проступая на лицах людей, словно безжизненная, похожая на коросту белизна смертельного, но затяжного недуга. Всепроникающая сырость явственно припахивала формалином. И бесполезно было обращаться куда-либо за помощью, даже за медицинской, в палатку санчасти, закрытую по приказу подполковника Корна, чтобы люди не могли пойти к врачу, как в первый же ясный день, еще до корновского приказа о закрытии медпалаток, когда весь летный состав подкосила вдруг эпидемия диареи, что вызвало еще одну мучительную отсрочку. Избавленный от приема больных закрытой дверью медпалатки, доктор Дейника коротал промежутки между дождями на высокой табуретке, немо и безучастно, будто нахохлившийся коршун, впитывая в себя атмосферу всеобщего страха, а над ним висела пришпиленная к брезентовой двери картонка со зловещим объявлением, которое написал ради шутки капитан Гнус и которое доктор Дейника решил не снимать, потому что какие уж тут шутки. Объявление, написанное на картонке цветным мелком, гласило: «Закрыто по чрезвычайным обстоятельствам до особого извещения. Смерть в семье».
У себя в эскадрилье, доплыв однажды вечером на волнах всеобщего страха до медицинской палатки, Дэнбар неуверенно просунул голову в дверь и почтительно обратился к темному силуэту доктора Стаббза, сидевшего в полумраке перед бутылкой виски и грубой крышкой от какого-то медицинского сосуда, куда была налита продезинфицированная вода.
– Как вы себя чувствуете? – заботливо спросил его Дэнбар.
– Отвратительно, – ответил доктор Стаббз.
– А что вы здесь делаете?
– Сижу.
– Так приема-то вроде нет?
– Нет.
– Зачем же вы здесь сидите?
– А где мне еще сидеть? Не в офицерском же клубе, чтоб ему сгинуть, с Кошкартом и Корном? Вы знаете, что я здесь делаю?
– Сидите.
– Да не в палатке, а в эскадрилье. Бросьте со мной умничать. Что, по-вашему, делают врачи в эскадрильях?
– Сидят у закрытых дверей медпалаток, – ответил Дэнбар.
– Ну так вот, если ко мне придет больной, он без всяких проволочек получит освобождение от полетов, – клятвенно удостоверил доктор Стаббз. – И плевать я хотел на их трепотню.
– Нет у вас такого права, – напомнил ему Дэнбар. – Вы что – забыли приказ?
– А я вкачу больному такой укол, что он не только летать – ползать потом весь день не сможет, – сказал доктор Стаббз и ехидно хохотнул. – Надо же, до чего удумались – отменять приказами врачебный прием! Рылами, голубчики, не вышли. A-а, дьявольщина, опять! – Снова начался дождь: зашелестел в листве деревьев, забулькотел в лужах и потом, словно бы успокоительно бормоча, приглушенно забарабанил по брезентовым скосам палатки. – Все, к дьяволу, отсырело, – с омерзением проговорил доктор Стаббз. – Даже сортиры переполнились и блюют на пол зловонной жижей. А мир смердит, как покойницкая.
Когда он умолк, воцарилась почти бездонная тишина. Наползла ночная темень. Палатка напоминала склеп.
– Зажгли бы вы свет, – предложил доктору Стаббзу Дэнбар.
– Нет у меня света, – откликнулся тот. – Лень заводить движок. Раньше я с огромной радостью спасал людям жизнь. А теперь вот думаю: ну какой в этом, к дьяволу, прок, если их все равно пошлют на убой?
– Есть прок, и очень даже большой, – заверил его Дэнбар.
– Думаете, есть? А какой?
– А такой, что чем успешней вы продлите им жизнь, тем будет лучше.
– Да зачем, если их все равно убьют?
– А тут весь фокус в том, чтобы об этом не думать.
– Плевать на фокусы. Прок-то в этом какой?
– А черт его знает, – подумав, отозвался Дэнбар.
Сам он не знал. Предстоящая бомбардировка Болоньи должна была вроде бы его радовать, потому что минуты ожидания тянулись как часы, а часы превращались в столетия… Но он извелся и замучился от предчувствия, что его убьют.
– Так вы и правда хотите еще кодеина? – помолчав, спросил Дэнбара доктор Стаббз.
– Да-да, это для моего друга Йоссариана. Он чувствует, что его убьют.
– Для какого, к дьяволу, Йоссариана? Кто такой Йоссариан? Что еще за дьявольская фамилия – Йоссариан? Это не тот ли тип, который упился на днях в офицерском клубе и затеял потасовку с подполковником Корном?
– Тот самый. Он ассириец.
– Псих он, а не ассириец.
– Ну нет, он-то не псих, – возразил Дэнбар. – Он клянется, что не полетит на Болонью.
– Так об этом-то я и толкую, – подхватил доктор Стаббз. – Он один тут не сумасшедший, даром что псих.
Глава одиннадцатая
Капитан Гнус
Капрал Колодный узнал об этом первый – когда в разведотдел позвонил дежурный полковой штабист – и был так ошарашен, что крался по палатке к столу капитана Гнуса на цыпочках, а услышанную новость сообщил ему невнятным от страха шепотом; однако капитан Гнус, который дремал до этого, взгромоздив тощие ноги на стол, воспринял весть Колодного с радостным оживлением.
– На Болонью? – весело заорал он. – Ну, чтоб меня… – Его одолел забористый хохот. – Так на Болонью? – между взрывами хохота выговорил он и в счастливом удивлении покачал головой. – Вот это да! Ух и хороши же будут у них у всех морды, когда они узнают, что им предстоит полет на Болонью! У-ху-ху-ху-хо!
Он хохотал от всей души – впервые с тех пор, как его обошел майор Майор, назначенный по приказу Кошкарта командиром эскадрильи, – а чтобы полнее насладиться своей радостью, он лениво поднялся и вплотную подступил к барьеру, на который кладут перед полетом подготовленные для бомбардиров карты.
– Да-да, оглоеды, на Болонью, – без устали повторял он, радостно вглядываясь в лица бомбардиров, с недоверием спрашивающих его, действительно ли их посылают на Болонью. – Именно туда, оглоеды, у-ху-ху-ху-хо! Жрите что приказано, оглоеды, теперь-то уж вам не выкрутиться!
Когда последний бомбардир ушел, капитан Гнус вылез из своей служебной палатки, чтобы приятственно понаблюдать, как воспринимают эту новость остальные члены экипажей, собравшиеся с полетным снаряжением – касками, парашютами и бронежилетами – у четырех грузовиков, которые ждали их для доставки на аэродром. Капитан Гнус, высокий, плоский, угрюмо расхлябанный в движениях человек с рыжеватой щетиной на угловато-заостренном бледном лице и усами-недоростками под хрящеватым носом – он брился раз в три, а то и четыре дня, – совершенно правильно предугадал, что получит удовольствие. На лицах у назначенных в полет людей явственно проступал цепенящий страх, и капитан Гнус удовлетворенно позевывал, жизнерадостно стряхивал дремотную вялость и сладострастно похохатывал, предлагая в очередной раз кому-нибудь из оглоедов жрать что приказано.
Бомбардировка Болоньи обернулась для капитана Гнуса первым по-настоящему радостным событием с того дня, когда после гибели над Перуджей капитана Дулуса его почти назначили командиром эскадрильи. Радиограмма о смерти Дулуса открыла перед ним самые радужные перспективы. Он сразу же логично рассудил, хотя никогда об этом раньше не думал, что преемником командира должен стать именно он. Во-первых, он был командиром разведотдела и, значит, неизмеримо превосходил мудростью тех офицеров, которые летали, постоянно рискуя жизнью, на боевые задания. Во-вторых, он не летал на боевые задания, а значит, был опять же мудрее всех других командиров эскадрилий, которые летали, и мог выполнять свой долг перед родиной сколь угодно долго. Чем больше капитан Гнус думал об этом, тем яснее ему становилось, что он прав. Оставалось только умело обронить в нужном месте нужное словечко – и как можно скорей. Он поспешил к себе в служебную палатку, чтобы наметить план действий. Усевшись в свое вращающееся кресло, взгромоздив ноги на стол и закрыв глаза, он принялся размышлять, как прекрасно все устроится, когда его назначат командиром эскадрильи.
Пока капитан Гнус размышлял, полковник Кошкарт действовал, и почти-командир был потрясен тем проворством, с которым майор Майор, как ему представлялось, его обошел; изумленно узнав о назначении майора Майора, он не стал скрывать свою горькую озлобленность. Когда его коллеги удивлялись выбору полковника Кошкарта, он говорил, что творится нечто странное; когда при нем обсуждали странное сходство майора Майора с Генри Фондой, он утверждал, что тот и есть Генри Фонда – очень подозрительный тип; а когда заходила речь о странностях майора Майора, он прямо объявлял его коммунистом.
– Они скоро все приберут к рукам, – злобно утверждал капитан Гнус. – Вы, конечно, можете им потакать, но я-то сидеть сложа руки не буду. Я буду бороться. Отныне каждому оглоеду, который явится ко мне в разведпалатку, придется подписывать клятву верности. И я не буду церемониться, когда ко мне придет этот оглоед майор Майор, – он у меня не подпишет клятву верности, даже если захочет.
Самоотверженная борьба за клятву верности почти мгновенно развернулась в грандиозную битву, и капитан Гнус почувствовал пылкое вдохновение, осознав себя ее идейным руководителем. Перед ним открылись широчайшие возможности. Все солдаты и офицеры, отправляясь на боевое задание, должны были подписать клятву верности – сначала в разведотделе у капитана Гнуса, чтобы получить маршрутные карты, потом в парашютной палатке, чтобы получить бронежилеты и парашюты, а потом еще и у лейтенанта Болкингтона, начальника автобазы, чтобы их доставили на аэродром. Клятва верности поджидала человека повсюду. Он предварительно подписывал ее, получая денежное довольствие, покупая что-нибудь в армейской лавке и даже подстригаясь или бреясь у парикмахеров-итальянцев. А для капитана Гнуса командир любого отдела, включившийся в грандиозную битву за клятву верности, оказывался досадным соперником, и он круглосуточно изобретал и планировал, как опередить новоявленных конкурентов. Ради безопасности отчизны он был готов на любые жертвы. Когда другие офицеры-администраторы, откликнувшись на его призыв, стали учреждать в своих подразделениях собственные клятвы верности, он переплевывал их, заставляя каждого оглоеда, который являлся к нему в разведпалатку, подписывать две, три, четыре клятвы верности; вслед за этим последовала присяга на вечную преданность и была создана сначала одна, потом две, потом три, потом четыре хоровые группы, исполнявшие под развернутым знаменем государственный гимн. Всякий раз, оставив своих соперников позади, он свысока приводил им себя в пример и всякий раз, когда они успешно следовали его примеру, тревожно выискивал, чем бы их снова перещеголять, чтобы снова свысока привести им себя в пример.
Исподволь и незаметно боевые офицеры оказались под пятой у тыловых администраторов, которые вообще-то существуют, чтобы облегчить им воинский труд. Их беспрестанно запугивали и ругали, понукали и поучали. А когда они теряли терпение, капитан Гнус указывал им, что по-настоящему верные родине люди без возражений подпишут клятву верности – столько раз, сколько потребует от них долг. Когда его спрашивали, какой в этом толк, он разъяснял, что верные моральному долгу люди с гордостью подпишут клятву верности – столько раз, сколько потребует от них он. А когда его спрашивали, при чем тут мораль, он утверждал, что государственный гимн – это великолепнейшая, высоконравственная музыка. Чем чаще подписывал человек клятву верности, тем вернее он был предан родине, тут у капитана Гнуса не возникало ни малейших сомнений, и капрал Колодный подписывал его именем клятву верности по нескольку сот раз на дню, чтобы он мог без труда доказать, что предан родине самоотверженней, чем кто бы то ни было другой.
– Важно, чтоб люди почаще клялись, – поучал единомышленников капитан Гнус, – и неважно, верят они своим словам или нет. Недаром детишки в школах ежедневно твердят по утрам перед уроками клятву верности своей стране, хотя они еще и понятия не имеют, что такое верность или, скажем, клятва.
Для капитана Птичкарда с капитаном Краббсом грандиозная битва за клятву верности была хуже грандиозной занозы в самом причинном месте, поскольку им становилось все труднее комплектовать боевые экипажи. Люди с утра до ночи пели, расписывались и клялись, так что подготовка к полетам отнимала теперь многие часы, а уж про срочный боевой вылет даже и заикаться не приходилось, но капитан Птичкард с капитаном Краббсом были слишком робкими, чтобы возвысить голос протеста против мероприятий капитана Гнуса, который развернул тем временем широкую кампанию за непрерывную проверку верности под лозунгом «Верность наверняка», призванную выявить отступников, утративших верность долгу и родине после последнего подписания клятвы. Капитан Птичкард с капитаном Краббсом выбивались из последних сил, стараясь не сорвать очередной вылет, когда к ним явилась делегация, возглавляемая капитаном Гнусом, который твердо заявил им, что, прежде чем назначать людей в экипажи, они должны брать с них клятву верности.
– Дело, конечно, ваше, – сказал капитан Гнус, – и я не собираюсь оказывать на вас давление, но все остальные офицеры вспомогательных служб давно уже требуют у них письменную клятву верности, и Федеральному бюро расследований может показаться странным, что вы так легкомысленно относитесь к безопасности страны. Если вам наплевать на вашу репутацию, то дело, повторяю, ваше – я-то просто решил вас предостеречь.
Мило Миндербиндер был тверд и решительно отказался снять майора Майора с пищевого довольствия, даже если тот коммунист, чему он не очень-то верил. Мило инстинктивно избегал любых новшеств, которые могли бы нарушить привычный порядок. Он твердо стоял на нравственной позиции и решительно отказывался включиться в грандиозную битву за клятву верности, пока капитан Гнус не явился со своей делегацией и к нему.
– Защита отечества – наш общий долг, – в ответ на возражения Мило Миндербиндера указал капитан Гнус. – Подпись под клятвой верности – дело, разумеется, добровольное, и забывать об этом не стоит. Люди вовсе не обязаны подписывать клятву, которую предлагают им капитан Птичкард и капитан Краббс. Но нам совершенно необходимо, чтоб ты уморил их голодом, если они откажутся ее подписать. Это как Поправка-22, понимаешь? Ты ведь, надеюсь, не против Поправки-22?
Доктор Дейника был непреклонен.
– Откуда вы взяли, что майор Майор коммунист?
– А разве он отрицал это, пока мы не вывели его на чистую воду? И разве он подписал хоть раз клятву верности?
– Так вы ему не даете.
– Само собой, не даем, – разъяснил капитан Гнус. – Это свело бы на нет уже почти выигранную битву. Вы не обязаны нас поддерживать, решать тут, конечно, вам. Но подумайте, что станется с нашими усилиями, если вы согласитесь оказывать майору Майору медицинскую помощь, когда Мило Миндербиндер начнет воспитывать его голодом. И представьте себе, как отнесутся в штабе полка к человеку, который собирается угробить всю нашу систему безопасности. Они ведь, пожалуй, отправят его на Тихий океан.
Доктор Дейника поспешно отступил.
– Я скажу Гэсу с Уэсом, чтоб они выполняли все ваши пожелания, – сказал он.
Полковника Кошкарта слегка встревожило поднявшееся на Пьяносе волнение.











