Читать онлайн Американский психопат
- Автор: Брет Истон Эллис
- Жанр: Зарубежные детективы, Триллеры
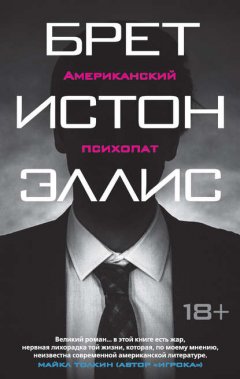
Бытует мнение, что хорошие манеры говорят о сердечности и доброжелательности. Но это совсем не так. Любое, даже самое хамское, поведение можно представить в рамках приличий. Для этого и существует цивилизация – чтобы все были взаимно вежливыми и не выказывали враждебности. Например, натуралистическое движение шестидесятых, когда последователи Руссо задавались вопросом: «Почему нельзя говорить то, что думаешь?» – было в корне неверным. В цивилизованном обществе должны быть какие-то ограничения. Если бы каждый давал волю своим порывам, мы бы давно уже поубивали друг друга.
Мисс Безупречные Манеры (Джудит Мартин)
И вот все развалилось,
Но никому не было дела.
Talking Heads
Bret Easton Ellis
AMERICAN PSYCHO
Copyright © 1991 by Bret Easton Ellis
All rights reserved
© В. Ярцев, перевод, 2003
© Т. Покидаева, перевод, 2003
© А. Гузман, примечания, 2003
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015
Издательство Иностранка®
Первое апреля
«Оставь надежду всяк сюда входящий» – криво выведено кроваво-красными буквами на стене Химического банка на углу Одиннадцатой и Первой. Буквы достаточно крупные, так что их видно с заднего сиденья такси, зажатого в потоке машин, который двигается с Уолл-стрит. В тот момент, когда Тимоти Прайс замечает надпись, сбоку подъезжает автобус и реклама мюзикла «Отверженные» у него на борту закрывает обзор, но двадцатишестилетний Прайс, который работает в Pierce & Pierce, этого, кажется, даже не замечает… Он обещает водителю пять долларов, если тот включит музыку погромче; на радио WYNN играет «Be My Baby», и черный шофер (видно, что он не американец) прибавляет звук.
– Я находчив, – говорит Прайс. – Я личность творческая. Я молод, беспринципен, высокомотивирован и хорошо образован. В сущности, я утверждаю, что общество не может позволить себе потерять меня. Я – его актив.
Прайс успокаивается и по-прежнему смотрит в грязное стекло такси, вероятно уставившись на слово «СТРАХ», выведенное красным граффито на стене «Макдональдса» на углу Четвертой и Седьмой.
– Я хочу сказать, что факт остается фактом: всем наплевать на свою работу, все ненавидят свою работу, я ненавижу свою работу, ты мне говорил, что ненавидишь свою. И что мне делать? Вернуться в Лос-Анджелес? Не вариант! Я не для того переводился из Ю-Си-Эл-Эй в Стэнфорд. Ну то есть не один ведь я считаю, что мы зарабатываем мало денег?
Как в кино, появляется еще один автобус, и еще одна реклама «Отверженных» закрывает надпись на стене. Это другой автобус, потому что кто-то нацарапал на лице Эпонины «ЛЕСБИ».
– У меня здесь кооператив! – выкрикивает Тим. – У меня, черт возьми, квартира в Хэмптонах.
– Родительская, чувак. Родительская.
– Я покупаю ее у них. Ты, блядь, прибавишь звук? – рассеянно огрызается он на шофера; на радио по-прежнему играют Crystals.
Кажется, шофер говорит, что громче не делается.
Не обращая на него внимания, Тимоти продолжает:
– Я бы мог остаться в этом городе, если бы в такси установили магнитолы Blaupunkt. С динамиками ODM-три или ORC– два… – его голос смягчается, – или те, или другие. Круто, чувак, очень круто.
Не прекращая жаловаться, он снимает с шеи наушники дорогого плеера.
– Честное слово, ненавижу жаловаться – на мусор, на помойки, на болезни, на вечную грязь в этом городе, – мы-то с тобой оба знаем, какой это свинарник…
Продолжая говорить, Прайс открывает свой новый дипломат Tumi из телячьей кожи, купленный в D.F.Sanders. Он укладывает туда плеер рядом с мобильным телефоном Easa (раньше у него был NEC 9000 Porta) и вынимает сегодняшнюю газету.
– В одном номере – в одном номере – давай посмотрим… задушенная топ-модель, младенец, сброшенный с крыши высотного здания, дети, убитые в метро, коммунистическая сходка, замочили крупного мафиози, нацисты, – он возбужденно листает страницы, – больные СПИДом бейсболисты, опять какое-то говно насчет мафии, пробка, бездомные, разные маньяки, педики на улицах мрут как мухи, суррогатные матери, отмена какой-то мыльной оперы, дети проникли в зоопарк, замучили несколько животных, сожгли их заживо… опять нацисты… Самое смешное, что все это происходит здесь, в этом городе, а не где-нибудь там, именно здесь, вот какая фигня, ну-ка подожди. Опять нацисты, пробка, пробка, торговля детьми, дети на черном рынке, дети, больные СПИДом, дети-наркоманы, здание обрушилось на грудного ребенка, дети-маньяки, автомобильная пробка, обвалился мост… – Прайс умолкает, переводит дыхание и спокойно говорит, глядя на попрошайку на углу Второй и Пятой: – Двадцать четвертый за сегодня. Я считал. – Потом, не поднимая глаз, спрашивает: – Почему ты не носишь с серыми брюками темно-синий шерстяной пиджак?
На Прайсе шестипуговичный костюм от Ermenegildo Zegna (шерсть с шелком), хлопчатобумажная рубашка с двойными манжетами от Ike Behar, шелковый галстук от Ralph Lauren и кожаные остроносые ботинки от Fratelli Rossetti. Он уткнулся в «Post». Там сравнительно интересная история о том, как двое людей таинственно исчезли с вечеринки, проходившей на яхте одной нью-йоркской полузнаменитости, пока судно кружило вокруг острова. Никаких следов, только пятна крови и три разбитых стакана из-под шампанского. Подозревают, что дело нечисто, – по характерным царапинам и зазубринам на палубе полиция полагает, что орудием убийцы был мачете. Тела не обнаружены. Подозреваемых нет. Прайс завелся еще за обедом, не угомонился он и во время партии в сквош и продолжил выступление в баре «У Гарри». Там после трех виски «J&B» с содовой он перешел на счета Фишера, которыми занимается Пол Оуэн. Прайс не может заткнуться.
– Болезни! – восклицает он, и его лицо кривится от боли. – Есть теория, что если ты подхватил СПИД, переспав с инфицированным человеком, то можешь заодно подхватить что угодно, даже то, что вирусом не передается, – болезнь Альцгеймера, мускульную дистрофию, гемофилию, лейкемию, анорексию, рак, рассеянный склероз, муковисцидоз, церебральный паралич, диабет, дислексию, господи, – от пизды можно заработать дислексию…
– Я не уверен, но, по-моему, дислексия не вирус.
– Кто его знает? Они не знают. Это еще надо доказать.
Снаружи, на тротуаре, черные разжиревшие голуби дерутся за остатки хот-догов перед киоском «Папайя Грея», трансвеститы лениво наблюдают за ними, полицейская машина бесшумно едет не в том направлении по улице с односторонним движением, небо низкое и серое.
Из такси, которое остановилось напротив, какой-то парень, очень похожий на Луиса Каррузерса, машет Тимоти рукой. Тимоти не отвечает на приветствие, и парень (волосы зачесаны назад, подтяжки, очки в роговой оправе) понимает, что обознался, и возвращается к своему номеру «USA Today». По тротуару, с плеткой в руках, бредет отвратительная бездомная старуха, потупив взор. Она щелкает плеткой, но голуби не обращают на нее внимания, продолжая клевать и отчаянно драться за остатки хот-догов. Полицейская машина исчезает на въезде в подземную стоянку.
– Но когда ты доходишь до того, чтобы абсолютно, полностью принять окружающий мир, когда ты как-то настраиваешься на это безумие и все обретает смысл, а потом вдруг раз – и мы получаем какую-нибудь мудацкую сумасшедшую негритянку-бомжиху, которой на самом деле нравится — послушай меня, Бэйтмен, – ей нравится жить на улице, на этих вот улицах, посмотри, вот на этих, – он тычет в окно, – а наш мэр не желает считаться с ее желанием, не дает этой суке сделать по-своему… Господи боже… не дает этой ебаной суке замерзнуть насмерть, помогает ей выбраться из ею же самой созданной нищеты, и, видишь, – ты опять там же, откуда начал, растерянный, охуевший… Двадцать четыре, нет, двадцать пять… А кто будет у Эвелин? Подожди, дай угадаю. – Он поднимает руку с безукоризненным маникюром. – Эшли, Кортни, Малдвин, Марина, Чарльз… я пока прав? Может быть, какие-то богемные дружки Эвелин, эти художники из господи-ты-боже-мой-Ист-Виллидж. Ну, ты понимаешь, о ком я… Они спрашивают у Эвелин, нет ли у нее хорошего белого шардоне… – Он хлопает себя рукой по лбу, закрывает глаза и бормочет сквозь зубы: – Все, ухожу. Бросаю Мередит. Она просто заставляет меня любить ее. Меня достало. Почему я только сейчас понял, что она – типичная ведущая телешоу?.. Двадцать шесть, двадцать семь… Я говорю ей, что я – человек чувствительный. Я ей говорил, что очень расстроился, когда разбился «Челленджер»… чего ей еще надо?! Я человек нравственный и терпимый, я доволен жизнью, я смотрю в будущее с оптимизмом – ты ведь тоже?
– Разумеется, но…
– А от нее получаю одно дерьмо… Двадцать восемь, двадцать девять, ебаный в рот, да тут у них просто гнездо. Говорю тебе… – Он вдруг замолкает, словно задохнувшись, – наверное, вспомнил о чем-то важном – и, отвернувшись от очередной рекламы «Отверженных», спрашивает: – Ты читал о ведущем того телешоу? Который убил двух подростков? Пидор и извращенец. Смех, да и только.
Прайс ждет реакции. Ее нет. И вдруг уже Уэст-Сайд. Он просит таксиста остановиться на углу Восемьдесят первой и Риверсайд, поскольку по улице нет проезда.
– Чтобы не объезжать… – начинает Прайс.
– Может, я по-другому объеду, – говорит шофер.
– Не надо. – И чуть потише, но все же достаточно громко, стиснув зубы и без улыбки: – Мудила ебаный.
Таксист останавливает машину. Два такси сзади сигналят и проезжают мимо.
– Может, купим цветов?
– Что? Черт, это же ты ее пялишь, Бэйтмен. А цветы покупаем мы? Надеюсь, найдется сдача с полтинника, – предупреждает он водителя, косясь на красные цифры на счетчике. – Черт. Это все стероиды. Поэтому я такой нервный. Извини.
– Я думал, ты их больше не принимаешь.
– У меня на руках и ногах появились, прикинь, прыщи, ультрафиолетовые облучения не помогали, вместо этого я начал ходить в обычный солярий, и все прошло. Господи, Бэйтмен, ты бы видел, какой рельефный у меня живот. Идеальный живот. Крепкий, подтянутый… – произносит он странным, рассеянным тоном в ожидании, когда таксист отдаст сдачу, – в общем, рельефный.
Он не дает таксисту чаевых, но тот все равно искренне доволен. «Ну, пока, Шломо», – подмигивает ему Прайс.
– Черт, черт, проклятье, – говорит он, открывая дверцу. Выйдя из машины, он замечает нищего. – Я выиграл: тридцать.
Небритый, с жирными, зализанными назад волосами нищий одет в страшно засаленное грязно-зеленое полупальто. Прайс в шутку придерживает перед ним открытую дверцу такси. Бродяга смущается и, стыдливо опустив глаза, протягивает нам пустой пластиковый стаканчик из-под кофе.
– Как я понимаю, машина ему не нужна, – хмыкает Прайс, захлопывая дверцу. – Спроси, принимает ли он American Express.
– Ты принимаешь AmЕх?
Бродяга утвердительно кивает и, шаркая, медленно уходит.
Для апреля холодновато. Прайс бодро шагает к дому Эвелин, насвистывая песенку «If I Were a Rich Man»[1]; его теплое дыхание вырывается изо рта облачками пара, он размахивает кожаным дипломатом Tumi. Нам навстречу идет человек с зачесанными назад волосами, в роговых очках, одетый в бежевый двубортный костюм из шерсти с габардином от Cerruti 1881, в руках у него – точно такой же кожаный дипломат Tumi из D.F.Sanders. Тимоти изумляется вслух:
– Это Виктор Пауэлл?! Не может быть.
Мужчина проходит под неоновым светом фонаря, и лицо у него испуганное. На мгновение его губы складываются в подобие улыбки, он смотрит на Прайса как на знакомого, но быстро соображает, что обознался; до Прайса тоже доходит, что это не Виктор Пауэлл, и мужчина проходит мимо.
– Слава богу, – бормочет Прайс, подходя к дому Эвелин.
– И вправду, очень похож.
– Пауэлл на ужине у Эвелин! Это как пейсли с шотландкой. – Прайс на секунду задумывается. – Нет, я бы даже сказал: как белые носки с серыми брюками.
Камера медленно наезжает, и вот Прайс уже поднимается на крыльцо дома, который для Эвелин купил ее отец, – он поднимается и ворчит, что забыл вернуть кассеты в видеопрокат. Звонит в дверь. Из соседнего дома выходит женщина – высокие каблуки, великолепная задница – и уходит, не заперев дверь. Прайс провожает ее взглядом, но, услышав приближающиеся шаги, сразу же поворачивается и поправляет галстук от Versace, готовясь предстать во всей красе, кто бы ему ни открыл. Дверь открывает Кортни. На ней кремовая шелковая блузка от Krizia, твидовая, цвета ржавчины юбка от Krizia и туфли d’Orsay из шелкового атласа (Manolo Blahnik).
Я вздрагиваю и протягиваю ей свое черное шерстяное пальто от Giorgio Armani, она берет его, осторожно касаясь губами воздуха у моей правой щеки, а потом точно так же целует Прайса, принимая и его пальто от Armani. В гостиной тихо играет новый компакт Talking Heads.
– Опаздываете, мальчики, – скалится Кортни.
– Попался придурок-таксист с Гаити, – мямлит Прайс, в свою очередь касаясь губами воздуха возле ее щеки. – У нас заказан столик где-нибудь? Только не говори, что на девять в «Пастелях».
Кортни улыбается и вешает оба пальто в стенной шкаф.
– Сегодня, мои дорогие, мы едим дома. Знаю-знаю – я пыталась отговорить Эвелин, но тем не менее у нас будет… суши.
Тим проходит мимо нее в кухню.
– Эвелин? Где ты, Эвелин? – зовет он нараспев. – Нам надо поговорить.
– Рад тебя видеть, – говорю я Кортни, – замечательно выглядишь. Лицо у тебя… так и сияет молодостью.
– Ты, Бэйтмен, знаешь, чем обаять даму. – В голосе Кортни нет ни капли сарказма. – Рассказать Эвелин про твой комплимент? – кокетливо спрашивает она.
– Нет, – отвечаю я. – Но даже не сомневаюсь, что ты бы с радостью.
– Пойдем, – говорит она, снимает с талии мои руки и кладет свои руки мне на плечи, подталкивая меня в сторону кухни. – Надо спасать Эвелин. Она уже час раскладывает суши. Пытается выложить твои инициалы: «П» – желтохвостом, а «Б» – тунцом, но ей кажется, что тунец выглядит слишком бледно…
– Как романтично.
– …и желтохвоста не хватает, чтобы закончить «Б». – Кортни вздыхает. – Так что, мне кажется, она выложит инициалы Тима. Ты ведь не возражаешь? – спрашивает она с легким беспокойством. Кортни – подруга Луиса Каррузерса.
– Я ужасно ревную, и мне, пожалуй, надо поговорить с Эвелин, – отвечаю я, и Кортни мягко вталкивает меня в кухню.
Эвелин стоит возле кухонной стойки из светлого дерева. На ней кремовая шелковая блузка от Krizia и твидовая, цвета ржавчины юбка от Krizia, точно такие же, как у Кортни, и такие же туфли d’Orsay из шелкового атласа. Длинные светлые волосы собраны в строгий пучок, и она здоровается со мной, не поднимая глаз от овального, из нержавеющей стали блюда Wilton, на котором она художественно разложила суши.
– Ты уж прости меня, милый. Я хотела пойти в это очаровательное сальвадорское бистро в Ист-Сайде…
Прайс громко стонет.
– …но мы не смогли заказать столик. Тимоти, перестань стонать! – Она берет очередной кусок желтохвоста и осторожно кладет его в верхнюю часть блюда, завершая фигуру, похожую на заглавную букву «Т». Потом отступает на шаг и придирчиво изучает свое творение. – Даже не знаю. Нет, правда, не знаю.
– Я же просил тебя купить «Финляндию», – бурчит Тим, просматривая бутылки (в основном большие, на две кварты). – У нее никогда нет «Финляндии», – обращается он ко всем.
– Господи, Тимоти. Чем тебе «Абсолют» не нравится? – спрашивает Эвелин и задумчиво обращается к Кортни: – Калифорнийские роллы лучше разложить по краям, да?
– Давай выпьем, Бэйтмен, – вздыхает Тимоти.
– Мне «J&B» со льдом, – говорю я и вдруг думаю: как странно, что Мередит не пригласили.
– Господи, смотрится отвратительно, – говорит Эвелин со слезами в голосе. – Я сейчас точно расплачусь.
– А мне кажется, изумительно смотрится, – говорю я.
– Отвратительно, – причитает она, – отвратительно.
– Да нет же, нет. Суши выглядят изумительно, – говорю я и, пытаясь утешить Эвелин, беру кусок палтуса, запихиваю его себе в рот, мычу от удовольствия и обхватываю Эвелин сзади; рот набит рыбой, но мне удается сказать: – И очень вкусно.
Она игриво бьет меня по рукам, моя реакция ей явно понравилась, чмокает воздух возле моей щеки и поворачивается к Кортни. Прайс вручает мне стакан и идет в гостиную, пытаясь стряхнуть с пиджака невидимую пылинку:
– Эвелин, у тебя есть платяная щетка?
Вместо этого ужина я бы лучше остался дома и посмотрел бы бейсбол, или сходил бы в тренажерный зал, или наведался бы в тот сальвадорский ресторанчик, который пару раз похвалили, один раз в журнале «New York», а второй – в «Times». Однако вечеринки у Эвелин хороши тем, что это недалеко от моего дома.
– Ничего, если соевый соус будет не совсем комнатной температуры? – спрашивает Кортни. – По-моему, там одно блюдо со льдом.
Рядом с изящной фарфоровой соусницей Эвелин аккуратно выкладывает бледно-оранжевые кусочки имбиря.
– Нет, так не пойдет. Патрик, будь пай-мальчиком, принеси пиво из холодильника. – Кажется, имбирь ее достал, она швыряет всю горсть на поднос. – Ладно, не надо. Я сама.
Я все равно иду к холодильнику. Мрачный Прайс входит на кухню и спрашивает:
– Черт возьми, кто это там в гостиной?
Эвелин изображает святую невинность:
– А кто там?
Кортни предостерегающе хмурится:
– Э-ве-лин. Надеюсь, ты им сказала.
– Кто? – внезапно пугаюсь я. – Виктор Пауэлл?
– Нет, Патрик, это не Виктор Пауэлл, – говорит Эвелин. – Это один мой приятель, художник. Его зовут Сташ. И его подруга Вэнден.
– Ага, стало быть, это девушка, – говорит Прайс. – Сходи посмотри, Бэйтмен, оно того стоит. Дай угадаю. Ист-Виллидж?
– Ах, Прайс, – кокетливо произносит Эвелин, открывая бутылки с японским пивом. – А если бы даже Ист-Виллидж? Вэнден учится в Кэмдене, а Сташ живет в СоХо, вот так.
Я выхожу из кухни, иду мимо столовой, где накрыт стол – в подсвечниках чистого серебра от Fortunoff горят восковые свечи от Zona, – и вхожу в гостиную. Непонятно, от кого одевается Сташ, – он весь в черном. У Вэнден зеленые пряди в волосах. Она курит и смотрит видеоклип по «МТV», какой-то хеви-метал.
– Кхе, кхе, – кашляю я.
Вэнден, кажется, обдолбана по самое не могу. Она настороженно оборачивается. Сташ сидит неподвижно.
– Привет. Я Пат Бэйтмен. – Я протягиваю ей руку. Заметив в зеркале на стене свое отражение, улыбаюсь, потому что вижу, как хорошо я выгляжу.
Она молча пожимает мне руку. Сташ нюхает свои пальцы. Быстрая смена кадра – и я снова на кухне.
– Гоните ее отсюда, – бурчит Прайс. – Она зациклена на «MTV», а я хочу посмотреть репортаж Макнила и Лерера.
Эвелин открывает большие бутылки импортного пива и замечает рассеянно:
– Пора уже съесть это, или мы все отравимся.
– У нее зеленые пряди в волосах, – говорю я. – И она курит.
– Бэйтмен, – говорит Тим, не сводя глаз с Эвелин.
– Да? – отвечаю я. – Что, Тимоти?
– Ты псих.
– Оставь Патрика в покое, – говорит Эвелин. – Он милый соседский мальчик, вот он кто. Никакой ты не псих, правда, милый?
Эвелин – существо не от мира сего. Я иду к бару, чтобы налить себе еще.
– Милый соседский мальчик, – ухмыляется Тим, а потом снова корчит рожу и раздраженно спрашивает Эвелин, есть ли у нее платяная щетка.
Открыв наконец все бутылки с японским пивом, Эвелин просит Кортни сходить за Сташем и Вэнден.
– Надо все это есть сейчас, а то потом отравимся, – бормочет она и оглядывает кухню, проверяя, не забыла ли она что-нибудь.
– Если удастся оторвать их от последнего клипа Megadeth, – говорит Кортни, выходя.
– Нам надо поговорить, – говорит Эвелин.
Я подхожу к ней:
– О чем?
– Да не с тобой, – говорит она, указывая на Тима. – С Прайсом.
Тим по-прежнему злобно смотрит на нее. Я ничего не говорю, уставившись на его стакан.
– Будь добр, – просит она меня, – отнеси суши на стол. Темпура в микроволновке, саке почти закипело… – Она уводит Прайса из кухни, и я не слышу окончания фразы.
Интересно, где Эвелин взяла суши. Тунец, желтохвост, макрель, креветки, угорь, даже бонито – все свежее; на блюде Wilton продуманно уложены кучки васаби и кусочки имбиря. Но еще больше мне нравится мысль, что я не знаю, никогда не узнаю и никогда не спрошу, откуда все это появилось. Суши будут стоять посреди стеклянного стола из Zona, который купил для Эвелин отец, этакий добрый и всемогущий джинн из арабских сказок, и, ставя блюдо на стол, я мельком ловлю свое отражение на его гладкой поверхности. При свечах моя кожа кажется смуглее, и я отмечаю, что стрижка, сделанная в прошлую среду в Gio, смотрится очень хорошо. Я наливаю себе еще. Меня беспокоит содержание соли в соевом соусе.
В ожидании Эвелин и Тимоти, которые ушли на поиски платяной щетки, мы вчетвером сидим за столом. Я сижу во главе стола и большими глотками пью «J&B». На противоположном конце Вэнден безо всякого интереса читает какой-то богемный журнал под названием «Deception»[2]; заголовок большими буквами – «КОНЕЦ ДАУНТАУНА». Сташ вогнал зубочистку в одинокий кусок желтохвоста, лежащий, словно блестящее насекомое, у него на тарелке; зубочистка торчит вертикально. Время от времени Сташ выходит из ступора и начинает возить по тарелке кусок суши. Он ни разу не поднял глаз на меня, Вэнден или Кортни. Кортни сидит рядом со мной и потягивает сливовое вино из фужера для шампанского.
Эвелин с Тимоти возвращаются минут через двадцать после того, как мы сели; Эвелин, похоже, слегка раскраснелась – но только слегка. Тим, готовясь сесть рядом со мной, пристально смотрит на меня, стакан у него в руке снова полный. Он наклоняется ко мне, собирается что-то сказать, может быть, в чем-то признаться, но внезапно вмешивается Эвелин:
– Не туда, Тимоти, – а потом шепчет: – Мальчик-девочка, мальчик-девочка, – и указывает рукой на пустой стул рядом с Вэнден.
Глядя на Эвелин, Тимоти нерешительно садится возле Вэнден, которая, откровенно зевая, перелистывает свой журнал.
– Ну, все разом, – с улыбкой произносит Эвелин, довольная своей ролью радушной хозяйки, приготовившей экзотический ужин, – берем и едим.
Заметив пронзенный кусок суши на тарелке у Сташа (теперь Сташ склонился над тарелкой и что-то шепчет), она немного теряется, но мужественно улыбается и щебечет:
– Кто хочет сливового вина?
Все молчат, а потом Кортни, глядя в тарелку Сташа, неуверенно приподнимает стакан и, пытаясь изобразить улыбку, говорит:
– Просто… божественно, Эвелин.
Сташ молчит. И хотя, вероятно, он себя чувствует несколько неуютно в нашей компании, потому что совсем не похож на остальных присутствующих мужчин (его волосы не зачесаны назад, у него нет подтяжек и очков в роговой оправе; он весь в черном, одежда плохо на нем сидит; он не выказывает желания закурить, пососать сигару; он, скорее всего, не способен заказать столик в «Верблюдах»; он ничего из себя не представляет), – и все же в его поведении не ощущается никакой скованности, его словно загипнотизировало блестящее суши, и, когда наконец все готовы окончательно забыть о Сташе, отвести глаза и приступить к еде, он выпрямляется и говорит, тыкая пальцем в свою тарелку:
– Оно шевелится.
Тимоти смотрит на него с таким жгучим презрением, до которого мне, признаюсь, далеко. Но я очень стараюсь не отставать. Вэнден вроде бы забавляется, и Кортни, как ни печально, тоже. У меня возникает стойкое подозрение, что ей даже нравится эта обезьяна. Правда, если бы я ходил на свидания с Луисом Каррузерсом, мне бы, наверное, он тоже понравился. Эвелин, добродушно смеясь, замечает:
– Сташ, ты такой выдумщик! – а потом озабоченно предлагает: – Кому темпуры?
Чтоб вы знали: Эвелин – исполнительный менеджер в финансовой компании.
– Мне, – говорю я и подцепляю с блюда кусочек баклажана, который есть все равно не буду, потому что он жареный.
Все накладывают еду в тарелки, успешно игнорируя Сташа. Я наблюдаю за тем, как Кортни жует и глотает.
После долгой и вроде как глубокомысленной паузы Эвелин говорит, пытаясь завязать разговор:
– Вэнден учится в Кэмдене.
– Правда? – ледяным голосом произносит Тимоти. – А это где?
– В Вермонте, – отвечает Вэнден, не отрываясь от журнала.
Я смотрю на Сташа. Мне интересно, как он воспримет эту наглую и вопиющую ложь, но он как будто не слышит. Можно подумать, что он вообще не здесь, а где-то совсем в другом месте, может быть, в другой комнате или в каком-нибудь панковском клубе где-нибудь в злачном районе. Все остальные ведут себя точно так же, и это меня беспокоит, поскольку и мне, и всем известно, что Кэмден находится в Нью-Гэмпшире.
– А ты где училась? – вздыхает Вэнден, когда до нее наконец доходит, что Кэмден здесь никого не интересует.
– Ну, я училась в Ле-Росэ, – говорит Эвелин. – А потом в бизнес-школе в Швейцарии.
– Я тоже училась в Швейцарии в бизнес-школе, – говорит Кортни. – Только я – в Женеве, а Эвелин – в Лозанне.
Вэнден кидает журнал «Deception» рядом с Тимоти и усмехается – криво и по-стервозному. Меня злит, что Эвелин терпит эту снисходительность Вэнден и не может достойно ответить, но благодаря виски «J&B» мой стресс уменьшился до такой степени, что я вообще молчу. Эвелин, вероятно, считает Вэнден милой девочкой, растерянной и смущенной – человеком искусства. Прайс с Эвелин ничего не едят; я подозреваю, что это все кокаин, хотя и не уверен. Отхлебнув из стакана, Прайс берет в руки журнал «Deception» и хмыкает.
– «Конец Даунтауна»! – восклицает он, тыкая в каждое слово заголовка. – Кого… трясет чужое горе?
Я почему-то жду, что Сташ перестанет созерцать свою тарелку, но он продолжает смотреть на одинокий кусок суши, улыбаясь своим мыслям и качая головой.
– Эй, – произносит Вэнден так, словно ее глубоко оскорбили. – Это касается всех нас.
– Ой-ой-ой, – говорит Тим предостерегающе, – это касается всех нас? А как насчет резни в Шри-Ланке, моя дорогая? Разве она нас не касается? Шри-Ланка, а?..
– «Даунтаун» – клевый клуб в Виллидже, – пожимает плечами Вэнден. – И нас это тоже касается.
Неожиданно Сташ говорит, не поднимая глаз от тарелки:
– Это называется Тонка. – Похоже, он раздражен, но его голос звучит ровно и тихо. Он по-прежнему смотрит на суши. – Не Шри-Ланка, а Тонка. Понятно? Тонка.
Вэнден опускает глаза и кротко произносит:
– Ага.
– Ты, вообще, знаешь, что там происходит, в Шри-Ланке? Как там сикхи сотнями убивают израильтян? – подначивает ее Тимоти. – Разве это нас не касается?
– Кому ролл каппамаки? – бодро перебивает его Эвелин, поднимая поднос.
– Ладно, Прайс, не заводись, – говорю я. – У нас есть проблемы и поважней Шри-Ланки. Конечно, внешняя политика – это важно, но у нас есть более насущные проблемы.
– Что, например? – говорит он, по-прежнему глядя на Вэнден. – И кстати, почему у меня в соевом соусе плавает лед?
– Ну… – неуверенно начинаю я, – ну, нам надо покончить с апартеидом, это раз. Остановить гонку ядерных вооружений, побороть мировой терроризм и голод. Обеспечить надежную армию, предотвратить распространение коммунизма в Центральной Америке, установить мир на Ближнем Востоке, сделать так, чтобы Вооруженные силы США не использовались за рубежом. Мы должны сделать Америку сильной и уважаемой мировой державой. Это не преуменьшает значение наших внутренних проблем, которые так же важны, а может быть, и важнее. Необходимо улучшать медицинское обслуживание пожилых людей и делать его более доступным, контролировать распространение СПИДа и искать средства для борьбы с ним, оберегать окружающую среду от загрязнения и токсичных отходов; улучшать качество начального и среднего образования; ужесточить законы по борьбе с преступностью и распространением наркотиков. Мы также должны обеспечить среднему классу доступное высшее образование, а пожилым – социальную защиту, а еще нужно бережно относиться к природным ресурсам и охранять заповедники. И уменьшить влияние крайних политических партий.
Все (даже Сташ) таращатся на меня, чувствуя себя неловко. Но меня несет:
– Положение в экономике по-прежнему скверное. Мы должны найти способ сдержать инфляцию и уменьшить дефицит бюджета. Следует также обеспечить обучение безработных и создать для них рабочие места, равно как и защитить американский рынок рабочей силы от наплыва иностранцев-нелегалов. Мы должны сделать так, чтобы Америка стала лидером в передовых технологиях. В то же время нужно заботиться об экономическом росте и развитии деловой активности; упорно бороться против федеральных налогов на доходы; снижать процентные ставки, создавать благоприятные условия для развития мелкого предпринимательства, контролировать слияния крупных корпораций и их сделки.
После этого заявления Прайс едва не выплевывает «Абсолют», а я пытаюсь посмотреть в глаза каждому, особенно в глаза Вэнден: если бы она состригла зеленые пряди, перестала носить черную кожу, чуточку порозовела (может, пошла бы на аэробику) и надела бы нормальную блузку, что-нибудь от Laura Ashley, – она могла бы быть очень даже хорошенькой. Но почему она спит со Сташем? Он бледный, рыхлый, плохо подстриженный, и лишнего веса в нем как минимум фунтов десять: под черной майкой и в помине нет никакой мускулатуры.
– Но и про социальные потребности тоже нельзя забывать. Нельзя допустить, чтобы люди бесконтрольно пользовались системой социальной помощи. Мы должны обеспечить бездомных пищей и кровом, противостоять расовой дискриминации, защищать гражданские права и женское равноправие и вместе с тем следует изменить закон об абортах так, чтобы он защищал право на жизнь и в то же время давал женщинам свободу выбора. Необходим жесткий контроль за нелегальной эмиграцией. Мы должны вернуться к традиционным нравственным ценностям, запретить порнографию и насилие на телеэкране, в кино и в популярной музыке – везде. Самое главное: надо воспитывать молодежь, чтобы привить ей гражданское самосознание и неприятие грубого материализма.
Я допиваю свой виски. Все уставились на меня и молчат. Кортни улыбается с довольным видом. Тимоти ошеломленно качает головой с явным недоверием. Эвелин, озадаченная поворотом беседы, с трудом встает из-за стола и спрашивает, кто хочет десерт.
– У меня есть… шербет, – произносит она, словно в трансе, – киви, карамбола, черимойя, плод кактуса и эта… как ее… – она прерывает свой монолог зомби и пытается вспомнить название еще одного экзотического фрукта, – ах да, японская груша.
Все по-прежнему молчат. Тимоти бросает на меня быстрый взгляд. Я смотрю на Кортни, потом – снова на Тима, потом на Эвелин. Встретив мой взгляд, Эвелин с беспокойством смотрит на Тима. Я тоже смотрю на Тима, на Кортни, опять на Тима, который еще раз косится в мою сторону и медленно, неуверенно произносит:
– Мне кактусовую грушу.
– Плод кактуса, – поправляет Эвелин.
Я с подозрением смотрю на Кортни и после того, как она говорит: «Черимойя», я говорю: «Киви», и тогда Вэнден тоже говорит: «Киви», а Сташ тихо, но очень четко, выговаривая каждую букву, выдает:
– Шоколадные чипсы.
Беспокойство, промелькнувшее при этих словах на лице Эвелин, мгновенно сменяется добродушной улыбкой, похожей на маску. Она говорит:
– Ах, Сташ, ты же знаешь, что у меня нет шоколадных чипсов, хотя, признаюсь, это было бы оригинальное наполнение для шербета. Я же сказала, у меня есть черимойя, кактусовая груша, карамбола, то есть плод кактуса…
– Я слышу, слышу, – отмахивается Сташ. – Тогда сделай мне сюрприз.
– Ладно, – говорит Эвелин. – Кортни, ты мне не поможешь?
– Конечно.
Кортни поднимается из-за стола. Я наблюдаю, как она, стуча каблуками, уходит на кухню.
– Никаких сигар, мальчики, – кричит Эвелин.
– Даже не думал, – говорит Прайс, убирая сигару обратно в карман.
Сташ по-прежнему смотрит на суши так напряженно, что это меня раздражает. Надеясь, что до него дойдет моя ирония, я интересуюсь:
– Опять шевелится?
Вэнден соорудила у себя на тарелке улыбающуюся рожицу из калифорнийских роллов. Она показывает тарелку Сташу:
– Ну как?
– Круто, – бормочет Сташ.
Эвелин возвращается с шербетом в розеточках Odeon и с непочатой бутылкой виски «Гленфиддих», которая так и остается неоткрытой, пока мы едим шербет.
Кортни должна уйти рано, они с Луисом встречаются на корпоративной вечеринке в «Бедламе» – это новый клуб в центре. Вскоре уходят и Сташ с Вэнден – «зацепить» что-нибудь в СоХо. Я единственный видел, как Сташ взял с тарелки суши и сунул его в карман своей светло-зеленой кожаной куртки. Когда я сообщаю об этом Эвелин, которая ставит посуду в посудомоечную машину, она смотрит на меня с такой ненавистью, что перспектива вечернего секса становится более чем сомнительной. Но я все равно остаюсь. И Прайс тоже. Он лежит в спальне Эвелин, на ковре Aubusson конца восемнадцатого века, и пьет эспрессо из чашечки Ceraline. Я лежу на кровати Эвелин, обхватив гобеленовую подушку от Jenny В. Goode, и потягиваю «Абсолют» с клюквенным соком. Эвелин сидит за туалетным столиком и расчесывает волосы; ее великолепное тело упаковано в шелковый зелено-белый полосатый халат от Ralph Lauren; она рассматривает свое отражение в маленьком зеркале.
– А что, никто, кроме меня, не заметил, что Сташ решил, будто его суши… – Я откашливаюсь и продолжаю: – Зверек?
– Пожалуйста, не приглашай больше своих «богемных» друзей, – устало говорит Прайс. – Мне надоело, что за ужином я единственный, кто не разговаривает с инопланетянами.
– Я пригласила их в первый раз, – говорит Эвелин, поглощенная своей безмятежной красотой. Она сосредоточенно рассматривает свои губы.
– А тогда, в «Одеоне»? – бормочет Прайс.
Интересно, а почему меня тогда не пригласили в «Одеон» на ужин с художниками? Неужели Эвелин сама оплатила счет? Наверное. Внезапно я представляю себе, как Эвелин улыбается, сидя за столом, где собрались одни друзья Сташа: все они сооружают у себя на тарелках маленькие домики из ломтиков жареного картофеля; делают вид, что копченый лосось – живой; двигают по столу куски рыбы; рыба беседует с каждым о «художественной жизни» и новых галереях; может быть, они даже пытаются загнать рыбу в домики, сложенные из кусочков жареного картофеля…
– Не знаю, в курсе ли ты, но я тоже с инопланетянами не общалась, – говорит Эвелин.
– Ага, но ты встречаешься с Бэйтменом, что равносильно общению с инопланетянами, – гогочет Прайс.
Я швыряю в него подушкой. Он ловит ее на лету и кидает обратно в меня.
– Оставь Патрика в покое. Он милый соседский мальчик, – говорит Эвелин, намазывая лицо кремом. – Ты ведь не инопланетянин, правда, милый?
– Должен ли я удостоить этот вопрос ответом? – вздыхаю я.
– Милый. – Глядя на мое отражение, она надувает губки. – Я знаю, что ты не пришелец.
– Какая радость, – бормочу я себе под нос.
– Сташ в тот вечер был в «Одеоне», – продолжает Прайс и испытующе смотрит на меня. – В «Одеоне». Ты слушаешь, Бэйтмен?
– Нет, его не было, – говорит Эвелин.
– Нет, он был, только тогда его звали не Сташ. Его звали Подковка, или Магнит, или Лего, или еще как-то, столь же солидно, – усмехается Тим. – Не помню.
– Тимоти, о чем ты? – устало спрашивает Эвелин. – Я тебя даже не слушаю. – Она протирает ваткой лоб.
– Нет, мы же были тогда в «Одеоне». – С некоторым усилием Прайс принимает сидячее положение. – Не спрашивай почему, но я отчетливо помню, как он заказал тунца капучино.
– Карпаччо, – поправляет Эвелин.
– Нет, Эвелин, любовь моя. Я отчетливо помню, как он заказал тунца капучино, – говорит Прайс, разглядывая потолок.
– Он заказывал карпаччо, – не сдается она, протирая ваткой веки.
– Капучино, – настаивает Прайс. – Пока ты его не поправила.
– Сегодня ты его даже не узнал, – говорит она.
– Да, но я его помню. – Прайс оборачивается ко мне. – Эвелин назвала его «добродушным культуристом». Так она мне его и представила. Клянусь.
– Заткнись, – с раздражением говорит Эвелин, но все же кокетливо улыбается, глядя на Тимоти в зеркало.
– Что-то я сомневаюсь, что Сташ появляется в светской хронике в журнале «W», а я-то всегда думал, что ты этим руководствуешься, выбирая друзей, – говорит Прайс, бросив на нее ответный похотливо-волчий взгляд.
Я сосредоточен на своем «Абсолюте» с клюквенным соком, который похож на жидкую, водянистую кровь со льдом и лимоном.
– А что там у Кортни с Луисом? – говорю я, в надежде прервать их обмен взглядами.
– Господи, – стонет Эвелин, вновь повернувшись к зеркалу. – Самое ужасное даже не то, что Кортни больше не нравится Луис. Самое ужасное…
– Ей закрыли кредит в Bergdorf’s? – предполагает Прайс.
Я смеюсь. Мы хлопаем друг друга по рукам.
– Нет, – продолжает Эвелин, тоже развеселившись. – Самое страшное то, что на самом деле она влюбилась в какого-то торговца недвижимостью. Чурбан из пригорода.
– У каждого свои трудности, – глубокомысленно замечает Прайс, рассматривая свои ногти. – Но, господи, эта… как ее там… Вэнден?
– Только не начинай, – морщится Эвелин и принимается расчесывать волосы.
– Вэнден – нечто среднее между… The Limited и… ношеным Benetton, – говорит Прайс, закрыв глаза и сжав руки.
– Нет, – улыбаюсь я, пытаясь поучаствовать в разговоре. – Ношеным Fiorucci.
– Да, – говорит Тим, – наверное. – Он открывает глаза и снова таращится на Эвелин.
– Тимоти, отстань, – говорит Эвелин. – Что ты хочешь, она из Кэмдена.
– Господи, – стонет Тимоти. – Меня тошнит от проблем девочек из Кэмдена. Мой любимый, я его так люблю, а он любит другую, я так тоскую, а он меня не замечает, бла-бла-бла, ля-ля-ля. Господи, как это скучно. Студенты. И они этим живут. Печально это, да, Бэйтмен?
– Да, – говорю я. – Печально.
– Видишь, Бэйтмен со мной согласен, – самодовольно ухмыляется Прайс.
– Он не согласен. – Бумажной салфеткой Kleenex Эвелин вытирает то, что она только что намазала. – Тимоти, Патрик не циник. Он соседский мальчик, правда, милый?
– Неправда, – шепчу я себе под нос, – я злоебучий психопат.
– Но даже если и так, то что? – вздыхает Эвелин. – Она не самая умная девушка в мире.
– Ха, не самая умная! Тоже мне открытие века! – кричит Прайс. – Сташ тоже не самый смышленый парень. Отличная пара. Они где познакомились, на «Любви с первого взгляда»?
– Оставь их в покое, – говорит Эвелин. – У Сташа есть талант, и я уверена, что мы недооцениваем Вэнден.
– Эта девушка… – Прайс поворачивается ко мне. – Слушай, Бэйтмен, эта девушка… мне Эвелин рассказывала… она взяла в прокате «Апогей», потому что думала, что это фильм про… – он глотает слюну, – про гомиков.
– Я тут подумал, – говорю я. – Мы ведь так и не выяснили, чем занимается Сташ… как я понимаю, у него есть фамилия, но не говори мне, Эвелин, я не хочу ее знать… так вот, мы так и не выяснили, чем он зарабатывает на жизнь?
– Во-первых, он – человек хороший и очень порядочный, – бросается Эвелин на его защиту.
– И он попросил шербет с шоколадными чипсами! – насмешливо подвывает Прайс. – О чем тут вообще говорить?!
Не обращая внимания на его слова, Эвелин снимает сережки Tina Chow.
– Он скульптор, – говорит она сухо.
– Чушь собачья, – отвечает Тимоти. – Я помню наш разговор в «Одеоне». – Он опять поворачивается ко мне. – Как раз тогда, когда он заказал тунца капучино, и я уверен, что, если бы его не поправили, он заказал бы еще и лосося au lait[3], — так вот, он сказал мне тогда, что устраивает вечеринки, стало быть он… не знаю, поправь меня, Эвелин, если я ошибаюсь… обслуга. Он – обслуга! – Прайс буквально кричит. – А не ебаный скульптор!
– Да успокойся ты, наконец, – говорит Эвелин, снова намазывая лицо кремом.
– Все равно что сказать, что ты – поэтесса. – Тимоти пьян, и я уже жду не дождусь, когда он освободит помещение.
– Знаешь, – начинает Эвелин, – я, вообще-то, когда-то…
– Ты, блядь, у нас текстовый процессор! – Тима и вправду уже заносит. Он подходит к Эвелин и склоняется над ней, глядя на свое отражение в зеркале.
– Ты, кажется, потолстел, Тим? – задумчиво спрашивает Эвелин. Изучив отражение Тима в зеркале, она заключает: – Как-то лицо у тебя… округлилось.
Тимоти, в отместку, нюхает шею Эвелин и спрашивает:
– Что это за восхитительное… благоухание?
– Obsession. – Кокетливо улыбаясь, Эвелин мягко отталкивает Тимоти. – Obsession. Патрик, убери от меня своего приятеля.
– Нет-нет, подожди. – Тимоти громко втягивает носом воздух. – Это не Obsession. Это… это… – Его лицо искажается в притворном ужасе. – Боже мой… это крем для искусственного загара Q.T.Instatan!
Эвелин медлит, пытаясь придумать достойный ответ. Она снова внимательно смотрит на Тима:
– Ты не лысеешь?
– Эвелин, – отвечает Тим, – не уходи от темы, хотя… – Он уже искренне встревожен. – Раз ты сказала… что, много геля? – Он озабоченно проводит рукой по волосам.
– Может быть, – говорит Эвелин. – Теперь, будь любезен, сядь.
– По крайней мере, волосы у меня не зеленые, и я не пытался подстричься масляным ножом, – говорит Тим, намекая на цвет волос Вэнден и плохую, дешевую стрижку Сташа. Стрижка плохая именно потому, что дешевая.
– Так ты потолстел? – На этот раз голос Эвелин звучит серьезно.
– Господи, – Тим, похоже, обиделся, – нет, Эвелин.
– Лицо у тебя определенно округлилось, – говорит Эвелин, – уже не такое… точеное.
– Не верю, – говорит Тим.
Он еще пристальнее всматривается в зеркало. Эвелин продолжает расчесывать волосы, но уже не так энергично, потому что теперь она смотрит на Тима. Заметив это, он нюхает ее шею и ухмыляется. Мне показалось, что он успел ее лизнуть.
– Ну что, Q.T.? – говорит он. – Ладно, мне-то можешь признаться. Я чувствую, что это оно.
– Нет, – отвечает Эвелин без улыбки. – Это ты им пользуешься.
– Нет. Я-то как раз не пользуюсь. Я хожу в солярий. И не стыжусь в этом признаться, – говорит он. – А вот ты пользуешься Q.T.
– По-моему, ты бредишь, – неубедительно защищается Эвелин.
– Я тебе говорю, я хожу в солярий. Конечно, я знаю, как это дорого, но… – Прайс бледнеет. – И все-таки это Q.T.?
– Какое нужно иметь мужество, чтобы признаться, что ходишь в солярий, – язвит Эвелин.
– Q.T. – Тимоти хихикает.
– Не знаю, о чем ты, – говорит Эвелин и вновь принимается расчесывать волосы. – Патрик, пожалуйста, проводи своего друга к выходу.
Прайс встает на колени. Он втягивает носом воздух, нюхает голые ноги Эвелин, она смеется. Я внутренне напрягаюсь.
– Господи, – громко стонет она. – Да убирайся ты отсюда.
– Ты – апельсинчик, – смеется он, уткнувшись головой ей в колени. – Потому что ты вся оранжевая.
– Я не оранжевая, – возражает она, и ее голос – как низкий протяжный стон наслаждения и боли. – Придурок.
Я лежу на кровати и наблюдаю за ними. Тимоти пытается пропихнуть голову под халатик от Ralph Lauren. Эвелин от удовольствия запрокинула голову, она пытается отпихнуть Прайса, но не всерьез. Она легонько бьет его по спине щеткой для волос Jan Hove. Я почти не сомневаюсь, что у Тимоти роман с Эвелин. Тимоти – единственный интересный человек из всех моих знакомых.
– Тебе пора идти, – говорит Эвелин, тяжело дыша. Она больше не бьет его щеткой.
Он глядит на нее снизу вверх, сверкая великолепной белозубой улыбкой, и говорит:
– Как даме будет угодно.
– Большое спасибо, – отвечает она, как мне кажется, несколько разочарованно.
Он поднимается:
– Может, поужинаем вместе? Как насчет завтра?
– Мне надо спросить своего бойфренда, – говорит она, улыбаясь мне в зеркале.
– Наденешь то черное сексуальное платье от Аnne Klein? – положив руки ей на плечи, шепчет он ей на ухо. – Кстати, Бэйтмен, тебя никто не приглашает.
Добродушно хихикая, я поднимаюсь с кровати – проводить его к двери.
– Погоди! Мой эспрессо! – кричит он.
Эвелин смеется и хлопает в ладоши, как будто ей нравится, что Тимоти никак не уходит.
– Давай, дружок. – Я бесцеремонно выталкиваю его из спальни. – Пора баиньки.
Уже на пороге Прайс посылает Эвелин воздушный поцелуй. Выходя на улицу, он не произносит ни звука.
Выпроводив его, я наливаю себе бренди в итальянский пузатый стаканчик. Когда я возвращаюсь в спальню, Эвелин уже лежит в постели и смотрит «Магазин на диване». Я ложусь рядом и распускаю узел галстука от Armani. Я спрашиваю Эвелин:
– Почему бы тебе не сойтись с Прайсом?
– Господи, Патрик, – произносит она, зажмурив глаза, – ну при чем тут Прайс? Прайс! – Судя по ее тону, она точно с ним спала.
– Он богат, – говорю я.
– Все богаты, – говорит она, уткнувшись в экран телевизора.
– Он хорошо выглядит, – замечаю я.
– Все хорошо выглядят, Патрик, – тихо произносит она.
– У него отличная фигура, – продолжаю я.
– Сейчас у всех отличная фигура, – отвечает она.
Я ставлю стакан на столик и перекатываюсь на нее. Пока я целую и облизываю ее шею, она бесстрастно глядит на широкий экран телевизора Panasonic и приглушает звук с пульта дистанционного управления. Я снимаю рубашку от Armani и кладу руку Эвелин себе на живот, чтобы она ощутила, какой он крепкий. Как камень. Я напрягаю мышцы, – к счастью, в комнате горит свет и ей видно, какой загорелый и подтянутый у меня брюшной пресс.
– Знаешь, – говорит она вдруг, – у Сташа положительный анализ на СПИД. А… – Она умолкает; что-то на экране привлекает ее внимание; она слегка прибавляет звук, потом опять делает тише. – А… Я думаю, что сегодня он будет спать с Вэнден.
– Хорошо, – говорю я, легонько кусаю ее за шею и кладу одну руку на ее упругую холодную грудь.
– Ты злой, – говорит она и, слегка возбужденная, проводит руками по моим широким крепким плечам.
– Нет, – говорю. – Я не злой. Просто я твой жених.
Примерно пятнадцать минут я пытаюсь трахнуть ее, но потом прекращаю попытки. Она говорит:
– Ничего страшного, в другой раз будешь в лучшей форме.
Я тянусь к стаканчику с коньяком. Допиваю его. Эвелин, как всегда, принимает парнат, это антидепрессант. Я лежу рядом с ней и смотрю «Магазин на диване»: стеклянные куклы, вышитые подушечки, лампы в форме футбольных мячей. Эвелин начинает засыпать.
– Ты миноксидилом не пользуешься? – спрашивает она через некоторое время.
– Нет, не пользуюсь, – говорю я. – Зачем он мне?
– По-моему, у тебя волосы редеют, – бормочет она.
– Не редеют, – отвечаю я в полусне.
Сложно сказать. У меня очень густые волосы, так что почти невозможно заметить, редеют они или нет. Но я думаю, что все-таки нет.
Я возвращаюсь домой пешком, говорю «Спокойной ночи!» швейцару, которого не узнаю (он может оказаться кем угодно), поднимаюсь к себе и растворяюсь в своей гостиной, высоко над городом. В углу мягко светится музыкальный автомат Wurlitzer 1015 (который не так хорош, как Wurlitzer 850, но тот нигде не найдешь), играют Tokens – «The Lion Sleeps Tonight». Я онанирую, представляя сначала Эвелин, потом Кортни, потом Вэнден, снова Эвелин и уже под конец, перед слабеньким оргазмом, – почти голую модель в короткой маечке на завязках, увиденную сегодня в рекламе Calvin Klein.
Утро
В ранних лучах майского утра моя гостиная выглядит так: над большим белым камином – газ-поленья, гранит и мрамор – висит подлинник Дэвида Оники. Портрет обнаженной женщины, выполненный в приглушенных, неярких тонах с преобладанием серого и оливкового; шесть футов на четыре. Женщина сидит в шезлонге и смотрит «MTV» на фоне марсианского пейзажа – мерцающей розово-лиловой пустыни, усыпанной выпотрошенной рыбой; осколки разбитых тарелок расходятся наподобие солнечных лучей над ее желтой головой. Стильная строгая рамка из черного металла. Напротив картины – длинный белый диван, набитый пухом, и 30-дюймовый цифровой телевизор Toshiba – высококонтрастная модель с улучшенным разрешением, возможность просмотра четырех каналов одновременно; высокотехнологичная комбинация трубок от NEC с системой цифрового эффекта картинка-в-картинке (плюс остановка кадра); звук идет через встроенный MTS и пятиваттный встроенный усилитель. В стеклянной тумбочке под телевизором – видеомагнитофон Toshiba модели super-high-band Beta со встроенной функцией редактирования, включая буквенный генератор с восьмистраничной памятью, high-band-запись, обратное воспроизведение и трехнедельное предпрограммирование на восемь записей. По углам стоят галогеновые лампы. Тонкие белые жалюзи закрывают все восемь окон – от пола до потолка. Перед диваном – журнальный столик от Turchin (стеклянный верх и дубовые ножки), на котором расставлены стеклянные зверюшки от Steuben и дорогие хрустальные пепельницы от Fortunoff, хоть я и не курю. Рядом с музыкальным автоматом Wurlitzer – большой концертный рояль Baldwin черного дерева. Во всей квартире – паркетный пол из светлого полированного дуба. В другом конце гостиной, рядом с письменным столом и журнальной стойкой от Gio Ponti, – полностью укомплектованная стереосистема (CD-плеер, кассетная дека, тюнер и усилитель) Sansui с шестифутовыми колонками Duntech Sovereign 2001 в корпусе из бразильского красного дерева. В центре спальни – пуховый футон на дубовом основании. У стены – 31-дюймовый Panasonic с плоским экраном и стереозвуком, а под ним, в стеклянной тумбе, – видеомагнитофон Toshiba. Я не уверен, что часы на цифровом будильнике Sony показывают правильное время, поэтому мне приходится сесть и взглянуть на мигающую панель видеомагнитофона. Потом я беру со столика из стекла и стали, стоящего рядом с кроватью, кнопочный телефон Ettore Sottsass и набираю номер службы точного времени. В одном углу спальни – кресло из кремовой кожи, стали и дерева (дизайн – Eric Marcus), в другом – кресло из прессованной фанеры. На полу – ковер Maud Sienna, бежево-белый в черную крапинку. Одну стену целиком занимают четыре шкафа из высветленного красного дерева. Сегодня я спал в шелковой пижаме от Ralph Lauren. Поднявшись с кровати, я набрасываю ярко-красный халат и иду в ванную. Я мочусь и придирчиво изучаю свое отражение в стекле, которым покрыт висящий над унитазом бейсбольный плакат, – на предмет, нет ли отеков. Потом переодеваюсь в трусы-боксеры от Ralph Lauren с вышитой монограммой и тонкий свитер от Fair Isle, сую ноги в шелковые шлепанцы в крупный горошек (Enrico Hidolin), надеваю на глаза охлаждающую маску и приступаю к утренней гимнастике. Затем я встаю перед раковиной Washmobile (хром и акрил) с мыльницей, держателем для стаканчика и поручнями, на которых висят полотенца. Полотенца я покупаю в Hastings Tile, а саму раковину (отшлифованный мрамор) я заказывал в Финляндии. Не снимая охлаждающей маски, я изучаю свое отражение. В стаканчик из нержавеющей стали я наливаю жидкость для удаления зубного камня Plax и полощу рот в течение тридцати секунд. Потом выдавливаю пасту Rembrandt на зубную щетку из искусственного черепашьего панциря, тщательно чищу зубы (из-за похмелья мне не до зубной нити – но, может быть, я чистил их нитью вчера, перед сном?). Полощу рот листерином. Потом я осматриваю свои ногти и чищу их щеточкой. Снимаю охлаждающую маску, протираю лицо лосьоном, который глубоко очищает поры, накладываю травяную маску с мятой и оставляю на десять минут, в течение которых я проверяю ногти на ногах. Потом я полирую зубы щетками Probright и Interplack (они продавались в комплекте с зубной щеткой). Interplack вращается со скоростью 4200 оборотов в минуту и 46 раз в секунду меняет направление движения; длинная щетина очищает межзубное пространство и массирует десны, а короткая чистит поверхность зубов. Снова полощу рот, на этот раз сепаколом. Смываю маску при помощи мятного скраба. На душе – универсальная насадка австралийского производства из позолоченной меди, покрытой белой эмалью, с распылением воды во всех направлениях и регулировкой высоты в пределах тридцати дюймов. Я встаю под душ и включаю воду. Сначала я моюсь гидроактивным очищающим гелем, потом – медово-миндальным скрабом, а лицо я мою отшелушивающим очищающим гелем. Шампунь Vidal Sassoon лучше всего подходит для удаления чешуек кожи, жира, солей, вредных веществ, содержащихся в загрязненном воздухе, пыли и грязи, которые утяжеляют волосы и склеивают их, а это старит. Бальзам тоже очень хороший – благодаря силиконовой технологии он питает волосы, но не утяжеляет их (это тоже старит). На выходных или перед свиданием я пользуюсь Greune Natural Revitalizing – шампунь, бальзам и питательный комплекс. В них содержится D-пантенол, комплекс витаминов группы В, полисорбит-80, очищающее средство для кожи головы и натуральные травы. В ближайшие выходные я планирую съездить в Bloomingdale’s или Bergdorf’s и купить (по совету Эвелин) шампунь и лечебный комплекс Foltene European для редеющих волос: он содержит комплексные углеводы, которые проникают в волосы, укрепляют их и придают блеск. Надо купить и Vivagen, комплекс витаминов для ухода за волосами, – это новый продукт от Redken, предотвращающий минеральные отложения и продлевающий жизненный цикл волос. Луис Каррузерс очень рекомендовал систему Aramis Nutriplexx – питательный комплекс, способствующий улучшению кровообращения. Я выхожу из душа, насухо вытираюсь, опять надеваю трусы-боксеры от Ralph Lauren и перед тем, как нанести на лицо крем для бритья Mousse A Raiser от Pour Hommes, на две минуты прикладываю к лицу горячее полотенце, чтобы смягчить жесткие волоски. Перед бритьем я всегда мажу лицо увлажняющим кремом (я предпочитаю Clinique) и даю ему впитаться. Его можно смыть, но можно и оставить, а крем для бритья нанести поверх него – лучше это сделать помазком, который смягчает и приподнимает волоски, и они легче сбриваются. Он также препятствует испарению влаги и уменьшает трение между лезвием и кожей. Перед бритьем следует смочить бритву горячей водой и брить в направлении роста волос, с легким нажимом на кожу. Бакенбарды и подбородок я всегда брею в последнюю очередь, поскольку на этих участках волосы жестче и им требуется больше времени для смягчения. Бритву надо сразу помыть и тщательно стряхнуть воду. После бритья я споласкиваю лицо холодной водой, чтобы удалить все остатки пены. Я пользуюсь только лосьонами либо без спирта вообще, либо с очень небольшим содержанием спирта. После бритья нельзя пользоваться одеколоном, потому что высокое содержание спирта сушит кожу лица (а это старит). Для того чтобы привести кожу в нормальное состояние, следует протереть ее ватным тампоном с антибактериальным тонизирующим лосьоном без спирта и смазать увлажняющим кремом. Потом нужно еще раз сполоснуть лицо водой и нанести лосьон, который смягчает кожу и усиливает действие увлажняющего крема. Я предпочитаю гель-лосьон Appaisant, также от Pour Hommes, – превосходное успокаивающее средство для кожи. Если кожа тусклая, сухая и шелушится (а это старит), следует протереть лицо очищающим лосьоном, который удаляет омертвевшие клетки и омолаживает кожу; к тому же он подчеркивает загар. Затем следует нанести на веки крем-бальзам против морщин (Baume Des Yeux) и еще раз протереть лицо увлажняющим «защитным» лосьоном. Прежде чем нанести лосьон для кожи головы, я вытираю волосы насухо и слегка подсушиваю их феном, чтобы придать им объем и форму (без клейких средств для укладки), а потом добавляю еще немного лосьона, равномерно распределяю его при помощи щетки из натуральной щетины Kent. Наконец расческой с редкими зубьями я зачесываю волосы назад. Я опять надеваю домашний свитер Fair Isle, сую ноги в шелковые шлепанцы и направляюсь в гостиную. Ставлю диск с новым альбомом Talking Heads, но он начинает «прыгать». Я вынимаю его и вставляю в проигрыватель специальный чистящий диск. Лазерная линза – очень чувствительное устройство; она очень быстро пачкается от пыли, от влажности, от сигаретного дыма, от загрязненного воздуха – и если она испачкалась, то диск либо вообще не читается, либо «прыгает», перескакивает, меняет скорость и вообще. На чистящем диске есть специальная мягкая щеточка, которая при вращении удаляет с линзы жирный налет и частички пыли. Я снова ставлю Talking Heads, и на этот раз диск играет нормально. Я забираю газету «USA Today», которую мне положили под дверь, иду в кухню, принимаю две таблетки адвила, мультивитамины и калий, запиваю их минеральной водой Evian прямо из бутылки, потому что моя домработница, пожилая китаянка, вчера забыла включить посудомоечную машину, и мне приходится наливать грейпфрутово-лимонный сок в винный стакан St. Remy из набора от Baccarat. Я смотрю на неоновые часы, висящие над холодильником, и вижу, что у меня еще полно времени и можно спокойно позавтракать. Стоя у кухонной стойки, я ем из алюминиевых мисочек производства ФРГ киви и нарезанную дольками японскую грушу (в Gristede’s они стоят четыре доллара за штуку). Из большого стеклянного шкафа я достаю булочку с отрубями, пакетик с травяным чаем (без кофеина) и упаковку овсяных хлопьев. Одна стена кухни полностью заставлена такими шкафами: шлифованное металлизированное стекло, полочки из нержавеющей стали, металлический серо-синий корпус. Я разогреваю в микроволновой печи половину булочки и ем ее, пока теплая, намазав яблочным маслом. Потом ем овсяные хлопья и пророщенные зерна пшеницы с соевым молоком. Все это я запиваю еще одной бутылкой Evian и чашечкой травяного чая. Рядом с домашней хлебопечкой Panasonic и электрической кофеваркой Salton Pop-Up – еще одна кофеварка (для эспрессо), серебряная Cremina (как ни странно, она еще теплая), которую я купил в Hammacher Schlemmer, а также микроволновая печь Sharp модели R-1810A Carousel II на вертящейся подставке (в ней я подогреваю вторую половину булочки). Возле раковины стоит грязная термочашечка из нержавеющей стали, с блюдцем и ложечкой. Рядом с тостером Salton Sonata, кухонным комбайном Cuisinart Little Pro, электрической соковыжималкой Acme Supreme и миксером Cordially Yours стоит большой электрический чайник из нержавеющей стали, на две с половиной кварты[4], который высвистывает мелодию «Чай вдвоем», когда вода закипает. Я делаю себе еще одну чашку бескофеинового чая «яблоко с корицей». Я долго пялюсь на нож Black & Decker, который лежит возле раковины, вделанной в стену. Он предназначен для очистки и нарезки овощей и продается в наборе с различными съемными лезвиями, которые крепятся на одной рукоятке, – обычное лезвие, лезвие с зазубренным краем и лезвие с зубчатым краем. Сегодня я надеваю костюм от Alan Flusser с удлиненным пиджаком и узкими брюками, в стиле восьмидесятых (который, в свою очередь, является обновленной версией моды тридцатых). В этой модели пиджак имеет подплечники, вырез на полочках небольшой, а спинка – с фалдами. Мягкие лацканы шириной около четырех дюймов имеют заостренные кончики. На хорошо скроенном двубортном пиджаке лацканы с заостренными кончиками смотрятся более элегантно, чем закругленные. Низкие «двойные» карманы прикрыты маленькими отворотами, над которыми есть прорезь, подшитая узкой полоской ткани. Четыре пуговицы образуют правильный квадрат; еще две пуговицы располагаются чуть выше перехлеста лацканов. Глубокие складки на брюках продолжают линии широкого пиджака. Спереди линия талии чуть завышена. На поясе есть удобные петельки для подтяжек. Шелковый галстук в крапинку – от Valentinо Couture. Легкие туфли без шнурков, из крокодиловой кожи – от A. Testoni. Одеваясь, я смотрю телевизор – «Шоу Патти Винтерс». Сегодня у нее в гостях женщины, страдающие раздвоением личности. На экране – невзрачная тучная дама преклонного возраста. За кадром звучит голос Патти:
– Так что же это: шизофрения или нет? Расскажите нам!
– Нет-нет. Люди, страдающие раздвоением личности, не шизофреники, – отвечает женщина, качая головой. – Мы не опасны.
– Итак. – Патти стоит посреди студии с микрофоном в руке. – Кем вы были в прошлом месяце?
– Кажется, в прошлом месяце я в основном была Полли, – говорит женщина.
Камера показывает зрителей в студии. Крупным планом – встревоженное лицо какой-то домохозяйки, но она даже не успевает заметить себя на экране: теперь снова показывают женщину с раздвоением личности.
– Хорошо, – продолжает Патти. – А кто вы теперь?
– Ну… – устало вздыхает женщина, похоже, что этот вопрос ей задавали неоднократно и она раз за разом честно на него отвечала, однако ей по-прежнему никто не верит. – В этом месяце я… баранья отбивная. В основном баранья отбивная.
Долгая пауза. Наплыв камеры. Крупным планом – ошеломленная домохозяйка качает головой, другая домохозяйка что-то шепчет ей на ухо.
На мне туфли без шнурков, из крокодиловой кожи – от A.Testoni.
Доставая свой плащ из стенного шкафа в прихожей, я натыкаюсь на клетчатый шарфик от Burberry и такую же куртку с вышитым китом (похоже, это детские вещи). Куртка измазана чем-то похожим на засохший шоколадный сироп, манжеты потемнели. Уже в лифте я завожу свой инерционный Rolex, слегка покачивая запястьем. Здороваюсь со швейцаром, выхожу на улицу, ловлю такси и отправляюсь на Уолл-стрит.
«У Гарри»
Поздно вечером, уже в сумерках, мы с Прайсом спускаемся по Ганновер-стрит и направляемся к «Гарри», словно нас ведет невидимый радар. С тех пор как мы вышли из Р&Р, Прайс не произнес ни слова. Он даже не отпустил никаких шуточек по поводу мерзкого нищего, скрючившегося под мусорным баком на Стоун-стрит, хотя и не пропустил блондинку (роскошные сиськи, отличная задница, высокие каблуки), которая шла в сторону Уотер-стрит, – и зловеще, по-волчьи, присвистнул ей вслед. Сегодня Прайс нервный и раздражительный; и у меня нет ни малейшего желания спрашивать у него, в чем дело. На нем – легкий льняной костюм от Canali Milano, хлопчатобумажная рубашка от Ike Behar, шелковый галстук от Bill Blass и кожаные ботинки на шнурках от Brooks Brothers. На мне – легкий льняной пиджак и такие же брюки в складку, хлопчатобумажная рубашка, шелковый галстук (все от Valentinо Couture) и кожаные ботинки в дырочку от Allen Edmonds. Мы заходим к «Гарри» и сразу же видим столик, за которым сидят Дэвид Ван Паттен и Крейг Макдермотт. На Ван Паттене – двубортный спортивный пиджак (шерсть с шелком), брюки на пуговицах с внутренними складками (тоже шерсть с шелком) от Bill Blass и кожаные ботинки от Brooks Brothers. На Макдермотте – льняной костюм с брюками в складку, рубашка от Basile (хлопок и лен), шелковый галстук от Joseph Abboud и туфли без шнурков, из страусиной кожи – от Susan Bennis Warren Edwards.
Они склонились над столом и что-то сосредоточенно пишут на бумажных салфетках; перед каждым стоит стакан – соответственно, скотч и мартини. Они машут нам. Прайс швыряет свой кожаный дипломат Tumi на пустой стул и устремляется к бару.
– Мне «J&B» со льдом! – кричу я ему вслед и сажусь рядом с Ван Паттеном и Макдермоттом.
– Слушай, Бэйтмен. – По голосу Крейга понятно, что это не первый его мартини. – Можно ли надевать мокасины с деловым костюмом? И не смотри на меня как на придурка.
– Черт, не спрашивай Бэйтмена, – стонет Ван Паттен, размахивая перед лицом своей золотой ручкой Cross. В рассеянности он отхлебывает мартини.
– Ван Паттен? – говорит Крейг.
– Да?
Макдермотт колеблется, но потом все-таки спокойно говорит:
– Заткнись.
– Чем вы, парни, тут занимаетесь?
Я замечаю у бара Луиса Каррузерса. Он стоит рядом с Прайсом. Прайс его полностью игнорирует. Одет Каррузерс неважно: четырехпуговичный двубортный шерстяной костюм, по-моему, от Chaps, хлопчатобумажная рубашка в полоску, шелковая бабочка плюс очки в роговой оправе от Oliver Peoples.
– Бэйтмен, мы придумываем вопросы, чтобы послать в «GQ», – отвечает Ван Паттен.
Луис замечает меня, слабо улыбается, потом, если я не ошибаюсь, краснеет и вновь поворачивается к бару. Почему-то бармены никогда не обращают внимания на Луиса.
– Мы поспорили, кого из нас первым опубликуют в рубрике «Вопрос – ответ», так что я жду ответа. Ну, что скажешь? – настойчиво спрашивает Макдермотт.
– Да о чем? – раздраженно спрашиваю я.
– О мокасинах, придурок, – говорит он.
– Ладно, ребятки. – Я тщательно взвешиваю слова. – Мокасины – традиционно повседневная обувь. – Я кидаю на Прайса выразительный взгляд, – видно, что ему очень хочется выпить.
Он пролетает мимо Луиса, который протягивает ему руку. Прайс улыбается, что-то говорит, движется дальше – по направлению к нашему столику. Луис снова пытается привлечь внимание бармена. Опять безуспешно.
– Но все-таки их можно надевать с костюмом – именно потому, что они такие популярные, да? – перебивает меня Крейг.
– Да, – согласно киваю я. – Но только черные или из испанской дубленой кожи.
– А коричневые? – подозрительно спрашивает Крейг.
Подумав, я отвечаю:
– Коричневые смотрятся слишком спортивно для делового костюма.
– О чем вы, пидоры, болтаете? – встревает Прайс. Он дает мне стакан и садится, закинув ногу на ногу.
– Ладно, теперь мой вопрос, – говорит Ван Паттен. – В двух частях… – Он выдерживает театральную паузу. – Закругленные воротнички – это слишком нарядно или слишком небрежно? Часть вторая: какой галстучный узел лучше всего смотрится с закругленными воротничками?
Прайс по-прежнему раздражен, в его голосе все еще чувствуется напряжение. Он отвечает быстро, четко выговаривая слова, так что слышно всему залу:
– Они выглядят нейтрально и подходят как к деловым костюмам, так и к спортивным пиджакам. В особо торжественных случаях они должны быть накрахмалены, а на официальных приемах с ними носят булавку.
Он умолкает, вздыхает. Кажется, он заметил кого-то знакомого. Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть кого.
– С блейзером, – продолжает Прайс, – круглые воротнички должны выглядеть мягкими, поэтому их не крахмалят. С блейзером их носят как с булавкой, так и без нее. Поскольку традиционно считается, что круглые воротнички носят выпускники частных школ, то лучше всего они смотрятся с относительно небольшим галстучным узлом. – Он отпивает глоток мартини и меняет ноги местами. – Еще вопросы?
– Купите человеку выпить, – говорит Макдермотт, на которого явно произвела впечатление речь Прайса.
– Прайс? – говорит Ван Паттен.
– Да? – рассеянно отвечает Прайс, окидывая взглядом зал.
– Что бы мы без тебя делали?!
– Слушайте, – говорю я, – где мы сегодня ужинаем?
– У меня с собой верный мистер «Загат». – Ван Паттен вытаскивает из кармана темно-красную книжицу и машет ею перед носом Тимоти.
– Ура, – сухо произносит Тимоти.
– Ну и чего нам хочется? – спрашиваю я.
– Что-нибудь блондинистое и с большими сиськами. – Прайс.
– Может, то сальвадорское бистро? – Макдермотт.
– Слушайте, мы же потом собирались в «Туннель», так что давайте где-нибудь там.
– Черт, – говорит Макдермотт. – Мы идем в «Туннель»? На прошлой неделе я снял там одну цыпочку из Вассара…
– Господи, только не надо опять, – стонет Ван Паттен.
– Тебе-то что? – огрызается Макдермотт.
– Я там был. И я не обязан снова это выслушивать, – говорит Ван Паттен.
– Но я же тебе не рассказывал, что случилось потом, – говорит Макдермотт, подняв брови.
– Когда это вы, ребята, там были? – интересуюсь я. – А меня почему не позвали?
– Ты был в этом мудацком круизе. Заткнись и слушай. В общем, подцепил я в «Туннеле» эту цыпочку из Вассара… роскошная телка, высокая грудь, отличные ноги, все в полном порядке… купил ей пару коктейлей с шампанским, она сюда на каникулы приехала… в общем, она чуть не взяла в рот прямо в зале с канделябрами… Повез я ее к себе…
– Ага, ага, – перебиваю я. – А можно спросить, где в это время была Памела?
– Да пошел ты, – морщится Крейг. – Я хотел, чтобы мне отсосали, Бэйтмен. Я хотел телку, которая разрешает…
– Не желаю это слышать, – говорит Ван Паттен, затыкая уши. – Он сейчас скажет гадость.
– Ты ханжа, – ухмыляется Макдермотт. – Слушай, мы же не собирались покупать общую квартиру или бежать в церковь. Мне просто хотелось, чтобы мне отсасывали – минут тридцать – сорок…
Я кидаю в него палочку из коктейля.
– Короче, мы приходим ко мне и… слушайте… – он придвигается ближе к столу, – она к тому времени выпила столько шампанского, что должна была ебаться как слон, и представляете…
– Дала без гондона?
Макдермотт закатывает глаза:
– Девка была из Вассара, а не из Квинса.
Прайс трогает меня за плечо:
– А что это значит?
– Ладно, слушайте, – говорит Макдермотт. – Она… вы готовы?
Он выдерживает театральную паузу.
– Она подрочила мне рукой, и ничего больше… но и это еще не все… она даже перчатку не сняла!
Он откидывается на стуле и смотрит на нас, самодовольно потягивая мартини.
Мы все воспринимаем его рассказ очень серьезно. Никто не подшучивает над Макдермоттом за его откровенность или за неспособность надавить на ту цыпочку. Все молчат и думают об одном: никогда не снимай девок из Вассара.
– Что тебе нужно, так это цыпочка из Кэмдена, – замечает Ван Паттен, как только приходит в себя после рассказа Макдермотта.
– Ну конечно, – говорю я. – Для них ебаться с родным братом – в порядке вещей.
– Зато они думают, что СПИД – это новая британская группа, – добавляет Прайс.
– Так где мы ужинаем? – спрашивает Ван Паттен, рассеянно глядя на вопрос, записанный у него на салфетке. – Где мы, блядь, будем ужинать?
– Забавно: девки считают, что мужики только этим и озабочены… болезнями всякими и прочей херней, – говорит Ван Паттен, качая головой.
– В жизни не стану трахаться с гондоном, – объявляет Макдермотт.
– Я тут отксерил одну статью, – говорит Ван Паттен, – в ней говорится, что, какую бы паскудную, продажную, грязную телку мы ни драли, шанс заразиться равен полдесятитысячной процента, или что-то вроде того.
– У нормальных парней такого просто не может быть.
– Во всяком случае, у белых.
– И эта девка была в ебаной перчатке? – переспрашивает Прайс, который, похоже, еще не оправился от потрясения. – В перчатке?! А не проще бы было подрочить самому?!
– Знаешь, хуй тоже встает, – говорит Ван Паттен. – Это Фолкнер написал.
– Ты где учился? – интересуется Прайс. – В Pine Manor?
– Парни, – говорю я, – смотрите, кто идет.
– Кто? – Прайс даже не поворачивает головы.
– Подсказка, – говорю я. – Самый большой кретин в компании Drexel Burnham Lambert.
– Конноли? – высказывает догадку Прайс.
– Привет, Престон, – здороваюсь я с Престоном, пожимая ему руку.
– Ребята, – говорит Престон, кивая всем сразу, – прошу прощения, но сегодня я с вами поужинать не смогу.
На Престоне – двубортный шерстяной костюм от Alexander Julian, хлопчатобумажная рубашка и шелковый галстук от Perry Ellis. Он кланяется, положив руку на спинку моего стула:
– Мне очень жаль, но, знаете ли, обстоятельства.
Прайс награждает меня гневным взглядом и произносит одними губами:
– А его приглашали?
Я пожимаю плечами и допиваю остатки «J&B».
– Чем вчера вечером занимался? – спрашивает Макдермотт и добавляет: – Славный костюмчик.
– Кем вчера занимался? – поправляет Ван Паттен.
– Нет-нет, – отвечает Престон, – ничего такого. Вполне респектабельный и приличный вечер. Без девок, бухла и траха. Ходили в «Русскую чайную» с Александрой и ее родителями. Она называет отца… вы подумайте… Билли. А я был такой весь замотанный и уставший… и всего-то один-единственный стопак «Столичной».
Он зевает, снимает очки (Oliver Peoples, разумеется) и протирает их носовым платком от Armani:
– Не знаю, но, по-моему, наш малахольный православный официант кинул мне в борщ кислоту. Я такой, блядь, уставший.
– А сегодня что делаешь? – любопытствует Прайс без всякого интереса.
– Надо вернуть видеокассеты, ужинаем с Александрой во вьетнамском ресторане, а потом идем на Бродвей, на какой-нибудь британский мюзикл, – говорит Престон, обводя взглядом зал.
– Слушай, Престон, – говорит Ван Паттен. – Мы тут придумываем вопросы, чтобы послать в «GQ». Может, подскажешь?
– Подскажу, – отвечает Престон. – Когда надеваешь смокинг, как сделать так, чтобы сорочка спереди не задиралась?
С минуту Ван Паттен с Макдермоттом сидят молча, а потом Крейг, нахмурив брови и посерьезнев, задумчиво произносит:
– Хороший вопрос.
– Прайс, – говорит Престон, – а у тебя есть вопрос?
– Есть. – Прайс вздыхает. – Когда у тебя все друзья – бараны, то что будет, если ты вышибешь им мозги «магнумом» тридцать восьмого калибра: уголовное преступление, просто проступок или Божественное Провидение?
– Не пойдет для «GQ», – говорит Макдермотт. – Попробуй отправить в «Soldier of Fortune».
– Или в «Vanity Fair». – Ван Паттен.
– А это кто? – глядя в сторону бара, говорит Прайс. – Это не Рид Робисон? Кстати, Престон, надо просто пришить к сорочке петельку, пристегивающуюся к пуговице на брюках, и проследить за тем, чтобы накрахмаленный перед сорочки не опускался ниже пояса брюк, иначе, когда садишься, он будет топорщиться, так этот мудак – Робисон или нет? Чертовски похож.
Слегка ошалев от речи Прайса, Престон медленно оборачивается, вновь надевает очки и смотрит, щурясь, в сторону стойки:
– Нет, это Найджел Моррисон.
– А-а-а! – восклицает Прайс. – Один из этих молоденьких британских педиков, стажирующихся в…
– Откуда ты знаешь, что он педик? – перебиваю я.
– Британцы все педики, – пожимает плечами Прайс.
– Но откуда ты знаешь, Тимоти? – ухмыляется Ван Паттен.
– Я видел, как он ебал Бэйтмена в жопу. В сортире банка Morgan Stanley.
Я вздыхаю и обращаюсь к Престону:
– А где он стажируется, Моррисон?
– Не помню, – отвечает Престон, почесывая в затылке. – В Lazard?
– Где? – напирает Макдермотт. – В First Boston? Goldman?
– Точно не помню, – говорит Престон. – Может, в Drexel? Он всего лишь помощник ответственного аналитика по финансам, а его жуткая подруга с гнилыми зубами, та вообще сидит в какой-то дыре, занимается выкупом акций за счет кредита.
– Где мы сегодня ужинаем? – говорю я. Мое терпение лопается. – Надо заказать столик. Я не собираюсь стоять в каком-нибудь ебаном баре.
– А что это за дрянь надета на Моррисоне? – обращается сам к себе Престон. – Что, действительно костюм в полоску с клетчатой рубашкой?
– Это не Моррисон, – говорит Прайс.
– А кто? – Престон снова снимает очки.
– Это Пол Оуэн, – говорит Прайс.
– Это не Пол Оуэн, – говорю я. – Пол Оуэн в другом конце бара. Вон там.
Оуэн стоит у стойки, в двубортном шерстяном костюме.
– Он занимается счетами Фишера, – говорит кто-то.
– Везучий мерзавец, – бормочет кто-то другой.
– Везучий жидовский мерзавец, – произносит с нажимом Престон.
– Боже мой, Престон, – говорю я. – Это-то тут при чем?
– Слушай, я своими глазами видел, как он трепался по телефону с исполнительными менеджерами и при этом плел ебаную менору. А в прошлом декабре он приволок в офис куст хануки, – неожиданно оживившись, говорит Престон.
– Хуйню ты плетешь, – холодно замечаю я, – а не менору. Хуйню.
– Бог ты мой, Бэйтмен, может быть, мне сходить в бар и попросить Фредди пожарить тебе этих ебучих картофельных оладий, – говорит неподдельно встревоженный Престон. – Этих, как их… латкес?
– Спасибо, конечно, но я как-нибудь обойдусь, – отвечаю я. – Просто попридержи свои антисемитские замечания.
– Вот он, глас рассудка. – Прайс тянется вперед, чтобы потрепать меня по спине. – Милый соседский мальчик.
– Да, милый соседский мальчик, который, по твоим же словам, дает трахать себя в жопу британскому стажеру финансового аналитика, – насмешливо отвечаю я.
– Я сказал, что ты – глас рассудка, – говорит Прайс. – Я не говорил, что ты не гомосексуалист.
– Или что ты не зануда, – добавляет Престон.
– Угу, – говорю я, глядя на Прайса в упор. – Спроси Мередит, гомосексуалист я или нет. Она тебе скажет… если только вынет мой хуй изо рта.
– Мередит западает на педиков, – Прайс невозмутим, – поэтому я ее и бросил.
– Постойте, ребята, слушайте, я анекдот вспомнил, – потирает руки Престон.
– Престон, – говорит Прайс, – ты сам ходячий анекдот. Ты ведь знаешь, что тебя на ужин не приглашали. Кстати, славный пиджачок: не сочетается, но дополняет.
– Прайс, ты – скотина, ты, блядь, так жесток со мной, – смеется Престон. – Ладно, слушайте. Встречаются на приеме Джон Ф. Кеннеди и Перл Бейли, уединяются в Овальном кабинете, трахаются там, то да се, потом Кеннеди засыпает и… – Престон вдруг умолкает. – Вот черт, что же потом… Ах да, Перл Бейли говорит: «Господин президент, мне охота еще поебаться», а он отвечает: «Я сейчас посплю, а минут через тридцать…» – нет, постойте… – Престон опять умолкает, немного смущенный. – Сейчас… «Через час… ну да ладно… минут через тридцать проснусь, и мы опять трахнемся, только ты, пока ждешь, держи одну руку у меня на хуе, а другую – на яйцах», и она отвечает: «Хорошо, только зачем мне держать одну руку на хуе, а другую… другую – на яйцах?» – и… – Он замечает, что Ван Паттен что-то небрежно рисует на обороте салфетки. – Ван Паттен, ты меня слушаешь?
– Слушаю, – раздраженно отвечает Ван Паттен. – Давай. Заканчивай. Одну руку – на хуе, другую – на яйцах, а дальше?
Луис Каррузерс так и стоит у стойки и ждет. Теперь мне кажется, что на нем шелковый галстук от Agnes В. Все словно в тумане.
– Я не слушаю, – говорит Прайс.
– А он говорит: «А затем…» – Престон опять запинается. Длительное молчание. Престон смотрит на меня.
– Не смотри на меня, – говорю. – Это не мой анекдот.
– И он отвечает… У меня в голове пусто.
– Уже можно смеяться? На фразе «у меня в голове пусто»? – интересуется Макдермотт.
– Он говорит, мм… – Престон закрывает глаза рукой и задумывается. – Вот черт, ты подумай, забыл…
– Великолепно, Престон, – вздыхает Прайс. – Ты такой идиот, что даже не смешно.
– У меня в голове пусто? – спрашивает меня Крейг. – Я что-то не понял.
– Сейчас, сейчас, – говорит Престон. – А, вот, вспомнил. «А затем, что, когда я последний раз трахал негритянку, она стащила у меня бумажник». – Он первый начинает хихикать.
После непродолжительного молчания стол разражается смехом. Смеются все, кроме меня.
– Вот, стало быть, анекдот, – с гордостью говорит Престон, явно воспрянув духом.
Он и Ван Паттен пожимают друг другу руки. Даже Прайс смеется.
– Господи, – говорю я. – Это ужасно.
– Почему? – искренне не понимает Престон. – Это смешно. Это юмор.
– Ладно, Бэйтмен, – говорит Макдермотт. – Не напрягайся.
– Ах да, я забыл. Бэйтмен встречается с кем-то из Союза борьбы за гражданские права, – говорит Прайс. – Что тебе тут не нравится?
– Это не смешно, – отвечаю я. – Это расизм.
– Бэйтмен, скотина ты мрачная, – говорит Престон. – Кончай читать биографии Теда Банди. – Престон выпрямляется и смотрит на свой Rolex. – Слушайте, мне пора. До завтра.
– Да, на том же месте и в тот же час, – говорит Ван Паттен, пихая меня локтем.
Перед тем как уйти окончательно, Престон опять наклоняется надо мной:
– «А затем, что, когда я последний раз трахал негритянку, она стащила у меня бумажник».
– Я понял, понял, – говорю я, отпихивая его.
– Не забывайте, ребята: немногое в этой жизни работает так же четко, как Kenwood. – Он уходит.
– Ябба-дабба-ду, – говорит Ван Паттен.
– Слушайте, а вы знаете, что пещерные люди получали больше клетчатки, чем мы? – говорит Макдермотт.
«Пастели»
Когда мы наконец оказываемся в «Пастелях», я едва не плачу, поскольку совершенно уверен, что мест нет. Но нам предлагают хороший столик, и облегчение накрывает меня благодатной волной. Макдермотт знаком с метрдотелем «Пастелей», и, хотя мы заказали столик всего несколько минут назад из такси, нас тут же проводят через переполненный бар в розовый, ярко освещенный зал и сажают за превосходный отгороженный столик. Заказать столик в «Пастелях» совершенно невозможно, и, по-моему, Ван Паттен, я сам и даже Прайс потрясены до глубины души. Может быть, мы даже завидуем той прыти, которую проявил Макдермотт. Набившись в такси на Уотер-стрит, мы поняли, что так никуда и не позвонили, и, лишь когда дело дошло до обсуждения достоинств нового калифорнийско-сицилианского бистро в Верхнем Ист-Сайде (я так паниковал, что едва не порвал «Загат» пополам), мы пришли к согласию. Только Прайс возражал, но и он в конце концов пожал плечами со словами «Да мне все по хую», и мы позвонили с его мобильного, чтобы заказать столик. Прайс надел наушники и включил звук плеера так громко, что Вивальди был слышен даже сквозь автомобильный шум, доносившийся через полуопущенные окна такси. Ван Паттен и Макдермотт отпускали грубые шуточки о размере члена Тима, и я от них не отставал. Возле входа в «Пастели» Тим выхватил у Ван Паттена салфетку с окончательной версией его тщательно сформулированных вопросов для «GQ» и швырнул ее нищему, который валялся возле ресторана с грязной картонкой в руках: «Я ГОЛОДНЫЙ И БЕЗДОМНЫЙ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ МНЕ».
Кажется, все идет нормально. Метрдотель прислал нам четыре бесплатных коктейля «Беллини», но мы все равно заказываем напитки. Ronettes поют «Then He Kissed Me», у нашей официантки хорошая фигура, и даже Прайс, похоже, отошел, хотя и ненавидит это заведение. К тому же за столиком напротив четыре женщины, и все отлично выглядят – блондинки с большими сиськами. На одной шерстяное платье-рубашка от Calvin Klein; вторая одета в шерстяное вязаное платье и жакет с застежкой из фая от Geoffrey Beene; третья в юбке из плиссированного тюля и бархатном бюстье, по-моему, от Christian Lacroix, на ногах у нее туфли на шпильках от Sidonie Larizzi; четвертая – в черном с блестками платье без пояса, поверх которого надет жакет от Bill Blass (шерстяной креп). Теперь играют Shirelles, «Dancing in the Street»: из-за высоких потолков и мощных колонок звук такой громкий, что нам приходится кричать нашей фигуристой официантке. На ней двухцветный шерстяной костюм с бисером от Myrone de Premonville и высокие бархатные ботиночки. Мне кажется, что она кокетничает со мной: соблазнительно смеется, когда я выбираю на закуску ската и кальмара с красной икрой, проникновенно смотрит, когда я заказываю запеканку из лосося с зеленым соусом томатилло. Я вынужден состроить озабоченное, убийственно серьезное выражение и уставиться на стаканы с розовым коктейлем «Беллини», чтобы она не подумала, будто я слишком заинтересовался. Прайс заказывает тапас, оленину с йогуртовым соусом и салат из папоротника и манго. Макдермотт – сашими с козьим сыром и копченую утку с эндивием и кленовым сиропом. Ван Паттен берет колбаску из морского гребешка и лосось гриль с малиновым уксусом и гуакамоле. В ресторане на полную мощность работает кондиционер, и я начинаю сожалеть, что не надел новый пуловер от Versace, купленный на прошлой неделе в Bergdorf’s. Он бы хорошо смотрелся с моим костюмом.
– Не могли бы вы, пожалуйста, забрать эти коктейли, – обращается Тим к официанту, указывая на «Беллини».
– Погоди, Тим, – говорит Ван Паттен. – Успокойся. Я их выпью.
– Это европейская дрянь, Дэвид, – поясняет Прайс. – Европейская дрянь.
– Возьми мой, Ван Паттен, – предлагаю я.
– Подожди, – говорит Макдермотт, останавливая официанта. – Я свой тоже выпью.
– Зачем? – спрашивает Прайс. – Ты что, пытаешься произвести впечатление на эту армянскую цыпочку в баре?
– Какую еще армянскую цыпочку? – Ван Паттен неожиданно заинтригован, он вытягивает шею.
– Уноси все коктейли! – вскипает Прайс.
Официант покорно забирает стаканы и, кивнув неизвестно кому, уходит.
– Кто дал тебе право распоряжаться? – ноет Макдермотт.
– Поглядите, парни. Смотрите, кто пришел, – присвистывает Ван Паттен. – Мать честная.
– Ради бога, только, блядь, не Престон, – вздыхает Прайс.
– О нет, – зловеще произносит Ван Паттен. – Он нас пока не заметил.
– Виктор Пауэлл? Пол Оуэн? – неожиданно испугавшись, спрашиваю я.
– Ему двадцать четыре года, и у него отвратительно много денег, скажем так, – с ухмылкой подсказывает Ван Паттен. Человек его, очевидно, приметил, и на лице Ван Паттена вспыхивает лучезарная улыбка. – Настоящий говнюк.
Я вытягиваю шею, но не могу понять, кто там и что.
– Это Скотт Монтгомери, – произносит Прайс. – Да? Скотт Монтгомери.
– Возможно, – подначивает Ван Паттен.
– Карлик Скотт Монтгомери, – говорит Прайс.
– Прайс, – говорит Ван Паттен, – ты бесподобен.
– Смотрите, какой я сейчас изображу восторг, – замечает Прайс, обводя взглядом стол. – Ну, я ведь всегда прихожу в восторг, встречая кого-нибудь из Джорджии.
– Ух ты, – произносит Макдермотт. – Он нарядился так, чтобы всех поразить.
– Да, – отвечает Прайс. – Я убит, то есть поражен.
– Да-а-а, – говорю я, заметив Монтгомери. – Элегантный темно-синий.
– В мелкую клетку, – шепчет Ван Паттен.
– И много бежевого, – добавляет Прайс. – Вы же понимаете.
– Он идет сюда, – говорю я, внутренне подбадривая себя.
К нашему столику приближается Скотт Монтгомери. На нем – темно-синий двубортный блейзер с пуговицами из искусственного черепахового панциря, мятая, застиранная хлопчатобумажная рубашка в полоску, с красной вышивкой, шелковый галстук с красно-бело-синим рисунком в виде фейерверков (от Hugo Boss) и фиолетовые шерстяные брюки от Lazo (косые карманы; спереди – четыре складки). В руках у него стакан с шампанским, который он передает своей спутнице. Она – определенно модель: стройная, с неплохой грудью, задница отсутствует, высокие каблуки. На ней креповая юбка, велюровый жакет (шерсть с кашемиром), через руку перекинуто велюровое пальто, все от Louis Dell’Olio. Туфли на каблуках от Susan Bennis Warren Edwards. Темные очки от Alan Mikli. Кожаная сумка с тиснением от Hermès.
– Здорово, парни. Как жизнь? – Монтгомери гнусавит, как и все выходцы из штата Джорджия. – Познакомьтесь с Ники. Ники, это Макдональд, Ван Барен, Бэйтмен – ты отлично загорел – и мистер Прайс. – Пожав руку только Прайсу, он забирает стакан у Ники.
Ники вежливо, словно робот, улыбается, – вероятно, она не говорит по-английски.
– Монтгомери, – произносит Прайс любезным, дружеским тоном, пялясь при этом на Ники, – ну, как жизнь?
– Ну, парни, – говорит Монтгомери, – вижу, у вас классный столик. Уже расплатились? Шучу.
– Слушай, Монтгомери, – говорит Прайс, глядя на Ники. Он по-прежнему демонстрирует необычайное расположение к человеку, которого я считал чужаком. – Может, в сквош?
– Позвони мне, – рассеянно отвечает Монтгомери, обводя взглядом зал. – Это не Тайсон? Вот моя визитка.
– Отлично, – говорит Тимоти, пряча ее в карман. – Как насчет четверга?
– Не могу. Улетаю завтра в Даллас, но… – Монтгомери уже отходит от нашего стола, торопясь подойти еще к кому-то. Ники он увлекает за собой. – Давай на следующей неделе.
Ники улыбается мне, потом смотрит в пол (розовые, голубые, лимонно-зеленые плитки перекрещиваются треугольничками), словно в нем скрывается ответ, некая разгадка, разумное объяснение тому, почему она связалась с Монтгомери. Я вяло размышляю, старше ли она его и не заигрывала ли со мной.
– До встречи, – говорит Прайс вдогонку.
– Пока, парни… – Монтгомери уже в середине зала.
Ники семенит за ним. Я был не прав: у нее есть задница.
– Восемьсот миллионов, – качая головой, присвистывает Макдермотт.
– Университет? – спрашиваю я.
– Смехотворный, – намекает Прайс.
– Роллинс? – гадаю я.
– Ну почти, – говорит Макдермотт. – Хэмпден-Сидней.
– Паразит, неудачник, сука, – подводит итог Ван Паттен.
– Но у него восемьсот миллионов, – выразительно повторяет Макдермотт.
– Ну и пойди отсоси у карлика – заткнешься ты или нет? – говорит Прайс. – Неужели ты такой впечатлительный, Макдермотт?
– Все равно, – замечаю я. – А телка ничего себе.
– Девка что надо, – поддакивает Макдермотт.
– Согласен, – с неохотой кивает Прайс.
– Слушайте, вы, – горестно произносит Ван Паттен. – Я знаю эту цыпочку.
– Да ладно, – стонем мы в один голос.
– Попробую угадать, – говорю я. – Подцепил ее в «Туннеле», да?
– Нет, – он отпивает, – она модель. Анорексичка, алкоголичка, неврастеничка. Настоящая француженка.
– Ну что за клоун, – говорю я, не понимая, врет он или нет.
– Поспорим?
– Ну и что? – пожимает плечами Макдермотт. – Я бы трахнул ее.
– Она выпивает в день литр «Столичной», блюет и снова выпивает столько же, – объясняет Ван Паттен. – Стопроцентная пьянчужка.
– Стопроцентная дешевая пьянчужка, – бормочет Прайс.
– А мне безразлично, – мужественно произносит Макдермотт. – Она прекрасна. Я хочу трахнуть ее. Жениться на ней. Иметь от нее детей.
– Господи, – почти ржет Ван Паттен. – Ну кто женится на цыпочке, которая родит бутылку водки с клюквенным соком?
– Его слова не лишены смысла, – говорю я.
– Угу. Еще он собирается подцепить ту армянскую цыпочку в баре, – ухмыляется Прайс. – А она что родит – бутылку шампанского и пинту персикового сока?
– А где армянская цыпочка? – вытягивая шею, раздраженно спрашивает Макдермотт.
– О боже. Пошли вы на хуй, пидоры, – вздыхает Ван Паттен.
К столику подходит метрдотель, здоровается с Макдермоттом, потом замечает, что у нас нет наших бесплатных коктейлей, и убегает до того, как мы успеваем его остановить. Не знаю, откуда Макдермотт так хорошо знаком с этим Аленом – может, через Сесилию?
Однако это меня слегка задевает, и я решаю заработать очки своей новой визиткой. Я достаю ее из бумажника (газелевая кожа, Barney’s, 850 долларов), кидаю на стол и жду реакции.
– Это что, грамм? – не без интереса спрашивает Прайс.
– Новая визитка. – Я пытаюсь вести себя небрежно, но все равно гордо улыбаюсь. – Ну как вам?
– Ух ты, – взяв ее в руки, говорит Макдермотт и с искренним восхищением потирает ее пальцами. – Очень красивая. Посмотри-ка…
Он передает визитку Ван Паттену.
– Вчера забрал из печати, – замечаю я.
– Хороший цвет, – говорит Ван Паттен, пристально рассматривая карточку.
– Это цвет кости, – уточняю я. – А тиснение называется Silian Rail.
– Silian Rail? – переспрашивает Макдермотт.
– Да. Неплохо, а?
– Очень неплохо, Бэйтмен, – сдержанно произносит завистливая скотина Ван Паттен, – но это ничто по сравнению с… – Он вытаскивает свой бумажник и швыряет рядом с пепельницей свою визитку. – Посмотри-ка на эту.
Мы все склоняемся и рассматриваем визитку Дэвида. Прайс тихо говорит:
– Да, это действительно круто.
Цвета такие элегантные, шрифт просто великолепный, и меня охватывает короткая судорога зависти. Я стискиваю кулаки, а Ван Паттен самодовольно говорит:
– Цвет яичной скорлупы и шрифт Romalian…
Он оборачивается ко мне:
– Что скажешь?
– Мило, – хрипло говорю я. Мне даже удается кивнуть.
Мальчик приносит четыре новых «Беллини».
– Боже, – говорит Прайс. Он смотрит визитку на свет, не обращая внимания на коктейли. – Вот это действительно супер. И откуда у такого дурня, как ты, столько вкуса?
Я смотрю на карточку Ван Паттена, потом на свою и не могу поверить, что Прайсу больше нравится визитка Ван Паттена. Перед глазами у меня все плывет, я отпиваю и делаю глубокий вдох.
– Но постойте-ка, – говорит Прайс. – Вы еще ничего не видели… – Из внутреннего кармана пиджака он достает свою визитку и медленно, театральным жестом выкладывает ее на всеобщее обозрение. – Это моя.
Даже я должен признать, что она великолепна.
Внезапно мне кажется, что ресторан затих и отодвинулся от нас. В сравнении с этой визиткой музыка превратилась в бессмысленный шум, и мы хорошо слышим слова Прайса:
– Рельефное тиснение, цвет – бледно-облачный…
– Черт возьми! – восклицает Ван Паттен. – Никогда не видел ничего подобного…
– Мило, очень мило, – вынужден признать я. – Но постойте. Давайте посмотрим на визитку Монтгомери.
Прайс вытаскивает визитную карточку Монтгомери, и, хотя он сидит с бесстрастным видом, я не понимаю, как он может оставаться равнодушным к ее утонченной окраске и стильной плотности. Я удручен тем, что затеял все это.
– Давайте закажем пиццу, – предлагает Макдермотт. – Никто не хочет взять пиццу, напополам со мной? «Ред снэппер»? Мм. Бэйтмен будет, – говорит он, весело потирая руки.
Я беру карточку Монтгомери и даже ощупываю ее, чтобы понять, какое ощущение она оставляет на подушечках пальцев.
– Что, нравится? – По тону Прайса понятно, что он видит, как я завидую.
– Ага, – небрежно отвечаю я, возвращая Прайсу визитку так, словно мне она до фени, однако чувствую, что мне трудно глотать.
– Пицца «ред снэппер», – напоминает мне Макдермотт. – Я, блядь, умираю от голода.
– Никакой пиццы, – бормочу я, чувствуя облегчение оттого, что Тим убрал визитку Монтгомери в карман, с глаз долой.
– Ну давай, – ноет Макдермотт. – Давай закажем пиццу.
– Заткнись, Крейг, – говорит Ван Паттен, наблюдая за официанткой, принимающей заказ у другого столика. – И позови сюда вон ту, симпатичную.
– Но это не наша официантка, – отвечает Макдермотт, нервно теребя меню, которое он выхватил у проходившего мимо официанта.
– Все равно позови, – настаивает Ван Паттен. – Попроси у нее воды, «Корону», что угодно.
– А почему ее? – Я ни к кому конкретно не обращаюсь. Моя визитка, оставленная без внимания, лежит на столе рядом с орхидеей в синей стеклянной вазе. Я перегибаю ее пополам и убираю в бумажник.
– Она жутко похожа на девушку из отдела Жоржетты Клингер в Bloomingdale’s, – говорит Ван Паттен. – Позови ее.
– Будет кто-нибудь пиццу или нет? – Макдермотт входит во вкус.
– А ты-то откуда знаешь? – спрашиваю я Ван Паттена.
– Я там покупаю духи для Кейт, – отвечает он.
Прайс машет руками, чтобы привлечь наше внимание:
– Я говорил вам, что Монтгомери карлик?
– Кто такая Кейт? – спрашиваю я.
– Кейт – это телка, с которой у Ван Паттена роман, – объясняет Прайс, не сводя глаз со столика, за которым сидит Монтгомери.
– Что случилось с мисс Киттридж? – интересуюсь я.
– Ага, – улыбается Прайс. – И как же Аманда?
– Господи, ребята, будьте проще. Верность? Ну конечно.
– И ты не боишься что-нибудь подхватить? – спрашивает Прайс.
– От кого, от Аманды или Кейт? – интересуюсь я.
– Мне казалось, мы сошлись на том, что с нами это в принципе не может случиться, – громко произносит Ван Паттен. – Так что… дураки вы. Заткнитесь.
– Разве я тебе не говорил?..
Приносят еще четыре «Беллини». Теперь на столе их уже восемь.
– Боже мой, – стонет Прайс, пытаясь поймать официанта, пока тот не удрал.
– Пицца «ред снэппер»… пицца «ред снэппер». – Макдермотт нашел себе мантру на вечер.
– Вскоре на нас набросятся горячие иранские девки, – бубнит Прайс.
– Но ведь это ноль-ноль-ноль с чем-то процента чего-то… вы слушаете? – спрашивает Ван Паттен.
– …Пицца… пицца. – Макдермотт бьет кулаком по столу, и тот трясется. – Черт возьми, кто-нибудь меня слушает или нет?
Я все еще в трансе от визитки Монтгомери – классные цвета, плотность, тиснение, шрифт. Внезапно я поднимаю руку, словно готовясь ударить Грега, и ору что есть мочи:
– Никто не хочет твою ебаную пиццу! Пицца должна быть пышной и плотной и сырная корочка должна быть что надо! А здесь, блядь, корочка слишком тонкая, потому что мудозвон-повар все пережаривает! Пицца здесь пересушенная и ломкая!
Побагровев, я грохаю об стол своим стаканом, а когда поднимаю глаза, то оказывается, что закуски уже принесли. Симпатичная официантка смотрит на меня со странным, застывшим выражением лица. Я вытираю рукой лицо и мягко улыбаюсь ей.
Она продолжает смотреть на меня так, словно я чудовище. Кажется, она действительно напугана. Я смотрю на Прайса – зачем? Ищу поддержки, что ли?
Он произносит одними губами:
– Сигары, – и похлопывает себя по карману пиджака.
Макдермотт тихо произносит:
– А мне кажется, они не ломкие.
– Милая, – говорю я.
Не обращая на Макдермотта никакого внимания, я беру официантку за руку и притягиваю к себе. Она вздрагивает, но я улыбаюсь, и она не сопротивляется, когда я подтягиваю ее поближе.
– Итак, мы намерены здесь как следует покушать… – начинаю я.
– Но я совсем не это заказывал, – говорит Ван Паттен, глядя в свою тарелку. – Я хотел колбаску из мидий.
– Заткнись, – кидаю я на него злобный взгляд, потом спокойно поворачиваюсь к симпатичной официантке, ухмыляясь как идиот. Но как красивый идиот. – Одним словом, понимаете, мы тут часто бываем, и, скорее всего, мы сейчас закажем хороший бренди, коньяк… кто его знает. Мы желаем отдохнуть и насладиться этой атмосферой. – Я делаю жест рукой. – А потом, – другой рукой я вынимаю бумажник из газелевой кожи, – мы бы хотели покурить превосходные гаванские сигары, и нам бы не хотелось, чтобы нас беспокоили неотесанные…
– Неотесанные. – Макдермотт кивает Ван Паттену и Прайсу.
– Неотесанные, невежливые посетители или туристы, которые неизбежно будут жаловаться на наши маленькие безобидные привычки… Поэтому… – я сую в ее маленькую ручку купюру (надеюсь, это полтинник), – если вы сумеете сделать так, чтобы нам не досаждали, мы с благодарностью оценим это. – Я поглаживаю ее руку, сжимая ее в кулачок. – А если кто-то будет жаловаться, ну так… – я делаю паузу, а потом перехожу на угрожающий тон, – вышвырните их вон.
Она кивает и уходит с озадаченным, растерянным видом.
– Кроме того, – говорит Прайс, улыбаясь, – если очередные «Беллини» появятся в радиусе трех метров от нашего стола, мы устроим метрдотелю аутодафе. Так что предупредите его на всякий случай.
Мы долго молчим, созерцая наши закуски. Тишину нарушает Ван Паттен:
– Бэйтмен?
– Да? – Я накалываю на вилку кусочек рыбы, макаю его в красную икру, а затем откладываю вилку.
– Ты – просто совершенство, – мурлычет он.
Прайс видит, что еще одна официантка приближается к нам с подносом, на котором стоят четыре стакана для шампанского, наполненные бледно-розовой жидкостью. Он говорит:
– Господи, это уже становится нелепым…
Однако она ставит стаканы на соседний столик, за которым сидят четыре телки.
– Клевая, – говорит Ван Паттен, оторвавшись от своей колбаски из морского гребешка.
– Фигура что надо, – согласно кивает Макдермотт. – Это точно.
– А я не впечатлился. – Прайс шмыгает носом. – Посмотрите на ее колени.
Мы разглядываем официантку, и, хотя у нее длинные загорелые ноги, я вижу, что одно колено у нее определенно больше другого. Левое колено шире и крупнее правого. Теперь этот незначительный недостаток кажется огромным, и мы все теряем к ней интерес. Ван Паттен ошеломленно смотрит в свою тарелку, потом на Макдермотта. Он говорит:
– Ты тоже не это заказывал. Это суши, а не сашими.
– Господи, – вздыхает Макдермотт. – Ты же сюда не есть пришел.
Мимо нашего столика проходит парень – вылитый Кристофер Лаудер. Прежде чем отправиться в туалет, он похлопывает меня по плечу и говорит:
– Привет, Гамильтон, ты хорошо загорел.
– Ты хорошо загорел, Гамильтон, – передразнивает Прайс, кидая тапас в мою тарелку для хлеба.
– Твою мать, – говорю я, – надеюсь, я не покраснел.
– В самом деле, куда ты ходишь, Бэйтмен? – спрашивает Ван Паттен. – Я имею в виду, загорать?
– Да, Бэйтмен. Куда же? – Макдермотт, кажется, искренне интересуется этим вопросом.
– Читайте по губам, – отвечаю я. – В солярий. – И раздраженно добавляю: – Как и все.
– У меня, – говорит Ван Паттен, выдержав для максимального эффекта паузу, – солярий… дома. – И он отправляет в рот большой кусок колбаски из гребешка.
– Чушь собачья, – съеживаясь, говорю я.
– Это правда, – с полным ртом подтверждает Макдермотт. – Я его видел.
– Да это, блядь, что-то сверхъестественное, – говорю я.
– Что же в этом, блядь, сверхъестественного? – спрашивает Прайс, гоняя вилкой по тарелке свой тапас.
– Ты знаешь, сколько стоит членство в ебаном солярии? – терзает меня Ван Паттен. – Годовой абонемент?
– Ты просто псих, – бормочу я.
– Смотрите, ребята, – говорит Ван Паттен. – Бэйтмен рассердился.
Неожиданно возле нашего стола возникает официант. Не спрашивая, можно ли убирать закуски, он уносит наши почти нетронутые тарелки. Никто не жалуется, разве что Макдермотт спрашивает:
– Он что, унес наши закуски?
Потом он смеется непонятно чему. Осознав, что он смеется один, Макдермотт замолкает.
– Он забрал их, потому что порции такие маленькие. Наверное, он решил, что мы уже поели, – устало говорит Прайс.
– Я все же думаю, что иметь солярий дома – это сумасшествие, – говорю я Ван Паттену. Вообще-то, в глубине души я считаю, что солярий дома – это роскошно, вот только в моей квартире для него нет места. Есть ведь и другие удовольствия в жизни, не только солярий.
– А с кем это Пол Оуэн? – Макдермотт спрашивает Прайса.
– С каким-то уродом из Kicker Peabody, – раздраженно отвечает Прайс. – Он знаком с Маккоем.
– Тогда почему он сидит с этими кретинами из Drexel? – спрашивает Макдермотт. – Разве это не Спенсер Уин?
– У тебя глюки, что ли? – спрашивает Прайс. – Это не Спенсер Уин.
Я смотрю на Пола Оуэна, сидящего с тремя парнями. Один из них, возможно, Джефф Дюваль. Все четверо в подтяжках и в очках в роговой оправе; у всех волосы зачесаны назад, все пьют шампанское. Я лениво размышляю о том, как Оуэну удалось заполучить счета Фишера. Аппетит от этого не улучшается, однако еду приносят сразу после того, как убрали закуски, и мы начинаем есть. Макдермотт снимает подтяжки. Прайс называет его «тряпкой». Я как будто парализован, однако мне все же удается отвернуться от Оуэна и заглянуть в свою тарелку (запеканка – в виде желтого шестиугольника, окруженного полосками копченого лосося и завитками зеленого, как горошек, соуса томатилло). Потом я перевожу взгляд на толпу людей, которые ждут своей очереди. Кажется, они злые и опьяневшие от бесплатных коктейлей; они устали так долго ждать столик, который наверняка окажется говенным, где-нибудь возле кухни, хоть они и сделали предварительный заказ.
Ван Паттен нарушает тишину нашего стола, швырнув вилку и отодвинув стул.
– Что случилось? – спрашиваю я, поднимая глаза.
Вилка застыла над тарелкой, но моя рука не движется: она словно наслаждается красотой содержимого тарелки, у нее как будто есть собственный разум, который отказывается разрушать этот дизайн. Вздохнув, я печально откладываю вилку.
– Черт. Я должен записать фильм по кабельному для Мэнди. – Ван Паттен, стоя, вытирает рот салфеткой. – Я еще вернусь.
– Пусть она сама запишет, идиот, – говорит Прайс. – Ты что, чокнутый?
– Она в Бостоне, у своего дантиста. – Подкаблучник Ван Паттен пожимает плечами.
– Ну и что ты собираешься делать? – Мой голос дрожит. Я по-прежнему думаю о его визитке. – Будешь звонить на кабельное телевидение?
– Нет, – говорит он. – Мой телефон подключен к видеопрограммеру Videonics, который я купил в Hammacher Schlemmer. – Он удаляется, на ходу надевая подтяжки.
– Круто, – тускло говорю я.
– Эй, что ты хочешь на десерт? – кричит ему Макдермотт.
– Что-нибудь шоколадное и без муки, – кричит он в ответ.
– Ван Паттен, кажется, забросил тренировки? – спрашиваю я. – Он, кажется, поправился.
– Похоже на то, – говорит Прайс.
– А разве он не член клуба «Вертикаль»? – спрашиваю я.
– Не знаю, – бормочет Прайс, изучая свою тарелку, потом, выпрямившись, отодвигает ее и жестом показывает официантке, что он хочет еще одну «Финляндию» со льдом.
Очередная симпатичная официантка с опаской подходит к нам. У нее в руках бутылка шампанского «Перрье-Жуэ», неурожайного года. Она говорит, что это подарок от Скотта Монтгомери.
– Неурожайный год! Вот сука, – шипит Прайс. Вытянув шею, он ищет глазами столик Монтгомери. – Неудачник. – Прайс показывает Монтгомери большой палец. – Блядь, такой низкорослый, что его еле видно. По-моему, я дал знак Конраду, но не уверен.
– А где Конрад? – спрашиваю я. – Я должен с ним поздороваться.
– Да тот, который назвал тебя Гамильтоном, – говорит Прайс.
– Это был не Конрад, – говорю я.
– Ты уверен? Пиздец, как похож на Конрада, – отвечает он.
На самом деле он не меня слушает, а пялится на декольте фигуристой официантки, которая наклонилась, чтобы поудобнее ухватить штопор.
– Нет, это был не Конрад, – говорю я, удивляясь, как это Прайс не может узнать своего коллегу. – Этот парень лучше пострижен.
Пока официантка открывает шампанское, мы молчим. Когда же она уходит, Макдермотт спрашивает, понравилась ли нам еда. Я отвечаю, что запеканка была отличной, но слишком много соуса томатилло. Макдермотт кивает:
– Мне так и говорили.
Ван Паттен возвращается и бормочет:
– Туалет такой, что не нюхнешь.
– Может, десерт? – говорит Макдермотт.
– Разве что шербет «Беллини», – зевает Прайс.
– Давайте расплатимся, – предлагает Ван Паттен.
– Пора по бабам, джентльмены, – говорю я.
Симпатичная официантка приносит чек: 475 долларов – значительно меньше, чем мы ожидали. Поскольку у меня нет наличных, я расплачиваюсь своей карточкой Platinum AmEx и собираю у них купюры, в основном новые полтинники. Макдермотт требует десять долларов, поскольку его колбаска из гребешка стоила всего шестнадцать. Бутылка шампанского от Монтгомери осталась на столе нетронутой. У выхода из «Пастелей» сидит еще один нищий с табличкой, на которой написано что-то абсолютно неразборчивое. Он тихо просит у нас мелочь или (с бо́льшим оптимизмом) что-нибудь поесть.
– Чувак явно нуждается в косметологе, – отмечаю я.
– Слушай, Макдермотт, – хихикает Прайс, – кинь ему свой галстук.
– Блядь. А что это ему даст? – глядя на нищего, спрашиваю я.
– Сможет перекусить в «Джемз», – смеется Ван Паттен и протягивает мне ладонь, по которой я хлопаю своей.
– Отдать чуваку… – Явно обиженный Макдермотт рассматривает свой галстук.
– Пардон… такси! – говорит Прайс, останавливая машину. – И выпить.
– В «Туннель», – говорит Макдермотт шоферу.
– Отлично, Макдермотт, – констатирует Прайс, садясь на переднее сиденье. – Кажется, ты раздухарился.
– Ну и что? Я ведь не такой растраченный пидор-декадент, как ты, – отвечает Макдермотт, садясь передо мной.
– А вы в курсе, что пещерные люди получали больше клетчатки, чем мы? – спрашивает водителя Прайс.
– Э-э-э, где-то я это уже слышал, – отмечает Макдермотт.
– Ван Паттен, – говорю я, – ты видел шампанское, которое нам прислал Монтгомери?
– Правда? – переспрашивает Ван Паттен, перегнувшись через Макдермотта. – Дай-ка угадаю. Может, «Перрье-Жуэ»?
– В точку! – произносит Прайс. – Неурожайного года.
– Мудак ебаный, – говорит Ван Паттен.
«Туннель»
Почему-то сегодня все мужчины, толпящиеся у входа в «Туннель», – в смокингах. Единственное исключение – бродяга средних лет, сидящий возле мусорного контейнера, всего в паре метров от канатов. Он протягивает каждому, кто обратил на него внимание, пластиковый стаканчик и просит мелочь. Когда Прайс, делая знаки одному из швейцаров, проводит нас мимо толпы за канаты, Ван Паттен машет хрустящей однодолларовой банкнотой перед лицом бездомного бродяги, лицо которого на мгновение озаряется. Но Ван Паттен убирает доллар в карман, и мы, получив дюжину талонов на выпивку и два пропуска в VIP-зал внизу, проскальзываем в дверь. Внутри к нам пристают еще два швейцара (они в длинных шерстяных шинелях, волосы завязаны в хвосты – видимо, немцы): они желают знать, почему мы не в смокингах. Прайсу все же как-то удается уладить проблему – то ли он дал этим козлам денег, то ли уболтал их (первое более вероятно). Я стою в стороне, спиной к нему, и пытаюсь слушать, как Макдермотт жалуется Ван Паттену на то, что я, псих ненормальный, отказался в «Пастелях» разделить с ним пиццу. Однако трудно услышать что бы то ни было, кроме грохочущей из динамиков песни «I Feel Free»[5] в исполнении Белинды Карлайл. В кармане моей куртки от Valentinо лежит нож с зубчатым лезвием, и мне очень хочется сию минуту выпустить Макдермотту кишки, раскроить ему лицо, раскурочить спинной хребет. Но Прайс уже машет нам, и желание убить Макдермотта сменяется смутным предвкушением развлечений: я выпью шампанского, найду клевую девку, нюхну, может быть, даже потанцую под какое-нибудь старье, а может, и под новую песню Джанет Джексон, которая мне очень нравится.
В холле спокойнее. Двигаясь к входу, мы проходим мимо трех очень клевых фигуристых девиц. На одной – черный шерстяной жакет с пуговицами по бокам, брюки (шерсть с крепом) и обтягивающий кашемировый свитер с высоким воротом, все от Oscar de la Renta. Вторая – в двубортном пиджаке из шерсти, мохера и нейлонового твида; в том же стиле – брюки джинсового покроя и мужская хлопчатобумажная рубашка, все от Stephen Sprouse. Самая красивая одета в пестрый шерстяной жакет и шерстяную юбку с завышенной талией (Barney’s) и шелковую блузку от Andra Gabrielle. Они явно обратили на нас внимание, и мы в ответ поворачиваем головы – все, кроме Прайса, который полностью игнорирует девиц и произносит что-то грубое.
– Бог мой, Прайс, приди в себя, – ноет Макдермотт. – Что с тобой? Девки – очень клевые.
– Ага. Если говоришь на фарси, – отвечает Прайс, протягивая Макдермотту два питейных талона, словно для того, чтобы тот умилостивился.
– Что?! – говорит Ван Паттен. – В них вообще не было ничего испанского.
– Знаешь, Прайс, если ты хочешь поебаться, тебе придется изменить свой подход, – замечает Макдермотт.
– Кто это мне говорит о ебле? – спрашивает Крейга Прайс. – Ты? Ты, которого недавно ублажили рукой?
– Твои взгляды – просто труба, Прайс, – говорит Крейг.
– Слушай, неужели ты думаешь, что когда я намерен заполучить пизду, то веду себя так же, как с вами? – с вызовом говорит Прайс.
– Да! – в один голос отвечают Ван Паттен и Макдермотт.
– Знаете, ребята, – вмешиваюсь я, – все-таки когда хочешь потрахаться, то можешь вести себя по-другому. Надеюсь, Макдермотт, эта идея не помешает тебе сохранить девственность. – Я прибавляю шаг, пытаясь держаться вместе с Тимом.
– Да, но это не объясняет, почему Тим ведет себя как полный кретин, – говорит Макдермотт, стараясь догнать меня.
– Как будто этим девкам не все равно, – фыркает Прайс. – Поверь мне, когда я им сообщу размер своего годового дохода, мое поведение будет мало что значить.
– Ну и как же ты преподнесешь эту пикантную информацию? – спрашивает Ван Паттен. – Скажешь: «Вот бутылка „Короны“, кстати, я делаю сто восемьдесят штук в год, а какой твой знак зодиака?»
– Сто девяносто, – поправляет его Прайс. – Да, именно так. Здесь хорошие манеры интересуют девушек меньше всего.
– О всезнающий, чего же хотят эти девушки? – вставляет Макдермотт, слегка кланяясь на ходу.
Ван Паттен смеется. На ходу он бьет ладонь Макдермотта своей ладонью.
– Слушай, – смеюсь я, – если бы ты знал, то не спрашивал бы.
– Они ищут красивого чувака, который водил бы их в «Цирк» два раза в неделю и иногда к «Нелль». Ну еще, может, познакомил бы с Дональдом Трампом, – равнодушно говорит Прайс.
Мы отдаем билеты симпатичной девке в толстом пальто (шерстяное сукно) и шелковом шарфике от Hermès. Когда она пропускает нас, Прайс ей подмигивает, а Макдермотт произносит:
– Не успел я войти, как меня начали преследовать мысли о болезнях. Тут есть грязные телки. Я это просто чую.
– Чувак, я же говорил тебе. – Ван Паттен снова терпеливо излагает свои факты: – Ничего подхватить нельзя. Это ноль-ноль-ноль одна десятитысячная процента…
К счастью, его голос тонет в песне «New Sensation»[6], которую поют INXS (длинная версия). Музыка звучит так громко, что приходится орать друг другу. Народу в клубе много; единственный свет – вспышки на танцполе. Все в смокингах. Все пьют шампанское. Поскольку у нас только два пропуска в нижний VIP-зал, Прайс сует их Ван Паттену и Макдермотту, и они весело машут билетами перед парнем, дежурящим у лестницы. На нем – двубортный смокинг из шерсти, хлопчатобумажная рубашка с воротником апаш от Cerruti 1881 и бабочка в черно-белую клетку от Martin Dingman Neckwear.
– Слушай, – кричу я Прайсу, – почему мы туда не пошли?
– Потому что, – схватив меня за воротничок, он пытается перекричать музыку, – нам нужен боливийский живительный порошок…
Я иду за ним. Прайс быстро идет по узкому коридору вдоль танцпола и через бар входит в «Зал с канделябрами», битком набитый ребятами из Drexel, Lehman’s, Kidder Peabody, First Boston, Morgan Stanley, Rothschild, Goldman, бог мой, даже из Citibank, все в смокингах, со стаканами шампанского. «New Sensation» постепенно переходит в «The Devil Inside»[7], как будто это одна и та же песня. Прайс замечает в глубине зала Теда Мэдисона, который стоит, прислонившись к перилам. На нем – двубортный шерстяной смокинг, хлопчатобумажная рубашка с воротником апаш от Paul Smith, бабочка и шарфик от Rainbow Neckwear, бриллиантовые запонки от Trianon, лакированные туфли с шелковой отделкой от Ferragamo и старинные часы Hamilton от Saks. Позади Мэдисона – уходящие в темноту железнодорожные рельсы: сегодня они расцвечены яркими зелеными и розовыми фонариками. Прайс неожиданно останавливается и смотрит сквозь Теда, который, заметив Тимоти, понимающе улыбается. Прайс глядит на рельсы с тоской, как будто они символизируют некую свободу, олицетворяют избавление, которого он ищет, но я кричу Прайсу: «Эй, вон Тедди!» Это выводит его из оцепенения, он трясет головой, словно пытаясь выкинуть из нее мысли, фокусирует взгляд на Мэдисоне и решительно кричит: «Да нет, черт возьми, это не Мэдисон, это Тернбол». С парнем, которого я принял за Мэдисона, подходят поздороваться двое других парней в смокингах, он поворачивается к нам спиной, и внезапно, сзади, Эберсол обхватывает шею Тимоти и делает вид, что хочет его задушить. Прайс отпихивает руку, а потом пожимает ее со словами: «Привет, Мэдисон».
Мэдисон (а вовсе не Эберсол, как мне показалось) одет в чудесный двубортный костюм из белого льна от Hackett of London, купленный в Bergdorf Goodman. В одной руке у него незажженная сигара, в другой – наполовину пустой стакан шампанского.
– Мистер Прайс, – орет Мэдисон. – Рад вас видеть, сэр.
– Мэдисон, – кричит в ответ Прайс, – мы нуждаемся в твоих услугах.
– Ищете приключений? – улыбается Мэдисон.
– Нечто более срочное, – орет Прайс.
– Понятно, – кричит Мэдисон, кивает мне холодно (почему – не знаю) и, кажется, кричит: «Бэйтмен», а потом: «Ты хорошо загорел!»
Парень, стоящий за Мэдисоном, – вылитый Тед Драйер, на мой взгляд. Он одет в двубортный смокинг с шалевым воротником и в хлопчатобумажную рубашку с шелковой клетчатой бабочкой, я почти уверен, что все это – из коллекции Polo от Ralph Lauren. Мэдисон стоит и то и дело кивает каким-то людям, возникающим из толпы.
Наконец Прайс теряет самообладание. Кажется, он кричит:
– Слушай, нам нужны наркотики.
– Терпение, Прайс, терпение, – кричит Мэдисон. – Я поговорю с Рикардо.
Он по-прежнему остается стоять, кивая проталкивающимся мимо нас людям.
– Нам нужно сейчас! – вопит Прайс.
– Вы почему не в смокингах? – кричит Мэдисон.
– Сколько нам надо? – спрашивает меня Прайс. На лице у него написано отчаяние.
– Грамма хватит, – кричу я. – Рано утром я должен быть в офисе.
– У тебя есть наличные?
Я не могу соврать, киваю, даю ему сорок долларов.
– Грамм, – орет Прайс Теду.
– Познакомьтесь, – говорит Мэдисон, указывая на своего друга, – это Ю.
– Нам грамм! – Прайс сует купюры Мэдисону. – Что? Ю?
Парень и Мэдисон улыбаются, Тед качает головой и снова выкрикивает имя, которое я не могу расслышать.
– Нет, – кричит он. – Хью!
Во всяком случае, так мне слышится.
– Приятно познакомиться, Хью! – Прайс поднимает руку и постукивает пальцем по золотым часам Rolex.
– Сейчас вернусь, – кричит Мэдисон. – Пообщайтесь пока с моим приятелем. Возьмите что-нибудь выпить.
Он исчезает. Ю, Хью, Хую, или как его там, растворяется в толпе. Я иду за Прайсом к перилам. Я хочу прикурить сигару, но у меня нет спичек, однако меня успокаивает ее вид и запах, а также осознание того, что скоро появится кокаин. Я беру у Прайса два талона на выпивку и хочу принести ему «Финляндию» со льдом, но «Финляндии» нет, говорит мне сука-барменша. Все же у нее отличная фигура, девица так соблазнительно выглядит, что я оставляю ей большие чаевые. Я решаю взять «Абсолют» для Прайса, а себе – «J&B» со льдом. Думаю, не принести ли Тиму коктейль «Беллини», но, кажется, он сегодня слишком взвинченный, чтобы оценить мою шутку. Протиснувшись сквозь толпу, я даю ему «Абсолют». Не поблагодарив меня, Тимоти одним глотком выпивает водку, морщится, глядя на стакан, и негодующе смотрит на меня. Я беспомощно пожимаю плечами. Его взгляд снова прикован к рельсам. Сегодня в «Туннеле» очень мало девок.
– Слушай, завтра вечером я встречаюсь с Кортни.
– С Кортни? – кричит он, уставившись на рельсы. – Прелестно.
Его сарказм слышен даже сквозь шум.
– А почему бы и нет! Каррузерса нет в городе.
– С таким же успехом ты мог бы заказать девицу из эскорт-сервиса! – не задумываясь, кричит он с горечью.
– Почему? – ору я.
– Потому что поебаться с ней обойдется тебе гораздо дороже!
– Вовсе нет! – кричу я.
– Слушай, я с этим тоже столкнулся, – кричит Прайс, слегка потряхивая стакан. Кубики льда гремят неправдоподобно громко. – Мередит такая же. Она тоже считает, что я должен ей платить. Они все так думают.
– Прайс, – я делаю большой глоток виски, – тебе цены нет…
Он показывает себе за спину:
– Куда ведут эти рельсы?
Начинают мерцать лазерные вспышки.
– Не знаю, – отвечаю я после очень долгой паузы (трудно даже сказать, сколько она длилась).
Мне надоедает смотреть на Прайса, который молчит и не двигается. Он отрывает взгляд от рельсов только для того, чтобы посмотреть, не идет ли Мэдисон или Рикардо. Вокруг – никаких женщин, одни профессионалы с Уолл-стрит в смокингах. Единственная девушка танцует одна в углу под песню, которая, как мне кажется, называется «Love Triangle»[8]. На девушке топ со стразами (кажется, от Ronaldus Shamack), на котором я и пытаюсь сосредоточиться. Но я в таком нервном, предкокаиновом состоянии, что принимаюсь нервно жевать талон на выпивку, а какой-то парень с Уолл-стрит, похожий на Бориса Каннингема, загораживает девушку. Прошло уже двадцать минут, и я хочу снова отправиться в бар, но тут возвращается Мэдисон. Он шумно дышит, на его лице застыла тревожная улыбка. Он пожимает руку вспотевшему, суровому Прайсу, который отходит так быстро, что когда Тед пытается по-дружески хлопнуть его по спине, то его рука рассекает воздух.
Я снова иду за Прайсом мимо бара, мимо танцпола, мимо лестницы, ведущей вниз, мимо длинной очереди в женский туалет (странно, ведь вроде бы сегодня женщин в клубе почти нет), и вот мы в пустом мужском туалете. Мы втискиваемся в кабинку, Прайс запирает дверь на щеколду.
– Меня трясет, – говорит он, передавая мне маленький конвертик. – Открывай ты.
Я беру крошечный белый конвертик, осторожно разворачиваю. Во флуоресцентном свете кажется, что тут меньше грамма.
– Господи, – шепчет Прайс на удивление мягко, – да здесь не так уж много, да? – Он наклоняется, чтобы рассмотреть порошок получше.
– Может, это из-за освещения так кажется, – замечаю я.
– Рикардо охуел, что ли? – спрашивает Прайс, с удивлением рассматривая кокаин.
– Тсс, – шепчу я, вынимая свою платиновую карточку American Express. – Давай просто сделаем это.
– Может, он миллиграммами его продает? – не может успокоиться Прайс.
Сунув свою платиновую карточку American Express в порошок, он подносит ее к носу и вдыхает. Мгновение он стоит в молчании, а потом сдавленным голосом произносит:
– О боже.
– Ну, что? – спрашиваю я.
– Да это, блядь, миллиграмм… сахарной пудры, – выдавливает он.
Вдохнув немного порошка, я прихожу к тому же заключению:
– Конечно, он слабоват, но если мы не будем его жалеть, то, думаю, будем в полном порядке…
Но Прайс в бешенстве, он вспотел и побагровел. Он орет на меня, как будто это я во всем виноват, как будто это мне пришла в голову идея купить грамм у Мэдисона.
– Я хочу оторваться, Бэйтмен, – медленно говорит Прайс, постепенно повышая голос, – а не подслащивать овсянку!
– Можно добавить его в кофе с молоком, – доносится жеманный голос из соседней кабинки.
Прайс смотрит на меня, таращит глаза, не в силах в такое поверить, наконец в ярости колотит кулаком в стенку.
– Успокойся, – говорю я ему. – Какая разница, давай продолжим.
Он поворачивается ко мне, проводит рукой по своим жестким, зачесанным назад волосам. Кажется, он смягчился.
– Пожалуй, ты прав, – он повышает голос, – если пидор в соседней кабинке не возражает.
Мы ждем, когда человек подаст признаки жизни, наконец голос в соседней кабине шепелявит:
– Я не возразаю…
– Иди на хуй, – орет Прайс.
– Сам иди, – передразнивает голос.
– Иди на хуй!!! – вопит Прайс, пытаясь перелезть через разделительную алюминиевую стенку, но я одной рукой стаскиваю его.
Слышится звук спускаемой воды в соседней кабинке, и незнакомец, явно напуганный, выбегает из туалета. Прайс, прислонившись к двери нашей кабинки, смотрит на меня с какой-то безнадежностью. Проведя дрожащей рукой по своему багровому лицу, он крепко зажмуривает глаза, его губы белеют, под одной ноздрей следы кокаина. Не открывая глаз, он тихо говорит:
– Ладно. Давай продолжим.
– Вот это я понимаю, – говорю я.
Мы по очереди черпаем своими кредитками порошок из конвертика, а когда они более не годятся, подчищаем остатки пальцами, вдыхаем, лижем, втираем его в десны. Я почти ничего не чувствую, но, возможно, еще один виски со льдом подарит мне ложное ощущение, будто меня хоть слабо, но вставило. Выйдя из кабинки, мы моем руки, разглядываем наши отражения в зеркале и, удовлетворенные, отправляемся в «Зал с канделябрами». У меня возникает желание сдать в раздевалку пальто (Armani). Что бы Прайс ни говорил, я чувствую, что меня зацепило. Спустя несколько минут я стою у стойки бара, пытаясь привлечь внимание официантки, и в словах Прайса уже нет никакого смысла. В конце концов я вынужден показать официантке купюру в двадцать баксов, несмотря на то что у меня еще полно талонов на бесплатную выпивку. Это срабатывает. Поскольку у меня есть талоны, я заказываю две двойные «Столичные» со льдом. Я отлично себя чувствую и, пока она наливает мне водку, кричу ей:
– А ты, случайно, не учишься в Нью-Йоркском университете?
Она хмуро качает головой.
– А в Хантере? – снова кричу я.
Она снова качает головой. Нет, она не учится в Хантере.
– Может, в Колумбийском? – ору я. Это шутка такая.
Она по-прежнему занимается «Столичной». Я не хочу продолжать разговор и, когда она ставит передо мной два стакана, кидаю на стойку талоны. Она качает головой и кричит:
– Уже больше одиннадцати. Талоны не действуют. Бар работает за наличные. Это стоит двадцать пять долларов.
Я не качаю права, а хладнокровно достаю бумажник из газелевой кожи и протягиваю ей полтинник, на который она (я клянусь!) смотрит с презрением. Вздохнув, она поворачивается к кассе, чтобы дать мне сдачу, а я, глядя на нее, громко (хоть меня и заглушает толпа и «Pump Up the Volume»), с улыбкой говорю:
– Ебаная уродская сука, как бы я хотел забить тебя до смерти и насладиться твоей кровью.
Не оставив этой пизде чаевых, я отправляюсь на поиски Прайса. Он опять стоит у перил с угрюмым видом, вцепившись руками в решетку. Рядом с ним стоит Пол Оуэн, который занимается счетами Фишера. На нем – шестипуговичный двубортный смокинг из шерсти. Он орет что-то вроде:
– Пятисоткратное понижение учетной ставки минус понижение на ICM PC, а потом доехал на служебном автомобиле до «Смит и Волленски».
Кивая ему, я протягиваю водку Прайсу. Тот не произносит ни слова, даже не благодарит. Он стоит со стаканом в руке и печально смотрит на рельсы, потом прищуривается и склоняет голову к стакану. Когда вспыхивает стробоскопический свет, он выпрямляется и что-то бормочет сам себе.
– Тебя разве не вставило? – спрашиваю я его.
– Как дела? – орет Оуэн.
– Мне очень хорошо, – отвечаю я.
Играет музыка. Песня не кончается, а переходит в следующую – их разделяет только сухой треск ударных. Разговаривать невозможно, но пока мой единственный собеседник – мудак Пол Оуэн, это даже хорошо. Похоже, в «Зале с канделябрами» появились девушки, и я пытаюсь посмотреть одной девке в глаза: она похожа на модель, у нее большие сиськи. Прайс пихает меня в бок, и я наклоняюсь, чтобы спросить, не взять ли нам еще грамм.
– Почему вы не в смокингах? – спрашивает Пол Оуэн.
– С меня хватит, – кричит Прайс, – я пошел.
– Чего с тебя хватит? – в замешательстве кричу я.
– Этого! – орет он. Мне кажется, что он имеет в виду двойную «Столичную», но я не уверен.
– Не уходи, – говорю я ему. – Я ее выпью.
– Эй, Патрик, – орет он, – я ухожу.
– Куда? – Я действительно в замешательстве. – Хочешь, я найду Рикардо?
– Я ухожу, – вопит он. – Я… ухожу!
Совершенно не понимая, что он имеет в виду, я начинаю смеяться:
– Ну и куда ты уходишь?
– Вообще ухожу! – орет он.
– Стой, – кричу я. – Уходишь из банка?
– Нет, Бэйтмен. Я серьезно, глупый ты сукин сын. Ухожу. Исчезаю.
– Куда? – Я продолжаю смеяться, ничего не понимая, и снова ору: – В Morgan Stanley? Лечиться? А?
Он не отвечает, отворачивается от меня, смотрит поверх перил, пытаясь отыскать точку, где заканчиваются рельсы. Он хочет понять, что там, в темноте. Мне скучно с ним, но Оуэн еще хуже, а я случайно встретился взглядом с этим мудаком.
– Скажи ему «Don’t worry, be happy», – орет Оуэн.
– Ты по-прежнему занимаешься счетами Фишера? – Что еще я могу сказать?
– Что? – переспрашивает Оуэн. – Погоди. Это не Конрад?
Он указывает на парня, стоящего возле бара, прямо под канделябром. На нем – однобортный смокинг из шерсти с шалевым воротником, хлопчатобумажная сорочка с бабочкой, все от Pierre Cardin. В руках у него стакан шампанского. Он изучает свои ногти. Потом вытаскивает сигару, просит прикурить. Мне так скучно, что я, даже не извинившись, иду в бар – сказать официантке, что я душу продам за спички. «Зал с канделябрами» набит битком, все люди похожи друг на друга и кажутся знакомыми. В воздухе висит густой сигарный дым; снова играет INXS, громче обычного… что? Я случайно касаюсь своей брови – она мокрая. В баре я беру спички. На обратном пути я сталкиваюсь с Макдермоттом и Ван Паттеном, которые начинают клянчить у меня талоны на выпивку. Зная, что они уже не действуют, я отдаю им то, что осталось, но нас зажали в центре зала, и талоны на выпивку – не аргумент, чтобы нас пропустили к бару.
– Грязные телки, – говорит Ван Паттен. – Будь осторожен. Хороших тут нет.
– Внизу говно, – орет Макдермотт.
– Вы нашли наркотики? – кричит Ван Паттен. – Мы видели Рикардо.
– Нет, – ору я, – не получилось. У Мэдисона нет.
– Пропустите официанта, блядь, пропустите официанта, – сзади орет парень.
– Ничего не выйдет, – ору я. – Ничего не слышу.
– Что?! – вопит Ван Паттен. – Ничего не слышу.
Вдруг Макдермотт хватает меня за руку:
– Прайс что, совсем охуел? Смотри!
Как в кино, я оборачиваюсь с усилием и, встав на цыпочки, вижу, что Прайс залез на перила и пытается сохранить равновесие. Кто-то сунул ему стакан с шампанским. Не то пьяный, не то обдолбанный, Прайс, закрыв глаза, простирает руки вперед, словно благословляя толпу. Позади него, как и прежде, вспыхивает стробоскопическая лампа. Искусственный дым пыхает как сумасшедший, обволакивая Прайса серым туманом. Тим что-то выкрикивает, но мне не слышно – зал набит до отказа. Шумовой фон создается комбинацией оглушительной песни «Party All the Time»[9], которую поет Эдди Мерфи, и несмолкающим гулом бизнесменов, так что, не сводя с Прайса глаз, я проталкиваюсь вперед. Мне удается протиснуться мимо Мэдисона, Хью, Тернбола, Каннингема, но людей так много, что добраться туда невозможно. Всего несколько лиц обращены к Тиму, по-прежнему балансирующему на перилах. С полузакрытыми глазами он что-то выкрикивает. Мне неловко. Я даже рад тому, что застрял в толпе и не могу добраться до него, не могу спасти его от практически неизбежного позора. Я слышу, как Прайс кричит: «Прощайте!» Он очень удачно поймал секундное затишье. Когда толпа наконец обращает на него внимание, он орет: «Мудозвоны!» Ловко повернувшись, спрыгивает с перил и, оказавшись на рельсах, бежит прочь; шампанское пенится в стакане, который он держит в руке. Прайс спотыкается, раз, второй. Стробоскоп продолжает вспыхивать, и от этого все как бы в замедленной съемке. Удержавшись на ногах, Прайс исчезает в темноте. У перил сидит все тот же ленивый охранник. Кажется, он качает головой.
– Прайс! Вернись! – ору я, но толпа аплодирует этому представлению. – Прайс! – опять кричу я, невзирая на рукоплескания.
Но Прайс исчез, и я сомневаюсь, что если бы он меня даже услышал, то отреагировал бы хоть как-нибудь. Стоящий рядом Мэдисон, как бы поздравляя меня с чем-то, протягивает мне руку.
– Этот чувак – без тормозов.
Сзади подходит Макдермотт и хватает меня за плечо:
– Тут еще какой-то VIP-зал, о котором Прайс знает, а мы – нет, а? – Макдермотт, похоже, очень взволнован.
Мы стоим у входа в «Туннель», я все еще прусь, но уже очень устал. Удивительно, но во рту у меня по-прежнему вкус сахарозаменителя, даже после еще пары стаканов «Столичной» и «J&B». Половина первого, и мы наблюдаем, как лимузины пытаются повернуть налево, на Уэст-Сайд-хайвей. Нас трое: Макдермотт, Ван Паттен и я. Мы обсуждаем, получится ли отыскать новый клуб под названием «Некения». На самом деле меня не то что прет, но похоже, что я пьян.
– Может, пообедаем вместе? – спрашиваю я, зевая. – Например, завтра?
– Не могу, – отвечает Макдермотт. – Я иду стричься в Pierre.
– Тогда, может, позавтракаем? – предлагаю я.
– Не получится, – говорит Ван Паттен. – У меня маникюр в Gio.
– Кстати, – говорю я, рассматривая свою руку, – мне тоже нужно сделать маникюр.
– Тогда поужинаем? – спрашивает меня Макдермотт.
– У меня свидание, – отвечаю я. – Черт.
– А ты? – Макдермотт спрашивает у Ван Паттена.
– Исключено, – говорит Ван Паттен. – Должен пойти в Sunmakers. А потом у меня тренировка с личным тренером.
Офис
В лифте Фредерик Диббл рассказывает мне о статье на шестой странице или еще в какой-то светской хронике про Ивану Трамп. Потом он делится впечатлениями о новом таиландско-итальянском ресторане в Верхнем Ист-Сайде, куда он вчера ходил с Эмили Гамильтон. Потом принимается восхвалять какое-то замечательное блюдо – фузилли с шиитаке. Я достаю золотую ручку Cross, чтобы записать название ресторана в свою записную книжку. На Диббле двубортный шерстяной костюм в почти незаметную полоску от Canali Milano, хлопчатобумажная рубашка от Bill Blass и тканый галстук в миниатюрную шотландскую клетку от Bill Blass Signature. В руках он держит плащ от Missoni Uomo. У него великолепная дорогая стрижка, на которую я взираю с восторгом. Диббл начинает напевать мелодию, звучащую в лифте, – скорее всего, это «Sympathy for the Devil», как и во всех лифтах нашего здания. Я хочу спросить Диббла, не смотрел ли он утром «Шоу Патти Винтерс» про аутизм, но он выходит на один этаж раньше меня, успев повторить название ресторана – «Thaidialano» и сказать мне: «До встречи, Маркус». Двери закрываются. На мне костюм из шерсти в крапинку, брюки в складку от Hugo Boss, шелковый галстук тоже от Hugo Boss, хлопчатобумажная рубашка с ворсом от Joseph Abboud и ботинки от Brooks Brothers. Утром я слишком усердно чистил зубы нитью и до сих пор чувствую в горле медный вкус крови. Почистив зубы, я прополоскал рот листерином, и до сих пор во рту у меня все горит, но, выходя из лифта, размахивая новым черным кожаным дипломатом от Bottega Veneta, проскальзывая мимо вешалки Wittenborn, я все равно улыбаюсь, хоть никого вокруг и нет.
Моя секретарша Джин сидит за своим столом. Она влюблена в меня. Наверное, я на ней когда-нибудь женюсь. Как обычно, чтобы привлечь мое внимание, она одета очень дорого и совершенно неуместно: кашемировая кофточка от Chanel, кашемировый свитер, кашемировый шарфик, серьги из фальшивого жемчуга, брюки от Barney’s (шерстяной креп). Приближаясь к ее столу, я стаскиваю на шею наушники. Она поднимает глаза и несмело улыбается.
– Опаздываешь? – спрашивает она.
– Я был на аэробике, – говорю я совершенно спокойно. – Извини. Есть что-нибудь для меня?
– Рикки Хендрикс просил передать, что он сегодня не сможет, – говорит она. – Он не сказал что и почему.
– Мы с Рикки иногда занимаемся боксом в Гарвардском клубе, – объясняю я ей. – Что-нибудь еще?
– Да… Спенсер хочет встретиться с тобой в «Фужерах», – с улыбкой сообщает она.
– Когда? – спрашиваю я.
– В шесть.
– Не получится, – говорю я, проходя в свой кабинет, – я не могу.
Она встает из-за стола и идет вслед за мной.
– Но что мне ему сказать? – с энтузиазмом спрашивает она.
– Просто… скажи… «нет», – говорю я, снимая пальто Armani и вешая его на плечики Alex Loeb, купленные в Bloomingdale’s.
– Просто… сказать… «нет»? – переспрашивает она.
– Ты видела утром «Шоу Патти Винтерс»? – спрашиваю я. – Об аутизме.
– Нет, – улыбается она, словно очарованная моим интересом именно к этому шоу. – Ну и как оно?
Я беру утренний выпуск «Wall Street Journal» и просматриваю первую страницу – она сливается в одно черное бессмысленное пятно.
– По-моему, я в бреду смотрел это шоу. Не знаю. Не уверен. Не помню, – бормочу я. Откладываю «Wall Street Journal» и беру «Financial Times». – Честно, я не помню.
Она продолжает стоять, ожидая указаний. Я вздыхаю и складываю руки вместе. Я сижу за столом Palazzetti со стеклянной столешницей. Справа и слева от меня стоят галогеновые лампы, они уже включены.
– Слушай, Джин, – начинаю я. – Надо заказать столик на троих в «Верблюдах» на половину первого, а если там не получится, попробуй в «Карандашах». Хорошо?
– Слушаюсь, сэр, – шутливым тоном произносит она и уходит.
– Постой, – говорю я, кое-что вспомнив. – Еще надо заказать на восемь столик в «Аркадии». На двоих.
Она оборачивается, ее лицо немного мрачнеет, хотя она по-прежнему улыбается:
– О-о-о. Что-нибудь… романтическое?
– Не говори глупости. Ладно – спасибо, я сам закажу, – говорю я.
– Да я все сделаю, – говорит она.
– Нет-нет. – Я машу рукой, чтобы она ушла. – Будь зайчиком, принеси мне воду «Перье», ага?
– Ты сегодня великолепно выглядишь, – замечает она перед тем, как уйти.
Она права, но я ничего не отвечаю. Я смотрю на картину Джорджа Стаббса, которая висит напротив, и думаю, не перевесить ли ее, не слишком ли она близко висит от стереокомплекса: радиоприемник Aiwa AM/FM, двухкассетный магнитофон, полуавтоматический проигрыватель с ременным приводом, графический эквалайзер. Все в том же стиле, что и колонки, темно-синего цвета – в тон цветовой гамме моего офиса. Наверное, картину Стаббса надо повесить над статуей добермана в натуральную величину, стоящей в углу (700 долларов в магазине Beauty and the Beast, который находится в «Башне Трампа»). Впрочем, может быть, она будет лучше смотреться над антикварным столиком Pacrizinni, стоящим рядом с доберманом? Я встаю и убираю со столика спортивные журналы сороковых годов, купленные в Funchies, Bunkers, Gaks и Gleeks по тридцать баксов штука. Потом я снимаю со стены Стаббса, ставлю его на стол, опять сажусь и принимаюсь перебирать карандаши, выставленные в старинной немецкой пивной кружке, купленной мною в Mantiques. Стаббс смотрится везде одинаково. В другом углу – копия стойки для зонтов «Черный лес» (Hubert des Forges, 675 долларов). В ней, как я только что заметил, нет ни одного зонта.
Вставив в магнитофон кассету с Полом Баттерфилдом, я вновь сажусь за стол, начинаю листать «Sports Illustrated» за прошлую неделю, но так и не могу сосредоточиться. Из головы не выходит проклятый солярий Ван Паттена. Приходится позвонить Джин.
– Да? – отвечает она.
– Джин, слушай. Разузнай все о домашних соляриях, хорошо?
– Что? – спрашивает она недоверчиво. Но я уверен, что она улыбнулась.
– О домашних соляриях, – терпеливо повторяю я. – Ну, чтобы загорать.
– Хорошо, – нерешительно отвечает она. – Еще что-нибудь?
– И… черт, да. Напомни, что мне надо вернуть видеокассеты, которые я взял вчера в прокате. – Я открываю и закрываю серебряный портсигар, лежащий рядом с телефоном.
– Еще что-нибудь? – спрашивает она и добавляет кокетливо: – Может, «Перье»?
– Да. Хорошая мысль. И еще, Джин…
– Да? – говорит она. Как хорошо, что она так терпелива.
– Ты ведь не думаешь, что я ненормальный? – спрашиваю я. – Из-за того, что я хочу иметь солярий дома?
Пауза.
– Ну, это немного необычно, – признается она, и я чувствую, что она очень тщательно подбирает слова. – Но нет, разумеется, нет. А как иначе ты можешь поддерживать великолепный загар?
– Молодец, девочка, – говорю я перед тем, как повесить трубку. У меня замечательная секретарша.
Она входит в мой кабинет через пять минут с бутылкой «Перье», долькой лимона и папкой с делом Ренсома, которую я не просил. Я немного тронут ее безграничной преданностью. Ничего не могу поделать, это мне льстит.
– Я заказала тебе столик в «Верблюдах» на полпервого, – говорит она, наливая воду в стакан. – Столик для некурящих.
– Больше так не одевайся, – говорю я, взглянув на нее. – Спасибо, что принесла мне эту папку.
– Мм… – Она замирает со стаканом в руке. – Что ты сказал? Я не расслышала. – Она ставит стакан на стол.
– Я сказал, – спокойно ухмыляясь, повторяю я, – чтобы ты это больше не надевала. Носи платье, юбку или что-нибудь такое.
Она немного ошарашена. Посмотрев на себя, она улыбается как идиотка.
– Если я правильно поняла, тебе не нравится, – кротко говорит она.
– Да ладно, – говорю я, отхлебывая минералку. – Просто тебе так лучше будет.
– Спасибо, Патрик, – говорит она с иронией.
Но я готов поклясться, что завтра она придет в платье. На ее столе звонит телефон. Я говорю ей, что меня нет. Она поворачивается, чтобы уйти.
– И высокие каблуки, – добавляю я. – Мне нравятся высокие каблуки.
Она добродушно кивает и выходит, закрыв за собой дверь. Я вынимаю карманные часы Panasonic с трехдюймовым цветным телевизором и AM/FM-радио и, прежде чем включить компьютер, пытаюсь найти какую-нибудь программу, например «Jeopardy!»
Спортивный клуб
Я хожу в частный спортивный клуб, который называется «Xclusive». Он находится в четырех кварталах от моей квартиры в Уэст-Сайде. Я купил членство в этом клубе два года назад, и с тех пор его переделывали три раза, так что теперь он оборудован самыми последними моделями тренажеров (Nautilus, Universal, Keiser). Там есть и гантели, и штанги, которые мне тоже нравятся. В моем клубе есть десять кортов для большого тенниса и ракетбола, зал для аэробики, четыре зала для танцевальной аэробики, два бассейна, аппараты «Lifecycle», гравитрон, тренажеры для гребли, бегущие дорожки, лыжные тренажеры. Кроме того, можно заказать индивидуальные тренировки или разработку персональной программы, имеется аппаратура для обследования сердечно-сосудистой системы, массажные кабинеты, сауна, парная, солярий и кафе, в котором подают свежевыжатые соки. Интерьер оформлял Дж. Дж. Фогель, тот же самый дизайнер, который работал над оформлением нового клуба Нормана Прейджера «Петти». Членство стоит пять тысяч долларов в год.
В то утро было прохладно, но, когда я вышел из офиса, мне показалось, что на улице потеплело. На мне – шестипуговичный двубортный пиджак в полоску от Ralph Lauren и хлопчатобумажная рубашка в тонкую полоску, с отложным воротничком и французскими манжетами от Sea Island. Я с удовольствием раздеваюсь в клубной раздевалке, где всегда работает кондиционер, и облачаюсь в спортивные шорты цвета воронова крыла (лайкра с хлопком), с белым поясом и белыми штрипками по бокам и в майку без рукавов, тоже из лайкры. И то и другое – от Wilkes, они занимают так мало места, что вполне умещаются в мой портфель. Я одеваюсь, прикрепляю к поясу шорт плеер и вставляю в уши наушники. Это сборник Стивена Бишопа и Кристофера Кросса, который мне сделал Тодд Хантер. Перед тем как идти в зал, я смотрюсь в зеркало. Мне не нравится, как я выгляжу, так что я возвращаюсь к портфелю, беру мусс и зачесываю волосы назад, потом втираю в лицо увлажняющий крем и мажу лечебным маскирующим карандашом Clinique пятнышко, которое я заметил под нижней губой. Теперь я доволен. Включаю плеер на полную громкость и выхожу из раздевалки.
Шерил (ужасная девица, которая в меня влюблена) сидит за своей стойкой, записывает посетителей и попутно читает колонку светских сплетен в «Post». Когда она видит меня, ее лицо озаряется лучезарной улыбкой. Она здоровается со мной, но я быстро прохожу мимо, не задерживаясь ни на секунду, потому что сегодня нет очереди на тренажер Stair Master, а обычно приходится ждать минут двадцать. Этот тренажер хорош тем, что на нем разрабатываешь самую большую группу мышц (между тазом и коленями) и за двадцать минут сжигаешь больше калорий, чем при любой другой аэробной тренировке, за исключением, пожалуй, беговых лыж.
Конечно, сначала стоило бы заняться растяжкой, но, если бы я занялся растяжкой, мне пришлось бы ждать в очереди – за мной уже пристроился какой-то педик. Наверное, разглядывает мою спину, ягодицы и ноги. Сегодня здесь нет никаких аппетитных девиц. Только педики с Уэст-Сайда, может быть, безработные актеры или ночные официанты, и еще Малдвин Батнер из Sachs, с которым мы учились в Эксетере. Он сейчас занимается на тренажере для укрепления бицепсов. На Батнере – спортивные шорты до колена, из нейлона и лайкры, с клетчатыми черно-белыми вставками, майка из лайкры и кожаные кроссовки Reebok. Я двадцать минут занимаюсь на Stair Master, потом уступаю его перекачанному белобрысому, явно крашеному педику средних лет, а сам приступаю к упражнениям на растяжку. Пока я разминаюсь, мне вспоминается сегодняшнее «Шоу Патти Винтерс». Тема была «Большая грудь», и там выступала женщина, которая сделала себе операцию по уменьшению груди, потому что ей стукнуло в голову, что у нее слишком большие сиськи. Тупая сука. Я тут же позвонил Макдермотту, который тоже смотрел это шоу, и мы славно поиздевались над этой бабой, пока шел этот сюжет. Я занимаюсь растяжкой где-то пятнадцать минут, а потом направляюсь к тренажерам Nautilus.
Раньше я занимался с персональным тренером, которого мне порекомендовал Луис Каррузерс, но прошлой осенью он меня утомил, и я решил разработать собственную фитнес-программу, включающую и аэробику, и тренажеры. Что касается силовой тренировки, то я стараюсь распределить нагрузку между свободными весами и тренажерами, в которых используется гидравлическое, пневматическое или электромеханическое сопротивление. Большинство тренажеров очень эффективны, потому что встроенные компьютеры позволяют регулировать нагрузку, не отрываясь от тренировки. И вот еще что хорошо в тренажерах: при правильном подходе мышцы после тренировок почти не болят, а вероятность получить травму во время тренировки практически равна нулю. Однако мне нравятся и гантели со штангой; эти снаряды дают возможность варьировать комплексы упражнений по собственному усмотрению, чего не сделаешь на тренажерах.
На тренажере для мышц ног я делаю пять подходов по десять раз, столько же – для спины. Я уже разогрелся, так что для мышц пресса я делаю шесть подходов по пятнадцать раз, а для бицепсов – семь подходов по десять раз. Прежде чем перейти к штанге, я провожу двадцать минут на велотренажере, параллельно читая последний номер журнала «Money». Теперь – штанга. Три подхода по пятнадцать раз на растяжку и укрепление мышц ног, три подхода по двадцать подъемов – для укрепления дельтовидных мышц, упражнения с гантелями, три подхода по двадцать отжиманий и так далее. Для передних дельтовидных мышц – три комплекса боковых подъемов и упражнения на пресс. В конце – упражнения для трицепсов. Снова – растяжка, чтобы слегка охладиться, потом я по-быстрому принимаю горячий душ и иду в видеопрокат, чтобы вернуть две кассеты, которые брал в понедельник, – «Исправительная колония» и «Двойное тело». Я решаю взять «Двойное тело» еще раз, чтобы пересмотреть его, хотя и знаю, что сегодня вечером у меня не будет времени помастурбировать и возбудиться от сцены, где женщину затрахивают до смерти при помощи электродрели, потому что сегодня в семь тридцать у меня свидание с Кортни в «Кафе Люксембург».
Свидание
После тренировки в «Xclusive» и интенсивного массажа шиацу я останавливаюсь у газетного стенда возле своего дома и, не снимая наушников, разглядываю порнографические издания. Мягкие мелодии «Канона» Пахельбеля каким-то образом дополняют яркие глянцевые фотографии в журналах, которые я листаю. Я покупаю «Лесбиянки с вибраторами» и «Лобок к лобку», а также свежий «Sport Illustrated» и последний «Esquire», хоть я и подписался на них и оба номера уже должны были прийти по почте. Подождав, пока у стенда не разойдется народ, я расплачиваюсь за покупку. Передавая мне журналы вместе со сдачей, продавец что-то говорит, указывая на свой крючковатый нос. Сделав звук потише и приподняв один из наушников, я спрашиваю: «Что?» Вновь коснувшись своего носа, он с сильным, почти неразборчивым акцентом, похоже, говорит: «У ваш ис носа хровь тещет». Я ставлю наземь дипломат Bottega Veneta и подношу к лицу палец. Палец оказывается красным, мокрым от крови. Сунув руку в карман плаща от Hugo Boss и вынув носовой платок Polo, я вытираю кровь, кивком благодарю продавца, надеваю темные авиаторские очки Wayfarer и ухожу. Ебаный иранец.
В вестибюле своего дома я останавливаюсь у окошка и пытаюсь привлечь внимание темнокожего вахтера-латиноса, которого я не узнаю. Он говорит по телефону с женой, или с дилером, или еще с каким-нибудь наркоманом. Он смотрит на меня, кивая; телефонная трубка утопает в преждевременно обвисшей шее. Когда до него доходит, что я хочу что-то спросить, он вздыхает, закатывает глаза и просит кого-то на другом конце подождать.
– Чо надо? – бурчит он.
– Послушайте, – начинаю я самым вежливым и мягким тоном, на который только способен, – не могли бы вы, пожалуйста, передать управляющему, что у меня трещина в потолке и… – Я замолкаю.
Он смотрит на меня так, словно я переступил какую-то невидимую границу. Я начинаю размышлять, что же могло его смутить: разумеется, не «трещина», что же? «Управляющий»? «Потолок»? Может, «пожалуйста»?
– Чо вы хочете? – тяжело вздыхает он, грузно развалившись на стуле, по-прежнему глядя на меня.
Я смотрю себе под ноги, на мраморный пол, так же вздыхаю и говорю ему:
– Послушайте. Я не знаю. Просто передайте коменданту, что приходил Бэйтмен… с десятого этажа.
Когда я поднимаю голову – взглянуть, отложилось ли в его голове хоть что-нибудь, я вижу только маску, приклеенную к жирному, тупому лицу вахтера. «Я всего лишь призрак для этого человека», – думаю я. Нечто нереальное, не совсем осязаемое, но все же неприятное. Он кивает и возвращается к телефону, возобновив разговор на абсолютно незнакомом мне диалекте.
Забрав почту – каталог Polo, распечатку из American Express, июньский «Playboy», приглашение на корпоративную вечеринку в новом клубе под названием «Бедлам», – я иду к лифту. Рассматривая каталог Ralph Lauren, нажимаю кнопку своего этажа и кнопку «Закрыть двери», но, перед тем как двери закрываются, в лифт входит кто-то еще, и я инстинктивно поворачиваюсь, чтобы поздороваться. Это актер Том Круз, который живет в пентхаусе. Из вежливости я не спрашиваю его, а сразу нажимаю кнопку «Пентхаус». Он благодарит меня кивком, устремив взгляд на быстро загорающиеся в порядке возрастания цифры над дверьми. В жизни он совсем маленького роста, в таких же, как у меня, темных очках Wayfarer. На нем голубые джинсы, белая футболка и куртка Armani. Чтобы прервать неловкое молчание, я, откашлявшись, говорю:
– Мне кажется, вы отлично сыграли в «Бармене». Я думаю, это отличный фильм, и «Лучший стрелок» тоже. Честное слово.
Он перестает следить за цифрами и переводит взгляд на меня.
– Он назывался «Коктейль», – тихо говорит Круз.
– Что-что? – смутившись, говорю я.
Он откашливается:
– «Коктейль», а не «Бармен». Фильм назывался «Коктейль».
Следует долгая пауза; только звук поднимающих лифт кабелей состязается с напряженным молчанием.
– Ах да… Верно, – говорю я, словно бы название фильма только что дошло до меня. – «Коктейль». Точно, – повторяю я. – Отлично, Бэйтмен, о чем ты думаешь? – Я трясу головой, словно для того, чтобы прояснить мысли, а затем, чтобы уладить дело, протягиваю руку. – Пат Бэйтмен.
Круз осторожно пожимает ее.
– Ну как, – я продолжаю разговор, – вам нравится жить в этом доме?
После долгой паузы он отвечает:
– Вроде бы да.
– Чудесный дом, – говорю я, – правда?
Он кивает, не глядя на меня, я автоматически снова нажимаю кнопку своего этажа. Мы молчим.
– Значит, «Коктейль», – спустя некоторое время говорю я. – Вот оно что.
Он молчит, даже не кивая, но теперь смотрит на меня как-то странно, опускает очки и с легкой гримасой произносит:
– У вас… из носа кровь идет.
Секунду я стою в полном оцепенении, потом понимаю, что надо что-то предпринять, поэтому, сделав вид, что я, как и полагается, обескуражен, осторожно касаюсь носа, а затем вынимаю носовой платок Polo – уже в бурых пятнах – и вытираю кровь. Вроде бы я неплохо справился с ситуацией.
– Наверное, давление, – смеюсь я. – Мы ведь на такой высоте.
Он молча кивает, смотрит на цифры.
Лифт останавливается на моем этаже, и, когда двери открываются, я говорю Тому:
– Я ваш большой поклонник. Очень рад встрече с вами.
– Это прекрасно. – Круз улыбается своей знаменитой улыбкой и тыкает пальцем в кнопку «Закрытие дверей».
Девушка, с которой я встречаюсь сегодня вечером, Патриция Уоррел – блондинка, модель, недавно вылетела из колледжа Свит-Брайар после первого же семестра. На автоответчике – два сообщения от нее, чтобы я позвонил ей по крайне важному делу. Распуская узел голубого шелкового галстука от Bill Robinson с узором а-ля Матисс, я набираю ее номер и с трубкой в руке иду в дальний угол квартиры, чтобы включить кондиционер. Она отвечает на третий звонок:
– Алло.
– Патриция, привет. Это Пат Бэйтмен.
– А-а, привет, – говорит она. – Слушай, я говорю по другой линии. Могу я тебе перезвонить?
– Ну… – начинаю я.
– Слушай, это из моего спортивного клуба, – говорит она. – Они что-то напутали с моими счетами. Я перезвоню через секунду.
Я прохожу в спальню и раздеваюсь: снимаю пиджак из шерсти «в елочку» и брюки в складку (костюм от Giorgio Correggiari), хлопчатобумажную оксфордскую рубашку от Ralph Lauren, вязаный галстук от Paul Stuart и замшевые ботинки от Cole Haan. Натянув шестидесятидолларовые трусы-боксеры, купленные в Barney’s, с телефоном в руке я делаю несколько упражнений на растяжку, ожидая, когда перезвонит Патриция. Минут через десять раздается звонок, и, перед тем как ответить, я жду шесть звонков.
– Привет, – говорит она. – Это я, Патриция.
– Ты можешь подождать? У меня другой звонок.
– Конечно, – произносит она.
Заставив ее прождать две минуты, я вновь включаю ее линию.
– Привет, – говорю я. – Прости.
– Ничего.
– Итак, мы ужинаем вместе, – продолжаю я. – Заедешь ко мне около восьми?
– Об этом-то я и хотела поговорить, – медленно произносит она.
– О нет. – Я издаю стон. – В чем дело?
– Понимаешь, – начинает она, – сегодня концерт в «Радио-Сити» и…
– Нет, нет, нет. – Я непреклонен. – Никакой музыки.
– Мой бывший парень, из «Сары Лоуренс», он клавишник в разогревающей группе и… – Она замолкает, словно заранее решив опротестовать мое решение.
– Нет. Ни в коем случае, Патриция, – твердо говорю я, думая про себя: черт возьми, ну почему именно эта проблема и почему сегодня?
– Патрик, – ноет она, – будет очень весело.
Теперь я вполне уверен, что шансы потрахаться с Патрицией сегодня довольно неплохие, но только в том случае, если мы не пойдем на концерт, в котором принимает участие ее бывший парень (бывших парней для Патриции не существует).
– Я не люблю концерты, – заявляю я, проходя в кухню. Открыв холодильник, вынимаю литровую бутылку минеральной воды «Эвиан». – Я не люблю концерты, – повторяю я. – Мне не нравится живая музыка.
– Но этот концерт будет не такой, как другие, – неубедительно добавляет она. – У нас хорошие места.
– Слушай, не будем спорить, – говорю я. – Если хочешь идти – иди.
– Но мне казалось, мы собирались встретиться, – натянуто заявляет она. – Я думала, мы поужинаем вместе…
После некоторого размышления она добавляет:
– Побыть вместе. Вдвоем.
– Я знаю, знаю, – говорю я. – Слушай, каждый должен иметь право делать то, что ему хочется. Я хочу, чтобы ты делала то, что тебе хочется.
После паузы она пробует зайти с другой стороны:
– Это такая замечательная музыка, поэтому… Я знаю, это звучит нелепо, но это… просто восхитительная музыка. Это одна из лучших групп. Они интересные, суперские, мне так хочется, чтобы ты посмотрел на них. Будет замечательно, я тебе обещаю. – Голос ее звучит серьезно.
– Нет-нет, ты иди без меня, – говорю я. – Развлекайся.
– Патрик, – говорит она, – у меня два билета.
– Нет, я не люблю концерты, – отвечаю я. – Меня тошнит от живой музыки.
– Ну-у-у, – тянет она, и в ее голосе сквозит искреннее разочарование. – Мне будет жаль, что тебя нет рядом.
– Я говорю, ты пойди развлекись. – Я сворачиваю крышку с бутылки «Эвиан», выверяя время для следующего хода. – Не волнуйся. Я поужинаю в «Дорсии» один. Все нормально.
Следует долгая пауза, которая может означать только одно: ну-ну, давай посмотрим, действительно ли ты хочешь пойти на этот сраный концерт. Сделав большой глоток воды, я жду, когда она скажет, в какое время она за мной заедет.
– В «Дорсии»? – переспрашивает она, потом говорит недоверчиво: – Ты там заказал столик? Для нас?
– Да, – говорю я. – На полдевятого.
– Ну… – она издает короткий смешок, запинается, – это было… ну, я имею в виду, я-то их уже видела. Я просто хотела, чтобы ты их посмотрел.
– Слушай, может, хватит? – спрашиваю я. – Если ты не идешь со мной, я еще кому-нибудь позвоню. У тебя есть номер Эмили Гамильтон?
– Патрик, к чему такая… спешка. – Она нервно хихикает. – Они играют еще два вечера, так что я смогу пойти на них завтра. Слушай, успокойся, хорошо?
– Хорошо, – говорю я. – Я спокоен.
– Так во сколько мне подъехать? – спрашивает Ресторанная Блядь.
– Я сказал, к восьми, – с отвращением говорю я.
– Хорошо, – говорит она, а затем соблазнительным шепотом добавляет: – Увидимся в восемь.
Она не вешает трубку, словно ожидая, что я скажу еще что-нибудь или, может, поздравлю ее с принятием верного решения, но мне некогда заниматься этим, и я бросаю трубку.
В следующее мгновение я устремляюсь в другой конец комнаты, хватаю справочник «Загат» и листаю его, пока не нахожу «Дорсию».
Дрожащими пальцами набираю номер ресторана. Занято. В панике я ставлю телефон на автоматический набор. В последующие пять минут постоянно звучат зловещие короткие сигналы. Наконец соединилось, и несколько мгновений перед тем, как на том конце поднимают трубку, я испытываю редчайшее явление – прилив адреналина.
– «Дорсия», – отвечает кто-то, пол трудно определить: на фоне сильного шума голос больше похож на мужской. – Пожалуйста, подождите.
Кажется, что шум в трубке едва ли уступает переполненному футбольному стадиону, и мне приходится собрать все свое мужество, чтобы продолжать ждать и не повесить трубку. Я жду минут пять, моя ладонь вспотела, ноет оттого, что я так крепко стискиваю трубку; часть меня осознает тщетность попытки, другая – надеется, третья взбешена тем, что я не заказал столик заранее или не попросил Джин заняться этим. Голос возвращается в трубку и грубо произносит: «Дорсия».
Я откашливаюсь:
– Мм, да, я знаю, сейчас немного поздновато, но нельзя ли заказать столик на двоих на половину девятого или, может, на девять?
Я задаю вопрос, крепко зажмурив глаза.
Возникает пауза. На заднем фоне шумит толпа, меня пронзает искренняя надежда, я открываю глаза, поняв, что метрдотель, благослови его Господь, вероятно, просматривает книгу заказов, проверяя, не отказался ли кто-нибудь; но тут он принимается фыркать, поначалу тихонько, но вскоре фырканье перерастает в пронзительное крещендо смеха, который, когда метрдотель швыряет трубку, внезапно обрывается.
Дрожащий, ошеломленный, опустошенный, я обдумываю следующий шаг, пока из трубки доносятся резкие короткие гудки. Собрав все силы и сосчитав до шести, я вновь открываю «Загат». Постепенно мне удается справиться с почти непреодолимым ужасом: если я не смогу заказать столик на полдевятого в таком модном месте, как «Дорсия», то можно попробовать сделать это в ресторане чуть похуже. В конце концов я заказываю столик на девять в «Баркадии», и то только потому, что кто-то отменил свой заказ. Хотя Патриция, вероятно, будет разочарована, «Баркадия» на самом деле ей может понравиться: столики там очень удачно расставлены, освещение неяркое и располагающее, «новая юго-западная кухня». Ну а если не понравится, что с того? Не подаст же эта сука на меня в суд!
Хотя сегодня после работы я хорошо потренировался в спортивном клубе, но сейчас я снова разнервничался, поэтому я делаю девяносто упражнений на пресс, сто пятьдесят отжиманий и двадцать минут бегаю на месте, слушая новый CD Хьюи Льюиса. Принимая горячий душ, я мою лицо новым отшелушивающим кремом Caswell-Massey, a тело – жидким мылом Greune, затем смазываю лицо кремом Neutrogena, а тело – увлажняющим кремом Lubriderm. Я выбираю, что надеть. Один вариант – костюм от Bill Robinson (шерсть с крепом), который я купил в Saks, хлопчатобумажная жаккардовая рубашка от Charivari и галстук от Armani. Или спортивный пиджак в синюю клетку (шерсть с кашемиром), хлопчатобумажная рубашка и шерстяные брюки в складку от Alexander Julian, а также шелковый галстук в горошек от Bill Blass. Возможно, в Julian мне будет слишком жарко (все-таки май), но если Патриция наденет то, что я думаю, – тот костюм от Karl Lagerfeld, то, может, мне стоит пойти именно в Julian, потому что этот костюм будет хорошо смотреться с ее костюмом. Ботинки – крокодиловые туфли без шнурков от A. Testoni.
Бутылка шампанского «Шарфенбергер» лежит во льду в алюминиевой чаше Spiros, которая, в свою очередь, помещена в ведерко из гравированного стекла для охлаждения шампанского Christine Van der Hurd. Оно стоит на серебряном подносе Cristofle. «Шарфенбергер» – неплохое шампанское. Конечно, не «Кристал», но не буду же я переводить «Кристал» на эту дуру. Она, наверное, все равно не почувствует разницы. В ожидании Патриции я сам выпиваю стакан, время от времени переставляя на журнальном столике Turchin со стеклянной крышкой фигурки зверюшек Steuben или листая недавно купленную книгу в твердом переплете, что-то Гаррисона Киллора. Патриция опаздывает.
Сидя на кушетке в гостиной и слушая «Cherish» в исполнении Lovin’ Spoonful на музыкальном автомате Wurlitzer, я прихожу к выводу, что Патриция сегодня находится в безопасности. Я не собираюсь внезапно выхватить нож и вонзить его в нее. Я не доставлю себе удовольствия наблюдать, как хлещет кровь из ран на ее шее, я не перережу ей горло и не выдавлю ей глаза. Ей повезло, хотя никакого объяснения этому везению нет. Возможно, ей ничего не грозит, потому что она богата, – благосостояние ее семьи охраняет ее сегодня. А может быть, дело в том, что так уж мне захотелось. Возможно, мой пыл остудил стакан шампанского или мне не хочется забрызгать кровью этой суки костюм от Alexander Julian. Как бы то ни было, факт остается фактом: Патриция будет жить, и эта победа не требует ни особого умения, ни фокусов воображения, ни изобретательности. Так уж устроен мир, мой мир.
Она приезжает с опозданием на тридцать минут, и я прошу вахтера пропустить ее наверх, хотя встречаю ее уже на лестничной клетке, запирая дверь. Она не надела тот костюм от Karl Lagerfeld, но выглядит все же неплохо: тонкая шелковая блузка с блестками, запонки со стразами от Louis Dell’Olio, вышитые бархатные брючки из Saks, хрустальные сережки от Wendy Gell (для Anne Klein) и золотые туфли с завязками. Только когда мы уже едем в центр на такси, я говорю ей, что ужинаем мы не в «Дорсии». Потом я долго извиняюсь, ссылаясь на разъединившийся телефон, пожар, мстительного метрдотеля. Узнав эту новость, она ахает и, не слушая моих извинений, отворачивается к окну. Я пытаюсь вернуть ее расположение, рассказывая, в какой модный и роскошный ресторан мы едем, описывая макароны с фенхелем и бананами, шербеты, которые там подают, но она лишь качает головой. О боже, я даже опускаюсь до уверений, что «Баркадия» гораздо дороже «Дорсии», но Патриция неумолима. Время от времени у нее на глаза наворачиваются слезы, клянусь.
Она молчит до тех пор, пока мы не оказываемся за посредственным столиком в глубине главного зала, но и тогда она нарушает молчание лишь для того, чтобы заказать коктейль «Беллини». На закуску я беру равиоли с печенью селедки и яблочным джемом, а в качестве «антре» – мясную запеканку с козьим сыром и соусом на бульоне из перепелки. Она заказывает пиццу «ред снэппер» с фиалками и сосновыми орешками, а на закуску – арахисовый суп с копченой уткой и кабачковое пюре, – это только звучит странно, но на самом деле оно весьма вкусное. Журнал «New York» назвал это пюре «забавной и загадочной закусочкой», я говорю об этом Патриции, которая, не обращая внимания на зажженную мною спичку, закуривает сигарету. Она развалилась на стуле с мрачным видом, выдыхает дым прямо мне в лицо, изредка кидает на меня разъяренные взгляды, которые я, оставаясь, насколько это возможно, джентльменом, стараюсь вежливо не замечать. Когда приносят наши тарелки, я не могу отвести взгляд от своего ужина: на красных треугольничках мясной запеканки лежит козий сыр, окрашенный розовым гранатовым соком; говядину окружают завитки густого коричневого соуса из перепелки; по ободку большой черной тарелки разложены дольки манго. Прежде чем я решаюсь это попробовать, я смущенно и нерешительно ковыряю в тарелке вилкой.
Хотя ужин занял всего полтора часа, мне кажется, что мы просидели в «Баркадии» неделю. У меня нет особого желания ехать в «Туннель», но, на мой взгляд, это будет подходящее наказание для Патриции за ее поведение. Счет приносят на 320 долларов – меньше, чем я ожидал. Я расплачиваюсь платиновой карточкой АmЕх. В такси я не свожу глаз со счетчика, водитель пытается завести разговор с Патрицией, которая абсолютно не обращает на него внимания, рассматривая свой макияж в набор Gucci и подводя уже и без того густо накрашенные губы. Сегодня бейсбольный матч, который я, кажется, забыл записать, а значит, вернувшись домой, не смогу посмотреть его. Я вспоминаю, что после работы купил два журнала, так что смогу провести часок-другой за их просмотром. Взглянув на свой Rolex, я понимаю, что если мы выпьем не больше пары стаканчиков, то я успею домой к «Поздней ночью с Дэвидом Леттерманом». Хотя у Патриции красивое тело и я бы хотел с ней переспать, мысль о том, что нужно обращаться с ней ласково, быть нежным любовником, извиниться за вечер, за то, что мы не смогли попасть в «Дорсию» (хотя «Баркадия», черт возьми, в два раза дороже), раздражает меня. Сука, должно быть, злится на то, что мы не в лимузине.
Такси останавливается у «Туннеля». За проезд плачу я. Оставив шоферу приличные чаевые, я придерживаю перед Патрицией открытую дверь, но, когда я пытаюсь помочь ей выйти из машины, она игнорирует мою руку. У входа сегодня никого нет. По правде говоря, единственный человек на Двадцать четвертой – сидящий возле мусорного контейнера нищий, который корчится от боли и со стонами умоляет подать ему мелочь или еду. Мы быстро проходим мимо него, один из трех стоящих за канатами швейцаров пропускает нас, другой, похлопывая меня по спине, говорит:
– Как поживаете, мистер Маккалоу?
Я киваю, открываю перед Патрицией дверь и, прежде чем последовать за ней, отвечаю:
– Отлично, мм, Джим, – и пожимаю его руку.
Внутри, заплатив пятьдесят долларов за нас двоих, я немедленно направляюсь в бар. Меня не заботит, идет ли за мной Патриция. Я беру «J&B» со льдом. Она хочет «Перье», без лайма, заказывает сама. Осушив половину стакана, я облокачиваюсь на стойку и разглядываю симпатичную официантку. Неожиданно я понимаю, что что-то не так. Дело не в освещении, и не в песне «New Sensation», исполняемой INXS, и не в барменше. Что-то другое. Когда я медленно оборачиваюсь, чтобы посмотреть на клуб, меня встречает абсолютно пустой зал. Мы с Патрицией единственные посетители в целом клубе. Мы да еще какая-то девица – единственные люди в «Туннеле». «New Sensation» переходит в «The Devil Inside», музыка грохочет, но кажется не такой громкой, поскольку нет толпы, которая бы на нее реагировала. Пустой танцпол кажется огромным.
Отойдя от бара, я решаю заглянуть в другие помещения клуба, думая, что Патриция последует за мной. Но она остается. Никто не охраняет лестницу, ведущую вниз; когда я начинаю спускаться, песня переходит в «I Feel Free» Белинды Карлайл. В нижнем помещении всего одна пара, похожая на Сэма и Илену Сенфорд, но здесь темнее, жарче, так что я могу ошибаться. Они стоят в баре со стаканами шампанского в руках, я прохожу мимо и направляюсь к превосходно одетому парню мексиканской наружности, сидящему на диване. На нем двубортный шерстяной пиджак и такие же брюки от Mario Valentine, хлопчатобумажная футболка от Agnes В. и кожаные туфли от Susan Bennis Warren Edward (носков на ногах нет). Вместе с ним красивая мускулистая телка, типичная европейская дрянь – блондинка, большие сиськи, загорелая, ненакрашенная, курит Merit Ultra Lights, на ней – хлопчатобумажное платье в полоску от Patrick Kelly и шелковые туфли на каблуках, украшенные стразами.
Я спрашиваю парня, не он ли Рикардо. Он утвердительно кивает. Я говорю, что я от Мэдисона и хочу купить у него грамм. Вынимаю бумажник и протягиваю ему полтинник и две двадцатки. Он просит у европейской девки кошелек. Она дает ему бархатную сумочку от Anne Moore. Пошарив в ней, Рикардо протягивает мне крохотный сложенный конвертик. Перед моим уходом телка говорит, что ей нравится мой бумажник из газелевой кожи. Я отвечаю, что хотел бы выебать ее между сисек, а потом отрубить ей руки, но чересчур громко играет «Faith»[10] Джорджа Майкла, и девушка меня не слышит.
Наверху я вижу Патрицию там, где и оставил ее, в баре; одна, она потягивает «Перье».
– Послушай, Патрик, – говорит она, смягчившись. – Я хочу, чтобы ты знал, что я…
– Стерва? Слушай, хочешь кокаину? – выкрикиваю я, не дав ей договорить.
– Мм, да… конечно. – Она дико смущена.
– Пошли, – ору я, беря ее за руку.
Поставив воду на стойку, она идет за мной, через пустынный клуб, вверх по лестнице, к туалетам. С тем же успехом мы могли бы никуда не ходить, но это не так прикольно, поэтому бо́льшую часть мы вынюхиваем в кабинке мужского туалета. Выйдя оттуда, я сажусь на диван и закуриваю одну из ее сигарет, пока Патриция спускается за напитками.
Она возвращается с извинениями за свое сегодняшнее поведение:
– Я хочу сказать, что мне очень понравилась «Баркадия», еда была превосходная, а манговый шербет, бог мой, это просто блаженство. Ничего страшного, что мы не пошли в «Дорсию». Мы можем пойти туда как-нибудь в другой раз, я знаю, что ты, наверное, пытался устроить нас туда, но сейчас просто не прорвешься. Да, и мне в самом деле очень понравилась еда в «Баркадии». Когда он открылся? Кажется, месяца три-четыре назад. Я читала отличный отзыв, то ли в «New York», то ли в «Gourmet»… не важно. Хочешь, пойдем завтра со мной на этот концерт или, может, пойдем сначала в «Дорсию», а потом посмотрим группу, где играет Уоллес; или в «Дорсию» после концерта, если ресторан еще будет открыт. Патрик, я серьезно: тебе надо посмотреть на них. Аватар так поет, что я даже думала, что влюблена в него, – на самом деле это было влечение, а не любовь. Мне нравился и Уоллес, но он завяз в банковских займах, сошел с рельсов и залетел из-за кислоты, не из-за кокаина. Я понимала, когда все пошло прахом, что лучше всего – плыть по течению, а не принимать близко к сердцу…
«J&B», думаю я. Стакан «J&B» в моей правой руке, думаю я. Рука, думаю я. Charivari. Рубашка от Charivari. Fusilli, думаю я. Джейми Герц, думаю я. Я бы выебал Джейми Герц. «Порше-911». Шарпей, думаю я. Мне бы хотелось иметь шарпея. Мне двадцать шесть, думаю я. В следующем году будет двадцать семь. Валиум. Я бы принял таблетку валиума. Нет, две таблетки валиума. Сотовый телефон, думаю я.
Химчистка
Китайская химчистка, куда я обычно посылаю свою окровавленную одежду, вчера вернула мне куртку Soprani, две белые сорочки Brooks Brothers и галстук AgnesВ. с невыведенными пятнышками крови. У меня назначена встреча через сорок минут, в полдень, а пока я решаю зайти к китайцам и пожаловаться. Вместе с курткой Soprani, рубашками и галстуком я беру еще один пакет с простынями, испачканными кровью, – их тоже нужно почистить. Китайская химчистка находится в двадцати кварталах от моего дома на Уэст-Сайд, почти возле Колумбийского университета, и, поскольку я прежде не бывал там, расстояние меня пугает (раньше я просто звонил туда, и они сами приезжали за моей одеждой и через сутки привозили обратно). Из-за этой прогулки у меня нет времени, чтобы сделать утреннюю гимнастику. Из-за ночного кокаинового кутежа с Чарльзом Гриффином и Хилтоном Эшбери, который начался вполне невинно на вечеринке одного журнала в «М.К.», куда ни один из нас не был приглашен, а закончился часов в пять утра возле уличного банкомата, я проспал и пропустил «Шоу Патти Винтерс». Хотя на самом деле там должны были повторять интервью с президентом, так что, в сущности, я ничего не потерял.
Я на взводе, мои волосы зачесаны назад, в голове стучит, в зубах зажата незажженная сигара, на мне темные очки Wayfarer, черный костюм от Armani, белая хлопчатобумажная рубашка и шелковый галстук, также от Armani. Я выгляжу подтянуто, но живот сжимается, а в голове полная сумятица. У входа в прачечную я проскакиваю мимо плачущего нищего, лет сорока или пятидесяти, толстого и седого. Открывая дверь, я замечаю, что он ко всему прочему слепой, и наступаю ему на ногу – на самом деле культяшку. Он выпускает из рук стаканчик, мелочь рассыпается по тротуару. Сделал ли я это нарочно? Как вам кажется? Или случайно?
Минут десять я показываю пятна крохотной пожилой китаянке, которая, как я предполагаю, является хозяйкой химчистки. Я не понимаю ни одного ее слова, она даже зовет мужа. Но он остается бессловесным и не утруждает себя переводом. Пожилая женщина продолжает трещать, должно быть по-китайски, и в конце концов я вынужден перебить ее:
– Послушайте, подождите. – Я поднимаю руку, в которой держу сигару, куртка Soprani перекинута через другую. – Вы… подождите… тсс… вы не привóдите никаких веских доводов.
Китаянка не перестает пищать, хватается крохотной лапкой за рукав моей куртки. Я стряхиваю ее руку, наклоняюсь вперед и очень медленно говорю:
– Что ты пытаешься сказать мне?
Она вопит с вытаращенными глазами. Муж держит в руках две заляпанные засохшей кровью простыни, которые он вытащил из пакета, и тупо смотрит на них.
– От-бе-лить? – спрашиваю я ее. – Ты хочешь сказать «отбелить»? – Я с недоверием качаю головой. – Отбелить? О господи.
Она по-прежнему тычет рукой в обшлага куртки Soprani, а когда поворачивается к двум простыням за спиной, визгливый голос повышается еще на октаву.
– Я хочу сказать вам две вещи, – перекрикиваю я ее. – Первое. Нельзя отбеливать Soprani. Об этом не может быть и речи. Второе… – Я повышаю голос, чтобы перекричать ее. – Второе, эти простыни можно купить только в Санта-Фе. Они очень дорогие, и мне нужно, чтобы они были чистые… – Но она не умолкает, я киваю, словно понимая ее тарабарщину, расплываюсь в улыбке и наклоняюсь прямо к ее лицу. – Если-ты-не-заткнешься-блядь-я-тебя-убью-поняла?
Бессвязная трескотня китаянки убыстряется, ее глаза по-прежнему вытаращены. Ее лицо, вероятно из-за морщин, кажется лишенным всякого выражения. Я вновь патетически указываю на пятна, понимая, что это бесполезно. Опускаю руку, силясь понять, что она говорит. Потом резко обрываю ее:
– Слушай, ты! У меня очень важная встреча… – я смотрю на свой Rolex, – «У Губерта» через тридцать минут, – снова смотрю на плоское лицо с раскосыми глазами, – и мне нужны эти… нет, подожди, уже через двадцать минут. Через двадцать минут мы завтракаем с Рональдом Гаррисоном «У Губерта», а эти простыни мне нужны чистые к вечеру.
Она не слушает; она не перестает болтать на том же судорожном, незнакомом мне языке. Я никогда не устраивал поджогов, а теперь начинаю думать, чтó для них нужно, какие материалы используются – бензин, спички… может, жидкость для заправки зажигалок?
– Послушай, – выхожу я из этого состояния, плавно наклоняюсь еще ближе к ее лицу, и ее губы беспорядочно шевелятся, она поворачивается к мужу, кивающему в редкие короткие паузы, – я скажу честно: я не понимаю тебя.
Я смеюсь, ужаснувшись нелепости ситуации, и, хлопнув рукой по прилавку, оборачиваюсь посмотреть, можно ли еще с кем-то поговорить, но в химчистке больше никого нет. Я бормочу:
– Это безумие.
Вздохнув, я провожу рукой по своему лицу, потом, внезапно рассвирепев, резко прекращаю смеяться. Я рявкаю на нее:
– Ты дура! Я этого не вынесу.
Она трещит что-то в ответ.
– Что? – язвительно интересуюсь я. – Не слышишь? Хочешь ветчины? Это ты только что сказала? Ты хочешь… ветчины?
Она вновь хватается за рукав куртки Soprani. Отрешенный и замкнутый муж стоит за стойкой.
– Ты… дура! – реву я.
Она продолжает неустрашимо трещать, не переставая тыкать в пятна на простынях.
– Глупая сука! Поняла? – побагровев, ору я. Я едва не плачу. Меня трясет, я вырываю у нее куртку, бормоча: – О боже.
Сзади меня открывается дверь, звенит звоночек, и я беру себя в руки. Закрыв глаза, я глубоко дышу, напоминаю себе зайти после обеда в солярий, может, в Hermès или…
– Патрик?
Вздрогнув от звука человеческого голоса, я оборачиваюсь – и вижу девушку, живущую в моем доме. Несколько раз я видел, как она с кем-то болтала в холле, и всякий раз, когда я проходил мимо, она провожала меня обожающим взглядом. Она старше меня, ей под тридцать, выглядит вполне, немного полновата. На ней спортивный костюм – откуда? Из Bloomingdale’s? Даже не знаю. Она сияет. Сняв темные очки, она широко улыбается:
– Привет, Патрик. Я так и думала, что это ты.
Не имея ни малейшего представления, как ее зовут, я выдыхаю приглушенное «привет» и очень быстро бормочу нечто, напоминающее женское имя, а потом просто смотрю на нее, озадаченный, опустошенный, пытаясь сдержать злобу. Китаянка по-прежнему причитает сзади. Наконец я хлопаю в ладоши и говорю:
– Ну-с.
Она продолжает стоять, смущенная, потом нервно подходит к прилавку. В руке у нее квитанция.
– Странно, правда? Это так далеко, но, знаешь, это действительно лучшая химчистка.
– Тогда почему они не могут отчистить эти пятна? – по-прежнему улыбаясь, терпеливо спрашиваю я.
Мои глаза закрыты, я открываю их только тогда, когда наконец замолкает китаянка.
– Слушай, ты не можешь поговорить с ними? – осторожно прошу я. – У меня ничего не получается.
Она идет к простыням, которые держит старик.
– О боже, – говорит она. В тот момент, когда она осторожно дотрагивается до простыни, китаянка вновь принимается верещать, но, не обращая на нее внимания, девушка спрашивает меня: – Что это? – Она снова смотрит на пятна. – Боже.
– Это… – Я кидаю взгляд на простыни, они действительно выглядят кошмарно. – Это, мм, клюквенный сок, клюква с яблоком.
Она смотрит на меня, неуверенно кивая, потом робко говорит:
– По-моему, не похоже на клюкву, то есть на клюкву с яблоком.
Я долго смотрю на простыни, прежде чем промямлить:
– Ну да, мм, на самом деле это… «Боско». Знаешь, вроде… – Я замолкаю. – Вроде шоколадного батончика. «Дав». Это – «Дав»… С сиропом «Херши».
– Да. – Она понимающе кивает, может быть, с налетом скептицизма. – Боже мой…
– Слушай, ты не могла бы поговорить с ними? – Потянувшись, я вырываю простыню из рук старика. – Я был бы крайне признателен. – Сложив простыню, я осторожно кладу ее на прилавок. Вновь взглянув на Rolex, объясняю: – Я опаздываю. У меня встреча «У Губерта» через пятнадцать минут.
Я направляюсь к двери, китаянка, грозя мне пальцем, снова принимается отчаянно стрекотать. Я смотрю на нее, сдерживаясь, чтобы не передразнить ее жест.
– «У Губерта»? Правда? – спрашивает пораженная девушка. – Он переехал в центр, верно?
– Ага… слушай, боже мой, мне надо идти. – Я делаю вид, что через стеклянную дверь заметил такси, и, пытаясь изобразить благодарность, говорю ей: – Спасибо, мм… Саманта.
– Виктория.
– Точно, Виктория. – Я делаю паузу. – А я что сказал?
– Ты сказал – Саманта.
– Извини. – Я улыбаюсь. – Что-то со мной не то.
– Может, как-нибудь пообедаем вместе на следующей неделе? – с надеждой предлагает она, подходя ближе. Я же пячусь к двери. – Я довольно часто бываю рядом с Уолл-стрит.
– Право, не знаю, Виктория. – Я изображаю извиняющуюся улыбку и отвожу взгляд от ее бедер. – Я все время работаю.
– Тогда, может, в субботу? – пугаясь своей настойчивости, спрашивает Виктория.
– В эту субботу? – спрашиваю я, вновь глядя на свой Rolex.
– Да, – робко пожимает она плечами.
– Боюсь, не получится. Иду на дневной спектакль, «Отверженные», – вру я. – Слушай, мне и в самом деле надо бежать. Я… – Проведя рукой по волосам, я бормочу: – О господи, – затем заставляю себя произнести: – Я позвоню тебе.
– Хорошо, – обрадованно улыбается она. – Позвони.
Еще раз кинув взгляд на китаянку, я выкатываюсь, к чертовой матери, бегу к несуществующему такси и притормаживаю только в двух кварталах от прачечной…
Неожиданно мой взгляд наталкивается на хорошенькую бездомную девушку, которая сидит на ступеньках дома на Амстердамской улице, кофейный пластиковый стаканчик стоит у ее ног. Меня к ней словно ведет невидимая сила. Нашарив в кармане мелочь, я с улыбкой подхожу к ней. У нее слишком юное, свежее, загорелое лицо; из-за этого ее положение кажется еще более ужасающим. Я успеваю рассмотреть ее за те секунды, что прохожу от края тротуара до ступенек, на которых она сидит, склонив голову, тупо уставясь в свои колени. Заметив, что я стою перед ней, она поднимает глаза, на лице нет улыбки. Моя злоба исчезает, мне хочется сделать какое-нибудь простое доброе дело, и, не сводя излучающих сострадание глаз с ее невыразительного, печального лица, я наклоняюсь и опускаю в пластиковый стаканчик доллар со словами: «Удачи».
Выражение ее лица меняется, благодаря этому я замечаю, что на коленях у девушки лежит книга – Сартр, рядом с ней – сумка Колумбийского университета, а в темно-коричневом кофе плавает мой доллар. Доли секунды кажутся мне вечностью, как в замедленной съемке; девушка смотрит на меня, смотрит в стаканчик и кричит:
– Ты что, рехнулся?
Застыв в согнутой позе над стаканчиком, я выдавливаю:
– Я не знал… не знал, что… там кофе.
Весь дрожа, я отхожу, останавливаю такси. По дороге к «Губерту» здания представляются мне горами и вулканами, улицы – джунглями, небо кажется театральной декорацией, так что, выйдя из машины, я даже вынужден протереть глаза. Обед «У Губерта» оборачивается непрерывной галлюцинацией, во время которой я грежу наяву.
«У Гарри»
– Носки должны сочетаться с брюками, – говорит Тодд Хэмлин Ривису, который внимательно слушает, помешивая соломинкой «Бифитер» со льдом.
– Это кто сказал? – спрашивает Джордж.
– Послушай, – терпеливо объясняет Хэмлин, – если носишь серые брюки, надевай серые носки. Проще простого.
– Погоди, – вмешиваюсь я. – А если ботинки черные?
– Ничего страшного. – Хэмлин пригубливает мартини. – Но тогда с ботинками должен сочетаться ремень.
– То есть ты говоришь, что с серым костюмом можно носить и серые, и черные носки? – говорю я.
– Мм… да, – отвечает Хэмлин смущенно. – Я так думаю. Разве я не это сказал?
– Послушай, Хэмлин, – говорю я. – Я не могу с тобой согласиться насчет ремня. Ботинки все-таки далеко от талии. Мне кажется, следует обратить внимание на то, чтобы ремень сочетался с брюками.
– Похоже на правду, – замечает Ривис.
Мы втроем – Тодд Хэмлин, Джордж Ривис и я – сидим «У Гарри». Сейчас чуть больше шести вечера. На Хэмлине костюм от Lubiam, превосходная полосатая хлопчатобумажная рубашка с широким воротником от Burberry, шелковый галстук от Resikeio и ремень от Ralph Lauren. Ривис в шестипуговичном двубортном костюме от Christian Dior, хлопчатобумажной рубашке, шелковом галстуке от Claiborne с узором. На ногах у него кожаные ботинки на шнурках, в дырочку от Allen Edmonds, в кармане – хлопчатобумажный носовой платок, вероятно от Brooks Brothers. На салфетке рядом с его стаканом лежат темные очки от Lafont Paris, на стуле покоится очень милый портфель от Т.Antony. На мне двухпуговичный однобортный костюм (расцветка «штрихи мела»; шерсть с фланелью), хлопчатобумажная рубашка в разноцветную полоску и шелковый карманный платок, все от Patrick Aubert, а также шелковый галстук в горошек от Bill Blass и очки с простыми стеклами в оправе от Lafont Paris. На столе, кроме стаканов и калькулятора, лежат наушники от одного из наших CD-плееров. Ривис и Хэмлин ушли сегодня из офиса пораньше, чтобы сделать массаж лица, и теперь выглядят свежо, лица розовые, но загорелые, короткие волосы зачесаны назад. Утреннее «Шоу Патти Винтерс» было про Рембо в реальной жизни.
– А что жилетки? – спрашивает Ривис Тода. – Они… не вышли из моды?
– Нет, Джордж, – отвечает Хэмлин. – Разумеется, нет.
– Нет, – соглашаюсь я. – Жилетки никогда не выходили из моды.
– Тогда вопрос — как их следует носить? – спрашивает Хэмлин.
– Они должны облегать… – одновременно произносим мы с Ривисом.
– Извини, – говорит Ривис. – Продолжай.
– Ничего, – замечаю я. – Давай ты.
– Ну давай же, – просит Джордж.
– Ну, они должны хорошо облегать фигуру и закрывать талию, – объясняю я. – Жилет должен быть чуть повыше верхней пуговицы пиджака. Если на виду оказывается слишком большая часть жилета, это придает костюму чересчур чопорный, строгий вид, а это нежелательно.
– Мм, – едва не лишившись дара речи, произносит смутившийся Ривис. – Верно. Я так и думал.
– Мне нужен еще один «J&B», – поднимаюсь я. – А вам, парни?
– «Бифитер» со льдом и соломинку, – указывает на меня Ривис.
Хэмлин:
– Мартини.
– Будет сделано.
Я иду к бару и, пока Фредди готовит напитки, слушаю, как какой-то парень (по-моему, это грек Уильям Теодокропополис из First Boston), в посредственном шерстяном костюме в «гусиную лапку», неплохой хлопчатобумажной рубашке и великолепном кашемировом галстуке от Paul Stuart, с которым костюм смотрится гораздо лучше, чем он есть на самом деле, рассказывает другому парню, тоже греку, с диетической пепси в руках:
– Слушай, в «Чернобыле» был Стинг – в том кабаке, который открыли парни, владельцы «Туннеля», – это было в «Page Six», а потом кто-то подъехал на «Порше – девятьсот одиннадцать», и в машине сидела Уитни, и…
Когда я возвращаюсь к нашему столу, Ривис рассказывает Хэмлину, как он издевается над бездомными: протягивает им доллар, а потом в самый последний момент резко убирает его в карман.
– Честное слово, это срабатывает, – уверяет он. – Они так фигеют, что затыкаются.
– Просто… скажи… «нет», – замечаю я, ставя напитки на стол. – Этого вполне достаточно.
– Просто сказать «нет»? – улыбается Хэмлин. – И это подействует?
– На самом деле это действует только на бездомных беременных женщин, – признаюсь я.
– Интересно, пробовал ли ты просто сказать «нет» двухметровому дылде на Чамберс-стрит? – спрашивает Ривис. – Который курит крэк через трубку?
– Слушайте, кто-нибудь слышал о клубе под названием «Некения»? – спрашивает Ривис.
С моего места виден Пол Оуэн, сидящий в другом конце зала. Вместе с ним сидит парень, похожий на Трента Мура или Роджера Дейли, и еще один – кажется, Фредерик Коннел. Дед Мура владеет компанией, в которой Трент работает. Он одет в костюм из шерстяного сукна в мелкую «гусиную лапку» шотландской расцветки.
– «Некения»? – переспрашивает Хэмлин. – Какая «Некения»?
– Стойте, парни, – говорю я. – Кто это там сидит с Полом Оуэном? Это не Трент Мур?
– Где? – Ривис.
– Они встают. Вон за тем столиком, – отвечаю я. – Вон те ребята.
– А это не Мэдисон? Нет, это Диббл, – говорит Ривис. Для большей уверенности он надевает очки с простыми стеклами.
– Да нет, – говорит Хэмлин. – Это Трент Мур.
– Ты уверен? – спрашивает Ривис.
По пути к выходу Пол Оуэн останавливается возле нашего столика. Он в темных очках Persol, в руках у него дипломат от Coach Leatherware.
– Привет, парни. – Оуэн представляет своих спутников, Трента Мура и какого-то Пола Дентона.
Ривис, Хэмлин и я пожимаем им руки не вставая. Джордж и Тодд начинают разговаривать с Трентом. Он из Лос-Анджелеса и знает, где находится «Некения». Оуэн обращает свое внимание на меня, и я слегка нервничаю.
– Как дела? – спрашивает Оуэн.
– Отлично, – говорю я. – А у тебя?
– Великолепно, – отвечает он. – Как у тебя со счетами Хоукинса?
– Все… – Я запинаюсь. Замешкавшись на мгновение, продолжаю: – Все… нормально.
– Правда? – рассеянно интересуется он. – Интересно, – с улыбкой, сцепив руки за спиной, произносит он. – А почему только нормально, а не замечательно?
– Ну, – говорю я, – ты же… сам знаешь.
– Как Марсия? – Продолжая улыбаться, он обводит взглядом зал. На самом деле он меня не слушает. – Она замечательная девушка.
– Да, – говорю я, потрясенный. – Мне… повезло.
Оуэн принял меня за Маркуса Холберстама (хотя Маркус встречается с Сесилией Вагнер), но по некоторым причинам эта ошибка не имеет значения и даже кажется вполне естественной. Маркус тоже работает в Р&Р, занимается практически тем же самым, что и я, любит костюмы от Valentine и очки с простыми стеклами, мы стрижемся у одного парикмахера в Pierre, так что ошибка Оуэна вполне закономерна; она не раздражает меня. Но Пол Дентон то ли не сводит с меня глаз, то ли, наоборот, пытается не смотреть, как будто бы он что-то знает, как будто он не совсем уверен, узнал он меня или нет. Мне приходится задуматься над тем, не принимал ли он когда-то давно, в прошлом марте, участие в ночной прогулке на яхте. Если же так оно и есть, думаю я, надо раздобыть номер его телефона, а лучше – адрес.
– Надо будет нам как-нибудь выпить, – предлагаю я Оуэну.
– Отлично, – говорит он. – Давай. Вот моя визитка.
– Спасибо. – Перед тем как убрать ее в карман, я пристально разглядываю визитку. Меня радует ее топорность. – Может, я возьму с собой… – Помедлив, я четко выговариваю: – Марсию?
– Отлично! – говорит он. – Ты был в сальвадорском бистро на Восемьдесят третьей? – спрашивает он. – Мы сегодня там ужинаем.
– Да, то есть нет, – отвечаю я. – Но я слышал, что оно вполне ничего. – Я слабо улыбаюсь и отпиваю виски.
– Я тоже. – Он смотрит на свои часы Rolex. – Трент? Дентон? Уходим. Нам надо быть там через пятнадцать минут.
Слова прощания произнесены, по дороге на выход они останавливаются у столика, за которым сидят Диббл и Гамильтон, – по крайней мере, мне кажется, что это Диббл и Гамильтон. Перед уходом Дентон в последний раз смотрит на наш столик, на меня, – похоже, он в ужасе, словно мое присутствие в чем-то его убеждает, словно он меня узнал, и это в свою очередь убивает меня.
– Счета Фишера, – произносит Ривис.
– Черт, – говорю я. – Не напоминай.
– Сволочь везучая, – говорит Хэмлин.
– Кто-нибудь видел его подружку? – спрашивает Ривис. – Лауру Кеннеди? Потрясающая фигура.
– Я знаю ее, – говорю я и тут же поправляюсь: – То есть знал.
– Почему ты так говоришь? – заинтересованно спрашивает Хэмлин. – Почему он так говорит, Ривис?
– Потому что он встречался с ней, – осторожно произносит Ривис.
– Откуда ты знаешь? – улыбаюсь я.
– Девушки просекают Бэйтмена. – Похоже, Ривис немного пьян. – Он просто энциклопедия «GQ». Ты абсолютный «GQ», Бэйтмен.
– Спасибо, ребята, только… – Возможно, Ривис и съязвил, но я все равно испытываю гордость и пытаюсь принизить свой образ. – Она дрянь.
– Боже мой, Бэйтмен, – стонет Хэмлин. – А это что означает?
– Что? – спрашиваю я. – То и означает.
– Ну и что? Главное – внешность. Лаура Кеннеди – милашка, – с напором говорит Хэмлин. – И не делай вид, что тебя интересовало в ней что-то другое.
– Если у девки хороший характер – это подозрительно, – замечает Ривис, слегка смутившись от собственного заявления.
– Если у девки хороший характер, но она плохо выглядит, – Ривис многозначительно поднимает руки, – то хули от нее толку?
– Ладно, давай представим просто гипотетически. Может ли у девки быть хороший характер? – спрашиваю я, прекрасно зная, насколько это безнадежный, тупой вопрос.
– Прекрасно. Гипотетически даже лучше, вот только… – говорит Хэмлин.
– Знаю, знаю, – улыбаюсь я.
– Не бывает телок с хорошим характером, – смеясь, в один голос произносим мы и ударяем по ладоням.
– Хороший характер, – начинает Ривис, – состоит в том, что у телки точеная фигурка, она без особых выебонов удовлетворяет все твои сексуальные потребности и мало пиздит.
– Точно, – согласно кивает Хэмлин. – Девушки с хорошим характером, то есть веселые или, может, забавные, умные или даже талантливые – хотя хуй его знает, что это значит, – так вот, они все до одной уродки.
– Точно! – поддакивает Ривис.
– И характер у них такой потому, что им как-то надо, блядь, компенсировать свою непривлекательность, – говорит Хэмлин, вновь усаживаясь.
– Я всегда придерживался той теории, – говорю я, – что только мужчины производят потомство и продолжают род, понимаете?
Они оба кивают.
– А единственный способ продолжить род, – я тщательно подбираю слова, – это возбудиться какой-нибудь красоткой, но иногда деньги или слава…
– Никаких «но», – вмешивается Хэмлин. – Бэйтмен, ты что, готов трахаться с Опрой Уинфри – она ведь богата и влиятельна – или опуститься до Нел Картер – у нее шоу на Бродвее, отличный голос, там знаменитостей пруд пруди?
– Погоди, – говорит Ривис. – Что еще за Нел Картер?
– Не знаю, – говорю я, имя приводит меня в замешательство. – Должно быть, хозяйка «Нелль».
– Послушай меня, Бэйтмен, – говорит Хэмлин. – Телки существуют лишь для того, чтобы возбуждать нас, по твоим же словам. Сохранение человеческого рода, так? Все просто… – выудив оливку из стакана, он отправляет ее в рот, – как божий день.
Выдержав паузу, я говорю:
– Знаете, что сказал о женщинах Эд Гейн?
– Эд Гейн? – переспрашивают меня. – Метрдотель в баре «Канал»?
– Нет, – говорю я. – Серийный убийца, действовавший в Висконсине в пятидесятых. Он был интересным чуваком.
– Тебя всегда интересовали подобные дела, Бэйтмен, – говорит Ривис, потом обращается к Хэмлину: – Бэйтмен все время читает эти биографии: Тед Банди, Сын Сэма, Фатальное Видение, Чарли Мэнсон. Все подряд.
– Так что сказал Эд? – с интересом спрашивает Хэмлин.
– Он сказал, – продолжаю я, – «Когда я вижу, как по улице идет хорошенькая девушка, то думаю о двух вещах. С одной стороны, мне хочется пригласить ее куда-нибудь, поговорить с ней, обращаться с ней ласково и нежно». – Замолкнув, я одним глотком допиваю «J&B».
– А что он думает с другой стороны? – вкрадчиво спрашивает Хэмлин.
– «Я думаю, как будет смотреться ее голова на колу», – отвечаю я.
Хэмлин с Ривисом успевают переглянуться и вновь посмотреть на меня, прежде чем я начинаю смеяться, и они с некоторым напряжением тоже смеются.
– Слушайте, как насчет ужина? – Я осторожно меняю тему.
– Может, индийско-калифорнийский ресторан в Верхнем Уэст-Сайде? – предлагает Хэмлин.
– Идет, – говорю я.
– Мысль хорошая, – замечает Ривис.
– Кто будет заказывать? – спрашивает Хэмлин.
«Шезлонги»
В понедельник Кортни Лоуренс приглашает меня поужинать с ней в ресторане. Приглашение выглядит смутно сексуальным, и я принимаю его, но беда в том, что ужинать придется с двумя выпускниками Кэмдена, Скоттом и Анной Смайли, в новом ресторане на Колумбус под названием «Шезлонги», который они выбрали. Я заставил свою секретаршу досконально изучить ресторан, и до моего ухода из офиса она представила мне три возможных варианта меню. Пока мы бесконечно долго ехали в такси по центру, Кортни рассказала, что Скотт работает в рекламном бюро, а Анна на деньги отца открывает рестораны, последний – «1968» в Верхнем Ист-Сайде. Это было лишь немного скучнее, чем рассказ Кортни о том, как она провела день: массаж лица в Elizabeth Arden, покупка кухонной посуды в Pottery Barn (кстати, все это она делала, приняв литиум), а потом она пришла к «Гарри», где мы выпили с Чарльзом Мерфи и Расти Вебстером и где Кортни забыла пакет с посудой, оставив его под столом. Единственная мало-мальски интересная для меня деталь о жизни Скотта и Анны: после женитьбы они усыновили тринадцатилетнего корейского мальчика, назвали его Скоттом-младшим и послали в Эксетер, где Скотт учился на четыре года раньше, чем я.
– Надеюсь, столик для нас заказан, – предостерегаю я Кортни в машине.
– Только не кури сигару, Патрик, – медленно говорит она.
– Это не Дональда Трампа машина? – спрашиваю я, глядя на лимузин, застрявший в пробке неподалеку от нас.
– Господи, Патрик. Закрой рот, – глубоким голосом произносит она.
– Знаешь, Кортни, у меня в дипломате лежит плеер, и мне ничего не стоит надеть наушники, – говорю я. – Тебе надо принять еще литиум. Или выпить диетической колы. Кофеин поможет тебе встряхнуться.
– Я хочу ребенка, – тихо, глядя в окно, произносит она. – Двух… замечательных… ребятишек.
– Ты со мной разговариваешь или с этим Шломо? – вздыхаю я, но достаточно громко, чтобы было слышно шоферу еврейской наружности.
Как нетрудно догадаться, Кортни не отвечает.
Утреннее «Шоу Патти Винтерс» было посвящено духам, губной помаде и косметике. Луис Каррузерс, с которым живет Кортни, уехал в Финикс и вернется не раньше завтрашнего вечера. На Кортни шерстяной жакет и жилетка, футболка из джерси, габардиновые брюки от Bill Blass, хрустальные с эмалью и золотом сережки от Gerard E. Yoska и туфли от Manolo Blahnik (шелковый атлас). Я в сшитом на заказ твидовом пиджаке, брюках и хлопчатобумажной рубашке из магазина Alan Flusser, а также в шелковом галстуке от Paul Stuart. Утром на тренажер Stair Мaster в спортивном клубе была двадцатиминутная очередь. На углу Сорок девятой и Пятидесятой я машу рукой нищенке, а потом показываю ей средний палец.
За столом разговор идет о новой книге Элмора Леонарда – я ее не читал, о ресторанной критике – это читал, о британской версии музыки к «Отверженным» в сравнении с американской, о новом сальвадорском бистро на углу Второй и Восемьдесят третьей, о том, где лучше колонка сплетен – в «Post» или в «News». Похоже, у нас с Анной Смайли нашлась общая знакомая, официантка из «Абетона» в Аспене, которую я на прошлое Рождество, когда катался там на лыжах, изнасиловал флаконом лака для волос. «Шезлонги» переполнены, у меня закладывает уши, акустика из-за высоких потолков хреновая, и сквозь шум, если я не ошибаюсь, прорывается «White Rabbit»[11] в нью-эйдж-обработке. Некто похожий на Фореста Этватера – зачесанные назад светлые волосы, очки с простыми стеклами в оправе из красного дерева, костюм от Armani, подтяжки – сидит с Каролиной Бейкер из инвестиционного отдела в Drexel. Выглядит она неважно. Ей нужно сильнее краситься, а твидовый костюм от Ralph Lauren слишком строгий для нее. Столик у них посредственный, прямо перед баром.
– Это называется классическая калифорнийская кухня, – склонившись ко мне, говорит Анна после того, как мы заказали еду.
Я полагаю, что эта фраза заслуживает реакции, а поскольку Скотт с Кортни обсуждают достоинства колонки сплетен в «Post», отвечать приходится мне.
– Ты хочешь сказать – в сравнении с просто калифорнийской кухней? – осторожно интересуюсь я, взвешивая каждое слово. Потом неудачно добавляю: – Или посткалифорнийской кухней?
– Не хочу показаться снобом, но существует масса различий. Они едва уловимы, – говорит она. – Но они есть.
– Я слышал о посткалифорнийской кухне, – говорю я, пристально разглядывая убранство ресторана: выставленные напоказ трубы, колонны, открытая кухня, где делают пиццу, и… шезлонги. – По правде говоря, я даже ел кое-что. В ней нет молодых овощей? Буррито с начинкой из гребешка? Крекеры с васаби? Ну что, я на верном пути? Кстати, тебе кто-нибудь говорил, что ты – вылитый Гарфилд, которого задавила машина, потом с тебя содрали шкуру и, прежде чем потащить к ветеринару, кто-то набросил на тебя жуткий свитер Ferragamo? Фузилли? Сыр бри в оливковом масле?
– Точно, – пораженная, произносит Анна. – Кортни, где ты нашла Патрика? Он столько всего знает. В представлении Луиса калифорнийская кухня – это половинка апельсина и немного желатина, – заявляет она, потом смеется, призывая меня посмеяться вместе с ней, что я с неохотой и делаю.
На закуску я заказал цикорий с какой-то разновидностью кальмара. Анна со Скоттом взяли рагу из ската с фиалками. Кортни, вместо того чтобы собраться с силами и прочесть меню, едва не заснула, но, прежде чем она соскользнула со стула, я успел схватить ее за плечи и подтянуть вверх. Анна заказала за нее, что-то простое и легкое, вроде каджунского попкорна, который, возможно, в меню и не значился, но, поскольку Анна знакома с шеф-поваром Ноджем, он специально приготовил небольшую порцию – специально для Кортни. По настоянию Скотта и Анны нам всем принесли какое-то фирменное блюдо – темного среднепрожаренного окуня. К счастью для них, он фигурировал в одном из меню, составленных для меня Джин. Если бы его там не было, а они бы все-таки заставили меня его попробовать, то, скорее всего, после ужина, часов около двух ночи (после «Поздней ночью с Дэвидом Леттерманом»), я вломился бы к ним в квартиру и изрубил бы их на куски. Сначала заставил бы Анну смотреть, как умирает Скотт, истекая кровью из зияющих ран на груди, а потом как-нибудь добрался до Эксетера, где вылил бы бутылку кислоты на плоское, с раскосыми глазами, лицо их приемного сына. У нашей официантки неплохая фигурка, на ней золотые туфли с завязками, украшенные искусственным жемчугом. Сегодня я забыл вернуть в прокат видеокассеты и беззвучно проклинаю себя, пока Скотт заказывает две большие бутылки «Сан-Пеллегрино».
– Это называется классическая калифорнийская кухня, – говорит мне Скотт.
– Почему бы нам всем вместе на следующей неделе не сходить в «Зевс-бар»? – предлагает Анна Скотту. – Как ты думаешь, трудно будет заказать столик на пятницу?
Скотт в полосатом (красный, фиолетовый, черный) кашемировом свитере от Paul Stuart, мешковатых бриджах Ralph Lauren и кожаных мокасинах Cole Haan.
– Может быть, – отвечает он.
– Это прекрасная мысль. Она мне нравится, – замечает Анна, взяв с тарелки маленькую фиалку и понюхав цветок перед тем, как осторожно положить его на язык. Она в красно-фиолетово-черном свитере ручной вязки (мохер с шерстью) от Koos Van Den Akker Couture и в слаксах от Anne Klein, на ногах у нее замшевые туфли с открытым носом. Официантка, хотя и не очень красивая, устремляется к нашему столу, чтобы принять еще один заказ на напитки.
– «J&B» без всего, – опережаю я остальных.
Кортни просит шампанское со льдом, что в глубине души ужасает меня.
– Да, – спохватывается она, словно вспомнив что-то, – и можно дольку…
– Дольку чего? – не в силах сдержаться, раздраженно спрашиваю я. – Попробую угадать. Дыни? – И думаю: глупый ты сукин сын, Бэйтмен, почему ты не вернул эти чертовы кассеты.
– Вы имеете в виду лимон, мисс, – произносит официантка, награждая меня ледяным взглядом.
– Да, конечно лимон, – говорит Кортни, похоже погруженная в какие-то грезы. Приятные грезы, дающие забвение.
– А мне стаканчик… черт, наверное, «Акации», – заявляет Скотт, а потом обращается к столу: – Хочу ли я белое? Правда ли я хочу шардоне? Мы можем есть окуня и с каберне.
– Ну давай уж, – весело говорит Анна.
– Ну ладно, я буду… о-о-о… белое, совиньон, – говорит Скотт.
Официантка улыбается, она в замешательстве.
– Скотти! – взвизгивает Анна. – Белое совиньон?
– Шучу, – хихикает он. – Я буду шардоне. «Акацию».
– Ты совсем дурачок, – с облегчением смеется Анна. – Такой смешной.
– Я беру шардоне, – говорит Скотт официантке.
– Очень мило, – замечает Кортни, похлопывая Скотта по руке.
– А я… – Анна запинается. Наконец она решилась: – Ох, ну просто диетическую колу…
Скотт поднимает глаза от кусочка кукурузной лепешки, который он макал в маленькую баночку оливкового масла.
– Ты сегодня не пьешь?
– Нет, – омерзительно улыбаясь, отвечает Анна. Бог его знает почему. Да и кого ебет? – Что-то не хочется.
– Даже стаканчик шардоне? – спрашивает Скотт. – Может, совиньон?
– У меня аэробика в девять, – пытаясь выкрутиться, растерянно говорит она. – Мне на самом деле не стоит пить.
– Ну, тогда и я не буду, – произносит Скотт разочарованно. – Мне к восьми в «Xclusive».
– Никто не желает знать, где я не буду завтра в восемь? – спрашиваю я.
– Нет, милый. Я знаю, как ты любишь «Акацию». – Анна протягивает руку и пожимает руку Скотта.
– Нет, любимая. Мне хватит «Сан-Пеллегрино». – Скотт указывает на бутылки с водой.
Я громко барабаню пальцами по столу, шепча про себя: «Блядь, блядь, блядь». У Кортни полузакрыты глаза, она глубоко дышит.
– Знаешь, я все-таки рискну, – наконец произносит Анна. – Я возьму диетическую колу с ромом.
Скотт вздыхает, потом улыбается. Он просто сияет:
– Отлично.
– Эта диетическая кола без кофеина, да? – спрашивает Анна официантку.
– Знаешь, – вмешиваюсь я, – тебе лучше взять диетическую пепси. Она гораздо лучше.
– Правда? – спрашивает Анна. – А чем она лучше?
– Тебе лучше взять диетическую пепси вместо колы, – говорю я. – Она намного лучше. В ней больше пузырьков. У нее более чистый вкус. Она лучше смешивается с ромом и содержит меньше натрия.
Официантка, Скотт, Анна, даже Кортни – все смотрят на меня, словно я высказал дьявольское, апокалиптическое суждение, разрушил свято хранимый миф, нарушил торжественную присягу, и, кажется, весь зал внезапно затих. Вчера вечером я взял напрокат фильм под названием «В жопе у Лидии» и, приняв две таблетки гальциона, потягивая диетическую пепси (кстати), смотрел, как Лидия (загорелая крашеная блондинка, с отличной фигурой, прекрасным задом и великолепными огромными сиськами), стоя на четвереньках, сосала огромный хуй. Вторая восхитительная блондинка, с аккуратно подстриженными светлыми волосами на лобке, встала на колени позади Лидии и, вылизав ее зад и пизду, принялась вгонять в зад Лидии блестящий серебряный вибратор. Работая вибратором, она продолжала вылизывать пизду, а парень с огромным хуем кончил на лицо Лидии, пока она сосала его яйца. Потом Лидия задергалась, в неподдельном, довольно сильном оргазме, а вторая девушка переползла вперед и слизала сперму с лица Лидии, а потом дала ей обсосать вибратор. Во вторник вышел новый Стивен Бишоп, и вчера в Tower Records я купил его компакт-диск, кассету и пластинку, потому что хотел иметь все три формата.
– Послушай. – Мой голос дрожит от переполняющих меня чувств. – Бери что хочешь, но я тебе советую диетическую пепси. – Я опускаю глаза, смотрю на свои колени, на голубую матерчатую салфетку, по канту которой вышито слово «Шезлонги». На мгновение мне кажется, что я сейчас расплачусь; у меня дергается подбородок, и трудно глотать.
Протянув руку, Кортни мягко касается моего запястья, проводит по Rolex:
– Все в порядке, Патрик. Честное слово.
Острая боль в области печени гасит бурю моих эмоций, и я выпрямляюсь на стуле, напуганный и смущенный. Официантка уходит. Анна спрашивает, видели ли мы недавнюю выставку Дэвида Оники, и ко мне возвращается спокойствие.
Оказывается, на выставке мы не были. Мне не хочется по-хамски объявлять о том, что у меня дома есть его картина, поэтому я легонько пихаю Кортни ногой под столом. Это выводит ее из литиумного ступора, и она, как робот, говорит:
– А у Патрика есть Оника. Честное слово.
Довольно улыбаясь, я отпиваю «J&B».
– Это просто фантастика, Патрик, – говорит Анна.
– Правда? Оника? – спрашивает Скотт. – Разве он не безумно дорогой?
– Ну, скажем так… – Я отпиваю виски, внезапно смутившись: скажем… но что? – Пустяки.
Кортни вздыхает, ожидая еще один пинок:
– Та картина, что висит у Патрика, стоит двадцать тысяч долларов.
Похоже, ей безумно скучно, она отщипывает кусочек от пресной теплой кукурузной лепешки.
Я награждаю ее ядовитым взглядом и стараюсь не зашипеть:
– Нет, Кортни, ну что ты. На самом деле – пятьдесят.
Она медленно поднимает глаза от кусочка кукурузной лепешки, который разминает в пальцах, и в ее взгляде, даже смягченном литиумом, сквозит такая злоба, что уже это автоматически унижает меня, но не настолько, чтобы сказать Скотту и Анне правду: Оника стоит всего двенадцать штук. Но ужасный взгляд Кортни – хотя я, возможно, излишне эмоционален; может быть, она смотрит на узоры колонн, или на жалюзи, или на стоящие вдоль бара вазы Montigo с пурпурными тюльпанами, – ее взгляд пугает меня достаточно, чтобы оставить тему о покупке. Мне нетрудно понять, что означает ее взгляд. Он предупреждает: пни еще раз и поебаться не получишь, понял?
– Но, кажется, это… – начинает Анна.
Я затаил дыхание, мое лицо окаменело от напряжения.
– …дешево, – мямлит она.
Я выдыхаю.
– Так и есть. Мне крупно повезло, – говорю я, хватая воздух.
– Пятьдесят тысяч? – подозрительно спрашивает Скотт.
– Да, но мне кажется, его работа… своего рода… великолепно скомпонована, намеренно насмешливо-поверхностна. – Я замолкаю, пытаясь вспомнить пассаж, вычитанный в обозрении журнала «New York». – Намеренно насмешливо…
– А у Луиса нет, Кортни? – спрашивает Анна и постукивает Кортни по руке. – Кортни?
– У Луиса… нет… чего? – Кортни трясет головой, словно пытаясь прояснить свои мысли, и широко открывает глаза, чтобы они не закрывались.
– Кто такой Луис? – спрашивает Скотт, жестом призывая официантку убрать со стола масло, которое нам недавно принесли. Что за тусовочное животное!
Анна отвечает за Кортни.
– Ее парень, – говорит она, видя, что смущенная Кортни взглядом ищет у меня помощи.
– А где он? – спрашивает меня Скотт.
– В Техасе, – быстро отвечаю я. – Он поехал в Финикс.
– Нет, – говорит Скотт. – Я спрашиваю, в какой фирме?
– L.F.Rothschild, – отвечает Анна и в поисках подтверждения смотрит на Кортни, потом на меня. – Да?
– Нет. Он в Р&Р, – говорю я. – Мы вроде как работаем вместе.
– А он не встречался с Самантой Стивенс? – интересуется Анна.
– Нет, – говорит Кортни. – Их просто сняли вместе на фотографии, опубликованной в «W».
Я выпиваю виски, как только его приносят, и сразу же делаю знак принести еще. Я думаю, что Кортни – куколка, но никакой секс не стоит этого ужина. Разговор перескакивает с одного на другое, я смотрю на сидящую в другом конце зала великолепную женщину – блондинка, с большими сиськами, в обтягивающем платье, в атласных туфлях на золотых каблуках. Скотт принимается рассказывать мне о своем новом CD-проигрывателе, а Анна беспечно лопочет невменяемой и абсолютно безразличной Кортни что-то о новых пшенично-рисовых пирожных с низким содержанием натрия, свежих фруктах и музыке нью-эйдж, главным образом о Manhattan Steamroller.











