Читать онлайн Дальше жить
- Автор: Наринэ Абгарян
- Жанр: Современная русская литература
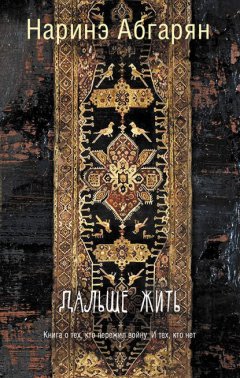
© Наринэ Абгарян, текст, 2017
© Сона Абгарян, иллюстрации, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2018
Вместо предисловия
Заназан
– Заназан! Ай Заназан! Хочешь грушу?
У Заназан длинные ресницы и сиреневые глаза. Волосы густые, медные, без седины. Вьются непокорными локонами у висков.
Протягиваю ей грушу. Смотрит сквозь, не отводит взгляда.
– Возьми грушу, Заназан.
Качает головой.
У Заназан оливковая кожа в рыжую крапушку. Она у нас необыкновенная, второй такой нет.
– Чем же мне тебя угостить?
Прикрывает рот тыльной стороной ладони – линия жизни нечеткая, короткая, обрывается на половине пути.
– Заназан?
– М?
– Поговори со мной.
Молчит. Пальцы бледные, длинные, на указательном левой руки – простенькое кольцо. Стоит, забавно скрестив ноги. На лодыжке – царапина полумесяцем.
– Когда успела пораниться?
Водит плечом. Улыбается рассеянно, словно в себя.
Хочется обнять, прижать к груди, но нельзя. Заназан не любит, когда к ней прикасаются.
– Если бы умела, написала бы твой портрет.
Смотрит недоверчиво. Поколебавшись, берет грушу.
– Скажи мне что-нибудь, Заназан.
Уходит, аккуратно прикрыв за собой дверь.
Мысленным взором слежу, как она спускается по ступенькам – один лестничный пролет, второй. Выныривает из подъездной стыни в залитый солнцем двор.
– Заназан! Ай Заназан! – зовет детвора.
Заназан идет, не оборачивается. Коса перекинута через плечо, кончик стянут смешной резинкой.
Войну она встретила беременной. Схватки случились в бомбежку. Скорую не вызовешь – телефоны молчат, у соседей помощи не попросишь – зачем заставлять людей жизнью рисковать. Терпела до последнего. Когда боль стала невыносимой – собрались с мужем и пошли в больницу. Мужа посекло осколками навылет, ребенка не спасли. – Заназан! Ай Заназан! – зовет детвора.
Она идет, не оборачивается.
Живут вдвоем со старенькой свекровью.
– На кого я тебя оставлю, когда уйду? – плачет свекровь.
Заназан улыбается кротко, безмятежно. Протягивает ей грушу.
– М-м-м-м.
У нее длинные густые ресницы и сиреневые глаза. Кто-нибудь видел сиреневые глаза? Я видела. У Заназан.
Мерелоц
Гинаманц Метаксия выходит из дому спозаранку, когда рассвет только занимается. Стая деревенских ласточек, вспорхнув с кипарисовой рощи, кружит в выси, черкая по стремительно светлеющему небесному полотну острыми крыльями. Бесшумно падает первая роса – густая, живительная, – выпроваживает ночь. Спутав время, заводит протяжную песнь сверчок: тррррю, тррррю, тррррю.
– Доброе утро, горемычный, – мысленно здоровается с ним Метаксия. Сверчок, будто услышав ее, обрывает себя на полувздохе, притихает.
Сегодня Мерелоц[1]. По традиции, люди сначала ходят на поминальную службу и только потом навещают могилы. Метаксия раньше тоже следовала традиции, но однажды решила, что негоже оставлять визит к усопшим на потом: к чему им литургия, когда они находятся в том из миров, где все людское не имеет значения. Потому правильнее было бы, рассудила она, в день поминовения сперва наведаться на кладбище и только потом заниматься другими делами. Чтоб развеять сомнения, она сходила за советом к священнику. Тот, выслушав ее, закивал, соглашаясь – делай, как считаешь нужным, и если тебе спокойнее так… Метаксии было спокойнее так.
Идти до кладбища далеко. Мощенная речным камнем дорога петляет среди домов, а далее, резко вильнув, карабкается вверх по склону холма, туда, где, тесно прижимаясь друг к другу низкими оградками, множатся и множатся последние пристанища бердцев. Люди уходят так, словно соревнуются. Кажется, совсем недавно могила Размика была крайней, а теперь к ней через три ряда пробираться. Метаксия нашла ему такое место, чтобы простор и много неба. Попросила положить справа, под сенью плакучей ивы. Слева, когда придет время, положат ее, она уже договорилась и даже деньги вперед могильщику Цатуру отдала. Цатур отнекивался, но она настояла: «Посмотри на себя – кожа да кости. Вдруг смерть меня зимой, в самый холод, заберет. Откуда ты силы возьмешь, чтоб смерзшуюся землю копать? А так нальешь себе тарелку фасолевого супа, заправишь свиными шкварками, запьешь стопочкой кизиловки… И тебе хорошо, и мне приятно, ведь получается, что это я тебя угощаю!» Цатур деньги взял, но следующей весной явился к Метаксии и вскопал огород. «Не в силах с лопатой расстаться?» – пошутила она. «Сроднился с ней», – криво усмехнулся Цатур, налегая плечом на черенок.
Так и ходит который год. Вскопает огород весной, осенью с уборкой картошки и кукурузы поможет. Метаксия сначала увещевала не делать этого, потом смирилась. Раз приходит, значит, надо. В благодарность она детям Цатура шапки с большими помпонами вяжет. У него их трое, мал мала меньше. Смотрятся в этих разноцветных шапках веселыми гномиками.
На кладбище такая тишина, что ее не нарушает даже переливчатое пение дроздов. Метаксия прибирается на могиле с большой тщательностью: моет и насухо протирает ограду, пропалывает сорняки, поливает цветы. Когда очищает камень от пыли и дождевых разводов, даты рождения и смерти проступают молчаливым укором. Она задерживает дыхание дольше, чем хватает сил. Разве можно смириться с уходом молодых? Семнадцать лет, жить и жить.
Закончив с уборкой, отсыпает в поминальную чашу крупицы ладана, осторожно чиркает спичкой. Пока утренний ветер рассеивает сладковатый душный дым, Метаксия сидит на низенькой лавочке и, сложив на коленях руки, смотрит за горизонт. Там, за дальним согбенным холмом, осталась могила ее мужа: не докричаться, не долететь. Кто же мог подумать, что выпавшее на ее долю счастье окажется таким коротким! Она выросла в любящей семье – отец, мать, три старших брата. О замужней жизни не мечтала – не повезло с внешностью: большеносая, с косящим глазом и безгубым ртом. Смирившись со своей одинокой участью, нянчилась с племянниками, которых любила больше жизни. Но, справив сорок лет, неожиданно для себя вышла замуж – за отца Размика. Переехала через границу в его родную Омарбейли, пять армянских семей на семьдесят азербайджанских. Размику было тринадцать, трудный колючий возраст, отец с ним не справлялся. В деревне к нему относились с жалостью – бедный сирота, мало того, что мать потерял, так отец почти сразу на другой женился. Где это видано, чтобы мачеха пасынка любила?! Заимеет своего – примется парня со свету сживать. Метаксия внимания на разговоры не обращала, но в глубине души тоже опасалась, что, родив своего ребенка, отвернется от Размика. Потому так и не решилась забеременеть. Через четыре года не стало мужа – ушел среди ночи от разрыва сердца, закричал от дикой боли, выгнулся, задев ее локтем, – и притих. Размик наотрез отказался переезжать в Армению, хотя Метаксия об этом очень просила. «Куда я поеду, у меня школа, выпускной класс!» – возмутился он. Она уступила, но взяла с него слово, что они переедут, когда он поступит в институт. Размик согласился, но с условием, что она перенесет могилу его родителей в Берд. Она обиделась не на шутку: как ты мог подумать, что я оставлю их здесь! Он обнял ее, заплакал. С того дня стал называть второй мамой. Иногда просто Второй. Она, отшучиваясь, называла его Первым. Так и жили, перекликаясь: Первый – Вторая, Вторая – Первый.
Когда случилась война, в приграничных деревнях особо не тревожились – люди десятилетиями дружили семьями, ездили друг к другу в гости. Война где-то там, далеко, нас она не коснется, не сомневались они. Дай-то бог, соглашалась Метаксия. Потому она и уехала навестить прихворнувшую мать со спокойным сердцем. Только еды наготовила и попросила соседку выстиранное белье с веревок собрать – Размик все равно запамятует. Поздней ночью пришла весть, что в Омарбейли неспокойно: с границы слышны выстрелы и видно, как горят некоторые дома. Выбраться туда удалось лишь через два дня. Дом стоял, целый и невредимый, разве что ворота погнулись от удара чем-то тяжелым. Метаксия провела пальцами по вмятине, с недоумением ощущая царапающее прикосновение покореженного металла. На бельевых веревках висело пересохшее заскорузлое белье. В доме стояла такая тишина, что можно было услышать биение собственного сердца. Размика нигде не было, но он нашелся, на заднем дворе – наспех закиданный комьями земли и садовым инвентарем. Метаксия собрала с его лица землю, подержала в руках. Не давая себе отчета в том, что творит, съела горстку, давясь от ужаса и боли, остальное высыпала себе за пазуху. Затопила печь, поставила греться воду. Вытащила из погреба большой таз, в котором замачивала шерсть. Уложила туда Размика. Мыла осторожно, не дыша – словно боялась разбудить. Сообразив, что никогда раньше не видела его голым, заговорила шепотом, скрывая смущение: «Какой ты статный, мой мальчик, какое у тебя красивое тело. Какое все у тебя ладное – для жизни, для радости, для счастья. Если бы не рана в животе… но я ее перевяжу, чтоб она не портила твоей красоты. Одену тебя в костюм, который купили к школьному выпускному. Зачешу назад непослушные волосы – ты никогда не давался, вертел головой, строил гримасы – не трогай, и так сойдет! У тебя высокий, чистый лоб, а ты не хотел его открывать…»
От туфель пришлось отказаться, на раздробленные ступни они не налезали. «Убивать ведь тоже можно так, чтобы без мучений. Мучить-то зачем?» – шептала Метаксия, обматывая ступни Размика полотенцем. Вытащила из сарая тележку, застелила мягким пледом, уложила его туда – и покатила со двора. Соседские дома провожали ее глухим молчанием. Метаксия ни разу не обернулась, чтобы удостоить их прощального взгляда. Прощаются с теми, кому есть что сказать. Им ей сказать было нечего.
Порыв ветра принес с собой острый запах хвои и далекий голос разбуженной селем реки. Солнце, едва выглянув из-за Девичьей скалы, зазолотило небо – от макушки до пят. Метаксия со вздохом поднялась, закрыла поминальную чашу, убрала в нишу. Оставила в изголовье могилы ломоть домашнего хлеба – небесным ангелам. Попрощалась, попросила не волноваться и не скучать – Размик-джан, на той неделе снова приду. Ушла, аккуратно прикрыв за собой калитку ограды.
Берд просыпался смехом детей, покашливанием мужчин, шепотом женщин. Метаксия спускалась по склону, вбирая полной грудью дыхание утра. Надо было спешить – скоро начнется служба по усопшим. Мертвым она, конечно же, без надобности. Живым она нужней.
Колготки
В феврале Майинанц Цатуру исполнилось столько лет, сколько было отцу, когда он уходил на фронт. Цатур до сих пор помнил, как мать, повиснув на отцовой шее, мотала головой и молила осипшим от плача голосом: не надо, не пущу. Босые ее ноги болтались в воздухе – она была маленького роста, едва доставала мужу до плеча: худенькая, почти прозрачная, легкая, словно перышко. Соседи ее называли кукла Арусяк – за красоту и хрупкость. Все удивлялись, откуда столько изящества в простой деревенской женщине, вроде и в поле работает, и в реке белье полощет, а выглядит, словно фарфоровая статуэтка: нежная, тонкая, нездешняя. Цатуру тогда было четырнадцать, он стоял, прижав к себе рыдающих младших сестер, и изо всех сил старался не расплакаться. Отец поймал его взгляд, попросил одними губами: забери ее. Цатур бережно подхватил под мышками мать, потянул к себе. Думал, будет сопротивляться, но она расцепила руки и обмякла на его груди.
– Береги девочек, – коротко бросил отец и вышел, не дожидаясь ответа. Цатур таким его и запомнил – в проеме двери, чуть пригнувшимся – хоть знал, что не достает макушкой до притолоки, но все равно каждый раз наклонялся, выходя за порог. Словно уменьшался, покидая дом.
На фотографиях он отца не узнавал: крупный, сутуловатый, рано поседевший неуместно радостный мужчина – смеется так, что глаза превращаются в узенькие щелочки. Ранняя седина оказалась наследственной – Цатур начал седеть еще в школе, а к тридцати годам в его шевелюре не осталось ни одного темного волоса. Мать уверяла, что он очень похож на отца, он этого сходства не замечал, но охотно соглашался. Это не то чтобы утешало, но хотя бы помогало свыкнуться с потерей.
В конце февраля Цатуру исполнилось тридцать три. Приехали сестры – с мужьями и детьми. Сидели допоздна, вспоминали детство. Об отце не говорили: каждый предпочитал думать о нем, оставшись с собой наедине. Разъехались ближе к полуночи. Дети клевали носом у теплой дровяной печи – сытые, разомлевшие, наигравшиеся. Пока сестры собирали их на выход, Агнесса, жена Цатура, вручила им скромные подарки: девочкам – самодельные бусики, мальчикам – вязаные гулпа[2]. Дети расцеловали ее в ладони, только самая маленькая повисла на ней, чтобы заставить наклониться, но брат ее вовремя остановил – ты что, забыла, что ей трудно! Цатур подхватил малышку, поднес к жене. Та рассмеялась и чмокнула ее в носик. Свои дети тихо стояли рядом, мал мала меньше: одному пять, другому четыре, а девочке два с половиной года. Агнесса очень хотела дочку, наконец дождалась.
Укладывались заполночь – сначала детей убаюкали, потом она перемыла посуду, а он протер полы – она бы не справилась, нагибаться сложно, да и очень устала – провела целый день на ногах. «На ногах», – горько усмехнулся Цатур. Агнесса, почуяв его настроение, спросила, не оборачиваясь: «О чем задумался?» – «О том, как тебе сложно приходится. Раньше мать была, а теперь…» – он осекся, замолчал. Она пожала плечами – разве это сложности? Он кивнул, соглашаясь. Разве это сложности!
Вот уже семнадцать лет Цатур хоронил Берд – с того дня, как вернули останки отца. Он тогда пришел на кладбище, попросил могильщика Меграба объяснить, как нужно правильно рыть яму. Меграб обстоятельно рассказал про глубину и ширину могилы, свойства почвы и грунтовых вод. Объяснил, где должно быть изголовье, начертил лезвием лопаты на земле прямоугольник. С остальным Цатур справился сам. Пока мать и сестры оплакивали отца, он рыл ему могилу. После похорон остался работать на кладбище – сначала помощником Меграба, потом, когда того не стало, – могильщиком. Так и жил переправщиком между мирами – тем и этим. О себе не думал, поднимал сестер – одну надо выучить и замуж выдать, потом вторую. Мать все переживала, что никак не женится, а он отмахивался – потом, потом, да и какая женитьба, когда кругом столько горя.
Как-то ему пришлось рыть две детские могилы. На похоронах один гроб открыли, а второй не стали. Он подумал, что второго ребенка сильно покалечило взрывом, но ему объяснили, что в другом гробу лежат женские ноги. Семья скрылась от бомбежки в подвале, было очень холодно, а одеться толком не успели – выбежали из дома в ночных рубашках. Мать переживала, что дочь простынет, причитала – хотя бы теплые колготки, хотя бы колготки. Выскочила за одеждой, когда немного притихло, девочка метнулась следом. Ее убило взрывом, а матери оторвало ноги. «Она жива?» – спросил Цатур. «Разве это жизнь?» – последовал ответ.
Агнессу он увидел спустя несколько месяцев. Она сидела на веранде отцовского дома и лущила горох. Волосы ее были коротко стрижены и заправлены за уши, на левой щеке, ниже скулы, можно было разглядеть крохотный розовый шрам. Поговаривали, что шрам – дело рук ее бывшего мужа, не простившего ей смерть ребенка. Цатура тогда поразила мертвенная бледность ее пальцев и то, как она, управившись с работой, продолжала водить ими, словно теперь уже пустой воздух перебирала. Он какое-то время наблюдал за ней исподтишка, а потом не вытерпел, спросил – почему вы пальцами водите? «От мыслей отвлекает», – просто ответила она.
Ее мать вынесла на веранду дымящуюся джезву с кофе, сама пить не стала, но предложила погадать на гуще. Рисунок на стенках чашек доброго не сулил: разочарования, сплетни, заботы. «Оно и понятно, какие заботы, – посетовала мать, отставляя в сторону чашку, – никак не могу протезы раздобыть, три раза в город ездила, но все без толку. А ей ведь нужно учиться заново ходить! – Она вздохнула, протянула с горечью: – Несчастная моя девочка». Агнесса прильнула к ней, коснулась щеки, но целовать не стала, так и сидела, прижавшись губами к лицу матери, и было в этом столько нежности и простоты, что у Цатура защемило сердце.
«Завтра мне как раз в город, давайте адрес клиники, – кашлянул он. И поспешно добавил, чтобы развеять сомнения: – Мне по работе нужно съездить, кое-какие инструменты прикупить». Матери он тоже объяснил внезапный отъезд необходимостью покупки инструментов. Арусяк вопросов задавать не стала, только вздохнула.
В войну протезы пользовались большим спросом, потому сроки всех заказов отодвигались. Но Цатуру удалось их заполучить, изрядно поскандалив в клинике. На обратную дорогу он приобрел два автобусных билета – протезы оказались до того тяжелыми и неповоротливыми, что везти их в руках не представлялось возможным, а сдать в багаж он побоялся – вдруг повредятся. Так и ехал, крепко придерживая, чтоб не соскользнули, на соседнем сиденье.
Учились всему заново вместе: ходить, улыбаться, дышать. Как настала весна – Цатур сделал предложение. Она попросила время на раздумье, после долгих колебаний согласилась. Свадьбы не играли – какое может быть веселье, когда кругом столько горя! Агнесса мечтала о девочке, но рождались мальчики – сначала один, потом второй. Врачи, кивая на ее слабое здоровье, советовали повременить с третьим ребенком, но она не послушалась и все-таки родила девочку. Назвала ее именем погибшей дочери, потому что свято верила – если живет имя, значит, и человек жив. Цатур жену переубеждать не стал, хотя восторга от того, что дочь назвали именем мертвого ребенка, не испытывал. Впрочем, разговоров об этом он никогда не заводил – смысл рассуждать о том, чего уже не изменить. Агнесса любила детей больше жизни, ни в чем не отказывала. Тряслась над ними, словно лист осины. До паники боялась простудить, потому, не жалея денег, закупалась ворохом теплой одежды впрок и на вырост: свитера, куртки, теплые сапожки, варежки и шарфы. Единственное, чего она никогда не брала, – это колготки. Дети так и ходили в морозы, переваливаясь неуклюжими гусятами, в двух парах шерстяных штанов. И в смешных помпончатых шапках, которые вязала им Гинаманц Метаксия.
Узелок
Бог дал Погосанц Васаку двух тихих дочерей: Арусяк и Аничку. В сравнении с соседскими многошумными домами его жилище выглядело сирым и необитаемым: по забору никто не лазит, гонок на велосипедах не устраивает, с крыши, вереща, словно оглашенный, в стог сена не ныряет, карманы головастиками не набивает. Васак печалился, но не роптал. Значит, судьбе было угодно, чтобы они с Верой стали родителями девочек. Но иногда, наблюдая за тем, как чужие сыновья носятся по деревне, он не мог сдержать вздоха:
– Мужику наследник нужен, продолжатель рода!
Сосед однажды попытался его утешить, мол, не переживай, сыновей тебе зятья заменят.
– Какие зятья? – искренне удивился Васак.
– Дочерей замуж выдавать собираешься? Или всю жизнь под своим крылом продержишь? – хохотнул сосед.
Васак смутился. Чтоб скрыть замешательство – глупо отшутился, мол, конечно, выдам, не мариновать же буду. Сосед о том разговоре давно и думать забыл, а Васак каждый раз, вспоминая свою грубую шутку, обзывал себя болваном. Надо же было такое о собственных детях ляпнуть – не мариновать же буду! Одно слово – болван!
В дочерях он души не чаял. Старшая, Арусяк, пошла в мать – хрупкая, изящная, тонкокостная. Настоящая сказочная пери. Младшая, Аничка, выдалась копией отца – высокая и статная, щедрой деревенской лепки: широкие плечи, полные руки, гордая осанка. У обеих девочек, несмотря на внешнюю несхожесть, были одинаковые характеры и привычки. Они даже одежду предпочитали носить одинаковую, чем доводили до отчаяния мать – поди раздобудь в захолустном Муруте[3] два похожих пальто разного размера! Или туфли! Вера хорошо шила и вязала, потому проблем с платьями и кофтами не возникало. Вся беда была с верхней одеждой и обувью. Поскольку дочери упорно отказывались носить разное, приходилось за обновками ездить в город. Пока девочки, выпив по порции ледяного молочного коктейля, бродили по просторным залам шумного универмага, мать с отцом изнывали в длинных очередях. С большим трудом раздобыв нужное, возвращались в родную деревню, твердо обещав себе никогда больше не потакать капризам дочерей. Но ровно через год, посовещавшись, снова собиралась за покупками. Девочки были единственным смыслом их существования, и они делали все, чтобы порадовать их.
Несмотря на потворство родителей, Арусяк с Аничкой выросли скромными и трудолюбивыми барышнями. Вышли замуж практически в один год: в январе Арусяк увезли в далекий Берд, а в декабре зажениховалась Аничка. В отличие от сестры, она нашла ухажера в Муруте, чем безмерно порадовала отца с матерью – хотя бы одна из дочерей осталась под боком.
С зятьями у Васака состоялся недолгий, но проникновенный разговор. Улучив минуту, он отвел их в сторону и рассказал с леденящими душу подробностями, чтó именно с ними сделает, если они обидят его девочек. Природа не обделила зятьев чувством юмора, потому они обижаться не стали, а, рассмеявшись, обещали взять слова тестя на заметку. Мужьями они оказались хорошими и со временем, как и предрекал сосед, заменили Васаку сыновей.
Вера давно жаловалась на ноги – сначала на ноющую боль и покалывание, потом на потерю чувствительности. Васак не раз предлагал отвезти ее к врачу, но жена отмахивалась – само пройдет! Слегла она сразу после свадьбы Анички. Визиты по поликлиникам и больницам состояния ее не облегчили, и к шестидесяти годам она полностью обезножела. Впрочем, сдаваться она не собиралась: научилась ездить в коляске и через короткое время сама справлялась со стиркой и стряпней. Аничка заглядывала к родителям ежедневно, помогала с уборкой и огородом, доила корову. Арусяк навещала их раз в месяц, гостила по три-четыре дня. Жизнь, может, и не слишком простая, но текла своим чередом, постепенно перебирая месяцы и годы, и радовала Веру и Васака неспешной однообразностью. «Спасибо за возможность быть и радоваться», – часто повторяла она. «Спасибо», – вторил он. Они потихоньку старели, окруженные любовью дочерей и зятьев, а потом и внуков, которые наконец-то превратили их тихий дом в настоящее шумное сборище: неустанно лазили по забору, вереща, словно оглашенные, спрыгивали с крыши чердака в стог сена, набивали полные карманы головастиков, гонялись на велосипедах. У Анички было три мальчика, у Арусяк – мальчик и две девочки. Васак обожал всех внуков, но к сыну Арусяк – Цатуру – относился с особой нежностью. Было в старшем внуке такое, что наполняло его старое сердце безграничной любовью. «Ты у нас – совесть мира», – часто повторял он, гладя внука по вихрастой макушке. Цатур сконфуженно улыбался, но возражать деду не решался.
Спустя годы, когда боль не то чтобы притихла, но хотя бы давала возможность выдыхать, Арусяк часто спрашивала себя, как бы она поступила, если бы знала все наперед. Не стала бы уезжать из Мурута, чтобы разделить с близкими неизбежное, или умоляла бы их перебраться в Берд? Но убедить отца переехать она бы не смогла, он всегда говорил – мое место там, где похоронены мои предки. «Лучше бы я осталась, – плакала Арусяк, – место человека там, где его корни».
Война закрутилась стремительно – еще вчера можно было позвонить в Мурут, а сегодня оборвалась связь, и получить весточку от родных стало нельзя. Арусяк места себе не находила, плакала днями и ночами, отказывалась подниматься с постели. Дети, как могли, управлялись с хозяйством. Муж каждый день ездил к границе – встречать беженцев. Люди шли долгим потоком – изнуренные, потерянные. Некоторые, так и не свыкнувшись с произошедшим, сходили с ума по дороге, другие – добравшись до безопасных мест. Муж искал среди них родных жены, потому что знал – идти им, кроме как в Берд, некуда.
Однажды его внимание привлекла старуха. Перейдя границу, она не пошла за всеми, а опустилась на камень возле обочины. Кое-как усевшись, скинула туфли, потянула подол юбки, чтобы прикрыть свои отекшие и кровоточащие ступни, положила на землю грязный узелок. У него перехватило дыхание – он узнал косынку, которую Арусяк подарила сестре, – красные маки на голубом, она собственноручно их вышивала, переплетая края лепестков серебристой нитью. Он подошел к старухе, чтобы расспросить, откуда у нее косынка. Она подняла на него глаза – и он чуть не задохнулся от ужаса – это была Аничка, он ее не узнал.
Она рассказала ему ровным голосом, что была у отца с матерью, когда случилась беда. Мать сидела на веранде, отец рубил дрова, она убиралась на чердаке. Сначала до нее долетели крики, потом она увидела в чердачное окно, как отца зарубили топором, и как обезноженная мать поднялась с коляски и, зовя мужа, заковыляла по ступенькам вниз, как они настигли ее, ударили обухом по голове и поволокли за волосы к забору, ты ведь помнишь, какие у мамы были косы, они даже к старости не потеряли своей красоты, они волокли ее за эти красивые седые косы к забору, а на земле оставался влажный темный след, и он все не иссякал и не иссякал.
Аничка виновато улыбнулась, добавила: а дальше я ничего не помню, совсем ничего. Умолкла. Попыталась надеть туфли, но они не налезали на распухшие ступни. Она отложила их, прижала к груди узелок, с трудом поднялась.
– Забери меня отсюда. Пожалуйста.
Он отобрал у нее узелок, развязал, заглянул внутрь. Изменился в лице.
– Не пущу, не уходи! – молила его следующим утром Арусяк. Сын стоял в углу, прижав к себе рыдающих младших сестер, и изо всех сил старался не расплакаться. Отец поймал его взгляд, попросил одними губами: забери ее. Цатур бережно подхватил под мышками мать, потянул к себе. Думал, будет сопротивляться, но она расцепила руки и обмякла на его груди.
– Береги девочек, – коротко бросил отец и вышел, не дожидаясь ответа. Цатур таким его и запомнил – в проеме двери, чуть пригнувшимся – хоть знал, что не достает макушкой до притолоки, но все равно наклонялся, выходя за порог. Каждый раз словно уменьшался, покидая дом.
Багардж
Заргинанц Атанес просыпается в самую рань. Первым делом, неловко перегнувшись через край кровати, выключает будильник, чтобы тот своим бесцеремонным и назойливым звоном не разбудил спящего сына. Потом распахивает окно, забирается обратно под одеяло и лежит с закрытыми глазами, слушая голос просыпающегося Берда: далекий, едва различимый шепот реки, щебет птиц, возмущенный клекот вечно недовольных индюков, гогот задиристых гусей. Сипя древним мотором, проезжает мусорная машина. Атанес уверен, что ей столько лет, сколько миру. Сменяют друг друга времена года, поколения, века, и единственное, что остается незыблемым, – это отчаянно чадящая и захлебывающаяся собственным дымом старая развалина, с упорством муравья увозящая за пределы Берда нескончаемый и бессмысленный мусор.
На заборе дерет глотку соседский петух. Атанес с улыбкой вспоминает, как, цокая длинными когтями по дощатому полу, тот шлялся по веранде, кося желтым глазом на выстланные горячей жареной пшеницей подносы. Клевать не клевал – не дурак обжигаться, но вид имел крайне недовольный и даже угрожающий. Левон, увидев его, забулькал, затрясся в неслышном смехе: папа, па-а-па, смотри, Пето!
Все петухи у него – Пето.
Все собаки – Сево.
Все лошади – Чало.
Все люди – Человеки. Так и говорит: Человек пришел, Человек ушел. И только об одной женщине скажет – Ласковый Человек пришел. А потом добавляет – красивый.
Представление о красоте у всех разное, да и на протяжении жизни меняется многажды. Но у Левона оно неизменное и бесспорное – красив тот, кто приходит со сладким угощением. Потому Погосанц Аничка – красивый Человек. Ведь она часто приносит ему багардж[4], тесто которого, вопреки традиционной рецептуре, замешивает на густых сливках и прослаивает молотым жареным миндалем.
– Папа, па-а-па, смотри, Ласковый Человек идет. Красивый! – радуется Левон, заприметив отворяющую калитку Аничку.
– Левон-джан? День перевалил за полдень, а ты еще не поднимался? – притворно бухтит Аничка, взбираясь по ступеням веранды. Это ей дается с трудом, она охает и упирается ладонью то в одно, то в другое колено. Раньше Атанес пытался ей помочь, но потом перестал – она сердито отмахивалась, твердя, что, пока ноги ходят, сама будет справляться.
Левон полулежит на топчане, низ туловища плотно обмотан пеленками, свободны только тонкие длинные руки, которыми он тянется к Аничке. Ласковый Человек пришел. Красивый.
Аничка садится рядом, сначала разворачивает сверток, открывая взору притихшего мира золотистые кусочки сладкого багарджа. И только потом переводит дыхание.
Пока Левон ест, они с Атанесом ведут неспешную беседу. О том, что крыша прохудилась. Что забор лежит на боку. Что дни становятся все короче, а ночи – длиннее, и это не потому, что дело движется к зиме, а потому, что возраст. Что пора сходить на кладбище, ведь скоро Зеленое Воскресенье, на другой день родительская. А к родительской нужно готовиться загодя, с поклоном к неприбранной могиле ведь не придешь.
Потом Атанес разогревает воду, и они с Аничкой моют Левона. Сытый и довольный, тот старательно плещется и радуется – хорошо, да, папа?
– Да, Левон-джан, хорошо.
Пролежни на затылке, лопатках и пояснице обрабатывают специальной мазью, Аничка ее сама делает – вскипятит растительное масло, добавит пчелиного воска, хорошенько размешает, отставит стынуть.
Когда Левон засыпает, они проводят на веранде еще какое-то время. Пока Атанес заваривает чай, Аничка штопает прохудившееся белье. Пьют каждый по-своему: она – вприкуску, он – с вареньем.
– Нужно было, когда звал, замуж за меня идти, – прерывает молчание Атанес. – Вместе нам было бы легче.
Аничка поднимает на него глаза.
– Ты в это веришь?
Атанес не отвечает.
– Не веришь, а говоришь, – заключает Аничка.
Уходит она ближе к вечеру, когда небо подергивается боязливым светом первых звезд.
Атанес потом долго лежит в постели, вглядываясь в безответные глаза ночи. Рядом, по-детски подложив под щеку ладонь, спит Левон. Война забрала у Атанеса всех, и сына бы забрала, да не смогла – его выбросило из разбомбленного автобуса за секунду до того, как тот рухнул в пропасть. Был здоровый крепкий парень, а теперь калека и дитя дитем. Спроси, сколько ему лет, и не ответит. А ведь прошлой зимой справили тридцать пять!
У Анички было страшнее, хотя кто объяснит, каким мерилом можно измерять боль. Семья ее сгинула в погроме, все, что ей удалось отыскать, – обугленные останки младшего сына. Собрала в узел, перенесла через границу, похоронила. Когда узнала о Левоне, испекла багардж – любимое лакомство своих детей, пришла проведать. Так и ходит много лет. Атанес сначала отнекивался – не хотел ни от кого зависеть, но потом привык и даже полюбил. Однажды, набравшись смелости, предложил пожениться. Она ответила, что на двоих у них будет столько горя, что не справиться. А так, каждый со своим, как-то проживут.
Атанес забывается недолгим сном далеко за полночь, а просыпается в самую рань. Первым делом, неловко перегнувшись через край кровати, выключает будильник, чтобы тот своим пронзительным звоном не разбудил спящего сына. Потом распахивает окно, забирается обратно под одеяло и слушает голос просыпающегося Берда. Утро проходит в рутинной работе по дому: уборка, прополка и поливка огорода, стирка-готовка. После обеда он выносит Левона на веранду, укладывает на топчан, садится рядом. И они принимаются ждать, когда придет Аничка и принесет золотистые кусочки благословенного багарджа. Левон каждый раз ест так, словно пробует на вкус солнце.
Одиночество
Мураданц Андро знает об утреннем Берде то, чего не знают даже птицы, густым своим пением предвещающие наступление нового дня. Пока их праздный щебет, занявшись с одного края долины, вьется в небе, чтобы потом, набравшись сил, взмыть ввысь, к верхушке холма, бьющего челом восходящему солнцу, ржавый, рассыпающийся на части, дряхлый, как мир, грузовик Андро, чадя тяжелыми бензиновыми парами и машинным маслом, фырча и проваливаясь то одним, то другим колесом в смытую вечными дождями и пересушенную палящим солнцем заскорузлую колею, разъезжает от двора ко двору, собирая, словно шуршащую луковую шелуху, бренный человеческий мусор.
– Ты бы хоть глушитель починил! А то этот драндулет своим грохотом нас раньше будильников поднимает! – возмущаются бердцы.
Не выключая мотора, Андро с лязгом поднимает ручник, вылезает из кабины, громко хлопнув дверцей, по очереди опрокидывает в кузов содержимое мусорных баков, не забыв тщательно постучать кулаком по дну, давая возможность клочьям бумаги, картофельным очисткам и яичной скорлупе отлипнуть от мокрых стенок, – а потом выстраивает баки аккуратным рядком на кромке дороги.
– Этот драндулет придумали раньше глушителя, так почему бы ему не грохотать?! – наконец снисходит до ответа он. И, чуть помедлив, добродушно добавляет: – Чего вы гундите, вон, утро на дворе, просыпаться пора.
– Какое просыпаться, до будильника еще час!
– Кто рано проснулся – тому Бог улыбнулся!
К тому времени, когда тысячеголосый птичий гомон, сплотившись в могучую хвалебную песнь, достигает Восточного холма, пробуждая его от старческого сна, Мураданц Андро, покончив с ежеутренним сбором мусора, выруливает к водохранилищу, за которым, если проехать еще с полчаса, будет большая свалка. Эту дорогу он знает наизусть, если понадобится, проделает с закрытыми глазами. Справа, подпирая небо острыми куполами, тянется кипарисовая роща. Ниже, бликуя на солнце серебристой чешуей, извивается среди камышовых зарослей река. Лягушки молчат – до вечера набрали в рот воды и стерегут под камнями тишину, зато поет иволга – так, как умеет только она – трогательно-нежно, душеспасительно. На том берегу зеленеют табачные поля – Андро морщится, вспоминая царапающий запах едкого сока, намертво въевшийся в руки матери и теток. Пока они с двоюродными братьями, закинув за спины самодельные луки и стрелы, бегали окрест, играя в индейцев («А-андро, ай Андро, играй, где хочешь, но чтобы мои глаза тебя видели!» – надрывалась потерявшая его из виду встревоженная мать), женщины, устроившись на дощатых лавках и обмотав лица платками так, чтобы оставалась узкая щель для глаз, нанизывали на шнуры табачные листья, орудуя длинными стальными иглами. Если выключить посторонние звуки, можно и сейчас услышать, как в бесконечно однообразном движении снуют их почерневшие от табачного сока пальцы: проткнуть черешок у основания иглой, аккуратно, чтобы не порвать лист, спустить его на шнур, строго следя за густотой нанизывания – мелкий лист можно чаще, крупный – реже, иначе он, так и не успев высохнуть, запреет и сгниет. Затянуть под навесами низки с таким расчетом, чтобы они не сильно провисали, давая солнцу и ветру беспрепятственно проникать между листьев и сушить их бережно, щадя. Работа была кропотливой и тяжелой, и руки матери к вечеру болели так, что она не могла сдержать горестных вздохов. Укладываясь спать, натирала их яблочным уксусом и утиным жиром, но толку было мало.
– Пальцы как будто огнем жгет! – жаловалась она.
– Жжет! – закатывая глаза, поправлял ее Андро.
– Жжет, – охотно соглашалась мать, но на следующий день допускала ту же ошибку.
В гробу она казалась совсем маленькой, даже ногами до нижнего края не доставала. Выглядела не мертвой, а задремавшей – шепотом окликнешь – проснется. Андро не мог ею налюбоваться: она была красива той строгой первозданной красотой, которой отличаются жительницы гор – высокая, сухощавая, с неправильными броскими чертами лица. Загрубевшие от тяжелого труда ее руки, не знавшие всю жизнь покоя, лежали теперь бездвижным грузом на ее груди. Замотанные в темную шерстяную ткань, они смахивали на два каменных обломка, навсегда прибивших ее к земле. Он старательно обходил их взглядом, чтоб не разрыдаться. «А-андро, ай Андро, играй, где хочешь, но чтобы мои глаза тебя видели!» – надрывалась она, близоруко щурясь и высматривая в шумной ватаге детей своего. «Мам, ну чего ты так кричишь!» – каждый раз возмущался он. «Боюсь, что меня не услышишь», – виновато улыбалась она.
Андро не сомневался – она его звала. Заваленная тяжеленными, прокопченными дымом балками, старой ломкой черепицей, лопнувшей печной трубой, связками сушеных яблок и вяленых слив, початками кукурузы, рамками меда – соты треснули, и сладко-терпкий горный мед – янтарно-золотой, липкий, тек по ее седым волосам, по спине и ногам, засыпанным всяким ненужным скарбом, который она хранила и никак не решалась избавиться, потому что каждая вещь – память, и даже старое, насквозь проржавевшее колесо телеги, казалось бы, очевидный хлам, выкинуть и забыть, но она его берегла, как берегла изъеденный древесным жучком ларь, облицованный по углам латунными пластинами, дед-кузнец собственноручно их чеканил, выводя стальным стержнем и узконосой киянкой незамысловатый, но достаточный узор, и треснувшие по боку рыжие глиняные горшки – привет от другого деда-гончара, и ветхие лоскуты истертых до дыр ковров, и торчащие обломанными прутьями, давно пришедшие в негодность ивовые корзины – к ним прикасались пальцы бабушки; вся эта ненужная и бессмысленная, но значимая для матери рухлядь в один миг обвалилась, сметая на своем пути все, что не исчезло во взрыве, и заковала ее тело в душный неподъемный саркофаг. Она успела свернуться калачиком, и ни один обломок не задел ее и даже не коснулся, она лежала, словно младенец в утробе, притянув к животу колени и сложив на груди руки, беспомощная и бездвижная, – и звала сына. И он ее не услышал.
Это был старый каменный дом, с обветренной черепицей и покосившимися ставнями, со скрипучими разошедшимися полами и сгорбившимися стенами, прадеду в свое время определили надел совсем на отшибе, добираться на телеге полтора дня, он на него рукой махнул, но земля оказалась такой плодоносной, что после долгих раздумий он все-таки решил построить там небольшое, но крепкое жилище. Мать ездила в тот дом по выходным все погожее время, а к концу октября, когда табак уже был убран и обработан, оставалась на неделю-другую, подготавливала к зимовке ульи, собирала последнюю, уже подмороженную малину, варила из пыльно-мерклых ягод терна терпкое варенье, перекапывала огород. Андро приезжал за ней в оговоренный день, и они перевозили домой заготовленные припасы. Иногда он предлагал остаться, но она отказывалась – ей важно было побыть в тишине и уединении, она уставала от людей.
Последний ее октябрь случился накануне очередного витка войны, и всю неделю, пока Берд нещадно бомбили, Андро радовался тому, как вовремя вывез мать в дом на отшибе. За нее он не беспокоился – никто не стал бы тратить снаряды на отдаленную местность, ведь бомбят всегда там, где можно собрать большой урожай жертв.
Застав вместо дома зияющую воронку, засыпанную грудой обломков, он сначала не поверил своим глазам и даже несколько раз огляделся, думая, что перепутал дорогу и приехал не туда, но потом, очнувшись, ринулся разбирать руины голыми руками. Добрался до матери к рассвету, плакал, высвобождая ее из-под каменной трухи, пучков сушеной мяты, обрывков старых газет, меда и искрошенной черепицы, – высвобождал так бережно, словно жемчужину из раковины извлекал. Всю дорогу, пока вез ее домой, говорил с ней, не умолкая. Спрашивал, как теперь ему жить с таким оглушительным бременем сиротства. Как оплакивать ее, чтобы чужие не видели его слез. Как простить себе, что ни одна ниточка души не шевельнулась, когда она его звала. Как простить себе, что не оказался рядом. Мать лежала на заднем сиденье машины, свернувшись калачиком, он пытался выпрямить ей хотя бы руки, но окоченевшее тело не давалось, она покоилась, притянув к животу ноги, и будто спала – красивая, молодая, не тронутая тленом.
Андро остановился у водохранилища, сидел в машине, плакал и причитал. Вышел, снедаемый нестерпимой душевной болью, оставив нараспашку дверь – почему-то побоялся хлопнуть ею, чтоб не потревожить мать. Подошел к самой кромке воды, постоял, вбирая в себя безмолвие небес, непоколебимое молчание которых убивало всякую веру в спасение. Тишина стояла оглушительная, облака касались самой земли, воздух был нем и туг, словно набитая пухом жаркая перина – ни вздохнуть, ни выдохнуть. Андро не сомневался – отныне для него нет и не будет ничего страшнее этого каменного и отрешенного молчания. «Господи, да как же может быть, чтобы ты был так безразличен и глух к людской боли!» – не в силах справиться с душевной мукой, вдруг закричал он. Крик этот – протяжный, неистовый, рвущий глотку до крови – исторгся из него невыносимым отчаянием и долго реял над черной водой, волнуя ее зыбь. Он не услышал голос матери, он его ощутил. Возникнув из ниоткуда, этот голос не прозвучал, а проник – весь, без остатка, в самые краинки его истерзанного болью сердца. «Я тебя слышу», – прошелестел он и угас, оставив в сердце чувство безвозвратной утраты и глухой тоски.
Мураданц Андро знает об утреннем Берде то, чего не знают даже птицы, звонким своим пением предвещающие наступление нового дня. Пока их праздный щебет, занявшись с одного края долины, взмывает к верхушке дряхлого Восточного холма, пробуждая его от каменного сна, ржавый, рассыпающийся на части грузовик Андро, чадя тяжелыми бензиновыми парами и машинным маслом, фырча и проваливаясь то одним, то другим колесом в заскорузлую деревенскую колею, разъезжает от двора ко двору, распугивая заспанную домашнюю живность и поднимая людей в несусветную рань. Бердцы возмущаются, но терпят. Они знают – тишина для Андро равносильна муке. Ведь совесть говорит с нами голосами тех, кто ушел. Выключи посторонний звук – и ты ее услышишь.
Жить
Акунанц Карапет погиб на пороге своего дома. Когда прибежали соседи, он сидел, привалившись плечом к дверному косяку, и, уронив на колени руки, смотрел в тот угол двора, где разорвался снаряд. Пес беззвучно скулил, боясь высунуться из конуры. Куры, заполошно кудахча, метались вдоль частокола, но при виде людей притихли. Лишь одна, хрипло кукарекнув, продолжила свой бестолковый бег.
– Поймай и сверни ей шею, – велела старшему внуку Маро.
Тот безропотно подчинился.[5] Выкинул убитую курицу в выгребную яму, сполоснул руки в дождевой бочке – вода перестояла и пахла набрякшим мхом и сыростью. Брезгливо принюхавшись к пальцам, он вытер их о штаны и заспешил в дом. К тому времени младшие братья с бабушкой успели положить тело Карапета на тахту.
Второй снаряд разорвался так близко, что подумалось – угодил в дом. Стены скрипнули и зашатались, на кухне с грохотом опрокинулся буфет, полиэтилен, которым были обтянуты оконные рамы, не выдержав воздушного удара, лопнул и разлетелся в клочья.
– В погреб! – крикнула Маро и вцепилась в плечи покойного. Мальчики решительно отодвинули ее – сами справимся. Перенести Карапета не составило большого труда – к старости он совсем отощал, шея торчала из ворота рубахи, словно хвостик перезрелой груши, – старший внук Маро поморщился, некстати вспомнив хрустнувшую в пальцах шею курицы. Идти было недалеко: вниз по лестнице и направо с десяток шагов, но нужно было спешить, чтоб не угодить под обстрел. Маро ковыляла за внуками, бормоча под нос проклятия: «Чтоб вы превратились в камень, бессовестное племя, чтоб мертвые ваши восстали из могил, но только затем, чтобы забрать вас на тот свет! Где это видано – мирные дома бомбить?»
Третий снаряд разорвался ровно в ту секунду, когда старший внук захлопнул дверь за псом – тот ворвался в погреб, жалобно скуля, споткнулся о высокий порог, пролетел вперед, въехал ушастой башкой в мучной ларь, взвизгнул. Обезумевшие пеструшки бегали по двору, захлебываясь в хриплом кудахтанье. Следующий взрыв грянул совсем рядом, словно под боком, мигом загасив страшный куриный крик. Маро рухнула ничком на землю, внуки попадали рядом, старший в невообразимо длинном прыжке настиг младшего, прикрыл его собой, тот сразу же выполз из-под него – о себе думай! Потом было поднялся, чтобы посмотреть, что там во дворе, но братья не дали – куууда? Младший пихнул их локтем, получил в ответ звонкую затрещину. Маро шикнула, кивнув на покойного – нашли время! Внуки, мгновенно устыдившись, притихли.
Акунанц Карапет лежал на земляном полу, правая рука была откинута вбок, неудобно согнутая в локте левая осталась под спиной. Маро прикрыла ему веки, подивившись тому, какие у него огромные зрачки. Сложила на груди руки, крепко обвязала носовым платком запястья – неизвестно, когда удастся похоронить, потому лучше заранее сделать все как положено. Говорят, Мураданц Сатик, которую хватились через неделю, пришлось ломать окоченевшие руки, иначе они не складывались на груди. Не хотелось бы, чтобы и с Карапетом так. Рана на виске была совсем крохотной, крови вытекло мало, с три чайных ложки. «Придет же в голову такое – измерять кровь ложками», – мысленно отругала себя Маро, сдернула пояс, обвязала ступни покойного. Накинула жакет ему на ноги, прикрывая расползшееся пятно на брюках – не нужно, чтобы внуки видели, как у него отходит моча. Сложив вчетверо косынку, подвязала челюсть. «Смерть ужасна не фактом своего существования, а тем, как, глумясь и наслаждаясь, она уродует человеческое тело – ведет себя, словно тот недостойный противник, который, добившись своего, потешается над трупом поверженного врага», – думала с горечью Маро.
Пес плакал, уткнувшись носом в ладонь старшего внука. Тот молча гладил его по голове. Когда раздался новый взрыв, сгреб в объятия, прижал к себе. Пес громко вздохнул, запричитал совсем по-человечьи, но сразу же притих. Снаряды ухали по Берду, тут и там содрогались стенами старые каменные дома, вылетали последние стекла в окнах, сходила с ума домашняя живность. Людской страх – мешкотный, неподъемный – одышливо полз по дворам, заполняя собой щели между рядами поленниц, кривенькие дымоходы, чердаки и подполы. Было безвыходно и тоскливо – так, будто враз выключили все, что дарит надежду.
Маро сидела, привалившись спиной к стене, и смотрела в тот угол погреба, где лежал Карапет. Всю жизнь враждовали: то он, чиня забор, якобы случайно его опрокидывал на кусты смородины, то она «забывала» отключить воду и превращала его огород в болото. Сколько раз дело чуть до драки не доходило – Карапет был человеком вспыльчивым, в гневе неуправляемым, злым. Замахнется – думаешь, сейчас ударит. Но он в последнюю секунду сожмет руку в кулак, уберет за спину.
– Что же не ударишь? – усмехалась Маро.
Карапет уходил, больно задев ее плечом.
Спроси сейчас – с чего началась вражда, она и не вспомнит. Сначала жили каждый своей семьей, вроде были счастливы. У нее сын, у него сын. Однажды проснулись одинокими – муж Маро, забрав жену и ребенка Карапета, уехал в другую деревню. Берд побурлил и забыл, а Маро с Карапетом словно окаменели. Так и жили, каждый со своим несчастьем. Первое время заглядывали друг к другу – излить душу, потом перестали. Маро быстро простила мужа – отпускала к нему сына, потом внуков. Карапет никогда больше с женой не общался. И сына редко видел – не забыл ему, что молча уехал, хотя какой спрос с четырехлетнего ребенка. Спустя время он и на Маро ополчился. Она сначала не обращала внимания, потом стала огрызаться. Так и поссорились.
Сыновьям было по тридцать, когда началась война. Оба ушли на фронт. Оба погибли, пропалив в сердцах родителей незаживающие раны. В день, когда это случилось, Карапет пришел к Маро, домой заходить не решился, просидел на веранде до утра. Когда она вышла – он спал, положив голову на согнутый локоть. Рукав рубахи насквозь промок от слез. Она села рядом, погладила его по плечу. Он зарыдал сквозь сон. Помирился с женой на похоронах. Ну как помирился, поплакали, обнявшись – и разошлись.
– Тати[6], ай тати! – вывел Маро из раздумий внук.
– А? – Она очнулась, протерла тыльной стороной ладони глаза. Взрывы стали дальше и тише, скоро и вовсе умолкнут – можно будет выйти из укрытия, посчитать живых, похоронить мертвых.
– Тати! – Младший смотрел на Маро глазами своего отца, потому все над ним и тряслись – и братья, и бабка, – уж очень он напоминал его, такой же темноглазый и рыже-веснушчатый. – Почему мы не оставили деда Карапета наверху? Все равно ведь мертвый.
– Мертвый или живой – человек остается человеком, – ответила Маро.
Громко кукарекнул петух, его крик подхватил другой, потом третий. Птица всегда безошибочно угадывала наступление затишья. Маро поднялась, отперла дверь погреба. Можно было выходить – и жить дальше.
Пахлава
Невестка старой Маро погибла на третий день ливня, когда вконец развезло дороги и деревья намокли так, что не держали ветвей, – те безвольно висели, поникнув мокрыми листьями, а небесная река все струилась и изливалась, стирая мир прохладными своими потоками.
Старая Маро словно чувствовала, что случится беда, отговаривала невестку от поездки, хотя накануне сама же испекла большой противень пахлавы – тонкое тесто, воздушная прослойка из взбитых белков с сахаром и грецких орехов, румяная корочка, щедро политая разогретым на водяной бане медом с корицей – сватья любит корицу, так пусть ее будет вдоволь, как-никак юбилей, шестьдесят лет, дочь решила съездить порадовать мать, живущую на другом склоне Совиной горы. Два дня назад приехали ее братья – три молчаливых великана; когда они вошли в дом, воздух словно закончился, Маро оставила на ночь распахнутыми все окна, чтобы им было чем дышать. Братья возили в город молоканские продукты – моченые яблоки, капусту с брусникой, пироги с творогом и ягодами. На обратном пути заехали за сестрой. Маро сначала с легкостью согласилась отпустить ее, но потом испугалась. Уговорить не ехать не смогла.
Когда невестка собралась выходить, Маро предприняла последнюю попытку ее остановить – встала в проеме двери, загородила путь, замотала головой – не уезжай, дочка, пожалуйста, послушайся меня, не уезжай.
Все случилось на краю перевала, когда машина, вынырнув из ливневого потока, оказалась на горной петле, ведущей к Ущелью Сов, невестка сидела сзади, между двумя старшими братьями, придерживала на коленях поднос с пахлавой, на переднем сиденье расположился младший брат, за рулем был Крнатанц Хорен – он знал, где притормозить, а где проехать на большой скорости, держась как можно дальше от обочины.
Перед тем как выехать на опасный участок, он предупредил – сейчас рванем; братья подались вперед, заслонив собой сестру; мотор взвыл, набирая скорость, над перевалом дождило небо, облака спустились до самой земли и запутались в снулых кронах деревьев; пять, четыре, три, два, один, отсчитывал Хорен, выруливая к спасительному ущелью.
Никто не слышал звука выстрела, но все разом заметили трещину, неведомо каким образом появившуюся на лобовом стекле; она так стремительно расползалась во все стороны, словно бежала от себя самой, в центре зияла крохотная дырочка – след от пули, младший брат обернулся и сразу заплакал, сестра глядела удивленно и улыбалась, как в детстве, немного криво, левым уголком губ.
Старой Маро было шестьдесят два, когда погибла ее невестка, оставив маленьких детей. Это была первая смерть, случившаяся на дороге жизни, ведущей из Берда к Ущелью Сов, там теперь днями стоит такая тишина, что слышно, как распускаются горные цветы, а ночами не уснуть от уханья сов, но это сейчас, а тогда они молчали, и ветра не пели, потому что хозяйничала на перевале война.
Старая Маро умерла, когда старшему внуку исполнилось двадцать, встретила его из армии и на следующий день слегла, ушла накануне Пасхи, тихая и умиротворенная, положили ее между сыном и невесткой; сына война забрала сразу, невестку – чуть погодя, наверное, для чего-то это было нужно, чтобы он ушел первым, а в машине с четверыми взрослыми мужчинами погибла именно она, в этом, несомненно, крылся недоступный человеческому пониманию Божий замысел, думала старая Маро, пытаясь совладать с терзающей душу горечью, с которой, впрочем, она так и не сумела справиться, потому никогда больше не пекла пахлавы – слоеное тесто, взбитые белки с сахаром и грецкими орехами, румяная корочка, щедро политая медом с корицей, последняя ее пахлава так и осталась на коленях погибшей невестки, другой уже не случилось, да и какая может быть пахлава, когда сердце ноет и ноет от боли.
Гулпа
Корову пришлось зарезать. Хорен этого делать не хотел, тянул до последнего, все надеялся, что она выправится. Не доверял ее стаду, ходил на околицу, на самый берег реки, следил, как она пасется через силу, как, тяжело дыша, пьет воду – нехотя, внапряг, со всхлипом.
– Малишка, м? – бестолково увещевал он, гладя ее по золотисто-палевой холке. Ему до боли хотелось, чтобы она жила. Корова горько мычала, мотала головой, смотрела на него потускневшими глазами в окаемке белесых ресниц. Хорен прикладывал ладонь к ее горячему носу, расстроенно кряхтел. Все, что требовалось, чтобы хоть как-то облегчить ее состояние, он уже сделал: и живот жгутом из соломы растирал, и отварами чабреца и мать-и-мачехи поил. Знал, что от лечения толку не будет, но не мог безучастно наблюдать ее муки. Об истинной причине Малишкиной болезни он рассказал только своей матери. Та выслушала его молча, беззвучно пошевелила губами, потом отложила спицы, вытянула шею, подслеповато высматривая кого-то в окно, обеспокоенно спросила:
– Хорен вернулся из школы?
Хорен на секунду замешкался, потом успокоил ее – вернулся.
Она кивнула: «Хорошо».
Он поднялся, нерешительно потоптался, собираясь задать вопрос, потом махнул рукой, с кряхтением наклонился, поцеловал край ее пахнущей солнечным теплом косынки – мягкая бахрома защекотала лицо, он прикусил губу, удерживая рвущийся из груди горький вздох. Спросил, не надеясь на ответ:
– Я пойду, мам?
Она и не ответила.
Малишка умирала от обиды. Хорен знал это наверняка, но не стал никому, кроме матери, рассказывать. Все равно ведь не поверят. Кто бы знал, что такое может случиться именно с ней, такой пугливой и осторожной! Она с первых дней жизни была очень робкой, редко кого к себе подпускала, оказавшись в стаде, всегда ходила за пастушьим гампром[7] – куда он, туда и она. С ним безопасней. Первое время пес не обращал на нее внимания, потом стал раздражаться, однажды даже цапнул за бок, не больно, но чувствительно. Малишка замычала, расплакалась, пастух, рассказывая Хорену о случившемся, водил концом большого пальца по сгибу указательного: «Слезы вот такой величины, каждая аж с виноградину». Хорен тогда еле сдержался, чтобы не пнуть гампра под живот. Тот, учуяв его настроение, виновато попятился, низко опустив морду и пряча глаза, а потом и вовсе скрылся из виду. Малишка прощала, словно ребенок – легко и навсегда, потому на следующий день снова увязалась за псом. Памятуя о грозном нраве ее хозяина, гампр терпел, не огрызался, но потом потихоньку, неожиданно для всех, привязался к корове. Отныне, обежав стадо по кругу, он обязательно возвращался туда, где она паслась. В непогоду всегда оказывался рядом – Малишка боялась грозы и, расслышав первые, еще далекие раскаты, норовила несообразительно спрятаться: то за выступ скалы уйдет, откуда можно сверзиться в пропасть, то в овраг спустится, из которого потом трудно выбираться по скользкой земле. Однажды она отстала от стада и затерялась. Хорен нашел ее по протяжному вою шакалов – бежал на их леденящий душу зов, не разбирая дороги. К тому времени, когда он добрался до Малишки, они обступили ее со всех сторон и, медленно сжимая кольцо, надвигались, скуля и взвывая. Хорена тогда поразило, как она смотрела на них – отстраненно, поверх голов. Она даже не делала попыток защититься – стояла, словно каменное изваяние, словно памятник самой себе. Он полез в самую гущу, раскидал зверей. Когда подоспел гампр, руки его были изодраны в кровь, а на левой лодыжке зиял глубокий след от укуса. Кто его знает, что бы с ним стало, если бы не пастушья собака, под злым натиском которой шакалы нехотя, но отступили, а потом и вовсе разбежались – подвывая друг другу мерзким протяжным плачем. Малишка Хорена не признала, побрела, неловко переставляя ногами – мешало налившееся вымя. Он догнал ее, обнял за шею, погладил по морде, по ушам. Она замычала – обиженно, с укором. Он выдоил немного молока, чтобы облегчить ее состояние, вывел к реке – напоить. Пить она не стала, но шум воды ее успокоил – она словно ожила и даже немного утешилась. Возвращались долго, трудно – Малишка часто останавливалась, судорожно вздыхала, мотала головой, словно контуженая, или же норовила уйти в другую сторону. Хорен терпеливо возвращал ее, целовал в глаза, увещевал. Домой добрались поздно ночью. Все спали, кроме старшей внучки Лусине, которая, дожидаясь их, дремала на веранде, завернувшись в домотканый плед. Обняв деда, ничего не спрашивая, сама за него все и сказала – долго искал, устал. Хорен кивнул – так и было, цавд танем[8]. «Я с ней справлюсь, ты иди», – успокоила его Лусине и повела корову в хлев. Вернувшись, помогла промыть рану на ноге, обработала ее лечебной мазью. «Шакалы?» – «Шакалы, будь они неладны!» – «Надо тебе завтра в поликлинику сходить». «Надо бы», – согласился Хорен, но так и не сходил – не до того было.
От того страха Малишка так и не оправилась. Потеряла аппетит, стала стремительно худеть. Прекратила доиться, потом и вовсе закровила сосками. Ни холодные и горячие компрессы, ни расплавленный пчелиный воск и теплые укутывания облегчения не принесли. Выписанные ветеринаром таблетки тоже не помогали. «Нужно зарезать, пока не поздно», – осмотрев в очередной раз корову, отвел он взгляд. Хорен хотел было выругаться, но сдержался. Был бы жив Мушеганц Арамаис, он бы придумал, как Малишку спасти. А этот молодой еще, жизни не знает, животных за равных не держит. А раз не держит – смысл от него толковое ждать?
С того дня он ухаживал за коровой сам, преданно – и без надежды.
– Ну как же так, а, Малишка? – спрашивал, заглядывая ей в глаза. Она жалобно мычала. Страдала от насекомых, которые, учуяв запах крови, роились вокруг ее тощего вымени, больно кусая и высасывая скудные жизненные силы. Первое время она отгоняла их вялыми взмахами хвоста, но потом и на это у нее не осталось сил.
Родилась она в лютый год войны, когда домашней живности осталось раз-два и обчелся. Невестка старой Маро, увидев ее, всплеснула руками, заахала: «Какая хорошенькая малышка!» Она была из молокан, говорила на певучем русском диалекте – растягивая к концу слова. «Малишка так Малишка», – согласился Хорен.
Он сам вызвался отвезти ее к матери, потому что знал каждую пядь дороги через перевал, там нужно было ехать умеючи, на разной скорости, чтобы снайперы не успели взять тебя на мушку. Прошло столько лет, но он и сейчас помнил хруст расползающихся по стеклу трещин и протяжный, неожиданно тонкий, детский вскрик младшего брата – Ка-а-тя, Ка-а-тюш-ка? Хорен развернулся на локте серпантина – впереди могла быть засада, – и погнал обратно на смертельной скорости по размякшей от дождей узкой – двум машинам не разойтись – дороге. Старшие братья, вплотную придвинувшись плечами, обнимали сестру, младший же придерживал поднос с пахлавой, на льняной ткани алели живым два крохотных пятна, он гладил их бережно пальцами – указательным, большим и снова указательным – и всхлипывал, как ребенок.
– Что за никудышный я человек, а, Малишка? Не смог уберечь невестку старой Маро. Не смог уберечь свою дочь Антарам. И тебя от шакалов уберечь не смог. Что за никудышный я человек такой? – шептал Хорен, гладя корову по тощей шее. Малишка тяжело дышала, мучилась от боли, но не плакала. Пахла не болезнью, а росой и незабудками. Хорен зарезал ее на заднем дворе, похоронил там же.
Когда он вернулся, мать сидела под тутовым деревом и вязала в четыре спицы детский носок.
– Скажи мне что-нибудь, – попросил Хорен.
Она улыбнулась – вскользь и рассеянно, он провел пальцем по ее руке – кожа была бледной, в ржавых крапушках, и сухой, словно забытый на столе лоскут лаваша.
– Скажи мне что-нибудь! – взмолился он.
Она довязала ряд, безошибочно – каким-то только ей ведомым чутьем умела различать цвет на ощупь, поменяла фиолетовую пряжу на желтую. Подняла на него свои бесцветные незрячие глаза:
– Вот, Хоренчику своему полосатые гулпа вяжу. Красиво?
Ковер
Крнатанц Лусине вышла замуж в день своего двадцатилетия. В первую субботу сентября приехали сваты – просить ее руки. Свекровь подарила кольцо – ярко-багровый рубин в окаймлении жемчужной пыли, браслет с искусной гравировкой и тяжеленные серьги – червонно-тусклые, надменные. Золовка вручила шелковое белье – Лусине никогда прежде не видела такого, но втайне мечтала: воздушная нижняя сорочка, тонкий пояс для чулок – каждая застежка бабочкиным крылом. Жених внес в дом ковер, положил почему-то на обеденный стол. Когда его развернули, у присутствующих перехватило дыхание. Нани[9] перегнулась через подлокотник кресла, в котором просиживала дни напролет – потерявшая счет времени и событиям девяностолетняя старуха, – погладила ковер, прислушалась к шороху ворса, провела шершавыми пальцами по изнаночной стороне, спросила одними губами: Антарам ткала?
– Да, – бесслышно ответили гости.
– Вернулась наконец, – озарилась радостью нани.
Чтоб не задохнуться от полоснувшей душу боли, Лусине опустилась на пол, зарылась лицом ей в колени. Последний раз нани так улыбалась, когда младший праправнук, опрокинув на себя тяжелый чан с кипятком, чудом остался невредим. Вот тогда она и улыбнулась – легко и светло. И прочитала благодарственную молитву.











