Читать онлайн Misterium Tremendum. Тайна, приводящая в трепет
- Автор: Полина Дашкова
- Жанр: Современные детективы
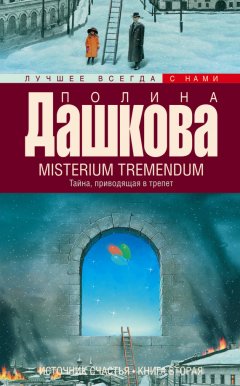
© П. В. Дашкова
© ООО «Издательство АСТ», 2015
«Люди спасаются только слабостью своих способностей – слабостью воображения, внимания, мысли, иначе нельзя было бы жить».
И. А. Бунин «Окаянные дни»
Глава первая
Москва, 1918
Дождь лил несколько суток, оплакивал разграбленный, одичавший город. Под утро небо расчистилось, показались звезды. Холодная луна осветила пустынные улицы, площади, переулки, проходные дворы, разбитые особняки, громады многоэтажных зданий, купола храмов, зубчатые кремлевские стены. Проснулись куранты на Спасской башне, пробили двенадцать раз, то ли полночь, то ли полдень, хотя на самом деле было три часа утра.
Большевистское правительство поселилось в Кремле еще в марте. Кремль, древняя неприступная крепость, остров, отделенный от города глубокими рвами, мутной речной водой, был надежней дворцов Петрограда. Кремлевский слесарь, мастер на все руки, упорно пытался починить старинный часовой механизм, разбитый снарядом во время боев в ноябре 1917. Куранты плохо слушались, вроде бы начинали идти, но опять вставали и никак не желали играть «Интернационал» вместо «Коль славен наш Господь в Сионе». Откашлявшись, как будто извинившись, они прохрипели какую-то невнятную мелодию и затихли.
Новая власть хотела командовать не только людьми, но и временем. Полночь наступала ранним вечером, утро – глубокой ночью.
Почти перестали ходить трамваи. Фонари не горели, темны были улицы, темны окна, лишь иногда дрожал за мутным немытым стеклом желтый огонек керосинки. И если в каком-нибудь доме вспыхивало среди ночи электричество, это означало, что в квартирах идут обыски.
Парадный подъезд дома на Второй Тверской был заколочен. Жильцы пользовались черным ходом. По заплеванным щербатым ступеням волокли вверх санки с гнилой картошкой. На площадках между этажами ночевали какие-то личности в тряпье. Из квартир неслись звуки гармошки, визг, матерный рев, пьяный смех, похожий на собачий лай.
После суточного дежурства в госпитале Михаил Владимирович Свешников спал у себя в кабинете, на диване, одетый, в залатанных брюках и вязаной фуфайке. Ночь была теплая, но профессор мерз во сне, он сильно похудел и ослаб, у него сводило живот от голода. В последнее время ему перестали сниться сны. Он просто проваливался в глухую черноту. Это было не так уж плохо, ибо раньше каждую ночь снилась ушедшая, нормальная жизнь. Происходила коварная подмена, возникало искушение принять сон за реальность, а от реальности отмахнуться как от случайного ночного кошмара. Многие так и делали. То есть добровольно, целенаправленно, день за днем, ночь за ночью сводили себя с ума. Но не дай Бог. Следовало жить, работать, спасать, когда вокруг убивают, беречь двух своих детей, Таню и Андрюшу, маленького внука Мишу, старушку няню и ждать, что страшное время когда-нибудь кончится.
Михаил Владимирович работал рядовым хирургом все в том же лазарете, только теперь он носил имя не Святого Пантелиимона, а товарища Троцкого и был уже не военным госпиталем, а обычной городской больницей, подчиненной Комиссариату здравоохранения.
Сутки на ногах. Обходы, осмотры, консультации, сложнейшая операция на сердце, которая длилась четыре с половиной часа и вроде бы прошла успешно. При острой нехватке лекарств, хирургических инструментов, опытных фельдшеров и сестер, в грязи и мерзости спасенная жизнь казалась невозможным чудом, счастьем, хотя стоила совсем немного, всего лишь фунт ржаной муки. Красноармеец на базаре ткнул штыком в спину мальчишку-беспризорника. Десятилетний ребенок попытался стащить у него кулек с мукой. Давно уж никого не удивляла такая страшная дешевизна человеческой, детской жизни. Люди умирали сотнями тысяч по всей России.
Михаил Владимирович спал так крепко, что шум и крики за стеной не сразу его разбудили. Он проснулся, когда прозвучали выстрелы.
Светало. На пороге кабинета стояла Таня, держала на руках сонного хмурого Мишу.
– Папа, доброе утро. Лежи, не вставай. Возьми Мишу. У тебя, кажется, было берлинское издание «Психиатрии» Блюера. – Она закрыла дверь, повернула ключ в замке.
– Да. Посмотри в шкафу, где-то на нижних полках.
– Контра! Генеральская рожа! Убью! – донесся вопль из коридора.
– Папа, чернил у тебя случайно не осталось? – спокойно спросила Таня. – Мои все кончились. Надо писать курсовую по клинической психиатрии, а нечем.
– Пиши чернильным карандашом. Возьми там, на столе, в стакане.
За дверью опять грохнули выстрелы. Мишенька вздрогнул, уткнулся лицом деду в грудь и тихо, жалобно заплакал.
– Буржуи! Ненавижу! Довольно попили народной крови! Вычеркиваю! Всех вас, белую кость, к стенке! Кончилось ваше время! Всех вычеркиваю!
– Что там происходит? – спросил Михаил Владимирович, прижимая к себе внука.
– Как будто ты не понимаешь. Комиссар беснуется, – объяснила Таня.
Комиссара по фамилии Шевцов поселили в квартире Михаила Владимировича месяц назад, в порядке уплотнения. Он вместе с гражданской женой, которую звали товарищ Евгения, занял гостиную. Комиссар ходил в длинном кожаном пальто, в казачьих галифе василькового цвета, в лаковых остроносых сапогах. Его обритый череп имел странную, зауженную кверху форму. Щеки и нижняя часть лица были пухлыми, круглыми. Он щурил маленькие тусклые глазки, как будто целился в собеседника из револьвера. По будням вел себя тихо. Рано утром отправлялся на службу. Возвращался поздно вечером, молча, мрачно слонялся по коридору в кальсонах и просаленной матросской тельняшке.
Товарищ Евгения, юная, елейно нежная блондинка, нигде не служила, вставала поздно, заводила граммофон, щеголяла в шелковых пеньюарах, отделанных перьями и пухом. Утром варила на примусе настоящий кофе. Пила из тонкой фарфоровой чашки, жеманно оттопырив мизинец. Долго сидела в кухне, качала голой ногой, курила ароматную папироску в длинном мундштуке, читала одну и ту же книжку, «Капризы страсти», Г. Немиловой. Круглые голубые глаза, блестящие, словно покрытые свежей глазурью, ласково смотрели на Андрюшу, на Михаила Владимировича. Товарищ Евгения задумчиво улыбалась, трепетала подведенными веками, случайно оголяла небольшую грушевидную грудь и тут же с лукавой улыбкой прикрывала: «Ах, пардон».
Андрюше было четырнадцать, Михаилу Владимировичу пятьдесят пять. Из представителей мужского пола, проживающих в квартире, только десятимесячный Миша не удостаивался внимания товарища Евгении.
С Таней в первые дни она пробовала подружиться. Рассказывала, какие видела изумительные вещички на Кузнецком, платьица креп-жоржет, кофточки вязаные. Короткий рукавчик, воротник апаш, шелковый ирис, цвет сырого желтка, давленой клюквы, и с той же воркующей интонацией вдруг спрашивала, не собирается ли профессор Свешников удрать в Париж, хорош ли был Танин муж, белый полковник, в половом отношении.
В первую неделю все казалось не так страшно. Семья профессора отнеслась к подселенцам как к неизбежному, но терпимому злу. Уплотняли всех, подселяли и по пять, и по десять человек, уголовников, наркоманов, сумасшедших, кого угодно. А тут всего лишь двое. Комиссар Шевцов – ответственный работник, товарищ Евгения – эфемерное, безобидное создание.
Однажды в воскресенье ответственный работник напился и стал буянить. Вызвали милиционера, но комиссар чудесным образом протрезвел, показал какие-то мандаты, пошептался с милиционером, и тот удалился, вежливо заметив профессору, что нехорошо беспокоить служителей порядка по таким пустякам.
– У моего Шевцова голос громкий, командный, соответственно должности, – объяснила товарищ Евгения, – он человек прогрессивный, пролетарского самосознания и никаких мещанских скандалов органически терпеть не может.
Впрочем, пил комиссар не чаще раза в неделю, только в выходной, и успокаивался довольно скоро.
– Где Андрюша? Где няня? – спросил Михаил Владимирович.
– Не волнуйся. Они на кухне, дверь успели запереть. – Присев на корточки, Таня спокойно просматривала корешки книг на нижних полках.
– Раньше он не стрелял в квартире, – заметил Михаил Владимирович.
– А теперь стреляет. Но это еще полбеды, папа. Я не хотела тебе говорить, но пару дней назад товарищ Евгения предлагала Андрюше кокаин. Вот, нашла. – Таня вытащила книгу, села за стол.
– Он тебе рассказал? – спросил Михаил Владимирович.
– Нет. Я случайно услышала их разговор. И знаешь, мне показалось, если бы я не зашла в кухню, не увела бы Андрюшу, он бы согласился попробовать, просто из любопытства и детского куража.
Топот, грохот, мат звучали совсем близко, в коридоре. К ним прибавился женский смех.
– Шевцов, ты ведешь себя гадко, перестань скандалить, я этого мещанства органически не выношу. – Голос у товарища Евгении был низкий, томный. Она заливалась хохотом, спектакль явно ей нравился.
– Ну, что касается кокаина, так не они его придумали, – сказал Михаил Владимирович и почесал переносицу. – Андрюша разумный человек. Вряд ли он бы стал пробовать. Тебе показалось. Я поговорю с ним.
– Поговори, – кивнула Таня, глядя в раскрытую книгу, – но дело не только в кокаине. Папа, ты должен наконец решиться.
– На что, Танечка? Ты же знаешь, они меня не выпустят.
– Не выпустят, – прошептала Таня, – не выпустят. Стало быть, надо искать другие варианты. Допустим, ты согласишься сотрудничать с ними, войдешь в доверие, они отправят тебя в командировку за границу. Многие так делают.
– Да, Танечка, возможно, отправят. Тем более тут останутся заложники. Ты, Миша, Андрюша, няня. Куда же я денусь? Вернусь как миленький. Впрочем, если я стану сотрудничать, наша жизнь, безусловно, изменится. Они отселят этих, позволят нам занять всю квартиру, как прежде. Дадут хороший паек. Прекратят ночные спектакли с обысками. Тебе не придется работать в госпитале, ты сможешь спокойно закончить университет. Андрюша перейдет в нормальную школу, где будут учить, а не опролетаривать.
– Папа, таких школ больше нет. Ты же знаешь, школа теперь не учебное заведение, а инструмент коммунистического воспитания. И обыски не прекратятся. У меня муж белый полковник, служит у Деникина.
– Убью! Контра! Гадина белогвардейская! Пролетариям жрать нечего, он крыс зерном кормит! Убью! – не унимался комиссар за стеной.
– Возьми Мишеньку. Посмотри, кажется, он мокрый. Не волнуйся. Запри за мной. – Михаил Владимирович встал и быстро вышел, плотно затворив дверь.
Выстрелы звучали из лаборатории. Комиссар палил по стеклянным ящикам с крысами, обстреливал шкафы. От звона, грохота, крысиного писка закладывало уши. Товарищ Евгения стояла рядом, в распахнутом японском кимоно с драконами, и весело, звонко смеялась.
Шевцов был замечательным стрелком. Он сразу попадал по движущимся мишеням, по мечущимся подопытным зверькам. За шумом ни он, ни его подруга не расслышали, как подошел сзади в мягких старых валенках профессор.
Михаил Владимирович схватил комиссара за запястье правой руки, в которой зажат был револьвер, и успел удивиться, что от Шевцова совсем не пахнет спиртным. Комиссар легко освободил руку, не выронив револьвера. Дуло тут же наметило новую, удобную и близкую цель, профессорский лоб. Товарищ Евгения взвизгнула и отскочила, вжалась в стену.
«Он вовсе не пьян, – подумал профессор. – У него отличные реакции, нечеловеческая сила, его движения точны и безошибочны. Он машина для убийства. Параноидная психопатия. Что-то вроде повальной эпидемии. Сейчас пальнет. Господи, прими мою грешную душу, спаси и помилуй моих детей».
Из кучи осколков на полу вдруг взметнулся белый комок. Большая крыса подпрыгнула, вцепилась острыми коготками в комиссарские кальсоны, стала быстро, ловко карабкаться вверх. Шевцов дернулся, отшвырнул зверька и тут же, на лету, подстрелил.
Все это продолжалось не более минуты. Следующий выстрел предназначался профессору. Раздался щелчок. Комиссар сник, сгорбился, со спокойной досадой прокрутил пустой барабан, вяло выругался.
Повисла тишина. Стало слышно, что опять накрапывает за окном мелкий дождь. В коридоре у двери стояли Таня с Мишенькой на руках, старая няня. Товарищ Евгения сидела в углу на корточках, закрыв лицо руками. Плечи ее вздрагивали. Нельзя было понять, рыдает она или все так же истерически смеется.
Первым опомнился Михаил Владимирович. Оглядевшись, он спросил:
– Где Андрюша?
– Побежал за милицией, – ответила Таня.
Шевцов, ни на кого не глядя, прошел по коридору. Следом, всхлипывая, теряя шлепанцы, поплелась товарищ Евгения. Хлопнула дверь гостиной. Няня взяла Мишеньку и унесла его к себе. Михаил Владимирович поднял с пола белый окровавленный комок, убитую крысу.
– Неужели Григорий Третий? – спросила Таня.
– Он. Рука не поднимается просто выбросить. Может, похороним его, как героя? Ты знаешь, он спас меня, последняя пуля из комиссарского револьвера предназначалась мне.
Таня обняла отца, вжалась лицом в его плечо.
– Папочка, мы уедем, мы сбежим, я не могу больше.
– Тихо, тихо, Танечка, перестань. Я жив, радоваться надо, а ты плачешь.
– Григория жалко, я к нему привыкла. – Таня улыбнулась сквозь слезы. – Старый мудрый крыс, прожил почти три крысиных века.
– И погиб, защитив меня от комиссарской пули.
– Мы положим его в шляпную коробку, зароем во дворе.
Минут через двадцать явились два милиционера. Долго составляли протокол, потом о чем-то беседовали с Шевцовым в гостиной, за закрытой дверью.
– Вы что, не арестуете его? – спросил Андрюша, когда они вышли.
– Истребление крыс уголовным преступлением не является. Наоборот, это дело полезное в санитарном и общественном отношении. Оружие товарищу комиссару разрешено, согласно должности. И мандат имеется. А что касаемо учиненного беспорядка, так товарищ комиссар готов штраф уплатить, как положено.
– Это лабораторные крысы, – сказала Таня.
– Тут, гражданка, полезная жилплощадь, а не лаборатория, – ответил милиционер.
– Он не только по крысам стрелял, но и в меня тоже хотел, – сказал Михаил Владимирович.
– Коли хотел, так и пристрелил бы, – резонно заметил милиционер.
– Конечно, пристрелил бы. Но у него патроны в барабане кончились.
– Кончились, не кончились, а вы, гражданин, вполне живы, никаких ранений у вас не наблюдается.
– Но позвольте! Он психически болен, он опасен, – возмутилась Таня.
– А вот кто тут опасен, это надо разобраться, гражданка Данилова, – произнес мелодичный низкий голос.
Товарищ Евгения стояла в коридоре и смотрела на Таню блестящими глазами.
Милиционеры ушли. Товарищ Евгения скрылась в гостиной. Таня, Михаил Владимирович и Андрюша молча выметали осколки и крысиные тушки, приводили в порядок лабораторию. Няня в кухне стряпала скудный завтрак. Несколько ведер с мусором вынесли во двор, на свалку. Григория Третьего похоронили внутри оградки, там, где прежде была клумба и росли анютины глазки. Дождь кончился. Клочья облаков мчались по небу. Таня стояла над холмиком, влажный холодный ветер трепал ей волосы.
– Ничего не осталось? – тихо спросила она отца, когда вернулись в квартиру, сели за стол.
Михаил Владимирович молча помотал головой.
– Папа, так невозможно! – вдруг крикнул Андрюша. – Должна быть какая-то управа на этих скотов! Так не бывает, папа!
– Не кричи, – Михаил Владимирович погладил его по голове. – Бывает по-всякому, Андрюша, и ты уже достаточно взрослый, чтобы это понимать.
– Но мы не можем, как кролики, терпеть!
– Успокойся, ешь, остынет. – Таня подвинула ему тарелку с ячменной кашей.
Няня заваривала желудевый кофе, просыпала из кулька на пол.
– Ой, я бестолковая, да что ж это, руки мои старые, дырявые!
Она заплакала. Все утро мужественно держалась, а из-за паршивого кофейного заменителя – слезы. Михаил Владимирович принялся ее утешать и вдруг застыл, замолчал на полуслове. В руках у него был мятый лист толстой цветной бумаги. Кулек из-под кофе оказался репродукцией, выдранной из какого-то дорогого альбома. Профессор шагнул к окну, ближе к свету, несколько минут разглядывал репродукцию странной незнакомой картины. Казалось, он забыл обо всем на свете. Губы его едва заметно шевелились, глаза сияли.
– Папа, ты что? – спросила Таня слегка испуганно.
– Альфред Плут, – пробормотал Михаил Владимирович, – Германия, шестнадцатый век. Микроскоп был изобретен только через сто лет. Как он мог увидеть?
Германия, поезд Гамбург – Мюнхен, 2007
Поезд нырнул в туннель. Свет в вагоне вспыхнул не сразу. Именно этого мгновенного мрака Соне хватило, чтобы понять наконец, кого так мучительно напоминает ей мужчина напротив.
Незнакомец резко выделялся на фоне пассажиров первого класса. Ему было на вид лет пятьдесят. Он жевал жвачку. В его наушниках пульсировал тяжелый рок. Он выглядел как бездомный бродяга, нелепо молодящийся старый хиппи. Ископаемое, живущее в консервной банке среди отбросов. Впрочем, пахло от него вполне сносно, дорогим одеколоном. Длинные, жидкие, с заметной проседью волосы были чистыми, ногти ухоженными, на запястье вовсе не дешевые часы.
«Рок-музыкант или художник-авангардист. Это у него стиль такой», – подумала Соня и отвернулась.
Рядом с ней два аккуратных клерка оживленно болтали о какой-то новой диете, о страховках и автомобильных двигателях. Они сели в Гамбурге, достали свои ноутбуки, включили, но так и не взглянули на экраны. Соню слегка раздражала их болтовня, громкий смех. У нее на коленях лежал раскрытый каталог старой мюнхенской Пинакотеки. Она пыталась сосредоточиться на биографии немецкого художника Альфреда Плута. Он жил в шестнадцатом веке, оставил не более дюжины полотен. Самая известная его работа – «Misterium tremendum». Именно ради этой картины, ради «тайны, повергающей в трепет», Соня ехала в Мюнхен.
Дед не хотел ее отпускать. Вот уж третью неделю она жила в его доме в маленьком тишайшем Зюльте. Каждое утро ее будила музыка из его кабинета, звон посуды, ворчание экономки Герды, шум моря, гул самолетов. После завтрака дед провожал ее на работу, целовал в лоб и быстро крестил, почему-то лицо его при этом всегда делалось сердитым. Вечером он ждал ее, сидя в шезлонге, на границе пляжа, неподалеку от белого трехэтажного здания с плоской крышей, филиала немецкой фармацевтической фирмы «Генцлер». Пройдя полсотни метров по холодному чистому песку, Соня различала в сумерках яркую спортивную шапку с помпонами. Издали, особенно в профиль, дед был так похож на папу, что у Сони всякий раз вздрагивало сердце, першило в горле.
Туннель кончился. В глаза брызнуло ледяное солнце. Соня отвернулась от окна и встретила хмурый взгляд незнакомца. У него были тяжелые выпуклые скулы, квадратная челюсть, широкий тонкогубый рот. Плоский, скошенный назад лоб плавно переходил в залысины. Лохматые брови цвета мешковины расположены так низко, что казалось, отдельные толстые и длинные волоски царапают глазные яблоки. Нога, обутая в изношенный ботинок сорок пятого размера, дергалась в такт музыке.
Соня опять уткнулась в каталог. Автопортрет Альфреда Плута занимал целую страницу. Художник изобразил себя с беспощадной фотографической точностью, тщательно прорисовал каждую черточку и даже волоски бровей, падающие на глаза.
«Альфред Плут родился в 1547 году в Гамбурге, в семье аптекаря».
Соня в десятый раз начинала читать краткую биографию художника и не могла осилить нескольких простых абзацев. Ее немецкий был в полном порядке. Она понимала каждое слово. Но слишком оживленно болтали клерки, слишком громко пульсировал тяжелый рок из наушников визави, который был похож на Альфреда Плута как брат-близнец.
«Портрет не фотография, – думала Соня, – тем более автопортрет. Люди видят себя и других совершенно по-разному. Даже фотографии врут. Свет, тень, ракурс, все так случайно, так недостоверно».
Она взглянула на человека в наушниках, надеясь, что иллюзия фантастического сходства наконец развеется. Человеческих типов не так уж много. Плут был немец. Почему этот стареющий потребитель жвачки и тяжелого рока не может быть его далеким потомком?
«Ведь ты же точно знаешь, что это не Альфред Плут? – спросила себя Соня и почувствовала, как губы ее сами собой вздрогнули в дикой усмешке. – Ты разумный, образованный человек, кандидат биологических наук. Вряд ли ты успела свихнуться. Хотя, конечно, было от чего».
Три дня назад, поздним вечером, с одной из подопытных крыс случилось нечто невероятное. Зверек заметался по клетке, стал прыгать, высоко, как дикая белка, и вдруг вылетел наружу, шлепнулся на кафельный пол, вскочил, побежал, пустое тихое здание наполнилось пронзительным, мучительным писком.
Все ушли, Соня осталась одна в лаборатории. Минут десять она гонялась за зверьком, наконец поймала, запеленала в полотенце, положила в лоток. Пока она надевала халат, натягивала перчатки, несчастная крыса продолжала беситься, биться всем телом о стеклянные стенки. Чтобы не слышать страшного стука и писка, Соня включила музыку. Крыса на минуту успокоилась и вдруг задергалась в конвульсиях.
Если бы кто-то заглянул тем вечером в лабораторию, то поразился бы спокойствию Сони, четкости и продуманности каждого ее действия. Одна, без ассистента, она дала бьющемуся в смертельном танце зверьку наркоз, ловко вскрыла черепную коробку, извлекла из центра мозга крошечную шишковидную железу, включила и настроила электронный микроскоп.
На самом деле она жутко нервничала. «Болеро» Равеля, звучавшее из стереосистемы, заводило ее еще больше. Ей сотни раз приходилось проделывать разные манипуляции с подопытными животными, для постороннего человека неприятные, жутковатые, но ведь она занималась наукой, и для нее все это давно стало привычкой, рутиной. Однако тем вечером в лаборатории, на берегу ледяного моря, которое гудело и билось во мраке за окном, у Сони вдруг возникло новое, острое чувство. Ей показалось, что это вовсе не научный эксперимент, а древний ритуал и она, Лукьянова Софья Дмитриевна, выступает в роли жрицы, колдуньи, алхимика, занимается непонятной и опасной чертовщиной. Ничего хорошего из этого не выйдет. Но остановиться уже невозможно.
Она выпила залпом стакан воды, закурила, села за стол у монитора. И вот тут увидела самое главное: как оживают таинственные твари, проспавшие в своих капсулах-цистах почти девяносто лет.
Сначала ей показалось, что кто-то из коллег немцев пошутил, загнал в ее компьютер некую хитрую программу, игру или мультик-ужастик. Но нет, изображение проецировалось на монитор прямо от микроскопа. Все происходило на самом деле. Рядом, на столе, лежали распечатки записей Михаила Владимировича Свешникова и каталог старой мюнхенской Пинакотеки, раскрытый на репродукции «Misterium tremendum».
Имя художника и название картины несколько раз упоминались на страницах старой толстой тетради в лиловом замшевом переплете. Через Интернет Соня узнала, что картина хранится в мюнхенской Пинакотеке, купила каталог в книжном магазине фрау Барбары и нашла отличную репродукцию.
Военный хирург, профессор Свешников, вел свои записи с января 1916-го по март 1919-го. Это был дневник научных наблюдений. Описание экспериментальных операций по пересадке крысиных эпифизов, неожиданный эффект омоложения, возникший у некоторых подопытных животных, и осторожное предположение, что эффект этот связан с воздействием на весь организм неизвестного мозгового паразита, который случайно оказался в шишковидной железе крысы-донора.
Скоро профессор понял, что сложная операция на мозге не нужна. При внутривенном вливании паразит сам находит путь по кровотоку к нужному органу, к эпифизу.
Это могло бы стать величайшим открытием века, если бы удалось понять механизм воздействия мозгового червя и проследить закономерность положительного эффекта. Почему одних зверьков паразит омолаживал, а других убивал? Что за вещества выделял он и как умудрялся полностью перестроить работу всех систем организма?
Но Михаил Владимирович Свешников как будто даже и не пытался найти ответ, воспринимал удивительные результаты опытов отстраненно, почти равнодушно. Все, что касалось практической, медицинской стороны дела, было описано сухо, четко. Профессор только констатировал факты.
Иногда встречались цитаты, то с именем источника, то анонимные. Возможно, именно через них профессор пытался выразить нечто важное, они были частью его зашифрованного личного дневника.
«Субстанция зла имеет свою собственную безобразную и бесформенную массу, либо плотную, которую называют землей, либо слабую и разреженную, подобно воздуху».
«Посему научись, о Душа, обращать сопереживающую любовь к своему собственному телу, сдерживая его суетные желания, дабы оно могло во всех отношениях отвечать своему назначению вместе с тобой».
«Ибо тогда последний враг – смерть будет побеждена, и вся слабость плоти, заставлявшая нас сопротивляться, исчезнет полностью».
Бл. Августин.
«Язычество и безбожие страшно именно этой вечной иллюзией торга, соблазном кинуть в пасть смерти жертву, вместо своей – чужую жизнь, и откупиться. По крайней мере, двадцать восемь веков, до Христа, было именно так. После Него могло стать по-другому, Он дал шанс, однако вот уж двадцать веков не получается. Торг очень уж удобен».
«Наука может шагнуть невероятно далеко, но почему-то не вверх, к Богу, а всегда наоборот, вниз. Она берет на себя воспитательные и утешительные функции, придумывает ясные и доступные формулировки, прикрывает пугающую непознаваемую бесконечность матовым стеклом. Получается нечто вроде интеллектуальной теплицы. Мы все нежные тепличные растения, под открытым небом погибнем».
Попадались непонятные аббревиатуры, отдельные буквы, без всякой видимой связи с текстом – В. Ш., К., Ж. С.
Судя по записям, за пределы опытов с крысами работа не продвинулась. Несколько листов были вырваны. В марте 1919 профессор крупно, неверной рукой, записал:
«Идеальное есть материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней». К. Маркс. Нечто вроде трансплантации, что ли? Оригинально мыслит этот господин».
Тетрадь закончилась. Дальше начинались мифы. Их бродило множество, и вряд ли стоило принимать их всерьез.
Существовала легенда, будто одно вливание было сделано мальчику-сироте, страдавшему прогерией, редчайшим заболеванием, при котором ребенок стремительно стареет и погибает в одиннадцать – тринадцать лет от старческих болезней. Откуда берется прогерия и как ее лечить, неизвестно до сих пор. Свешников якобы решился на вливание, когда надежды не осталось. Мальчика звали Ося. Он выжил и вернулся к своему нормальному биологическому возрасту. Что с ним стало потом, куда он делся, не знал никто. В лиловой тетради об Осе не было написано ни слова, и это только подтверждало, что история чудесного излечения прогерии – всего лишь газетная утка.
Впрочем, не исключено, что Свешников нарочно утаил правду о мальчике, чтобы дальнейшая жизнь ребенка не превратилась в кошмар, чтобы не пришлось Осе оказаться в роли живого наглядного пособия.
Михаил Владимирович не упоминал никого, кто был с ним рядом. Даже имя его ассистента, доктора Агапкина, ни разу не мелькнуло в записях. Казалось, профессор писал с оглядкой, как будто чувствовал, что люди, так или иначе причастные к его опытам, к тайне, которую он нащупал, попадают в зону риска.
Мог ли предположить профессор, что через девяносто лет лиловая тетрадь вместе с цистами паразита окажется в руках его родной праправнучки, кандидата биологических наук Лукьяновой Софьи Дмитриевны?
Соня сидела и смотрела на монитор. Лопались цисты. Медленно выползали белесые твари. У них были округлые крупные головы. Приплюснутая передняя часть отчетливо напоминала лицо, вернее безобразную безносую маску. Две глубокие темные ямки – глаза. Горизонтальный подвижный нарост – губы.
Девяносто лет назад Михаил Владимирович наблюдал такой же ритуальный танец оживших тварей, балет «спящих красавиц». Они плавно извивались, вставали вертикально на хвосты, сплетались, расплетались. Он подробно описал это в своей тетради.
У него не было компьютера и такого мощного электронного микроскопа, как у его праправнучки. Он не мог видеть, что ямы-глаза смотрят, губы жуют, растягиваются в чудовищной медленной улыбке, твари не только танцуют, но еще и гримасничают.
На картине немецкого художника Альфреда Плута «Misterium tremendum» на переднем плане, на фоне какого-то условного грота, была изображена человеческая голова. Верхняя половина черепа представляла собой прозрачный, как бы стеклянный купол, и там, внутри, происходил тот же процесс. Твари были изображены так же подробно, как видела их Соня на своем мониторе. Картина была написана в 1573 году, за сто лет до изобретения микроскопа.
Альфред Плут не стал великим художником, хотя знатоки до сих пор утверждают, что мог бы. По уровню мастерства его сравнивают с Дюрером, а по загадочности сюжетов – с Босхом. Живопись была для него лишь забавой. Он много странствовал по Европе и по Азии, бывал в Египте, каким-то ветром его однажды занесло в Россию. В одном из персонажей его полотен угадывался царь Иван Грозный. Известно, что около года Плут прожил в Москве, служил придворным лекарем, а заодно давал сумасшедшему царю уроки черной и белой магии.
Плут имел неплохую медицинскую практику, написал несколько трудов по анатомии мозга, работал над созданием анатомического атласа. Но главной его страстью была алхимия. Он не имел ни жены, ни детей, жил скромно, однако тратил большие деньги на путешествия и на взятки чиновникам Святой инквизиции. По всей Германии ходили слухи о золоте Плута. Умер он в ноябре 1600 года у себя дома, в Гамбурге, в возрасте пятидесяти трех лет, не оставив наследников. Золотых монет, обнаруженных в его кошельке, как раз хватило на приличные похороны. Грабители вскрыли могилу, искали золото, но не нашли ничего. Вместо тела художника в гробу лежало бревно, одетое в его платье.
«Скажите, господин Плут, каким образом вам удалось разглядеть и нарисовать микроскопических мозговых паразитов за сто лет до появления микроскопа?»
Вопрос щекотал Соне губы, она, кажется, даже пробормотала его вслух, по-русски. В плеере у старого хиппи в этот момент как раз затихла музыка. Он хмуро взглянул на Соню, встал и вышел из купе.
Глава вторая
Москва, 1918
«Плюнь, да поцелуй злодею ручку», – то и дело повторял про себя Федор Федорович Агапкин. Так шепнул на ухо юному Гриневу его дядька Савельич. Так сказал Агапкину его покровитель Матвей Леонидович Белкин, мастер стула международной ложи «Нарцисс».
Цитируя Пушкина, умный Белкин как будто заручался поддержкой великого поэта и пытался придать сделке более или менее осмысленный вид.
– Надобно держаться вблизи денежных потоков, от них веет живительной свежестью, – говорил Мастер уже от себя, никого не цитируя, – теперь эти потоки смешаны с кровью, текут стремительно, и зевать нельзя.
Сам Мастер перебрался из Москвы в Петроград еще в декабре 1917-го. Получил должность в Комиссариате финансов. Семью отправил в Швейцарию. Агапкин знал, что покинуть Россию Мастер может только по разрешению Высшего совета ложи, но после переворота все пошло кувырком, и никто ни в чем не был уверен. Мастер вполне мог сбежать и без разрешения.
Несколько месяцев Федор не имел о нем никаких известий, продолжал работать в лазарете и жить в квартире профессора Свешникова.
Агапкин был ассистентом профессора и почти членом семьи. Он давно уже не мыслил себя без них, без Михаила Владимировича, Тани, Андрюши, маленького Мишеньки и старой няни. Собственной семьи он никогда не имел.
Федор вырос в нищете, грязи и грубости. Его мать, прачка, умерла от перепоя. Ему удалось закончить с отличием гимназию и университет. Михаил Владимирович читал на медицинском факультете лекции по военной хирургии, вел практические занятия, и из толпы студентов выделил Федора, с его голодными жаркими глазами, недюжинными способностями, лютым упорством. Студент Агапкин нищенствовал, подрабатывал частными уроками, не спал, не доедал, ходил в обносках.
С тех пор прошло лишь несколько лет, а казалось, что прожит не один век. Война, Февральская революция, Октябрьский переворот. На руках у Агапкина умер от чахотки старший сын профессора Володя и родился внук Миша. Именно Федору пришлось принять роды у Тани 29 октября 1917-го. В Москве шли бои. Муж Тани, полковник Данилов, командовал отрядом юнкеров и добровольцев, пытался отбить от Кремля атаки большевиков.
Агапкин был неизлечимо влюблен в Таню. Данилов воевал в Добровольческой армии. Федор постоянно был рядом с Таней и надеялся на чудо.
С августа 1917-го Агапкин состоял в международной масонской ложе «Нарцисс», прошел посвящение и получил орденское имя – Дисипль, в переводе с французского «последователь». Впрочем, что такое масонство вообще и ложа «Нарцисс» в частности, Федор не понимал до сих пор.
Больше всего на свете он боялся одиночества. Ему надо было непременно к кому-то привязаться, прибиться. В семье профессора к нему относились как к близкому родственнику, но все равно он чувствовал себя немного чужим, страшно устал от своей безответной любви, не мог от нее избавиться и тосковал еще мучительней оттого, что не с кем было поделиться своей бедой.
Мастер стула Матвей Леонидович Белкин оказался отзывчивым человеком, он умел слушать, утешать, вселять надежду. Федор знал, что ложе он интересен как промежуточное звено. Доктор Агапкин – только средство. Цель – профессор Свешников, таинственное открытие, к которому они хотят подобраться, но понимают, что напрямую не выйдет.
Если раньше Федор был рядом с профессором по собственному желанию, то после вступления в ложу это стало его обязанностью, миссией.
Федор втайне надеялся, что Матвей Леонидович исчез навсегда и теперь он свободен. Да, свободен, однако совершенно беззащитен. Мастер имел колоссальные связи. Он мог бы спасти самого Федора и семью профессора от голода, от ареста. Другое дело – какой ценой? Впрочем, голод и страх становились все сильней, а вопрос цены таял, растворялся в убогих советских буднях.
В апреле появился один из братьев ложи, белокурый молодой человек Гайд. До исчезновения Мастера этот Гайд выполнял при нем функции то ли секретаря, то ли слуги. Федор думал, что Гайд (охранник) – условное имя, данное при посвящении, но оказалось, это настоящая фамилия молодого человека.
Гайд встретил Федора возле госпиталя и привел его в гостиницу «Метрополь». Там, в просторном номере с видом на Манежную площадь Белкин сначала отправил Федора в ванную комнату, велел вымыться, побриться, переодеться.
Из крана лилась горячая вода. Душистое французское мыло, бритвенный прибор, мягкие белоснежные полотенца показались Агапкину галлюцинацией. На скамеечке лежала стопка белья и одежды, все новое, добротное, точно подобранное по размеру.
Когда он вышел, чистый, пахнущий одеколоном, Мастер оглядел его с одобрительной улыбкой.
– Это еще не все, Дисипль. Откройте шкаф. Откройте, не стесняйтесь.
Черная кожанка ничем не отличалась от тех, что носили комиссары и чекисты. На ощупь кожа оказалась мягчайшей, приятно было сунуть руки в рукава и увидеть себя в зеркале.
– Вы, Дисипль, с завтрашнего дня заступаете на службу в ЧК, – спокойно сообщил Мастер, – в большевистскую партию вступать необязательно, это мелочи. Через час сюда явится человек, которому вы можете доверять почти как мне.
Это «почти» прозвучало тускло и невыразительно. Далее Мастер стал подробно расспрашивать о профессоре Свешникове. Федор объяснил, что сейчас здесь никакими научными исследованиями заниматься невозможно. Чтобы прокормить семью, Михаил Владимирович работает в госпитале сутками, к тому же на него давит постоянный страх. Таню, как жену белого офицера, в любой момент могут арестовать. А для опытов нужен душевный покой.
– Но ведь не арестовывают, – мягко заметил Мастер, и глаза его блеснули. – Татьяна Михайловна спокойно учится, работает, растит сына.
Взгляд и тон Мастера не оставляли сомнений, что в этом есть его, Белкина, заслуга. Федор понял: Матвей Леонидович успел приобрести в новом правительстве достаточно сильное влияние и связи, и все-таки быстро, чуть слышно пробормотал:
– Лучше бы уехать за границу. Здесь невозможно. Михаил Владимирович им служить ни за что не станет. Мы бы сбежали, но ребенок слишком мал, а в поездах тиф, холера, грабежи, документы на выезд стоят страшно дорого. – Он прикусил язык и густо, жарко покраснел.
Мастер ласково тронул его за плечо.
– Дисипль, ваше постоянство достойно рыцарского романа. Вы сказали «мы», как будто речь идет о вашей семье, о жене и ребенке. Неужели до сих пор ни тени взаимности?
– Не знаю. Она ко мне привязана сильно, однако, если я пойду служить в ЧК, станет презирать. Для нее и для профессора эта организация – воплощение зла.
– А для вас?
– Не знаю. Наверное, для меня тоже. Почему я должен там служить?
– Потому, что сейчас это единственный способ уцелеть, сохранить собственную жизнь и жизни дорогих вам людей. Дисипль, у вас нет выбора. Я дал вам выговориться, теперь успокойтесь и слушайте.
Они вышли на балкон, закурили, и Мастер стал говорить очень тихо.
– Для большевиков успешный захват власти стал полной неожиданностью. Они растерялись, ошалели, управлять государством никто из них не умеет, и они занимаются своим привычным делом – грабежом. От банальной банды они отличаются лишь тем, что выдают грабеж за особую форму управления государством. Они отнимают деньги у богатых и обещают отдать бедным. Бедные верят обещаниям.
– Но это не может продолжаться долго. Бедные поймут, что обмануты, – прошептал Агапкин.
– Не поймут, – слабо улыбнулся Мастер, – никогда ничего они не поймут. Миф удобен для мозгового пищеварения. Он логичен. В нем заранее выстроены все причинно-следственные связи. А правда почти всегда несъедобна, может вызвать заворот мозгов. Ленин виртуозно владеет искусством создавать мифы и манипулировать ими. Он феноменально хитер, у него острое чутье. Вам придется искренне полюбить его, иначе он вам не поверит.
– Так это он сейчас сюда явится? – с кривой улыбкой спросил Агапкин. – Сам Ленин, что ли?
Мастер весело рассмеялся.
– У меня, конечно, серьезные связи, но не настолько. Нет, Дисипль. Сам Ленин сюда не явится. Но вам с ним предстоит иметь дело. Человек, с которым я вас познакомлю, тайный советник Ленина, его доверенное лицо.
Федор только сейчас заметил, как Мастер похудел, помолодел. На осунувшемся лице глаза казались крупней и выразительней.
Гайд ушел и вернулся с двумя кульками. На низком журнальном столике появился настоящий ситный хлеб, сливочное масло, твердый швейцарский сыр. Гайд нарезал его тонкими ломтиками.
– Не спешите, – предупредил Мастер, – вижу, как вы голодны. Разговор предстоит важный, и если у вас разболится живот, это будет совсем некстати.
В дверь постучали. У Федора вспотели ладони. Но вошел всего лишь лакей с чистыми чашками и горячим кофейником на подносе. Как только он удалился, дверь открылась опять. На пороге стоял высокий, очень худой господин. Именно господин, потому что «гражданином» или «товарищем» его никак нельзя было назвать. Слишком тонкое, точеное, очевидно дворянское лицо. Большие черные глаза смотрели внимательно и приветливо. Ни тени безумия, фанатизма, жестокости, разве что следы хронического недосыпания. Тонкая шея и оттопыренные круглые уши придавали ему нечто детское, мальчишеское и делали еще обаятельней.
– Бокий Глеб Иванович, – представился он.
Бокий руки не подал. Он никогда никому не подавал руки, избегал прикосновений. Впрочем, с Белкиным они обнялись и расцеловались, как старинные друзья. Сели за стол и заговорили о пустяках. Бокий называл Мастера «Мотя», тот обращался к нему «Глебушка».
Глеб Иванович был заместителем председателя Петроградского ЧК, Урицкого. В Москву приехал на два дня, остановился здесь же, в «Метрополе». Из разговора Федор понял, что Бокий привез целый список, намерен просить Ленина отпустить за границу известных людей, в том числе нескольких великих князей. Мастер просматривал список, качал головой, комментировал каждую фамилию.
– Из Романовых никого. Лучше не заикайся, – сказал он с тихим вздохом, – тут у Ильича пунктик.
Со стороны казалось, что два добрых, благородных человека пытаются спасти обреченных на верную гибель совершенно бескорыстно, из одного только сострадания. Федор вначале так и подумал, сердце его радостно стукнуло.
Агапкин сидел чистый, сытый, пил настоящий кофе с настоящим сахаром, мазал маслом кусок ситной булки, клал сверху швейцарский сыр с дырками, видел перед собой хорошие, умные лица, живые глаза и готов был заплакать от счастья. Вот, оказывается, как обернулось. Не подлостью и мерзостью предстоит ему заниматься под руководством Глеба Ивановича, а выполнять тайную благородную миссию, внедряться в ряды злодеев, спасать от кровавого кошмара сначала отдельных людей, а потом – кто знает? – Россию, или даже весь мир!
– Сколько вам лет, Федор? – внезапно спросил Бокий.
– Двадцать восемь.
– Отличный возраст. Но, честно говоря, мне показалось, вам не больше двадцати. На вид вы совсем мальчик. Есть у вас семья?
– Нет.
– Семью профессора Свешникова своей не считаете? – вопрос прозвучал быстро и тихо, как далекий одиночный выстрел.
Агапкин притворился, что не услышал. Он не знал, как лучше ответить. Впрочем, отвечать и не пришлось. Бокий несколько секунд просто смотрел ему в глаза. Федору показалось, что этот худой человек в словах не нуждается, умеет читать мысли.
Позже Мастер рассказал, что Бокий до 1917-го двенадцать раз сидел в тюрьме, много времени провел в одиночке. У него туберкулез. В РСДРП он с 1900-го, с двадцати одного года. Учился в Горном институте в Петербурге, участвовал в студенческой демонстрации, и его сильно побили в полиции. Батюшка его покойный был действительный статский советник. Скончался как раз тогда, в 1900-м, после ареста Глеба, от сердечного приступа. Мальчик решил, что в смерти батюшки виновны царские сатрапы, и стал революционером. Близко дружит с Горьким, приятельствует с Шаляпиным. Ильича боготворит.
– Иногда мне кажется, он любит вождя больше, чем свою дочь Леночку. Впрочем, понять Глеба Ивановича не может никто, даже я. – Мастер хмыкнул иронически. – Мальчик из хорошей семьи, дворянин. Для фанатика он слишком умен и мягок. Для нормального человека – слишком азартен и фанатичен. Он игрок. Революционная борьба его пьянит, возбуждает. Никакого смысла, никакой пользы – только острое, яркое удовольствие, разумеется, со смертельным исходом.
Федор слушал и не понимал, зачем Мастер, такой трезвый, разумный человек, ввязался в безумную, опаснейшую авантюру под названием советская власть? Почему не уехал за границу? У него достаточно влияния в Высшем совете ложи, чтобы добиться разрешения.
– Ленин, Бокий, – пробормотал он чуть слышно, стараясь не смотреть на Мастера, – чудесная компания.
– Дисипль, вам страшно?
– А вам?
– Разумеется. Но я уже сказал: у нас нет других вариантов. Я сумел вывезти семью в Швейцарию. Однако поручиться за их безопасность все равно не могу. Видите ли, я слишком глубоко влез в финансовые тайны банды.
– Я в эти тайны не влезал и не хочу, не собираюсь!
– Да, но вы, Дисипль, единственный человек, через которого можно подобраться к профессору Свешникову. Мне едва удалось убедить их не трогать Таню. Она – потенциальная заложница. Данилов воюет у белых, и формально ее давно пора забрать в ЧК как жену злейшего врага революции. Я сумел объяснить, что насилием и страхом они ничего от профессора не добьются. Но терпение их небезгранично.
– В чем будут заключаться мои обязанности? – мрачно спросил Агапкин.
Некоторое время Мастер молчал, сидел, закрыв глаза, и массировал себе виски. Господин Бокий давно удалился, так ничего и не объяснив. Наверное, он просто хотел взглянуть на Федора, просветить его насквозь своим гипнотическим взглядом. Это были смотрины. И прошли они вполне успешно. Ознакомить Федора с деталями предстоящей службы должен был Белкин.
Когда Матвей Леонидович заговорил, слова его показались Федору весьма туманными. Получалось, что Агапкину предстоит стать при Ленине чем-то вроде теневого адъютанта или няньки с высшим медицинским образованием. Вождь в конфиденциальном разговоре с Бокием просил, чтобы тот дал ему своего «человечка», молодого, интеллигентного, честного, без революционно-каторжного стажа, и никак не большевика. Пусть он будет врач, но чтобы никто не догадывался об этом.
– У Ильича полно секретарей, при нем есть служба охраны, множество врачей всегда к его услугам, но все его раздражают, он почти никому не доверяет.
– Почему вы думаете, что он станет доверять мне, чужому человеку? – тихо спросил Агапкин.
– Дисипль, – Белкин лукаво улыбнулся, – вы не чужой, вас рекомендует Глеб Иванович.
– Но он тоже меня не знает.
– Зато я вас хорошо знаю. Знаю и ручаюсь за вас.
– Как же моя основная миссия – быть рядом с Михаилом Владимировичем, продолжать вместе с ним опыты, охранять, защищать?
– Охранить и защитить профессора вы сумеете только там, куда я вас направил. Такое время, Дисипль. Ничего не поделаешь. У нас нет выбора. А опыты будут продолжены позже, когда жизнь немного наладится.
Мюнхен, 2007
Соня бродила по старой Пинакотеке и никак не могла дойти до зала немецкой живописи, отыскать Альфреда Плута. В зале ранних голландцев она надолго застряла возле фрагмента «Судного дня».
Это был единственный подлинник Босха, представленный в Пинакотеке. Странная картина, даже для такого загадочного художника. На черном фоне множество фигурок обнаженных людей, которых мучают и пожирают фантастические твари. Существо с туловищем жабы и головой кошки кого-то уже слопало, из зубастой пасти торчат тонкие и длинные, как у современной модели, ножки. Ящерица с клювом цапли и крыльями бабочки набросилась на распростертое мужское тело, клюет тощие ягодицы. Чудище с человечьим торсом, покрытым рыбьей чешуей, с павлиньим хвостом и головой ощипанной курицы тащит на спине, вверх ногами, за щиколотки молодую стройную женщину. Парочку преследует вскачь, на кривых стариковских ногах, гигантская муха, тянет к бедной женщине лягушачьи перепончатые лапки. Рядом застыло вполне безобидное существо. Голова в кружевном чепце, лицо доброй испуганной старушки. Голубая накидка накрывает горбатый короткий обрубок туловища, а из-под накидки торчат четыре большие старческие ступни и сорочий хвост.
Приятный женский голос в наушниках рассказывал, что на фрагменте изображено воскрешение из мертвых. Сама картина бесследно исчезла.
Небольшой кусок холста в красивой раме темного дерева гипнотизировал, не отпускал. Голос в наушниках грустно сообщил, что творчество Босха воспринималось большинством современников как злое шутовство, его называли почетным профессором кошмаров, многие считали, что он рисовал извращенные карикатуры. Потом пришло забвение, и только двадцатый век с его фрейдизмом и сюрреализмом вспомнил странного средневекового фантазера. У Босха учился великий Сальвадор Дали. Психоаналитики увлеченно толковали его образы в своем подсознательном русле. Искусствоведы объявили, что понять, в чем смысл его творений, невозможно.
Соня подошла совсем близко, долго разглядывала каждую деталь. Радиоголос поведал о картине все, что мог, и затих, ожидая следующего нажатия кнопки.
«Он писал это в пятнадцатом веке, – думала Соня, – тогда еще не было попыток пересаживать стареющим мужчинам половые железы животных, скрещивать человека с обезьяной, приживлять человеческое ухо к спинному мозгу мыши, выращивать в пробирке отдельные органы и целых существ из стволовых клеток. Пятьсот пятьдесят лет назад Босх изображал с фотографической точностью и тончайшими анатомическими подробностями то, к чему вплотную подошла сегодняшняя наука. Генная инженерия, новейшие биотехнологии. Чтобы так рисовать, надо видеть. Неужели дело только в богатой фантазии, в ночных кошмарах, в страхе перед неведомой адской бездной? Очень уж конкретны и подробны эти страхи».
Соня зажмурилась, тряхнула головой. Стоит ли вообще думать об этом, задавать себе вопросы, на которые нет ответов? Она отправилась в следующий зал, к немцам, и сразу встретила печальный, ласковый взгляд Дюрера.
Он был красавец, и отлично знал это. Он писал автопортрет, глядя в зеркало. Конечно, не на зрителя, а на себя самого он смотрел этим чудесным, глубоким взглядом. Он изучал свое лицо, любовался им и заранее грустил о своей красоте, предвидел старость и смерть. Он изобразил себя так, как до него писали только Христа, лицо полностью, анфас, на черном гладком фоне, украшенном лишь мелкой латинской надписью: «Я, Альбрехт Дюрер, 28 лет от роду, написал нетленными чернилами свой портрет».
У него были светло-карие прозрачные глаза, маленький, пухлый, чувственный рот, холеные пепельно-русые локоны до плеч. Рядом с ним Альфред Плут выглядел убогим уродом.
Плут изобразил себя, явно подражая Дюреру. Та же простая композиция, тот же черный фон, прямой ракурс, даже размер полотна точно как у Дюрера. Но черты грубы, безобразны. Волосы жидкие, цвета мешковины. Маленькие желтоватые глаза холодно блестят из-под косматых бровей.
Автопортреты были расположены один против другого, через зал. Они висели здесь двести лет и смотрели друг на друга, как будто вели бесконечный, беззвучный диалог. Соня оказалась в центре зала, в точке пересечения этих взглядов, и, сравнивая два лица, вдруг подумала, что Плут бросает вызов Дюреру. «Ты был хорош, но тебя уже нет. Я уродлив, но я жив и люблю себя не меньше, чем ты». Вызов подтверждала одна странная деталь.
Дюрер придерживал правой рукой лацкан мехового воротника. Тонкие сильные пальцы зарылись в мягкий мех. Рука Плута была нарисована почти так же, но держала странный предмет, человеческий череп, не настоящий, костяной, а сделанный из какого-то прозрачного материала, стекла или хрусталя. Череп светился изнутри. Источник света не был виден.
Плут создал автопортрет, когда Дюрер давно уже умер. Возможно, в схожести двух картин не было никакого вызова, никакой насмешки, просто так совпало. Художники изобразили себя на холстах одинакового размера, в одинаковых позах и ракурсах. Голос радиогида в наушниках не сообщил ничего о связи двух автопортретов. Прозрачный череп был назван очередной аллегорией, череп всегда символизировал неизбежность смерти. Прозрачность, по мнению некоторых искусствоведов, олицетворяла мечту Плута проникнуть в тайны человеческого мозга.
Соня почувствовала легкое головокружение и усталость. Она уже была в двух шагах от «Misterium tremendum», но прежде, чем уйти от автопортрета, прочитала латинскую надпись: «Я, Альфред Плут, 30 лет от роду, написал нетленными чернилами свой портрет».
– Плут был известен главным образом как врач и алхимик, – сообщил радиогид, – многие годы он изучал анатомию человека. Более всего его интересовало строение мозга. Картина «Misterium tremendum» написана после путешествия по азиатским странам. Плут задумал создать анатомический атлас. Сохранилось несколько эскизов. Мозг человека в продольном и поперечном разрезах. Одна из зарисовок вдохновила Плута на создание картины-аллегории. Мозг, порождающий дурные, грешные помыслы. Они изображены художником в виде фантастических змееподобных тварей с уродливыми человеческими лицами.
Соня тяжело опустилась на бархатный диван в центре зала и закрыла глаза.
«Вот так. Аллегория. Наши маленькие друзья мозговые паразиты – всего лишь дурные, грешные помыслы. У них человеческие лица. Что ж, вполне логично. Босх тоже изображал грехи в виде причудливых чудовищ».
– С вами все в порядке? – произнес рядом с Соней по-немецки низкий мужской голос.
– Да, спасибо.
Она открыла глаза и прямо перед собой увидела давешнего соседа по купе, старого хиппи, который был похож на Альфреда Плута как брат-близнец.
Глава третья
Москва, 1918
«Теперь у меня нет лаборатории. Все мои животные убиты. От приборов и препаратов, которые я собирал годами, осталась куча мусора. И я совсем ничего не чувствую. Мне все равно».
Ранним утром Михаил Владимирович сидел в своем кабинете, перебирал бумаги, бессмысленно глядел на записи в лиловой тетради, листал ветхие страницы старой полуистлевшей книжки Никиты Короба «Заметки об истории и нравах диких кочевников Вуду-Шамбалской губернии», кусал губы, чтобы не заплакать. У него было такое чувство, будто он бродит по руинам своего дома, роется в жалких обломках.
«Это всего лишь крысы, всего лишь склянки с препаратами. Стыдно и недостойно сейчас, когда погибает Россия, когда люди умирают десятками тысяч, жалеть о такой ерунде, – думал он и тут же возражал себе: – Нет, это вовсе не ерунда. Достоверность в науке доказывается повторяемостью феномена. Теперь я знаю точно: феномен повторяется. Но не понимаю, как и почему. Вливание препарата может спасти жизнь. Но может и убить. Кому жить, кому умереть, червь решает сам. Это его выбор. Смутно, интуитивно я чувствую, на чем основан выбор, однако боюсь, что не скоро сумею сформулировать это, даже для самого себя. Я вовсе не первый нашел загадочных древних паразитов. Возможно, знали египтяне, китайцы, инки. Впрочем, это лишь туманная гипотеза, из области фантастики. Интересно, что знал немец Альфред Плут? Он понял то, о чем я сейчас только догадываюсь? Почему он сумел изобразить их так подробно? Он изучал египетскую и китайскую алхимию, иудейскую каббалу. Он шифровал многие свои записи, опасаясь суда инквизиции и праздного любопытства профанов».
Вошла Таня, чмокнула отца в щеку, усадила Мишу к нему на колени.
– Подержи. Мне надо причесаться.
Михаил Владимирович обнял внука, уткнулся носом в теплую макушку. Мягкие светлые прядки защекотали ноздри. От Мишеньки пахло теплым молоком и гречишным медом. Он подергал деда за ухо и строго произнес:
– Хахай!
Михаил Владимирович открыл ящик, достал из жестяной коробки кусок твердого, как камень, колотого сахару. Мишенька оглядел острый блестящий осколок, полизал, взял очки деда, водрузил ему на нос, ткнул липким пальчиком в раскрытую книгу и приказал басом:
– Титяй!
Это обозначало: «Читай!»
У Миши недавно появилась какая-то особенная страсть к чтению вслух. Он с удовольствием слушал все, что угодно: письма Пушкина, «Сахалинский дневник» Чехова. Учебники биологии, анатомии, хирургии. Сенеку, Канта, главы из истории Карамзина и Костомарова, статьи Бердяева и Соловьева.
– Миша, это совсем неинтересно, – попробовал возразить Михаил Владимирович, – давай лучше возьмем сказки Андерсена.
Но Мишенька возражений не терпел. Он требовал, чтобы дед читал вслух именно ту книжку, которая сейчас лежала перед ним раскрытая на столе. Вздохнув, профессор начал читать:
«Хозяин мой был знатный шамбал древнего рода, звали его Аким. В юрте стоял большой открытый сундук. Аким выдавал замуж старшую дочь, и мне, дорогому гостю, была оказана особая честь – полюбоваться приданым. Среди шелковых халатов, бирюзовых монист и серег внимание мое привлекла шкатулка черного дерева, отделанная серебром, вещица для здешних мест весьма необычная. Внутри лежало несколько золотых слитков размером не более лесного ореха и круглый предмет, бережно завернутый в бархатный лоскуток. Аким с важным видом пропел возвышенную хвалу великому Сонорху и только затем развернул, повторяя гордо и восторженно: алимаза, алимаза. В самом деле, передо мной был редкой красоты алмаз, не менее двадцати карат, отшлифованный с удивительным искусством.
Никогда прежде не доводилось мне видеть такой странной формы, какую придал этому сокровищу неведомый мастер. Камень не имел граней, он был идеально гладким и напоминал двояковыпуклую линзу.
Забавляясь, как дитя, мой Аким придвинул лампаду, поднес камень к одному из слитков. Алмаз давал огромное увеличение, мне удалось разглядеть на слитке крошечное клеймо и разобрать латинскую надпись: «Альфред Плут».
Мишенька слушал очень внимательно, иногда давал деду лизнуть липкий сахарный осколок. Михаил Владимирович оторвал глаза от книги и взглянул на Таню. Она стояла спиной к ним, зажав во рту шпильки, расчесывала волосы, но было видно, что она тоже слушает.
– Ну! Что скажешь? – тихо спросил профессор.
– Ты мне это уже трижды читал, – промычала Таня, не разжимая губ.
– Да, но тогда мы еще понятия не имели, кто такой Альфред Плут. Он изобразил моих паразитов так подробно потому, что видел их еще лучше, чем я. Эта «алимаза» была частью мощного увеличительного прибора.
– Каким образом он мог их видеть? – Таня воткнула шпильки в волосы, резко повернулась к отцу. – Левенгук изготовил двояковыпуклые короткофокусные линзы в 1673 году. До него это не удавалось никому, твоя «алимаза» всего лишь большая лупа, но еще не микроскоп.
Миша заерзал на коленях у деда, захныкал, потребовал:
– Титяй!
– Да, да, сейчас будем читать дальше, – сказал профессор и несколько раз, как заклинание, повторил: – «Алимаза».
– Дед! Титяй! – Миша выпятил нижнюю губу, сдвинул брови, глаза его мгновенно налились слезами.
– Миша, дай нам поговорить, дед не граммофон, он живой, он не может читать бесконечно, – строго сказала Таня и взяла ребенка на руки. – Пойдем к няне, она тебе кашку сварила.
Миша не хотел к няне, он громко заревел, но Таня пошептала ему что-то на ушко, пощекотала животик, и рев перешел в смех.
Михаил Владимирович остался один в кабинете. Каждый раз, когда у него забирали внука, сердце его в первое мгновение больно сжималось. Его мучило даже не предчувствие, а точное, беспощадное знание скорого будущего. Будет так, и лучше не лгать себе. Однажды придется расстаться с детьми и внуком навсегда. Таня, Андрюша, Миша уедут из России, и чтобы они уехали, выжили, он должен остаться.
Запах детских волос, теплая тяжесть на коленях, липкие от сахара пальчики, ясные внимательные глаза, все это только что было – и вот нет.
«Перестань, довольно! Они здесь, рядом, еще ничего не произошло. Не умирай раньше смерти. Миша в кухне ест манку на воде, с каплей порошкового молока, Андрюша ушел в школу, Таня сейчас вернется».
– Древние знали и умели не меньше нашего. Египтяне делали сложнейшие операции на сетчатке глаза. Без увеличительного прибора это вряд ли возможно, – сказал он, когда Таня вернулась.
Ему казалось, что голос его звучит спокойно, он не замечал, как дрожат у него руки.
– При чем здесь египтяне? Если не ошибаюсь, у Никиты Короба речь идет о диких кочевниках Вуду-Шамбальской губернии.
Таня присела на подлокотник его кресла, попыталась заглянуть ему в глаза. Но он отвернулся, стиснул пальцы, чтобы скрыть дрожь, и продолжал говорить, быстро, с легкой одышкой:
– Крысы-доноры из подвала дома бедняги Короба. Имя Альфреда Плута есть в его записках. Паразиты оттуда, из степи. Там разгадка. Я могу потратить годы, экспериментируя на крысах, и все равно ничего не пойму, пока не побываю в этом Богом забытом месте.
– Ты прямо сейчас намерен отправиться туда?
Таня смотрела на отца с тревогой и жалостью. Он сидел сгорбившись, подперев лоб ладонью. Закрыл глаза и прикусил нижнюю губу. Она не могла понять, что с ним происходит. Прежде он относился к своему открытию спокойно, трезво, слегка скептически. Он вообще предпочитал не называть это открытием. Несколько удачных опытов – не более. Но вдруг, после гибели подопытных животных и случайной находки – репродукции картины Плута «Misterium tremendum», его как будто подменили. Он стал другим человеком. Куда делись его хладнокровие, осторожность?
«Это от недоедания и нервного перенапряжения, – утешалась Таня, – мой мудрый, мой надежный и разумный папа не мог помешаться на проклятых тварях. Именно сейчас, когда все так страшно, сложно, мерзко, он не мог помешаться на тварях. Господи, только не он, только не сейчас!»
– Папочка, успокойся, пожалуйста. Приди в себя. Девятый час. Нам пора в лазарет.
– Да, Танечка. Все нормально. Я спокоен. Золото с клеймом Альфреда Плута алхимическое. Я нашел кое-какие сведения об этом Плуте. Он был алхимиком, он путешествовал и по Египту, и по России.
– Папа, Господь с тобой! Алхимическое золото – миф. С каких пор ты стал верить в эти сказки?
– Да, золото, может быть, и миф. Но Плут видел наших тварей, он нарисовал их. Он побывал там, в степи, надеюсь, это ты не считаешь сказкой? Вот, послушай.
«Я несколько раз повторил вслух это странное имя – Альфред Плут. Но хозяин мой уверенно заявил, что никогда о таком человеке не слышал. Алимаза и слитки достались ему от прадеда.
Отец Акима несколько лет назад был сброшен взбесившимся жеребцом и разбился насмерть. Деда убило молнией в открытой степи. Зато прадед по имени Дассам все еще жил и здравствовал. Я нашел его в соседнем селении, в бедной кибитке. Там на циновке лежала хворая старуха. Дассам занимался врачеванием, втирал в ее раздутые ноги какую-то пахучую мазь.
Передо мной был древний старик, иссохший, сморщенный, однако глаза яркие, молодые, с живым блеском. Голова без всякой растительности, на темени большой крестообразный шрам.
– Сколько тебе лет? – спросил я на местном наречии.
– Если я скажу правду, ты не поверишь. А лгать грех, – ответил старик по-немецки.
Он говорил на этом языке чисто и грамотно, как на родном. Кроме немецкого, он знал русский, латынь, греческий. В большом сундуке он хранил древние книги, свитки, рукописи.
Я провел в его кибитке двое суток. Дассам принимал больных, лечил мазями, настойками, шептал непонятные заклинания, водил руками над разными частями тела, иногда громко кричал, словно пугал и гнал злых духов. Лечение его почти всегда помогало. Благодарные больные приносили щедрое вознаграждение, но он отказывался от денег. Брал только необходимое – еду, одежду.
Ел мало, трапезу делил со мной. Обед наш состоял из свежего кобыльего молока, лепешек с местным сыром и какой-то степной травы, по запаху и вкусу напоминавшей нашу петрушку.
Дассам был приветлив, гостеприимен, однако ни подарками, ни лестью, ни мольбами не удалось мне развязать ему язык.
– Сколько тебе лет? Кто учил тебя искусству врачевания? Откуда этот шрам на голове? Кто такой Альфред Плут? Ты знал его? Он подарил тебе большой алмаз и золотые слитки?
Ни одного ответа я так и не услышал. Когда я почти потерял терпение и стал слишком настойчив, он печально покачал своей лысой головой и произнес:
– Зачем тебе это? Учись радоваться тому, что имеешь. Во многом знании много печали.
Вскоре явился за мной мой прежний хозяин Аким и увез к себе. Я непременно должен был присутствовать на свадьбе его дочери как почетный гость».
– Ну и что? – нетерпеливо перебила Таня. – Твой Плут здесь больше не упоминается. Старик Дассам ничего, ни слова о нем не говорит.
Михаил Владимирович закрыл ветхую, рассыпающуюся книжку Никиты Короба.
– Было бы странно, если бы говорил. Тут не слова важны, а факты. Крестообразный шрам на темени у старика. Они вводили цисты непосредственно в мозг, в эпифиз. Для этого требовалась трепанация, иных способов они не знали, и, вероятно, никто не решался на повторную операцию. А она необходима. Старение замедляется, но все равно происходит. Они не знали шприцов, игл, внутривенных вливаний.
– Да. Но теперь все это есть, и каждый может стать бессмертным, – усмехнулась Таня.
– Не каждый, – Михаил Владимирович медленно, тяжело поднялся. – Только избранные. А право выбора всегда останется за тварями, они никому его не уступят.
– Даже тебе?
– Никому, – повторил Михаил Владимирович и помотал головой, – но я хочу угадать их предпочтения, понять принцип. Ладно. Хватит об этом. Который теперь час? Ты сцедила молоко для Миши?
– Давно уж. Если мы выйдем сию минуту, у нас есть шанс не опоздать в лазарет.
– Сначала надо позавтракать. Ничего не случится, если мы опоздаем.
В кухне было пусто и мрачно. Михаил Владимирович разлил по чашкам еще теплый желудевый кофе, высыпал на тарелку горсть серых сухарей, достал из глубины буфета маленький кусок сала, развернул тряпицу.
– Мне не нужно, я сало терпеть не могу, – сказала Таня, – двух сухариков довольно.
– Перестань капризничать, – Михаил Владимирович отрезал несколько тонких, прозрачных ломтиков. – Тебе жиры необходимы.
– Андрюша придет голодный, ему останется совсем мало.
– Ничего, не волнуйся, я раздобуду еще. Ешь.
Таня к салу не притронулась, медленно жевала сухарь, размоченный в желудевом кофе. Несколько минут молчали.
– В степь я все-таки отправлюсь, – вдруг сказал Михаил Владимирович, – конечно, лучше бы сначала в Германию, порыться в библиотеках, поискать следы Плута. Он страшно много всего написал, он создал иллюстрированный анатомический атлас. Особенно тщательно изучал и рисовал головной мозг.
– Нет, папочка, в Германию тебя, пожалуй, не выпустят. А вот в степь отправить могут. Я слышала, там сейчас эпидемия холеры, врачей не хватает.
– В степь, к холере – это неплохая идея, – произнес низкий хрипловатый голос из темноты коридора.
Михаил Владимирович сидел лицом к двери, Таня – спиной. Она открыла рот, чтобы ответить, но не успела. Отец протянул руку и положил ей в рот кусок колотого сахару. В проеме стояла товарищ Евгения в огненном пеньюаре и смеялась, запрокинув белокурую голову.
– Доброе утро, – сказал профессор.
Товарищ Евгения томно повела плечами и проследовала к своему примусу.
Гамбург, 2007
Случайный попутчик Сони теперь сидел рядом с ней на диване в центре музейного зала, перед картиной Альфреда Плута «Misterium tremendum».
– Простите, если не ошибаюсь, мы с вами вместе ехали в поезде из Зюльта? – спросил он.
– Да, наверное, – кивнула Соня.
– Теперь я понял, почему вы так внимательно меня разглядывали, – он простодушно рассмеялся, – в поезде вы листали каталог Пинакотеки и заметили, что я похож на Альфреда Плута.
– Вы намного симпатичней Плута, – вежливо улыбнулась Соня, – простите, что пялилась на вас.
Иллюзия абсолютного сходства, правда, исчезла. Свет падал иначе, улыбка меняла лицо.
– Я похож на него. Впервые мне сказала об этом одна очень красивая девушка, давно, еще в университете. Я обиделся ужасно. Она мне так нравилась и вдруг сравнила меня с ним. Нет, чтобы с Дюрером! Сначала я переживал, остриг волосы, избавился от бородки и усов, даже брови подбрил. Но потом, когда узнал его лучше, стал гордиться этим сходством. В итоге именно благодаря Плуту я нашел свое призвание.
– Живопись? – спросила Соня с кислой улыбкой.
– Не угадали. История медицины. Впрочем, в эпоху Возрождения одно без другого не существовало. Художники препарировали трупы вместе с врачами, врачи создавали шедевры живописи, иллюстрируя свои научные труды. Вспомните хотя бы Леонардо, его анатомические рисунки до сих пор служат наглядными пособиями для медиков. Или вот «Misterium tremendum» Плута. Кстати, что вы думаете об этой картине?
– Название говорит само за себя. В ней нет красоты, но есть тайна.
– Вы остановились в этом зале именно ради тайны?
– Нет. Просто устала.
– О, простите, что пристаю к вам с вопросами. Но дело в том, что мы с вами уже немного знакомы. Впрочем, вы пока не знаете об этом.
– Действительно, не знаю.
– Зюльт маленький остров. Ваш дед господин Данилофф личность известная, его показывали по телевизору, он дружит с фрау Барбарой, хозяйкой книжного магазина. Я ее племянник. Кстати, меня зовут Фриц Радел. А вы Софи.
– Очень приятно. – Соня в очередной раз улыбнулась, хотя на самом деле ничего приятного в этом неожиданном знакомстве не находила.
Фриц Радел пожал ей руку, крепко, от души. Она чуть не вскрикнула. Пальцы заныли. Она уже успела усвоить, что здесь, в Германии, так принято – крепкие, до боли, рукопожатия, улыбки до ушей.
«Господи, ну что ему от меня нужно? Терпеть не могу таких жизнерадостных, энергичных, высокодуховных стареющих юношей. И вообще, я ни с кем не собиралась знакомиться. С меня довольно коллег по лаборатории. Интересно, если он сразу узнал меня, почему не заговорил в поезде?»
– Я хотел заговорить с вами в поезде, но вы так увлеченно читали, а я записал на плеер новый альбом моей любимой группы «Криэйшн», заслушался, не мог оторваться. Но когда увидел вас тут, да еще перед картинами моего любимого Альфреда Плута, решил, что это судьба.
Да уж, судьба. Дед предупреждал Соню, что Зюльт-Ост не Москва, не Берлин. Маленький городок на маленьком острове. Все друг друга знают, принято общаться, здороваться на улице, болтать при встрече, как сто и двести лет назад. Телевизор, Интернет, наплывы туристов ничего на острове не меняют. Никуда не денешься от этого Фрица. К тому же он наверняка может рассказать о Плуте. Он занимается историей медицины, если не врет, конечно. Хотя зачем бы ему врать?
– Послушайте, Софи, вы не хотите перекусить? Здесь неплохое кафе внизу.
В кафе орала музыка. Пока шли к столику, Радел приплясывал, подергивал плечами. Лохматые брови сложились домиком, лицо приобрело томно-жалобное выражение. Он мычал, тихонько подпевал и взял Соню за локоть, как будто приглашая поплясать вместе. Соня с тоской подумала, что сейчас он накачается пивом, станет еще энергичней, разговорчивей и уж точно не отвяжется, придется вместе с ним возвращаться в Зюльт.
Радел заказал себе воду без газа, свежий морковный сок со сливками. Он не пил спиртного, не ел мяса, не курил. Долго изучал отдельное меню, где была вегетарианская еда, потом полчаса, наверное, обсуждал с официанткой какие-то особенные блюда из ростков пшеницы и дикого риса. Соня выбрала отбивную и салат.
– Подождите, Фриц, мне надо взять сумку в камере хранения, – спохватилась она, когда отошла официантка, – я оставила там деньги, сигареты, телефон.
Оказавшись в гардеробе, возле ячейки, она подумала, не сбежать ли? Сквозь стеклянную стену просторного фойе светило солнце. День был яркий, теплый, почти весенний. Она мечтала погулять по Мюнхену в одиночестве, молча посидеть на лавочке в сквере, подставив лицо солнцу, отдохнуть, подумать. Слишком много всего произошло с ней в последнее время.
Она достала номерок, чтобы взять свою куртку и тихо улизнуть, потопталась возле гардероба, но все-таки решила, что это нехорошо, некрасиво. Заказ уже сделан. К тому же она действительно проголодалась.
Когда она вернулась, музыка орала еще громче. За столиком, рядом с Фрицем, сидела женщина лет сорока, крупная, широкоплечая, с пышными рыжими волосами и круглым, грубым, красноватым лицом. Она встретила Соню такой приветливой улыбкой, словно они дружили с детства. Крикнула Соне на ухо, что ее зовут Гудрун. Руку пожала еще крепче, чем Фриц, и больше не сказала ни слова. Подергалась в такт музыке, покивала головой, поиграла бровями, лукаво глядя на Соню, всем своим видом показывая, какая классная музыка, и вообще, как все в жизни здорово, весело. Потом встала и удалилась, слегка приплясывая.
«Милые ребята, – подумала Соня, – живые и непосредственные».
В стереосистеме сменили диск, заиграл спокойный старый джаз. Фриц перестал наконец подергиваться и задумчиво произнес:
– Серию анатомических зарисовок мозга Плут создал после того, как вернулся из России.
– Да, я читала его биографию в каталоге, – кивнула Соня и закурила. – Он целый год прожил в Москве, служил придворным лекарем у Ивана Грозного.
Официантка принесла еду. Некоторое время ели молча. На тарелке Фрица лежали разноцветные кучки риса, шпината, красных и желтых бобов. Он жевал медленно и вдумчиво. Отбивная, которую подали Соне, оказалась жесткой, зато салат был вполне съедобным.
– Плут побывал не только в Москве, – произнес Фриц, когда от разноцветных кучек ничего не осталось. – Он объездил всю восточную часть России и много времени провел в диких степях. При Иване Грозном эти земли как раз стали частью Русского государства. Потом – губернией Российской империи, потом одной из республик СССР. Сейчас это автономный округ. Там много нефти, конные заводы. Только я никак не могу запомнить название столицы. – Он защелкал пальцами, сморщился.
– Вуду-Шамбальск, – выпалила Соня и чуть не прикусила язык.
Взгляд из-под косматых бровей стал жестким, каким-то слишком внимательным. Возникло странное, неприятное чувство, будто она ляпнула лишнее.
Впрочем, это быстро прошло. Фриц глотнул воды, глаза его смягчились, рот растянулся в простодушной улыбке.
Глава четвертая
Москва, 1918
Вождь был болен давно и серьезно. Еще в эмиграции он постоянно обращался к врачам, в основном к невропатологам, лечился на разных европейских курортах, но, кажется, без толку. Не было точного диагноза, никто не мог избавить его от приступов головной боли, мучительной бессонницы, неврастенических припадков. Он боялся сильных лекарств, упорно скрывал свои недуги от соратников и всячески поощрял трогательный миф, будто у Ильича железное здоровье, он самоотверженно трудится, не щадит себя ради победы мировой революции, сгорает на работе, поэтому часто выглядит усталым и больным.
Стол в его кабинете был завален бумагами, книгами. Трезвонили телефоны, стучали пишущие машинки, посетители толпились в приемной, секретари стенографировали тексты выступлений и статей. Большая круглая голова вождя функционировала как автомат. Казалось, вокруг все кипит, бурлит, происходит невероятное, фантастическое строительство новой жизни.
Когда Федор Агапкин впервые вошел в кабинет Ленина в бывшем здании Сената, он услышал:
– Партия не пансион для благородных девиц! Нельзя к оценке партийных работников подходить с узенькой меркой мещанской морали. Иной мерзавец может быть именно тем и полезен, что он мерзавец!
Вождь говорил это какому-то пожилому грустному человеку в черной толстовке и смазных сапогах. Человек сидел на краешке стула сгорбившись, вжав седую голову в плечи. Старый большевик, вечный каторжанин, он явился к вождю жаловаться, просить. Вождь расхаживал по кабинету, энергично разворачивался на каблуках, выбрасывал вперед правую руку, жестикулировал, гримасничал, сильно картавил. Брюки были коротковаты ему. Виднелись поношенные ботинки маленького, почти женского размера, бежевые хлопчатые носки. Во всей его коренастой, коротконогой фигуре было нечто шутовское, забавное.
– Товарищ Агапкин! – картаво выкрикнул вождь и развернулся лицом к Федору. – Заходите, не стесняйтесь. Рад, весьма рад познакомиться.
У него было крепкое рукопожатие, обаятельная живая улыбка с ямками на щеках. Он окинул Федора оценивающим веселым взглядом. Федор почувствовал легкий запах нафталина от его костюма, заметил отечность лица, красный нездоровый оттенок кожи.
– Товарищ Агапкин, сразу дам вам порученьице! – сообщил он вполголоса, интимно и, подхватив Федора под локоть, повел к маленькому секретарскому столику у окна. – Мне товарищи доктора разных лекарств навыписывали, очень уж много всего. Вы, батенька, гляньте своим профессиональным глазом, что там полезно, а что нет, что с чем сочетается, какие противопоказания и побочные эффекты.
– Владимир Ильич, так как же по моему делу, как? – подал робкий голос старый большевик.
Ленин досадливо сморщился, почесал плоскую переносицу, сел за стол, чиркнул что-то на четвертушке бумаги, протянул просителю.
– К товарищу Шмидту! Он комиссар общественных работ, пусть он разбирается. Идите к Шмидту!
Большевик прижал к груди ленинскую записку, попятился задом к двери, слегка приседая. У него подкашивались колени.
– Слюнтяй, – сказал Ленин, когда проситель исчез, – слякоть, меньшевиствующая слизь. Ну, да черт с ним. Шмидт с ним, да-с! Видите, сколько понаписали! – Он весело подмигнул. – Если все это пить, так и помереть недолго. Бром ни черта не помогает. Все равно не сплю, а на вкус мерзость. Йод, понятно, хорошо. Хинин. Зачем он мне? Его дают при малярии. Разве есть у меня малярия?
– Вряд ли, – слабо улыбнулся Агапкин и попытался объяснить, что без серьезного осмотра, без диагноза он не может отменять предписания своих коллег.
Но вождь его уже не слушал. Он уселся за стол и, согнувшись, быстро строчил что-то на клочке бумаги. Федор подождал немного, еще раз просмотрел чужие рецепты, наконец решился окликнуть вождя:
– Владимир Ильич!
– Вот! – Ленин протянул ему сложенный вчетверо исписанный клочок. – Передайте Бокию лично, из рук в руки.
Федор хотел спросить, как он это сделает, если Бокий уже в Петрограде, но дверь открылась, вошла высокая широкоплечая женщина в узкой серой юбке и белой блузке, с толстой стопкой бумаг.
– А насчет лекарств разберитесь, товарищ Агапкин, хорошенько разберитесь, – резко выкрикнул вождь.
По счастью, Белкин был еще в Москве. Они встретились вечером в маленьком подвальном трактире на Мясницкой. Мастер взял записку, положил ее в нагрудный карман.
– Но он велел лично, из рук в руки, – прошептал Агапкин по-немецки, – может быть, мне надо ехать самому?
– Ешьте, Дисипль, жареная колбаса здесь исключительная, нигде такой не найдете, – ответил Мастер по-русски и отправил в рот изрядный кусок.
Колбаса правда была исключительная. Ее жарили не на касторке, а на свином сале. К ней подавали квашеную капусту и толстые ломти настоящего ржаного хлеба.
– Скоро таких мест в Москве не останется, – сказал Мастер, когда вышли на улицу, – в Питере их уже нет. Записку прочитали?
– Чудовищный почерк. Разобрал только одно слово, вернее фамилию. Воло…
– Разобрали и сразу забыли, – перебил Мастер, сверкнув в темноте сердитым глазом.
Тем же вечером Мастер уехал в Питер.
Вождь не задал ни единого вопроса о записке, как будто ее не было вовсе. Фамилию, которую Федор сумел разобрать, он честно старался забыть и все-таки вздрогнул и побледнел, когда узнал, что в Питере убит Володарский.
Мюнхен, 2007
После обеда в кафе Пинакотеки Фриц Радел так и не оставил Соню ни на минуту, вместе с ней гулял по Мюнхену, приставал со своими дурацкими советами, легко перешел на ты и вел себя так, словно они знакомы сто лет и дружат семьями. Соня была слишком хорошо воспитана, чтобы послать его подальше, а вежливых намеков он не понимал.
Ей надо было кое-что купить. В Зюльте она почти не оставалась одна, дед провожал ее и встречал, по будням она с утра до вечера не вылезала из лаборатории, а по выходным ни один магазин в маленьком Зюльте не работал.
Соня бессмысленно бродила по пешеходной зоне, мимо ярких витрин. До закрытия оставалось меньше часа.
– Фриц, я зайду в этот универмаг, может быть, ты подождешь меня в кафе?
– Что ты собираешься покупать?
– Какая тебе разница?
– Это очень плохой магазин, здесь все дорого и некачественно. Зачем выбрасывать деньги на ветер? Вон там, через пятьдесят метров, есть хороший, пойдем, я тебя отведу.
Он подробно объяснял ей, где выгодные скидки, а где одна видимость скидок, у кого из производителей лучшее качество. Он ходил вместе с ней по бельевому отделу большого универмага, уверял, что без его помощи она только напрасно потратит деньги и испортит себе настроение. Никакие просьбы, уговоры, хитрости на него не действовали. Соне надоело возражать и отбиваться от дружеской горячей заботы. Нижнее белье, колготки, шампунь, крем, гигиенические прокладки она выбирала и бросала в корзину под разумные комментарии Радела. Он проявил удивительные познания в этой интимной области.
Он тупо, упорно шел за Соней, и только в кабинке женского туалета ей удалось наконец остаться одной. Пакет с ее покупками он сложил в свой вместительный рюкзак, объяснив, что ее сумка слишком мала, а таскать пакет отдельно неудобно, к тому же есть риск забыть где-нибудь.
Обо всем у него имелось собственное мнение, с одинаковой дотошностью и уверенностью он рассуждал о вреде синтетического белья, самосожжении лидеров еретической секты катаров, качестве баварского пива, штрафах за неубранные собачьи экскременты, вреде антибиотиков, экспансии дешевых китайских товаров, имперской архитектуре Третьего рейха.
– Вот она, та славная пивная, – сообщил он и остановился напротив входа в обычный ресторан в старинном баварском стиле. – Если тебе интересно, можем заглянуть.
– Нет, – сказала Соня, – мне неинтересно. Я не планировала экскурсию по памятным гитлеровским местам.
– Не планировала? Хорошо. Значит, следующую поездку в Мюнхен мы посвятим именно такой экскурсии. Ты должна знать, что наш Третий рейх зародился у вас, в России. Идея арийской расы принадлежит великой русской теософке Елене Блаватской. Она же заново открыла древнюю свастику, возродила привлекательность этого таинственного символа. До Блаватской понятие «арийцы» относилось только к группе языков. Еще во время Первой мировой войны свастика рисовалась на немецких самолетах, была чем-то вроде модного талисмана. Броши, серьги, перстни со свастикой продаются вот здесь, в этом маленьком антикварном магазине. Хочешь зайти?
– Зачем?
– Но ведь это так интересно! Твой дед разве не служил в СС? Ты обиделась? Перестань. Мой дед тоже там служил. Не могу сказать, что горжусь этим, но и не стыжусь, честное слово, не стыжусь.
У Сони зазвонил мобильный, она обрадовалась, что можно хотя бы на время переключиться на другого собеседника.
– Привет, это Иван, – услышала она знакомый низкий голос, – где вы? Как у вас дела?
– Я в Мюнхене.
– Решили немного отдохнуть?
– Не совсем. Но и это тоже. Здесь замечательная Пинакотека, – сказала Соня.
– У вас что-то не так?
Иван Анатольевич Зубов, отставной чекист, мгновенно уловил напряжение в ее голосе.
– У меня все в порядке, – сказала Соня, – я гуляю по городу. Скоро поеду домой. Я не одна сейчас. Объясню позже.
Фриц Радел стоял совсем близко, с преувеличенным вниманием разглядывал цветные граффити на бетонном заборе. Соня видела его некрасивый грубый профиль, оттопыренное ухо торчало из-под длинных прядей, как локатор.
– Попробуйте скинуть мне информацию прямо сейчас, – быстро произнес Зубов, – завтра я к вам вылетаю.
Попрощавшись с Иваном Анатольевичем, Соня тут же отправила ему послание по СМС. «Фриц Радел. Живет в Зюльте. Прилип как банный лист».
Спрятав телефон, она посмотрела на Радела, приветливо улыбнулась и произнесла по-русски:
– Как же ты мне надоел, умный козлик. Как я от тебя устала. Ты кофе не хочешь выпить?
– Кофи? – переспросил он, слегка нахмурившись. – Я понял только кофи.
«Ты понял все, – вздохнула про себя Соня, – ну и черт с тобой. Приедет Зубов, он разберется».
Телефон запищал. Соня достала его, прочитала короткий ответ от Зубова. Всего одно слово: «фото».
«Имя может быть блефом. Чтобы понять и проверить, нужен снимок. Мой умный телефончик, подарок Зубова, способен на многое», – подумала Соня и сказала по-немецки, все с той же ласковой улыбкой:
– Давай зайдем в это кафе. Впрочем, нет, подожди. Сначала я хочу снять вон тот собор. Он удивительно красивый.
Она включила камеру. На двух из пяти кадров ей удалось запечатлеть Радела, анфас и в профиль. Он заметил, лицо его мгновенно изменилось, налилось кровью, губы сжались, зрачки сузились до точек. Соне показалось, он не просто ударит ее сейчас. Он ее убьет.
– Тебе нехорошо? – сочувственно спросила она.
– Дай я посмотрю, что получилось, – он протянул руку, чтобы отнять у нее мобильник.
– Да, конечно, я покажу, если тебе интересно, правда, я никудышный фотограф, но собор такой красивый, я должна послать маме, она очень любит готику. – Соня ловко отскочила, спряталась за спину какой-то толстой фрау, успела очень быстро отправить снимки на номер Зубова.
Толстая фрау остановилась и прикуривала на ветру. Она сыграла роль защитного щита. Радел не мог ее обойти, не задев, не толкнув, а привлекать внимание посторонних он явно не собирался. Соня сохранила снимки в специальном файле и отключила телефон. Фрау наконец прикурила и двинулась вперед. Соня оказалась лицом к лицу с Раделом. Надо отдать ему должное, он быстро взял себя в руки.
– Можно я посмотрю, как получился собор в твоем аппарате? – спросил он спокойно и вежливо.
– Ужасно, – сказала Соня и покачала головой, – ничего вообще не получилось. У меня села батарейка.
Москва, 2007
«А ведь я никогда не верил в интуицию, – подумал Иван Анатольевич Зубов, разглядывая картинки, присланные Соней, – никогда не верил, особенно в чужую».
Он сидел в квартире на Брестской, у ног его тихо порыкивал и ворчал черный пудель. Пуделя звали Адам. Он не любил Зубова. Всякий раз, когда Иван Анатольевич являлся сюда, Адам поднимал хриплый возмущенный лай и потом не отходил от гостя ни на секунду, следил за ним воспаленным слезящимся глазом, словно опасался, что он стащит что-то или обидит обожаемого хозяина.
Кто из них был старше, хозяин или пес, неизвестно. Оба давно пережили все возможные сроки человеческой и собачьей жизни. У хозяина были парализованы ноги. Пес тяжело волочил задние лапы, но еще кое-как ковылял по квартире. На прогулку его выносил на руках дважды в день капитан ФСБ, служивший постоянной сиделкой при хозяине.
– Ну! – произнес хозяин, хмуро глядя на Зубова. – Покажи, что она прислала.
– Подожди, я перегоню в компьютер, на большой экран.
– Перегонишь потом. Покажи.
– Слишком мелко. Потерпи несколько минут.
– Ничего, у меня отличное зрение. – Старик улыбнулся, оскалил голубоватые фарфоровые зубы. – Это я заставил тебя позвонить ей. Ты не хотел. Ты глупый и бесчувственный чекушник. Дай мне телефон сию минуту.
Снизу послышался грозный рык. Адам готов был вцепиться подозрительному гостю в ногу.
– Адам тебя укусит, и правильно сделает, – сказал хозяин.
Зубов тяжело вздохнул и протянул старику телефон.
– Смотри, ничего не нажимай, а то нечаянно сотрешь снимки, – предупредил он.
– Без тебя разберусь, – старик близко поднес к глазам маленький экранчик, долго разглядывал, хмурился, жевал губами.
– Все? Налюбовался? – спросил Зубов.
Старик, не обращая на него внимания, принялся быстро нажимать кнопки на мобильнике.
– Что ты делаешь? Прекрати! Это мой телефон! – Зубов вскочил, подошел к старику, встал так, чтобы видеть экран.
«Не выходи из дома. Не ходи в лабораторию!» – прочитал он послание, которое старик отправил Соне.
– Зачем ты ее пугаешь? Что значит – не выходи из дома? Она сейчас в Мюнхене. Сначала ей надо до дома доехать.
– Она доедет. Но потом ей выходить нельзя. А ты, чекушник, срочно лети к ней.
– Я и так лечу завтра.
– Лети и забирай ее в Москву!
– Почему?
– Слушай, что я говорю! Забирай!
– Да в чем дело? Ты можешь объяснить по-человечески? – рассердился Зубов.
– Звони Петру. Пусть он приедет. Объяснять дважды, сначала тебе, потом ему, у меня нет сил.
Москва, 1918
Таня и Михаил Владимирович шли пешком, по знакомым, но теперь совершенно чужим улицам, мимо длинных мрачных очередей, разбитых домов. Под ногами шуршали листовки, клочья газет, подсолнечная шелуха.
– Я правда был похож на сумасшедшего? – тихо спросил Михаил Владимирович.
– Ну, конечно, я слегка преувеличила. – Таня улыбнулась и взяла отца под руку. – Просто ты, папочка, последняя моя надежда, возможно, на всю Россию ты сейчас единственный здравомыслящий человек, и когда у тебя лихорадочно блестят глаза, дрожат руки, срывается голос, мне страшно, земля уходит из-под ног. Ну их к черту, этих тварей. Ой! – Таня вдруг резко качнулась, нога провалилась в открытый люк канализации.
Михаил Владимирович едва успел удержать ее.
– Папа! Подожди, у меня каблук оторвался.
Она стояла на одной ноге, опираясь на отцовскую руку, смотрела на старый, залатанный ботинок. На месте каблука торчали гвозди.
– Беда, – Михаил Владимирович покачал головой, – других ботинок у тебя нет.
– Буду ходить босиком. Вполне в духе времени. – Таня заковыляла, опираясь на его руку.
– Что-нибудь придумаем, – сказал Михаил Владимирович. – У фельдшера Сысоева двоюродный брат служит в Чеквалапе.
– Где?
– Есть такая Чрезвычайная комиссия по заготовке и распределению валенок и лаптей. Чеквалап. Очень серьезная организация.
Кое-как дошли до госпиталя. Там пожилая санитарка одолжила Тане самодельные чуни, сшитые из рукавов солдатской шинели. Они сваливались с ног, Таня ступила и чуть не упала на грязный пол.
– Подвяжи у щиколоток, – посоветовала санитарка.
Таня оторвала тесемки от старого халата, морщась, стянула узлы на жестких чунях, убрала волосы под косынку. Халат висел на ней мешком. Несколько секунд Михаил Владимирович смотрел на нее и вдруг спросил:
– Интересно, сколько ты сейчас весишь?
– Не знаю. Какая разница? Мне все равно.
«Ей все равно. Еще немного, и у нее начнется дистрофия, – думал Михаил Владимирович во время обхода. – Спит не более пяти часов в сутки. Работает в госпитале. Занятий в университете нет, но она упорно сидит за учебниками, ночами, при ужасном свете. Зрение портит. Почти ничего не ест и при этом кормит Мишу, умудряется нацедить молока для него на целый день. Она не щадит себя совершенно, как будто нарочно сжигает. Почему я с этим мирюсь?»
Палаты были заполнены сыпнотифозными. Они лежали и в коридорах, и в хирургическом отделении. Мест не хватало. Прачечная давно не работала, не было мыла, щелока, горячей воды. Дрова экономили с весны, чтобы как-то обогреваться зимой. Больные лежали в своем белье, в одежде, все это кишело тифозными вшами. Врачи, сестры, сиделки заражались часто. Перед обходами пропитывали рукава и воротники халатов керосином, но это не спасало.
Сыпнотифозные в кризисе, в горячке, становились буйными. Их мучили галлюцинации, они ловили чертиков, метались, вскакивали. За неимением успокоительных их привязывали к кроватям. Больные кричали, выли, пели. В палате стоял такой шум, что невозможно было разговаривать. Чтобы дать указания двум фельдшерицам, Михаил Владимирович вышел с ними в коридор.
– Почему вы не записываете? Надеетесь на свою память? – раздраженно спросил он.
– Так лекарств нет. Чего ж записывать?
Михаил Владимирович отправился к главному врачу. Это был молодой человек по фамилии Смирнов, когда-то окончивший полтора курса на химическом факультете, большевик с долгим партийным стажем. Пять лет царской каторги за плечами. Надежные связи где-то на самом верху, то ли в ЧК, то ли в ЦК.
Из всех кабинетов Смирнов выбрал для себя тот, что когда-то принадлежал Михаилу Владимировичу. Там осталось все, как прежде, только на месте киота с образом Пантелиимона Целителя висели портреты Ленина и Троцкого. Да еще печка стояла новая, жаркая. Смирнов так любил тепло и запах дыма, что подтапливал даже летом, не заботясь об экономии дров.
В кабинете хранилась часть личной библиотеки Михаила Владимировича. Смирнов ничего, кроме газет, не читал, однако книг не отдал, так и пылились они в запертых шкафах.
Одним из первых декретов новой власти «всякое как опубликованное, так и не опубликованное научное, литературное, музыкальное или художественное произведение, в чьих бы руках оно ни находилось», было объявлено государственным достоянием. Забрать книги профессор Свешников не мог.
Еще недавно заходить в свой бывший кабинет казалось мучением. Михаил Владимирович избегал встреч со Смирновым. А теперь стало безразлично, кто там сидит за столом, какая подлая физиономия багровеет на фоне зеленой плюшевой шторы. Больных было жалко, они страдали, умирали, и хотелось что-то для них сделать.
Все в больнице знали, что Смирнов торгует больничными продуктами и лекарствами, но никто не смел мешать ему. Одни боялись, считали бесполезным делом обращаться в какие-то вышестоящие инстанции с жалобами, другие были в доле.
Смирнов никогда не здоровался и вид имел надменно-отрешенный, словно постоянно думал о высоких материях, о классовой борьбе и мировой революции и бытовые мелочи его не заботили.
– Слушаю вас, товарищ Свешников.
– Три дня назад в больницу завезли лекарства, инструменты, перевязочные средства и белье, – сказал Михаил Владимирович и, не дожидаясь приглашения, сел в кресло напротив стола.
– Ну?
– Теперь ничего нет. Я не спрашиваю вас, куда оно все подевалось. Я хочу спросить только, чем мне лечить больных?
– Да будет вам, профессор. – Смирнов скривил в улыбке пухлые красные губы. – Что вам-то до этих вшивых? Угощайтесь! – Он пододвинул к краю стола пачку дорогих французских папирос.
Курить хотелось, но угощаться из этой пачки Михаил Владимирович не стал. Он вытащил из кармана листки серой бумаги, исписанные каракулями сестры-хозяйки, и положил на стол.
– Вот копия накладной. Перечень того, что получила больница. За три дня такое количество морфия, глюкозы, спирта и всего прочего, что здесь перечислено, израсходовать больница не могла. Предупреждаю вас, что сам документ я приложил к письму на имя наркома Семашко.
– Стало быть так? – Смирнов прищурился. – Стало быть, донос на меня настрочили? Не ожидал. Честное слово, не ожидал. Где совесть русского интеллигента? Где ваша офицерская честь? Ну-с, что скажете, ваше благородие, господин бывший царский генерал?
Михаил Владимирович блефовал. Никакого письма не было. Впрочем, он готов был его написать, ради тех, кого товарищ Смирнов называл вшивыми.
– Что скажу? Посоветую как можно скорее вернуть больничный запас медикаментов. Доставайте лекарства, где хотите, выкупайте на собственные средства у барыг, которым вы их продали. Сейчас для вас это единственный способ уцелеть.
Смирнов открыл рот, часто, быстро заморгал, принялся чиркать спичкой. Руки его дрожали, бумажный мундштук прилип к губе. Михаил Владимирович не стал ждать, когда он опомнится и ответит. Встал и вышел.
«Храбрец, молодец, поздравляю, – повторял он про себя, пока шел по коридору, спускался по лестнице, – хорошо, что няня заранее приготовила узелок с сухарями и сменой белья. Впрочем, вряд ли это понадобится. У Смирнова связи. Он добьется, чтобы меня сразу к стенке».
Глава пятая
Германия, поезд, 2007
Соня поставила на стол бумажный стакан. Кофе был жидкий и приторно сладкий.
«Я не могла положить столько сахару. Стоп. Что я делала пять минут назад? По коридору проехала тележка из буфета. Чипсы, орешки, шоколад. Я попросила кофе. Но я не хотела. Я знаю, в поездах он всегда паршивый. Ой, мамочки, я ничего не помню. Я не понимаю, откуда взялся этот стакан и что вообще со мной происходит?»
Провал в памяти так изумил Соню, что она даже не испугалась. Никогда ничего подобного с ней не случалось. Фриц Радел сидел напротив и смотрел на нее из-под лохматых бровей.
«Я просто задумалась и заказала кофе машинально, не отдавая себе отчета. Я заказала, а он заплатил. Конечно, заплатил он, я совершенно не помню, как доставала мелочь из сумки. Господи, кто он такой? Что ему от меня надо? Почему я никак не могу от него избавиться?»
В купе никого, кроме них двоих, не было. Радел молчал и смотрел на Соню. Мерно стучали колеса, слышались приглушенные голоса за стенкой, в соседнем купе. Давно стемнело. За черным окном промелькнули огни маленькой станции. Соне показалось, что она вынырнула из тяжелой воды или зыбучих песков и эта неведомая субстанция съела все ее силы. Тело стало другим, чужим, вялым. Ей было лень шевельнуться.
– Тебе плохо, Софи, – это прозвучало без всякой вопросительной интонации.
Он не спрашивал. Он давал команду. Установку. Соня пыталась ответить, но не могла.
– Я предупреждал тебя, кофе здесь ужасный, но ты не послушала. Ты должна меня слушаться, Софи, иначе тебе будет еще хуже.
– Что? Что ты сказал?
Соне с трудом удалось произнести эти несколько слов, и только тут до нее дошло, что они оба говорят по-русски.
– Тебе очень плохо. Тело тяжелое, слабое, болит голова. Она болит так сильно, что ты не можешь вспомнить, откуда взялся этот стакан, зачем в нем столько сахару. Ты думаешь, я мог подсыпать что-то в твой кофе? Нет, милая, это было бы слишком просто. – Он протянул руку через стол, взял стакан и залпом выпил все, что там осталось.
«Я сплю, мне снится кошмар. Мне снится этот вкрадчивый упырь, сейчас открою глаза и он исчезнет», – думала Соня.
Но глаза ее были открыты, и Фриц Радел упорно не исчезал.
– Ужасная гадость. Сироп, а не кофе. Слушай меня внимательно, Софи. Только я могу помочь тебе, я сниму боль, если ты будешь хорошо себя вести.
Соня хотела встать, слегка подалась вперед, оперлась рукой о подлокотник, напрягла ноги.
– Сидеть! – тихо приказал Радел.
Последовал такой сильный приступ головной боли, что брызнули слезы. Лицо Радела стало мутным, зыбким.
– Я предупреждал, что будет хуже. Сиди смирно. Слушайся меня, тогда боль пройдет. Послушание или боль. Я могу сделать больно, могу снять боль. Вот она отпускает, уходит, ее почти нет. Но если ты не будешь слушаться, она вспыхнет с новой силой, она станет такой нестерпимой, что тебе захочется умереть. И это в моей власти.
Боль немного стихла.
«Он сумасшедший или я? Что он бормочет? Почему мне так плохо? Я не поддаюсь гипнозу. Хотя – откуда я знаю? Еще никто никогда не пробовал меня гипнотизировать», – подумала Соня и снова попыталась встать.
На этот раз удалось. В ушах звенело, глаза слезились, все расплывалось в радужной зыбкой дымке, голова кружилась, она чуть не упала. Фриц Радел сидел, развалившись, вытянув ноги поперек прохода.
– Что с тобой, Софи? Куда ты? – спросил он по-немецки.
– Мне надо выйти, – ответила она по-русски.
– Извини, я не понял.
– Ты только что отлично говорил по-русски, почти без акцента.
– Софи, если ты обращаешься ко мне, то напрасно. Я не знаю русского языка.
Он произнес это с искренним недоумением, улыбнулся растерянно и смущенно. Поезд дернулся, Соня не удержалась на ногах, опустилась на лавку.
– Кажется, я чем-то обидел тебя? – спросил он и тронул ее руку. – Объясни, что не так?
– Все в порядке, – сказала Соня по-немецки, – просто мне надо выйти.
– Погоди. Туалет все равно пока занят, а ты, я вижу, немного не в себе. Тебе лучше посидеть и успокоиться.
– Я спокойна. Дай мне пройти.
– Пройти? Да, конечно, извини, – он убрал ноги, – иди, но будь осторожна. Ты определенно плохо себя чувствуешь.
Держась за поручни, качаясь, едва не падая, Соня добрела до конца вагона. Туалет действительно был занят. Она вышла в тамбур, прижалась лбом к холодному стеклу. Так хотелось убедить себя, что ничего не было и голова болит сама по себе, от перепада давления, от усталости. Достаточно принять таблетку, и все пройдет. Через полтора часа поезд остановится в Зюльте. Дед встретит ее на платформе. Она вежливо попрощается с Фрицем Раделом и никогда больше не увидит его.
– Надо еще раз позвонить Зубову, – пробормотала она, обращаясь к своему смутному отражению, – вдруг он успел что-то узнать и объяснит мне, кто такой этот Радел?
Но телефон она оставила в купе.
Когда она вернулась, Фриц встретил ее открытой улыбкой, словно ничего не произошло. Соня села, принялась рыться в сумке. Нашла телефон. Хотела включить, но передумала. При Раделе делать этого не стоило. За полтора часа все равно ничего не изменится. Вряд ли Зубов успел узнать что-нибудь и уж точно никак ей сейчас, здесь, не поможет.
– На чем мы остановились? – вдруг спросил Радел и тут же сам ответил: – Кажется, на Парацельсе.
«Парацельс? Разве мы говорили о нем? О чем вообще мы говорили до того, как мне стало плохо? Либо он издевается надо мной, либо я схожу с ума».
– Фриц, ты мог бы зарабатывать приличные деньги фокусами с гипнозом, – быстро произнесла она по-русски, стараясь не отводить взгляда от его глаз.
Она хотела разглядеть там, в глубине желтой мути, какую-нибудь эмоцию, движение мысли. Но не могла. Глаза были пусты и мертвы, словно перед Соней в уютном купе первого класса сидело нечто неодушевленное, сложный хитрый механизм, человекообразное чудо кибернетики из далекого будущего.
Он слегка кашлянул и продолжил говорить ровным механическим голосом:
– Тебя интересовало, был ли Альфред Плут знаком с учением Парацельса и насколько серьезно это учение на него влияло.
Соне казалось, что ничего подобного она не спрашивала, вообще не произносила ни слова о Парацельсе и Альфреде Плуте, однако она решила не возражать. Пусть болтает что хочет, терпеть осталось полтора часа.
– Так вот, Плут родился через шесть лет после кончины Парацельса. Весьма показательно, что величайший врач умер сравнительно молодым, особенно по нынешним меркам. Ему было всего сорок восемь. В отличие от некоторых алхимиков он действительно умер. В девятнадцатом веке в Зальцбурге, на кладбище Святого Себастьяна, эксгумировали его останки. Кстати, оказалось, что рост его не превышал ста пятидесяти сантиметров и телосложение он имел весьма женственное. Узкие хилые плечи, широкий таз.
– Бедняга, наверное, поэтому не было у него семьи, детей, вообще никакой любви, – тихо заметила Соня.
Она была почти уверена, что Радел ее не услышит. Но он услышал, шевельнул бровями, повторил:
– Никакой любви.
– Но все-таки больных своих Парацельс любил, жалел, – сказала Соня, продолжая вглядываться в желтые мертвые глаза. – Он лечил сифилис и проказу, пытался помочь, спасти, облегчить страдания.
– Помочь. Спасти. Облегчить страдания. Зачем? – Радел повел плечом и брезгливо скривил губы.
– Низачем. Просто так, – Соня вздохнула и отвернулась.
Возражать, спорить вовсе не хотелось. Это было скучно и бессмысленно.
– У Парацельса случались великие прозрения, – сообщил Радел и легко притронулся к Сониной руке.
– О, да, безусловно, – кивнула Соня и отдернула руку.
Прикосновение его пальцев было неприятно. Она отодвинулась подальше, спрятала руки в рукава свитера. Он не обратил на это внимания, продолжал вещать, четко выговаривая каждое слово, правильно расставляя паузы и интонационные ударения.
– Альфред Плут, безусловно, читал труды Парацельса и почерпнул из них много полезного. Парацельс утверждал, что медицина есть алхимия микрокосма. Внешнее небо является путеводителем по небу внутреннему. Небо внутри нас, оно лежит не перед нашим взором, а за ним, поэтому мы свое внутреннее небо видеть не можем, ибо никто не в силах видеть сквозь живую плоть. Но, изучая движения светил, мы можем соотнести их с тем, что происходит у нас внутри. Луна влияет на мозг, сердце связано с Солнцем, Венера – это почки, Юпитер – печень, Марс – желчный пузырь. Единство внешнего и внутреннего космоса – основа классической алхимии, идущая от «Tabula smaragdina». Небо наверху, небо внизу. Звездное небо надо мной и моральный закон внутри меня, известный категорический императив Канта. Впрочем, старик Иммануил лукавил. Небесные светила не знают морали, у них иные законы. Скажи, что тебе приходит на ум, когда ты слышишь имя Парацельса?
– Желудок – алхимик в животе, – произнесла Соня, продолжая смотреть в темное окно.
Это высказывание она нашла на последних страницах лиловой тетради. Михаил Владимирович Свешников выписывал для себя кое-что из Парацельса в феврале 1919 года.
– Разумеется, – Радел кивнул, – переваривание пищи в определенном смысле процесс алхимический. Вообще человеческий организм – самое наглядное подтверждение того, как, в сущности, убога и беспомощна позитивистская наука. Вот ты занимаешься биологией, наукой о живом. Чем отличается живое от неживого, ты можешь объяснить?
– Определение живого есть в любом школьном учебнике. Если ты изучаешь историю медицины, должен знать.
– В учебниках перечислены признаки живого. Метаболизм, деление клеток, размножение, старение. Но нет строгого определения. Между тем ни один из названных признаков не является абсолютно специфическим именно для живого. Размножаются и кристаллы. Сложные химические каталитические реакции происходят и в неживых системах. Тебе никогда не приходило в голову, что биология – наука, предмет которой до сих пор не определен?
– Да, я читала об этом. Эрвин Бауэр, «Теоретическая биология». В тридцатые годы это направление стало модным. Но ненадолго.
– Нет, Софи. Это не просто модное направление. Это одна из истин, которая помогает победить первобытный трепет перед неведомым и стать творцом, а не тварью. Кстати, как ты относишься к алхимии?
– Хорошо отношусь. С интересом.
– Надеюсь, ты согласна, что без нее не было бы ни химии, ни медицины. Алхимия породила науку.
– Ей за это большое спасибо.
– Ты напрасно иронизируешь. Настоящий ученый, исследователь, должен опираться на вечные неизменные принципы. Они есть в алхимии, но их нет и не может быть в науке, которая вся сплошь состоит из зыбких догадок, смутных теорий. Одна гипотеза противоречит другой, каждая следующая опровергает предыдущую. Они рождаются, умирают, теряют смысл. Подумай об этом, Софи.
– Да, непременно. Но сейчас мне лень думать. Я устала и хочу спать.
– Голова все еще болит?
– Нет. Она и не болела. С чего ты взял?
– Ты очень бледная, глаза красные. Вообще выглядишь плохо.
– Да? – Соня взглянула в зеркало над спинкой сиденья. – По-моему, я выгляжу вполне нормально. Просто здесь такое освещение. Ты тоже бледный как мертвец.
За окном мелькали огни, ровный ряд фонарей вдоль дамбы, соединяющей остров с материком, а дальше, по обе стороны, холодное неспокойное море. Радиоголос объявил, что через несколько минут поезд прибудет в Зюльт-Ост.
Лицо Фрица странно заерзало, словно кто-то поправил невидимой рукой мягкую резиновую маску.
– Как мертвец. Мертвец, – повторил он и тихо засмеялся.
Москва, 2007
– Проверь еще раз! – сердито сказал Зубову старик.
– Послушай, хватит дергаться. Рано или поздно она должна включить телефон.
– Ты предупредил ее, чтобы она его вообще никогда не выключала, чтобы постоянно была на связи? Предупредил или нет?
– Да, да, успокойся, ты же знаешь, насколько она рассеянная.
Зубову сейчас больше всего хотелось домой. Дома его ждала трехлетняя внучка Даша. Ее редко привозили к бабушке с дедушкой. Полчаса назад позвонила жена и сказала: если он хочет пообщаться с внучкой, должен ехать сию секунду. Ребенку пора спать. Даша взяла трубку и успокоила его, что спать не ляжет, будет ждать деда хоть до утра.
Утром Зубов улетал в Германию, и ко всему прочему ему нужно было поспать этой ночью хоть немного.
Иван Анатольевич поглядывал на часы. Он не мог уехать до тех пор, пока не явится его шеф, Петр Борисович Кольт. Но когда он явится, придется еще сидеть часа полтора, слушать вредного многословного старика, обсуждать то, что он соизволит поведать, принимать какие-то важные решения.
– Если тебе невмоготу, можешь уматывать, – сердито проворчал старик, – мы с Петром обойдемся без тебя.
Зубов ничего не ответил, в очередной раз набрал номер Кольта.
Петр Борисович присутствовал на некоем особенном мероприятии, с которого рад был бы удрать, но не мог. Под Москвой, в бывшем дворце графа Дракуловского, проходила презентация книги Светика, дочери Петра Борисовича.
Зачем понадобилось балерине создавать художественное произведение о собственной жизни, вопрос сложный, почти философский. Но произведение было создано, книга вышла. Петр Борисович основательно потратился на творческий порыв своей красавицы дочки. Он оплатил издание книги, рекламную кампанию, несколько презентаций. Петр Борисович был человек разумный, прагматичный, но и ему приходилось иногда делать глупости.
Во дворце, в музейных интерьерах, собрался шикарный московский бомонд, самые жирные и желтые сливки. Публику развлекали цыганский хор с медведем, несколько модных эстрадных групп и популярный телеведущий в качестве конферансье.
Иван Анатольевич имел несчастье позвонить шефу в самый ответственный момент, когда в бывший графский бальный зал вынесли книгу Светика, роман «Благочестивая: Дни и ночи» в виде двадцатикилограммового торта.
Сквозь приглушенное рычание Петра Борисовича в трубку прорывался усиленный микрофоном жизнерадостный баритон телеведущего:
– Чтобы вам было так же сладко читать, как кушать этот кондитерский шедевр, пупсики мои драгоценные.
– Резать должен я, – рычал шеф, – миссия у меня почетная, понимаешь ли. – Он то ли матюкнулся, то ли икнул. – Погоди, Ваня, еще минут пятнадцать здесь побуду и попробую тихо умотать.
– Петр Борисович! Мы вас ждем! Пожалуйста, возьмите нож в руки! – громко потребовал ведущий.
– Все, Ваня. Извини, – просипел в трубку шеф.
– Ну, что он там? – спросил старик, сердито хмурясь.
– Торжественно режет «Благочестивую», – вздохнул Зубов, – разрежет и сразу сбежит. Если пробок не будет, явится к нам через час.
Москва, 1918
Корреспондент «Правды» не пожалел красок, описывая пышные похороны комиссара по делам печати. До роковых выстрелов Володарский был известен лишь тем, что закрыл все оппозиционные газеты. После смерти он мгновенно преобразился в легендарного героя революции.
«Еще с утра над городом повисли мрачные свинцовые тучи и льет непрекращающийся проливной дождь. Льет дождь и сливается со слезами горечи, злобы. Ибо плачет сегодня петроградский рабочий, провожая останки убитого вождя и трибуна своего. Беспрерывной чередой проходят мимо гроба сотни и тысячи рабочих, красноармейцев, женщин. Слышатся рыдания, клятвы. Цветы и венки берутся у гроба на память».
– Похоже, они рады, они торжествуют, – шепотом заметил Агапкин, встретившись с Мастером через пару дней в том же трактире, – они празднуют эту смерть как свою личную победу.
Колбасы в трактире уже не подавали, но картофельные оладьи оказались вполне съедобными. К ним принесли топленое масло в маленьких соусниках. Оно было старым, горчило, пахло плесенью, однако Федор, жмурясь от удовольствия, съел все, до последней крошки.
– Всякая религия нуждается в святых мучениках, – грустно усмехнулся Мастер и чуть слышно добавил: – Нет страшнее греха, чем воровать у своих.
– Володарский воровал? Они сами его устранили? – шепотом спросил Федор, поперхнулся куском и мучительно закашлялся.
– Какая разница? – Мастер сильно хлопнул его ладонью по спине. – Правды все равно никто никогда не узнает. Останутся официальные мифы и невозможная путаница слухов. Будьте осторожны, Дисипль. Это только начало. Молчите, слушайте, мотайте на ус.
Мрачно возвышенный тон большевистских передовиц вполне отражал то общее настроение возбуждения, приподнятости, траурного торжества, которое царило в Кремле.
После убийства Володарского вождь бегал по кабинету, голос его стал сиплым, руки тряслись так сильно, что писать он не мог. Он диктовал приказы, распоряжения, бесконечные записки, выступал на заседаниях, кричал в телефонную трубку, одинаково нервно, шла ли речь об арестах, расстрелах, дипломатических переговорах или о норме отпуска хлеба и хозяйственного мыла железнодорожным рабочим.
Рядом с энергичным вождем Агапкин чувствовал себя вялой бесплотной тенью. Формально его начальником был Дзержинский, но еще ни разу Железный Феликс не отдал ему ни одного приказания, не потребовал отчета, даже вопроса ни одного не задал. После быстрого знакомства, сухого рукопожатия они лишь здоровались, встречаясь в кремлевских коридорах, в зале заседаний, в кабинете или в квартире Ленина.
Польский дворянин, невысокий худой блондин с жидкой бородкой, лицом полинявшего монгольского хана и вкрадчивыми повадками то ли тайного иезуита, то ли карточного шулера, улыбался Агапкину, вежливо раскланивался с ним. Всякий раз при встрече Федора слегка знобило.
Остальные обитатели Кремля и Лубянки старались смотреть мимо Агапкина, редко кто перекидывался с ним парой слов. Чужак, беспартийный, без революционного стажа, но с законченным высшим образованием. По их разумению, он не имел никакого права так легко и стремительно взлететь на самый верх их номенклатурной пирамиды, стать доверенным лицом Ильича.
Послания для Бокия вождь никогда не писал при свидетелях. Никто, кроме Агапкина, не знал об этой переписке. Федор передавал маленькие, сложенные вчетверо, не запечатанные в конверты клочки бумаги Гайду, тот доставлял их в Питер и привозил ответы от Бокия, точно такие же клочки. Ленин быстро читал, потом Агапкин жег бумажки в большой медной пепельнице. Он перестал заглядывать в записки, чтобы больше не бледнеть и не вздрагивать.
Кроме связного, Федор был еще и личным врачом вождя, и это тоже держалось в строжайшей тайне.
Доктор Агапкин многому научился у профессора Свешникова. Он стал неплохим диагностом, но не мог понять, чем именно болен вождь. Приступы головной боли удавалось облегчать специальным массажем. Федор, смазав руки мятным бальзамом, по тридцать – сорок минут разминал ленинские виски, ушные раковины, затылок, заднюю часть шеи. Горячие ножные ванны с отварами трав расширяли сосуды. Истерические припадки удавалось купировать настойкой мелиссы, пустырника и валерианового корня, массажем кистей рук и стоп. Особая дыхательная гимнастика под руководством Федора помогала вождю уснуть.
Иногда перед сном Ленин вдруг брал с полки альбом с семейными фотографиями, долго, молча перелистывал, поглаживал пальцем лица матери, отца, братьев, сестер, вглядывался в кудрявого, ангельски хорошенького мальчика, которым он был когда-то, и по щекам его текли настоящие, крупные слезы. Он шумно сморкался, мягкий курносый нос краснел, он поднимал лицо, глядел в стену, и глаза его, обычно узкие, сощуренные, становились огромными, как блюдца.
Такими же огромными стали эти глаза, когда однажды Ленин развернул очередное послание от Бокия. Клочок бумаги выпал из толстых пальцев, подхваченный легким сквозняком, пролетел в другой конец кабинета.
– Проститутка! Сволочь! Предатель! – выкрикнул вождь, побагровел и стал заваливаться на бок.
Федор едва успел подхватить его, не дал грохнуться со стула. Припадок был таким мощным, что у Федора мелькнула мысль: один не справлюсь, надо звать на помощь.
На руках он дотащил бьющееся в судорогах державное тело до дивана, влил в рычащую мокрую пасть успокоительную настойку, принялся за массаж, мял горячие ушные раковины, натирал виски бальзамом, ловил дергающиеся маленькие ступни, массировал, бормотал, как заклинание:
– Владимир Ильич, тихо, тихо, сейчас все пройдет, все будет хорошо.
Наконец судороги ослабли, дыхание стало частым, хриплым. Федор посчитал пульс, припал ухом к груди. Сердце вождя билось быстро, но ровно. Он постепенно приходил в себя. Федор приподнял ему голову, дал воды.
– Как вы, Владимир Ильич?
Вождь хрипло дышал ртом, глаза прикрыты, лицо багровое, мокрое от пота. Тело несколько раз дернулось и тяжело, расслаблено обмякло. Припадок закончился.
– Дзержинского ко мне, – пробормотал он, едва шевеля вялыми губами.
Записка валялась на полу, возле телефонного столика. Прежде чем снять трубку, Федор нагнулся, поднял. Вождь отдыхал после припадка, глаза его были плотно закрыты. Повернувшись спиной к дивану, Федор взглянул на мелкие косые строчки и неожиданно для себя прочитал все, от первой до последней буквы.
«Мирбах – рейхсканцлеру Гертлингу. Лично, сов. секретно.
Ввиду возрастающей неустойчивости большевиков мы должны подготовиться к перегруппировке сил. Монархисты и кадеты, возможно, составят ядро будущего нового порядка. С должными мерами предосторожности и, соответственно, замаскированно мы начали бы с предоставления этим кругам желательных им денежных средств. Большевистская система находится в агонии.
При сильной конкуренции Антанты требуется около трех миллионов марок в месяц. В случае неизбежного в скором времени изменения нашей политической линии следует считаться с более высокими потребностями».
«Ф. Кюльман (статс-секретарь Имперского казначейства) – Мирбаху, лично, сов. секретно.
Запрошенная Вами ежемесячная сумма предоставляется впредь до особого распоряжения. Прошу в особенности противодействовать влиянию Антанты в означенных Вами кругах всеми способами».
– Записку спрятали, не забыли? – послышался спокойный голос с дивана.
– Да, Владимир Ильич.
– Ну и славно. Феликс видеть не должен. Мне уже лучше. Звоните, наконец!
Дзержинский явился скоро, через четверть часа. Ленин сидел в кресле, за столом. Он быстро оправился, словно не было никакого припадка. Губы сжались, глаза сузились до щелочек.
Принесли чай, тарелку с бутербродами.
– Вы абсолютно уверены в надежности ваших людей в германском посольстве? – спросил вождь.
– Да, Владимир Ильич, – кивнул Дзержинский, – а что случилось?
– Случилась мерзость, – вождь перегнулся через стол. – Я получил перехваченную шифровку. Посол подробно докладывает своему правительству обо всех наших тайных подготовительных операциях.
«Что он говорит? Там ведь речь вовсе не об этом», – испуганно подумал Агапкин и вытер вспотевший лоб.
– Владимир Ильич, такая информация просто не могла миновать посла, – мягко заметил Дзержинский, – нас заранее предупредили, что придется поставить его в известность.
– Да! – резко выкрикнул Ленин. – Да! О паспортах и визах посол не может не знать. Но о наших личных зарубежных счетах он знать не должен! Разве его собачье дело, сколько и в какие банки положили вы, я, товарищ Свердлов, товарищ Троцкий? Какого черта?! Именно за это и было заплачено вашим верным людям! И вот, оказывается, послу все известно! Теперь их поганые газетенки начнут вопить, что мы наложили в штаны и готовимся бежать из России!
Федор сидел в углу, у окна. «Хитрит, бес. Реальное содержание шифровки подменяет вымышленным. Врет даже своему железному псу», – пронеслось у него в голове.
Он не видел лица Дзержинского, но заметил, как натянулась кожа на узком бритом затылке.
– Это ложь, грязная провокация. Господина посла нарочно ввели в заблуждение. Мы найдем виновных и накажем их.
– Феликс Эдмундович, не будьте младенцем! – вождь покачал головой и оскалился в злой усмешке. – Ну, расстреляете вы десять, сто, тысячу провокаторов и предателей. Все равно буржуазная пресса подхватит и разнесет этот скандал. Чем активней мы будем опровергать их грязную клевету, тем больше людей на Западе в нее поверит. Да и эта сволочь, господин посол, вряд ли согласится встать на нашу сторону в таком щекотливом вопросе.
– Что же делать?
– Единственный способ погасить скандал – устроить другой, еще более громкий. Как поживает ваш новый сотрудник, отчаянный юноша, друг поэтов и артистов? – Ленин подмигнул и хихикнул.
– Блюмкин? – Дзержинский вздрогнул, произнес эту фамилию с некоторой брезгливостью, будто сплюнул, и впервые обернулся, быстро взглянул на Агапкина.
– Не беспокойтесь, Феликс Эдмундович, – добродушно усмехнулся Ленин, – товарищ Агапкин свой. Я полностью ему доверяю.
«Чего он хочет? – думал Федор, пряча глаза. – Почему не дал мне уйти?»
– Владимир Ильич, Яшке Блюмкину восемнадцать лет. Он сопляк, авантюрист и хвастун.
– Именно такой и нужен.
– Это безумие!
– Феликс Эдмундович, – вождь грустно вздохнул, накрыл его руку ладонью, – безумие не воспользоваться таким замечательным шансом.
– Владимир Ильич, но как же? – хрипло прошептал Дзержинский.
– Совсем вы, голубчик, не думаете о своем здоровье, – ласково заметил Ленин. – Переутомились, мало спите, много курите. Поэтому стали туго соображать. Не мешайте Блюмкину. Просто не мешайте ему, это все, что от вас требуется. Каша уж заварилась, ничего не поделаешь, надо расхлебывать.
Дзержинский молча кивнул.
Когда он вышел, вождь расслабленно откинулся на спинку кресла, подозвал к себе Агапкина.
– Я бы хотел, чтобы при этом важном разговоре присутствовал Глеб Иванович. Но поскольку такой возможности нет, вы будете его глазами и ушами. Запомните все, что происходило сейчас тут в кабинете. Запомните хорошенько, потому что записывать ничего нельзя. Свяжитесь с Глебом Ивановичем и расскажите ему лично при встрече.
– Владимир Ильич, но я ничего не понял из этого разговора, – честно признался Агапкин.
– А вам и не надо понимать. Просто запомните и перескажите.
«Вот что! – подумал Агапкин. – Теперь я сам должен сыграть роль клочка бумаги. Я живая записка. Не исключено, что кто-нибудь скоро сожжет меня в пепельнице».
Зюльт, 2007
Дед ждал Соню на перроне. Первым увидел его шапку с помпонами Фриц Радел.
– Господин Данилофф, мы здесь! – крикнул он и помахал рукой.
Хлестал холодный, косой дождь, брызги залетали под зонтик. Дед шел медленно, обычно Соне приходилось сдерживать шаг, чтобы не обгонять его, но на этот раз она еле волочила ноги и отставала.
Радел взял деда под руку и оживленно болтал, рассказал, как ехал с Соней в одном купе, узнал, но не решался заговорить. А потом увидел ее в Пинакотеке, у картины Альфреда Плута, и тут уж не сдержался.
– Микки, ваша внучка поразительно непрактичный и рассеянный человек, она вся в своих мыслях, кажется, думает только о биологии. Я помог ей сделать кое-какие мелкие покупки, но не уверен, что она была рада моей компании. Скажите, она всегда такая серьезная? Она когда-нибудь улыбается?
– Да уж, Софи нельзя назвать общительной барышней. – Дед хмыкнул и тут же переменил тему. – Фриц, вы долго пробудете в Зюльте?
– Барбара неважно себя чувствует, я останусь с ней на пару недель.
Он исчез только у крыльца виллы, отдал пакеты с Сониными покупками фрау Герде, экономке деда, пожелал всем спокойной ночи и растворился в темноте.
– Ты плохо выглядишь, – сказал дед.
– Я устала. – Соня уселась в кресло в гостиной, поджала ноги. – День был ужасно длинный. Скажи, ты давно знаком с этим Раделом?
– Давно. Лет пять, наверное. Он приезжает иногда к Барбаре, она в нем души не чает. По-моему, он вполне симпатичный и удивительно много знает. Пару месяцев назад Барбара устроила вечеринку в честь своего дня рождения, собрала полгорода. Я бы умер со скуки, если бы не Фриц. Он так интересно рассказывал о древнекитайской медицине. Что, он не понравился тебе?
– Нет.
– Почему?
– Он вел себя слишком навязчиво. Как ты думаешь, он знает русский?
– Кто? Радел? – дед даже слегка привстал в своем кресле. – Конечно, нет. Почему ты вдруг спросила?
– Мне показалось, он понимает. Я говорила по телефону, он слушал.
– А что еще ему оставалось делать, пока ты говорила? Заткнуть уши? Кстати, интересное совпадение, твой папа тоже пытался убедить меня, что Фриц Радел знает русский, но скрывает это.
– Папа? Разве они с Раделом встречались? – спросила Соня и почувствовала, как все у нее внутри похолодело.
– Ну да, несколько раз он подходил к нам на берегу, а однажды мы вместе сидели в кафе.
После того как Соня решилась сообщить о папиной смерти, дед молчал двое суток. Не ел, только пил теплую воду с медом из Сониных рук. Даже верную Герду не подпускал к себе. Сидел в кресле, на балконе, закутанный в вязаную шаль, накрытый пледом, смотрел сухими глазами на дымчатый морской горизонт, слушал крики чаек. Потом попросил Соню рассказать, как это произошло. Выслушал спокойно, погладил Соню по голове, произнес чужим ровным голосом:
– Десять дней.
– Что ты имеешь в виду? – спросила Соня.
– Целая жизнь может уместиться в десять дней. Шестьдесят семь лет мы с твоим папой не виделись. Встретились и опять расстались. Одно утешает: эта разлука будет куда короче той, прошлой.
Десять дней, которые папа провел здесь, на острове, в рассказах деда действительно преобразились в целую жизнь. Он помнил каждую минуту, каждую деталь. О чем они говорили, что ели, во что одет был Дмитрий, какая стояла погода, с какой стороны дул ветер, какие облака плыли по небу. И сейчас он опять с удовольствием погрузился в воспоминания. Ему дела не было до Фрица Радела, просто очередной повод поговорить о Дмитрии. Деду казалось, что, пока он говорит, его сын жив. Он где-то здесь, рядом, просто вышел на минуту и сейчас вернется.
– Микки, неужели вы не видите, она засыпает, – проворчала Герда, не поднимая глаз от своего вязания, – ей надо в душ и в постель.
– Мы разве не будем ужинать? – спросил дед.
– Нет. Я правда очень устала.
– И ты даже не расскажешь, как съездила в Мюнхен?
– Завтра, дед, завтра, прости.
– С утра ты уйдешь в лабораторию. Хотя бы скажи, ты нашла в Пинакотеке то, что искала?
– Да. Я видела эту картину. – Соня сползла с кресла, прошла босиком через гостиную.
– Соня! – окликнул ее дед.
Она остановилась в дверном проеме, обернулась.
– Сонечка, с тобой все в порядке? Ты ничего не скрываешь?
Соня молча помотала головой.
– Микки, оставьте девочку в покое. – Герда отложила вязание. – Это вы можете себе позволить спать до одиннадцати. А она встала сегодня в шесть утра и завтра опять поднимется в семь, побежит в свою лабораторию, к крысам. Пойдем, Софи, я дам тебе чистое полотенце.
Соня долго сидела в углу душевой кабинки, съежившись, обхватив колени. Голова уже совсем не болела, но было так тоскливо, что хотелось выть.
День этот длился бесконечно. От Зюльта до Гамбурга два с половиной часа в поезде, потом из Гамбурга в Мюнхен еще два с половиной. Итого туда-обратно десять часов пути. Нет, не в этом дело. В германских поездах спокойно и уютно. Можно читать, дремать, смотреть в окошко. Все было бы отлично, если бы не появился Фриц Радел. Зачем он появился? Что ему надо? Вроде бы неглупый, образованный человек. Но от него веет какой-то необъяснимой жутью. Когда он рядом, болит голова. А потом остается смутная тревога, свинцовая, безнадежная тоска.
Соня вылезла из душа, забилась под одеяло, но никак не могла согреться и уснуть. На тумбочке у кровати лежала лиловая тетрадь Михаила Владимировича Свешникова. Первые три дня здесь, в Зюльте, Соня потратила на то, чтобы распечатать текст на компьютере, и теперь знала его почти наизусть. Но была еще одна тетрадь. Дед вручил ее, ничего не объясняя, только сказал:
– К препарату это не относится, это рукопись неоконченного романа, вернее черновик романа, который так и не был написан. Автор мой близкий друг. Потом как-нибудь я расскажу тебе о нем. Будет время, обязательно почитай.
Времени не было. Его не оставалось ни на что, кроме белесых тварей. Соня постоянно занималась ими. Только о них она думала, проводила в лаборатории долгие часы. Перед сном, лежа в постели, она читала исключительно то, что прямо или косвенно касалось поисков вечной молодости. Древний Египет, Тибет, средневековые алхимики, тайные ордена, секретные лаборатории.
Да, все дело именно в тварях. Из-за них погиб папа. Из-за них Соня оказалась здесь. Они хотели проснуться – и вот проснулись. Фриц Радел появился рядом с Соней тоже ради тварей. Очередной охотник за бессмертием. Сколько их было? Сколько еще будет? Все они чем-то похожи. Холодные, скользкие упыри.
«Надо просто отвлечься, не думать, забыть, отдохнуть», – решила Соня.
Рука ее потянулась к толстой потрепанной тетради.
Ни на серой картонной обложке, ни внутри не было имени автора и какого-нибудь названия. Только текст, написанный разборчивым летящим почерком, то синими, то черными чернилами, по правилам старой русской орфографии, с ятями и твердыми знаками.
«Этот вежливый господин мне сразу не понравился. Я выбрал наугад один из слитков и попробовал на зуб. На самом деле я не умею отличать поддельное золото от настоящего, но кроме меня об этом никто не знает.
– Если вы беспокоитесь, можете зайти в ювелирную лавку, тут они на каждом шагу. Однако учтите, ваш поезд через тридцать минут, – сказал господин и закурил сигару.
Он не спросил, можно ли считать сделку состоявшейся, не потребовал моей подписи под договором. Его самоуверенность меня злила. Я оттолкнул от себя кожаный мешочек. Проехав по скатерти, между блюдом с остатками жаркого и серебряным соусником, тяжелый мешочек стукнулся о высокую ножку его бокала. Бокал стал падать с медленным изяществом балерины. Я надеялся, что красное вино зальет белые штаны этого самоуверенного надутого сноба, но он вовремя отодвинулся, и вино пролилось на пол.
– Не валяйте дурака, у вас нет выбора, один вы все равно не справитесь, наше сотрудничество взаимовыгодно. – Господин подкинул мешочек на ладони и швырнул назад, через стол.
Мне ничего не оставалось, как поймать его проклятое золото.
К ювелиру я не пошел, сразу отправился на станцию. Паровоз фыркал и вздыхал, дым валил из трубы. Я не спал трое суток и надеялся, что в вагоне первого класса мне удастся вздремнуть.
В купе у окна сидела дама. Лицо ее было закрыто густой вуалью, тонкие пальцы перебирали прозрачные разноцветные бусины маленьких четок. Я поздоровался, она ответила легким кивком. Поезд тронулся, под стук колес я незаметно заснул.
Меня разбудила страшная головная боль, как будто тонкий кинжал пронзил мой мозг, ото лба к затылку. Я с трудом открыл глаза, за окном было темно. В купе горело электричество. Моя соседка сидела напротив, без шляпы, с открытым лицом и смотрела на меня. Рядом на столике я увидел два стакана в медных подстаканниках. Мой был пуст. У соседки еще оставался чай, и легкий пар поднимался над ее стаканом.
– Тебе больно. Смотри на меня. Только я могу снять боль, – произнесла дама.
В моем правом кармане лежал маленький пистолет. Но шевельнуться я не мог. Я не чувствовал своего тела. Я ничего не помнил. Судя по тому, что темно за окном, мы ехали не менее двух часов. За это время в купе должен был зайти кондуктор, проверить билеты. Потом буфетчик с чаем. Я предъявлял билет, расплачивался за чай, наконец, я выпил его. Но все эти простые действия исчезли из моей памяти, будто кто-то аккуратно вырезал их. Остался лишь страшный черный провал, и оттуда звучало змеиное шипение:
– Боль стала невыносимой, жгучей, твой череп наполнен расплавленным свинцом. Я избавлю тебя от боли, если ты будешь меня слушаться.
Старый зануда Теодор предупреждал, но я не поверил. Он говорил, что они непременно меня найдут. Вот уже несколько тысячелетий они ищут именно меня. Я не поверил по той простой причине, что мне всего лишь тридцать. И как мог кто-либо искать меня заранее, пока я еще не родился?
Теодор ничего не возразил на это, только сказал: убивать тебя они не станут. Ты нужен им живой. Они попытаются завладеть твоей душой, ибо тайну нельзя отнять у тебя силой, только ты сам можешь добровольно отдать ее им или кому пожелаешь.
Я спросил, кто они такие. Он ответил: вроде бы люди. Сообщество, нечто среднее между закрытым орденом и сектой. Они называют себя бессмертными и считают, что тайна должна принадлежать им одним. Неизвестно, способны ли они победить смерть, но техникой гипноза они владеют виртуозно. Так что все твои фокусы со стрельбой из-под мышки, метанием ножичков, спринтерским бегом и прыгучестью, как у австралийского кенгуру, ты можешь забить в бутылку, залить сургучом и бросить в открытое море. Авось поймает кто-нибудь, кому все это действительно поможет.
Почему я не спросил Теодора, что же мне делать, как защититься? Потому, что с самого начала счел его речи бредом старого шпиона, помешанного на тайных заговорах и конспирации.
Дама продолжала смотреть на меня. Крупные красные губы едва заметно шевелились. Лицо ее было в точности как на портрете, который показал мне старик Теодор. Квадратная нижняя челюсть. Небольшие серые глаза без блеска, высокий покатый лоб, нос короткий и слегка приплюснутый. На портрете голову ее покрывал массивный напудренный парик, а на выпуклой бледной скуле красовалась черная мушка. Сейчас ни парика, ни мушки не было. Светлые волосы подстрижены и завиты. Глаза подведены.
Пока я разглядывал ее и сравнивал портрет с оригиналом, боль стихла. Я пошевелил пальцами, попробовал приподняться.
– Как вы себя чувствуете? – спросила дама. – Вы напугали меня, я уже хотела звать кондуктора, спрашивать, нет ли в поезде врача.
– Чем же именно я вас напугал? – спросил я севшим голосом.
– Вы положили в свой чай десять кусков сахара, долго размешивали, потом выпили залпом, не морщась.
– Сударыня, – ответил я холодно, – благодарю за участие, но все это вам померещилось. Тут нет ни ложечек, ни оберток от сахара.
– Конечно, нет. В том-то и дело. Выпив чай, вы, сударь, съели ложечки. Свою, затем мою. Вы хрустели ими, как карамельками, а потом принялись за обертки. Вы жевали так аппетитно, словно это была не бумага, а тоненькие пресные крекеры. Я пыталась остановить вас, но вы достали из кармана пистолет. Кстати, вот он, возьмите.
Она раскрыла свою изящную замшевую сумочку и положила на стол мой «Глок».
Она улыбалась так мило, смотрела на меня с таким искренним участием, что я подумал: старый Теодор просто выжил из ума, и если я впредь стану слушать его бредни, свихнусь с ним за компанию».
Москва, 2007
Кольт явился на Брестскую лишь в начале второго ночи. В прихожей его встретил мрачный сонный Зубов.
– Ну, что на этот раз? – спросил Петр Борисович.
– К Соне в Мюнхене привязался какой-то странный тип. Она прислала имя и фотографию.
– Зачем ее понесло в Мюнхен?
– Пока не знаю.
– Что за тип? – Петр Борисович зевнул со стоном, присел на корточки, почесал за ухом старого пуделя Адама. – Наш или немец?
Кольта, в отличие от Зубова, пес всегда встречал тепло и приветливо. Лизнув ему руку, вильнув облезлым хвостом, он заковылял назад, к хозяину.
– Судя по всему, немец. Некто Фриц Радел, – сказал Зубов и грустно посмотрел на часы.
– Вань, а почему такая паника? Соня молодая, вполне симпатичная женщина, все время одна. Ну, подкатил к ней кто-то. Бывает.
Они вошли в кабинет. Старик сидел за компьютером.
– Как вечеринка? – спросил он не оборачиваясь. – Весело тебе было, Петр?
– Хватит издеваться. – Кольт тяжело опустился в кресло. – Давай, рассказывай, в чем дело.
– Сначала ты расскажи, почему не организовал никакой охраны у здания лаборатории? Пожадничал?
– Я тебе десять раз объяснял, – вздохнул Кольт, – в Зюльт-Осте это не принято. Там редко кто двери на ночь запирает. Вооруженная охрана вызвала бы ненужное любопытство, подозрения. А сажать сторожа в будку, сам понимаешь, бессмысленно.
– Сторожа тоже бывают разные, – проворчал Агапкин, все еще не отрываясь от монитора, – ты должен был сразу отправить туда надежных людей, минимум двоих, профессионалов, грамотных, опытных, вооруженных, и чтобы они там находились постоянно, чтобы глаз не спускали с Сони.
– Зачем? – хором спросили Зубов и Кольт.
– Петр, проснись, сосредоточься, пожалуйста, – старик круто развернул свое кресло и подъехал вплотную к Кольту, – ей угрожает опасность. Это очень серьезно.
– Вряд ли Соня обрадовалась бы постоянным телохранителям, – мягко заметил Зубов, – мне кажется, они бы ее только раздражали.
– Еще одно слово, и ты, чекушник, выкатишься отсюда навсегда, – старик повысил голос, что было ему совершенно не свойственно.
– Иван, правда, ты лучше помолчи, – сказал Кольт и посмотрел на Агапкина: – Объясни, наконец, в чем дело? Какая именно опасность?
Но старик сделал вид, что не расслышал вопроса, отъехал назад, к компьютеру, и застыл, бессмысленно глядя в монитор, на котором крутилась цветная спираль заставки. Кольт и Зубов терпеливо ждали. Наконец он заговорил, быстро, громко, с тяжелой одышкой:
– Профессионалов где сейчас возьмешь? – не оборачиваясь, он ткнул в Ивана Анатольевича скрюченным пальцем. – Были, да все повывелись. Нет, охрана – плохая идея. Тупые топтуны из твоей свиты ни на что не способны, они бы просто ничего не поняли. Что ты скалишься, Петр?
– Так, – Кольт пожал плечами, – ты орешь все время, самому себе противоречишь.
– Ору, потому что у нас беда. У меня, у Миши, у тебя тоже, Петр. Надо делать что-то, но что, я пока не знаю. А ты и твой чекушник ёрничаете, не желаете послушать меня, подумать, вникнуть. Беда у нас, ясно вам?
– Ладно, все. Извини. Мы тебя внимательно слушаем. – Кольт слегка развернул кресло старика, чтобы лучше видеть его лицо.
– Я идиот и маразматик. – Голос старика звучал еще тише. – Я был уверен, что их больше нет, они рассосались, как нарыв, разбежались, как тараканы. Но они есть. Они легко и нагло вышли на Соню. Они давно уж вычислили Мишу и следили за ним, терпеливо ждали. Тебя, Петр, они тоже пасут, и тебе придется напрячься довольно серьезно. Для начала подумай, не появился ли за последний месяц в твоем окружении какой-нибудь новый человек? Или кто-то из старых знакомых стал вести себя немного иначе? Задача – приблизиться к тебе, насколько возможно. Войти в доверие, нащупать уязвимые места. Образ действия – мелкие услуги, выгодные деловые предложения, мягкая умелая лесть. Этот человек хочет с тобой дружить.
– Многие хотят.
– Не спеши отвечать.
– Так и до паранойи недалеко, – мрачно усмехнулся Кольт.
– Будет тебе, Петр, все будет, и паранойяльная психопатия, и синильный психоз, и хроническая неврастения с инфарктом.
– Федор Федорович, вы меня утомили. – Кольт легонько стукнул кулаком по подлокотнику кресла старика. – Вы подняли панику, вытащили меня с ответственного мероприятия и вместо того, чтобы спокойно, внятно объяснить, напускаете туману, болтаете черт знает что. Пророк хренов!
Только в состоянии крайнего раздражения Кольт обращался к старику на «вы» и по имени-отчеству. Зубов знал, как умеет и любит гневаться его шеф, и злорадно засиял. Сейчас Петр Борисович выскажет старому злодею все, что желал бы, да не смеет высказать ему сам Зубов, усталый и обиженный.
Но Кольт ничего высказать не успел. Ему, и Зубову вместе с ним, пришлось довольно долго слушать то, что поведал странный старец ста семнадцати лет от роду, отставной генерал КГБ Агапкин Федор Федорович.
Вначале Кольт и Зубов переглядывались, скептически хмыкали, задавали старику ехидные вопросы. Своими ухмылками оба пытались преодолеть страх, который медленно, вкрадчиво, почти незаметно поднимался откуда-то снизу, из живота. Он был липкий, мутный, от него першило в горле и хотелось перекреститься.
Глава шестая
Москва, 1918
Больничный день продолжался как обычно. Вечером доставили пожилую женщину со сложными переломами, разрывами мягких тканей, глубокими ссадинами и сотрясением мозга. Она провалилась сквозь пол собственной комнаты на нижний этаж. Зимой топила печку сначала паркетом, потом отковыривала по щепочке от деревянных перекрытий, обдирала дранку. Весной застелила страшные дыры газетами, жила, и ничего, спокойно ходила по комнате. А тут вдруг остатки перекрытия не выдержали, рухнули под ногами хозяйки.
Она страшно кричала, дралась, проклинала большевиков, которые довели ее до этого, повторяла:
– Господи, покарай злодеев, Господи, пусть они все в аду горят!
Молодой фельдшер, из новых, громко рыгнул, погрозил ей пальцем:
– Бога нетути, мамаша, отменили его декретом, ныне у нас торжество диетического матерьялизьма.
«Как странно, – думал профессор, – когда материализм торжествует, материальный мир сразу рушится. Митинги голодного не накормят, воззвания замерзшего не согреют, а этого пьяного фельдшера надо гнать в шею, сейчас шприц уронит, разобьет, вон, как руки трясутся. Диетический матерьялизьм. Диалектическая тухлая селедка. Господи, как же я устал».
Не хватало гипса. Бинтов вообще не было. Бинтовали тряпками, они рвались под руками. Из-за шума Михаил Владимирович не сразу расслышал, как его окликнули. Фельдшер тронул за плечо. В дверном проеме маячила фигура в черной коже.
«Я не попрощался с Таней, даже не предупредил ее», – подумал Михаил Владимирович.
Впрочем, чекист был один, обратился «товарищ Свешников», терпеливо ждал за дверью, пока Михаил Владимирович мылся, переодевался, и потом даже подал пиджак, как старорежимный швейцар.
В вестибюле их догнала Таня. Она молча окинула взглядом чекиста, быстро оценила обстановку, вздохнула, обняла отца, поцеловала и прошептала на ухо:
– Что бы ни случилось, я с тобой. Я тебя люблю.
Автомобиль ждал у ворот. Возле него курил молодой человек. Темно-серая английская тройка, идеальный пробор, гладкое, нежно-розовое лицо, умные ледяные глаза.
– Профессор, мое почтение, – он улыбнулся, сверкнув золотым клыком. – Выглядите усталым. Досталось вам сегодня?
– Здравствуйте, Петя, – Михаил Владимирович кивнул приветливо, но на улыбку не ответил и руки спрятал в карманы пиджака, чтобы избежать рукопожатия.
Петя как будто не заметил этого, бросил окурок, вежливо открыл дверцу, пригласил садиться на заднее сиденье.
Петр Николаевич Степаненко когда-то был студентом-медиком, слушал в Московском университете лекции Михаила Владимировича, потом бросил учебу и стал профессиональным революционером. Теперь, учитывая заслуги перед революцией, его назначили крупным красным чиновником, заместителем наркома здравоохранения товарища Семашко.
– Кто? – тихо спросил профессор, когда машина тронулась.
Петя склонился к его уху и, обдавая запахом французского одеколона, прошептал:
– Товарищ Кудияров. Опять слабость, тошнота, тупая боль в желудке, руки немеют.
– Обе руки?
– В том-то и дело, что теперь обе, а заодно и ноги. – Петя тяжело вздохнул, прикусил губу. – На той неделе у него был доктор Осипов, надувал щеки, твердил про отдых, свежий воздух, диету. Прописал пирамидон и бром. Толку никакого. Григорий Всеволодович никому не верит, просил вас привезти.
– Я польщен, – кивнул Михаил Владимирович.
В автомобиле профессора укачало. Он откинулся на мягкую спинку сиденья.
– Тяжело в больнице, – сочувственно заметил Петя, – грязь, гнусь, грубость. Скажите честно, зачем вам это нужно? Что вы хотите доказать и кому?
– Петя, пожалуйста, мы потом об этом поговорим. Я правда очень устал.
– А, кстати, вы обедали?
– Нет еще. Спасибо.
– Понял, – кивнул Петя с лучезарной улыбкой.
Через пятнадцать минут автомобиль свернул на Воздвиженку, заехал во двор и остановился. Михаил Владимирович вспомнил, что первый этаж дома еще недавно занимал ресторан «Гавр». Теперь со стороны улицы не было ни входа, ни вывески. Двор оказался странно чистым. Чекист выпрыгнул из автомобиля, постучал в неприметную дверь условным стуком. Такой же кожаный чекист открыл, впустил.
И тут начались чудеса. Явился ресторанный лакей во фраке, с белыми пышными бакенбардами, поклонился, проводил по чистому коридору в небольшую комнату, в отдельный кабинет «Гавра», где стол был накрыт белой скатертью, у стола стояли кресла с гобеленовыми подушками.
От запахов у Михаила Владимировича закружилась голова и комок застрял в горле. Они с Петей были вдвоем за столом. Заместитель наркома раскинулся в кресле, закурил ароматную папироску, стал тихо беседовать с лакеем, который согнулся перед ним вдвое и кивал своей седой головой так усердно, что бакенбарды трепетали, словно крылья бабочки-капустницы.
Михаил Владимирович не слышал, о чем они говорили. От слабости у него звенело в ушах. В последний раз он ел рано утром, проклятую, несъедобную ржаную кашу, разваренные старые зерна, которые проглотить можно, только запивая кипятком. А сейчас был вечер, и целый день он провел на ногах, среди криков, стонов, боли, подлости и постоянного страха. Именно страх изматывал больше всего, высасывал силы.
– Михаил Владимирович, – тихо позвал Петя, – ешьте, остынет.
Профессор ничего не ответил. Он мгновенно заснул на стуле, неудобно склонив голову набок. Ему снился изумительный сон. Снилась полная тарелка горячих наваристых щей, с большим куском мягкой волокнистой говядины. Валил пар от тарелки, и только лишь от запаха можно было стать сытым и сильным.
– Но я не могу один, – сонно пробормотал Михаил Владимирович, – у меня дети голодные, и внук, и старушка няня.
Он открыл глаза. Тарелка щей стояла перед ним. Вкусный горячий пар, кусок говядины, все было реальным. В серебряной корзинке под салфеткой лежали толстые ломти белого хлеба, а в хрустальной вазочке прозрачно алела икра.
– Один не можете. Понимаю, – улыбнулся Петя, намазывая икру на хлеб, – но ведь все от вас зависит. Что стоит согласиться на наше предложение? Подумайте, я не тороплю. А сейчас все-таки ешьте, а то вы постоянно засыпаете от слабости. Я должен доставить вас к товарищу Кудиярову бодрым и свежим.
Лакей подал жареную курицу с рисом. Петя после щей и трех больших бутербродов с икрой спокойно умял свою порцию, а Михаил Владимирович не смог притронуться к ней. Он с болью глядел на толстое куриное бедро в золотистой корочке, на белый рассыпчатый рис и вдруг, покраснев, быстро прошептал:
– Петя, послушайте, а нельзя ли вот это мне с собой, домой?
Бывший студент едва заметно, краешком рта, усмехнулся и крикнул лакею:
– Филимон! Заверни, упакуй хорошенько, отнеси в мой автомобиль.
Григорий Всеволодович Кудияров занимал трехкомнатный люкс в гостинице «Элит». Кроме богатых иностранцев, в гостинице, в лучших номерах, жили высокопоставленные большевики, комиссары, чекисты.
Михаил Владимирович знал Кудиярова с четырнадцатого года. Кудияров служил кассиром в госпитале. В декабре шестнадцатого он обокрал госпитальную кассу и бесследно исчез. Его разыскивала уголовная полиция, охранка, позже стало известно, что он состоит в партии большевиков и деньги взял не для себя, а на партийные нужды.
Теперь Кудияров возглавлял какой-то отдел в ЧК. По мнению Михаила Владимировича, он был вполне здоров. Слабость, тошнота, боли в животе, онемение конечностей случались у него после бурных ночей с актрисами, водкой и кокаином.
– При моей работе необходимо расслабляться, – сказал он профессору при первой их встрече, пару недель назад.
– Пейте меньше, бросьте кокаин и прочие глупости, – повторял Михаил Владимирович.
Но Кудияров его не слушал. Вальяжно раскинувшись в бархатном гостиничном кресле, покуривая сигару, он философствовал.
– Царство античных богов было царством абсолютного, идеального коммунизма. Коммунизм проповедовали Пифагор и Платон, не самые глупые люди, согласитесь.
– Обязательным условием коммунистического общества Платон считал рабовладение, – заметил Михаил Владимирович.
– И правильно считал, – важно кивнул Кудияров, – но разве обязательно объявлять рабам, что они рабы? Пусть верят, будто свободны. Верят крепко, глубоко, ибо именно эта вера станет гарантией рабского послушания и железной дисциплины. Общество должно быть строго структурированным. На вершине пирамиды – элита, ученые, философы. Вершина скрыта плотным, непроницаемым туманом, и жизнь элиты нижним слоям не видна совершенно. А внизу пирамиды – рабы. Пролетарское быдло. Это правильно и честно. Элита представляет собой замкнутый круг товарищей, у которых все общее. Не только имение, но дети, жены. Все.
Одна из «общих жен» сидела в соседней комнате, за туалетным столиком, подпиливала ногти. Бледная рыжеватая девушка с большим пунцовым ртом напоминала профессору волнянку античную. Есть такая разновидность бабочек. Самка не имеет крыльев, смысл ее коротенькой жизни заключен в том, чтобы спариваться с крылатыми самцами, которые, сделав дело, летят дальше.
Впрочем, на этот раз барышни-волнянки в номере не оказалось. Кудияров был один. Он лежал на оттоманке, в алом шелковом халате, накрытый большим пуховым платком. На лбу компресс из мокрого вафельного полотенца.
– Сегодня мне действительно скверно, – сказал он, – ты, Петька, уйди.
Заместитель наркома почтительно, старорежимно поклонился, сказал профессору, что ждет его внизу, в автомобиле, и исчез. Михаил Владимирович отправился в ванную, мыть руки. Из крана текла горячая вода.
– Как вам это удается? – спросил он, вернувшись в гостиную. – Во всем городе водопровод давно не работает, а тут у вас – пожалуйста, можно мыться сколько душе угодно.
– Понятия не имею. – Кудияров сбросил на пол свой компресс. – послушайте, товарищ профессор, вам не надоело?
– Что именно, товарищ чекист?
– Жить в грязи, возиться со вшивым быдлом.
– Извольте сесть, снять халат и расстегнуть сорочку. Я вас послушаю. Кажется, вы допрыгались. Вы заболели всерьез. – Михаил Владимирович достал из кармана фонендоскоп, придвинул стул к оттоманке.
– Вы не желаете мне отвечать, профессор, – сказал Кудияров, – вы упорно уходите от прямого разговора. Однако, сами понимаете, все равно ответить придется. Не сегодня, так завтра, через неделю, через месяц. Подумайте наконец о дочери. С июня уж начали брать заложников, и вашей Танечке, красавице, жене полковника Данилова, давно место приготовлено в нашем уютном подвале на Лубянке. Так что выбора у вас нет.
– Хватит болтать. Вы мне мешаете. Дышите глубоко. Ритм нехороший, прерывистый, частый. Тахикардия. Теперь не дышите. Спиной повернитесь, пожалуйста. Все вы врете про подвал, товарищ чекист. Врете, потому и сердечко ваше чечетку пляшет. Вам ведь были даны ясные указания: не угрожать мне, не пугать, не давить. Сейчас вы эти указания нарушили. Давайте уж лучше беседовать о Платоне.
Белая жирноватая спина Кудиярова увлажнилась и покрылась мурашками. Михаил Владимирович опустил фонендоскоп и быстро, украдкой, перекрестился. На самом деле он понятия не имел, кем и какие давались указания товарищу Кудиярову, и давались ли вообще.
Когда он ехал сюда из «Гавра», удивительно сытый, разомлевший после щей, согретый мыслью о том, как сегодня вечером он накормит свою семью настоящей жареной курицей с рисом, в голове у него сам собой сложился определенный план беседы с Кудияровым.
Пора начать наконец торговаться с ними. Прежде всего рассказать о комиссаре Шевцове. Пусть отселят. Потом пожаловаться на Смирнова. Пусть уволят наглого жулика из госпиталя, освободят рабочий кабинет, вернут библиотеку. Достанут микроскоп и много всего другого, что уничтожил сумасшедший комиссар.
«Вы, товарищи, хотите, чтобы я работал для вас над препаратом? Извольте создать достойные условия. Нет, это еще не значит, что я согласен уйти из лазарета, засесть на туманной вершине вашей платоновской пирамиды и обслуживать только вас. Это значит всего лишь…»
Он не успел придумать, что бы это могло значить. Стоило переступить порог гостиничного номера, Михаил Владимирович понял: никакая сила, никакой страх не заставят его жаловаться им, клянчить у них. Довольно того, как усмехнулся Петя в ответ на его вопрос, нельзя ли взять домой курицу с рисом. Этой кривенькой усмешки надолго хватит. Спасибо Пете за нее.
– Гемовикард, три порошка в день, за полчаса до еды. Капли Вотчала перед сном. Настойка пустырника. Спать не меньше восьми часов в сутки. Утром, натощак, принимайте столовую ложку сухой полыни.
– Полынь очень горькая, – заметил Кудияров.
– Ничего, потерпите. Она отлично чистит печень. Можете заедать медом. Два раза в неделю клизмы с английской солью, полстакана на три литра теплой кипяченой воды. Никакого алкоголя, тем более кокаина. В нос закапывайте растительное масло, у вас слизистая в язвах. Жирного, пряного и соленого вам категорически нельзя. Строгая молочно-овощная диета. Половые излишества тоже исключены. Если вы будете вести прежний образ жизни, вас ждет не только инфаркт миокарда, но и слабоумие. Слабоумным не место в замкнутом кругу интеллектуальной элиты, на туманной вершине пирамиды. Вы поняли меня, товарищ чекист?
– Понял, товарищ профессор.
Взглянув в светло-карие, выпуклые глаза Кудиярова, профессор подумал: «Вор, даже образованный, даже при власти, никогда не будет чувствовать себя уверенно. У него, как у насекомого, жесткий скелет снаружи, а внутри он мягкий, влажный. Под доспехами жидкая среда, трубчатое сердце и массивный ненасытный желудок».
– Погодите, профессор, вы не рассказали главного. Как продвигаются ваши опыты?
– Вряд ли стоит говорить об этом.
– Почему же? Я с удовольствием послушаю.
– Слишком сложный, да и преждевременный разговор. К тому же я суеверен. Боюсь, знаете ли, сглазить.
Итогом этого долгого трудного дня, кроме жареной курицы с рисом, были увесистые, по четыре фунта, кульки, один с гречкой, другой с колотым сахаром, да еще две пачки отличных папирос «Зефир».
Москва, 2007
Старик Агапкин говорил четко и медленно, словно читал лекцию ленивым туповатым студентам. Его не заботило, верят ему или нет. Он не обращал внимания на скептические ухмылки своих слушателей. Ему важно было донести до них информацию, а уж как они ее воспримут, их дело.
Иван Анатольевич Зубов считал, что имеет некоторое представление о сектах, экстремистских организациях, мафиозных кланах. Он знал, как часто преувеличивается могущество тайных обществ, их влияние на ход истории и на обычную сегодняшнюю жизнь, как заманчива для обывательского сознания пресловутая «теория заговора» и как удобно бывает манипулировать ею в политике, в бизнесе, в работе спецслужб. Но то, что рассказывал проклятый старик, опрокидывало все прежние знания и убеждения Ивана Анатольевича.
– Они нигде и везде. Они умеют притворяться, что их не существует. В разных странах, в разные века они появляются ниоткуда, исчезают в никуда. Они ловко внедряются во властные структуры, в политические партии, религиозные общины, в профсоюзы, в воровские, спортивные, студенческие, женские и прочие организации. В бизнес, науку, медицину, в средства массовой информации. Им не надо мирового господства, править миром дело слишком хлопотное, утомительное и неблагодарное. У них совсем иная цель. Они крайне редко идут на уголовные преступления. Они действуют незаметно, однако всегда оставляют глубокие следы, страшные, долго не заживающие раны в истории, в сознании отдельных людей и целых народов. При малейшей опасности быть обнаруженными они разбегаются по миру мелкими брызгами и потом вновь стягиваются воедино, как ртуть.
Старик сидел вполоборота. Иногда рука его двигала компьютерную мышь. На экране появилась цветная репродукция старинной картины.
Большая человеческая голова. Верхняя часть черепа прозрачная, как стеклянный купол. Видны мозговые извилины, все очень подробно, тщательно прорисовано. В центре, примерно на уровне переносицы, – нечто вроде недоразвитого глаза. Старик увеличил и приблизил это нечто.
– Мозг нарисован довольно точно, однако настоящий, человеческий эпифиз выглядит иначе. Он значительно меньше и мало похож на глаз. Шишковидная железа изображена тут в виде древнего символа, как рисовали ее на египетских папирусах. Теперь смотрите внимательно.
Старик сдвинул мышь, тронул несколько клавиш. Изображение на миг пропало, а затем появилось и задвигалось. Из символического эпифиза стали вылезать отвратительные белые червячки. Они поднимались, ритмично извивались, словно исполняли танец. У каждого была крупная голова с подобием лица.
– Какая гадость, – тихо выдохнул Петр Борисович.
– По-моему, милые зверушки, – старик остановил кадр, – смотри, какие у них симпатичные, выразительные личики. Собственно, вот так изначально выглядит эта картина. Я оживил ее с помощью разных новомодных компьютерных фокусов. На самом деле это, конечно, не мультик. Картину написал немецкий художник Альфред Плут в 1573 году и назвал «Misterium tremendum». Тайна, повергающая в трепет. Для профанов Плут оставил пояснение, что эти твари представляют собой не что иное, как дурные, грешные помыслы. На самом деле он изобразил именно то, за чем ты, Петр так легкомысленно охотишься. Он наблюдал за ними с помощью сложной системы двояковыпуклых алмазных линз и зеркальных металлических пластинок. Это был прообраз микроскопа, увеличение получалось колоссальное.
Картинка на мониторе опять поменялась. Появился портрет длинноволосого мужчины. Лицо его было грубым, неприятным, лохматые длинные брови нависали над маленькими желтоватыми глазками.
– Альфред Плут, – представил его старик, – художник, алхимик, врач. Автопортрет написан в 1577-м. Здесь ему тридцать, хотя выглядит значительно старше. Обе картины, автопортрет и «Misterium tremendum», хранятся в старой мюнхенской Пинакотеке. Вот почему Софи отправилась в Мюнхен. А теперь внимание!
Картинка сдвинулась, рядом с ней появилась другая. Иван Анатольевич тихо охнул. Эта была фотография, которую прислала Соня. Сходство двух лиц казалось поразительным.
– Фриц Радел, – пояснил старик, – новый знакомый Софи. Он так искренне верит, что является Альфредом Плутом и живет на свете не менее шести веков, что совершенно забыл о пластической операции, которую сделал себе десять лет назад. Конечно, если бы он помнил об этом, ему не удавалось бы столь убедительно морочить головы своей банде. Впрочем, пластика понадобилась совсем легкая. Изменена форма рта и носа. Брови пришлось нарастить искусственно, волосы отрасли сами. Я познакомился с ним, когда он был еще в своем натуральном обличье, но даже тогда он напоминал Плута. Они действительно похожи. Оба фанатики и мошенники, оба безжалостны. Причастность к ордену вообще делает людей похожими друг на друга. Недаром они называют себя братьями.
Старик выключил компьютер, потребовал чаю. Зубов не стал будить капитана-сиделку, сам отправился на кухню, приготовил чай для Агапкина, кофе для себя и для Кольта. Он уже потерял надежду вернуться сегодня домой, поспать, тем более повидать внучку. Петр Борисович пришел к нему, закурил.
– Вань, что ты об этом думаешь?
– Пока не знаю. Надо дослушать его.
– Да. Но только ведь он, подлец, не расскажет все до конца. Намеки, страшилки.
Зубов поставил на поднос чашки, снял турку с плиты.
– Я приеду в Зюльт, поговорю с Соней. – Рука его сильно дрогнула, кофе чуть не пролился.
– Что? – тревожно спросил Кольт, заглядывая ему в глаза.
– Ничего. – Зубов отвел взгляд, аккуратно поставил турку на поднос. – Все нормально, Петр Борисович.
– Она так и не включила телефон?
– Нет. Старик продублировал послания ей и Данилову. Рано или поздно кто-нибудь из них заглянет в компьютер.
– Пока никто не заглянул? Ни она, ни он?
– Пока нет. Но сейчас ночь. Они спят.
Прежде чем продолжить, старик долго жевал размоченное в чае печенье, потом поправлял языком вставные челюсти, наконец допил свой чай и сердито произнес:
– Ладно. Передохнули. Слушайте дальше. В начале двадцатого века они называли себя «бессмертники» и прятались под личиной одной из многих русских сект. Среди разных голбешников, прыгунов, хлыстов, скопцов они занимали довольно скромное место. Им мало уделяли внимания агенты охранки, репортеры бульварной прессы. На фоне скандалов, сексуальных оргий, кровавых ужасов они казались наивными, безобидными чудаками, со своей детской верой в то, что смерть и бессмертие – вопросы личного выбора. Умирает тот, кто боится смерти и не верит в бессмертие. Впрочем, это была лишь очередная обманка для профанов. Они великие мастера камуфляжа. Обилие и разнообразие тайных мистических сообществ – отличный камуфляж. На самом деле хлысты и скопцы просто случайные сборища психов. Антропософы, филалеты, мартинисты, розенкрейцеры и прочая наша масонская братия – взрослые дети, играющие в свои романтические игры. Настоящий тайный орден, неуловимый, неистребимый, – они. Только они. Все прочее – ерунда.
– Хлыстов и скопцов знаю, – сказал Кольт, – о бессмертниках впервые слышу.
– Были и такие, я где-то читал о них, – сказал Зубов.
Старик сердито взглянул на обоих.
– Извольте слушать и не перебивать по пустякам! Я и так устал от вас. До того как назваться «бессмертниками», они несколько веков именовались «сонорхами», а изначальное их имя «Homo Imhotepus». Люди Имхотепа. Это реальный персонаж, Имхотеп, врач, архитектор, алхимик, жил он чудовищно давно, в двадцать восьмом веке до нашей эры, при дворе египетского фараона Джосера. Имхотеп построил первую египетскую пирамиду – ступенчатую пирамиду Джосера. Он бальзамировал тело фараона, он создал первые медицинские школы. В его честь возводились храмы в Мемфисе, в Фивах, в Саисе. «Homo Imhotepus» поклоняются ему, почитают его как первого бессмертного, утверждают, будто он жив до сих пор и перевоплощается в разных загадочных личностей. На самом деле очередным Имхотепом они назначают кого хотят. И в этом главный их фокус.
– Как назначают? Путем демократических выборов, тайным голосованием? – ехидно поинтересовался Кольт.
Но старик не счел нужным ответить, даже не взглянул на него, и продолжал:
– Любая преступная организация, секта или банда сильна до тех пор, пока имеет сильного лидера. Стоит лидеру исчезнуть, и все разваливается. «Homo Imhotepus» каким-то загадочным образом всегда находили правильного Имхотепа. Они владеют приемами тайной науки, которую можно назвать психологической селекцией. Из поколения в поколение они учатся различать и фильтровать людей. Они не устают учиться, переваривают и усваивают все – древнюю жреческую магию, шаманизм, современные психотехники. Каждый раз они выстраивают идеальную человеческую пирамиду. Прежде чем стать очередным камнем в этой конструкции, человек проходит множество испытаний и, если на каком-то этапе оказывается негодным, его уничтожают. «Кадры решают все», вот он, простейший и надежнейший принцип.
– Интересно, ты на кого это намекаешь? – спросил Кольт.
– Догадайся по цитате! – ответил старик.
– Ну, знаете, Федор Федорович, это уж слишком, – не выдержал Зубов, – вы хотите сказать, что Сталин…
– Я все скажу в свое время, – пообещал старик, – если вы оба наконец замолчите.
– Да мы и так молчим, просто уже пятый час утра, а ты еще ничего толком не объяснил, – сказал Кольт.
– Если вам неинтересно, можете уматывать.
– Ладно, не злись.
– Это вы злитесь, не я. Вы злитесь потому, что не хотите напрячь свои ленивые мозги. Вот на это, между прочим, они всегда и делали ставку. На лень, глупость, самоуверенность. Вокруг них темнота и путаница. Но внутри самой структуры все не так уж сложно. Сильные хитрые мерзавцы сбиваются в стаю и рыщут в пространстве и во времени, как бы им не помереть. Их интересует все, что касается омоложения и продления жизни. За многие века у них выработался тонкий нюх. В бесконечном разнообразии ерунды и мошенничества они всегда находят то, что серьезно, что имеет реальную перспективу. Они многие годы охотятся за открытием профессора Свешникова. Вот теперь они попытаются использовать Соню, как когда-то Михаила Владимировича, Таню, Осю, меня. Для каждого у них свои методы. Тобой, Петр, они тоже обязательно займутся. Боюсь, уже занялись. Они не терпят конкуренции.
– И что же они со мной сделают? – спросил Петр Борисович.
– Уничтожат.
– Очень интересно, как им это удастся? Убьют, что ли?
– Нет. Сведут с ума. Им это намного интересней, чем банальное убийство. Они знают разные способы, и опыт у них колоссальный. Я уже сказал тебе – оглядись, профильтруй свое ближайшее окружение. Впрочем, тут я тебе не советчик. Ты сам должен вовремя заметить ловушку, которую они готовят.
– И все-таки я пока не понял, – вздохнул Зубов, – чем же они так опасны, эти ваши бессмертники, сонорхи или – как их там? Гомо-импатентус?
– Очень смешно, – огрызнулся старик, – ха-ха. Вот так состришь где-нибудь, а потом тебя придушат в подъезде, и все будут думать, что это банальное ограбление. Ты, Иван, на то и чекушник, чтобы не улавливать главного. Они опасны именно тем, что вначале их никто не воспринимает всерьез. А потом становится поздно.
– Да, – смиренно кивнул Зубов, – мне уже известно, что я бесчувственный тупица. А вы, Федор Федорович, такой умный, тонкий, так глубоко все понимаете. Вот и объясните мне, глупому, сделайте милость.
– Не хами! – насупился старик. – Ты скажи мне честно, без всяких твоих шуточек, ты в бессмертие души веруешь?
– Допустим.
– Что значит – допустим?! Веруешь или нет?
– Пожалуй, да. То есть скорее да, чем нет.
– Вот, – кивнул старик, – и они тоже – да. Не просто веруют, а точно знают, ибо она для них главный товар. Чтобы стать «Homo Imhotepus», необходимо продать свою бессмертную душу.
– Кому? – хором прошептали Зубов и Кольт.
– Ой, господа, трудно с вами. – Старик сморщился и покачал головой. – Все вам надо разжевать и в рот положить. На этот товар только один покупатель. Сказать, как зовут, или сами догадаетесь? Так вот, ему они душонки и сбывают. Свои в розницу, а чужие иногда оптом. Иначе им никак нельзя. В их деле главное – чтобы не было пути назад. Каждый из них должен быть абсолютно уверен: если он умрет, то совсем. У него только тело, оболочка, и ничего другого.
Иван Анатольевич курил, сидя на подоконнике, смотрел на заснеженную, безлюдную, странно тихую Брестскую улицу. За спиной звучали усталые, приглушенные голоса Агапкина и Кольта.
– Петр, ты должен обеспечить безопасность Сони. Ты втянул ее в это. Сначала меня, потом ее.
– Что значит – втянул? Без меня она бы никогда не узнала, что у нее есть дед, а он, дед, так и не увидел бы внучку и сына своего единственного.
– Про Дмитрия лучше молчи. Он был бы жив сейчас, если бы не твоя бурная деятельность. А теперь его нет.
– Я в этом виноват?
– Ладно, я тебя ни в чем не виню. Но прошу, сделай что-нибудь.
– Что именно?
– Не знаю!
– Иван вылетает к ней. Тебе этого мало?
– Мало. Вчера было достаточно, а сегодня – мало.
Глава седьмая
Москва, 1918
В квартире на Второй Тверской Федор не появлялся больше двух месяцев. Он боялся, что, узнав, кому теперь он служит, Таня и Михаил Владимирович не захотят его видеть. Прощаясь, он мутно, путано объяснил, что так сложились обстоятельства, ему придется переехать, возможно вообще покинуть Москву. Он почти сбежал из дома и оставил их в недоуменной обиде.
– Вовсе не обязательно открывать им все сразу, – говорил Мастер, – вы расскажете потом, постепенно. Такую правду лучше давать гомеопатическими дозами и предварительно подготовить, создать подходящий психологический фон.
Федор чувствовал себя подлецом и предателем, от этого у него мучительно болела голова.
– Поверьте, просто поверьте, – успокаивал Мастер, – пройдет совсем немного времени, и все образуется. Дисипль, не забывайте, я не меньше вашего заинтересован, чтобы между вами и профессором сохранились прежние, добрые, родственные отношения.
Агапкин решился прийти поздно вечером, почти ночью. Звонок не работал. Он тихо постучал. Дверь открыла Таня.
Федор загадал заранее, пока шел в темноте, по грязной заплеванной лестнице черного хода, что, если откроет именно она, все как-нибудь обойдется.
– Феденька, наконец-то! – Она поцеловала его в щеку, погладила по голове. – Где вы были так долго? Почему бросили нас?
Агапкин обнял ее, задохнулся знакомым запахом волос, кожи, застиранного домашнего платья. Он еще раз убедился, что никого, кроме нее, не любит и счастлив только рядом с ней. Он совсем потерял голову, принялся целовать ее лицо, острую скулу, висок, дрожащее горячее веко. Губам стало солоно, он понял, что она плачет, и почувствовал, какая она слабая, хрупкая, почти невесомая и какой он сам мощный, сытый.
– Танечка, простите меня, я не мог раньше, так вышло.
– Ладно, все. Вы здесь, и слава Богу. – Она отстранилась, как будто опомнившись, отступила на шаг, вытерла слезы.
– Где Михаил Владимирович? Как он? – спросил Федор шепотом, с легкой одышкой.
– Спит. Все спят. Электричества нет, не споткнитесь, тут комиссарское хозяйство. Слышите вонь? Комиссар портянки свои не стирает, запихивает в сапоги и оставляет в прихожей.
– Какие портянки? Какой комиссар?
– А, так вы не знаете? Только вы уехали, нас уплотнили. Осторожно, тут пеленки сушатся. Сейчас найду спички. Керосину совсем нет, в ящике, кажется, остался свечной огарок.
– Что значит – уплотнили? – Федор остановился посреди коридора, как раз у закрытой двери гостиной. – Кто посмел? По какому праву?
– Тихо, тихо, не кричите. – Таня прижала ладонь к его губам. – Они проснутся, и будет ужасно. Комиссар товарищ Шевцов расстрелял лабораторию, убил всех крыс, он без своего револьвера даже в уборную не ходит. Он папу чуть не убил, причем, знаете, сначала мы думали, комиссар пьян, у него белая горячка, а потом оказалось – он не пьет вовсе. Он сумасшедший. Его гражданская жена товарищ Евгения истерическая психопатка. Нюхает кокаин, уговаривала Андрюшу попробовать, ходит тут почти голая и все время смеется.
Она говорила быстрым нервным шепотом и тянула Федора за руку, как раз в лабораторию. На миг ему показалось, что она бредит. Как могло такое произойти?
Федор представлял себе, о какой подготовке, о каком психологическом фоне говорил Мастер. Нет, специально никто пугать и мучить семью профессора не станет. Просто в отсутствие Федора кое-что изменится. Им придется некоторое время пожить жизнью рядовых граждан новой России. Им станет тошно, страшно, они смирят свою гордыню, они встретят кремлевского Федора, Федора-чекиста как избавителя, защитника. Они согласятся, что сегодня нет иных вариантов. Это будет первый шаг. Профессор Свешников достаточно разумный человек, чтобы не строить из себя мученика и ради детей, ради внука принять новые правила игры.
«Интересно, что скажет Мастер, когда узнает, что к ним подселили какую-то сумасшедшую сволочь и теперь лаборатория разгромлена, не осталось ни капли препарата, ни одной подопытной крысы, а сам профессор чудом уцелел? Подходящий психологический фон. Просчитались вы, товарищи, просчитались, – думал Федор, оглядывая пустые полки без стекол, голый стол, остов погубленного микроскопа, – неужели придется все начинать сначала? И как после этого вы надеетесь, что он согласится?»
– Папа почти совсем не спит, только вот сегодня час назад заснул вместе с Мишей. Чаю хотите? Да что вы все бормочете? Что с вами?
Таня стояла перед ним, лицо ее было сбоку подсвечено зыбким пламенем свечки.
– Чаю? Да, я совсем забыл. Пирожки с ливером, сахар, манка, папиросы. Идите, Танечка, там большой пакет на кухне, на столе.
– А вы?
– Я сейчас. Не волнуйтесь, ничего не бойтесь. Телефон работает?
– Да. Но аппарат теперь в гостиной, у комиссара. Ему по должности положено. Федор, погодите, куда вы? Он сумасшедший, он сразу станет стрелять.
Дверь оказалась незапертой. Агапкин тихо открыл ее, проскользнул внутрь и тут же закрыл.
Пахло мылом и сладким одеколоном. Просторная профессорская гостиная была залита дымчатым лунным светом, этого света и собственного острого зрения Федору хватило, чтобы увидеть все отчетливо, как днем.
Телефонный аппарат он заметил сразу, у окна, на маленьком бюро. В углу, за ширмой, стояла двуспальная кровать с высокой резной спинкой, на подушках покоились две головы, большая бритая мужская и маленькая белокурая женская. Мужчина похрапывал. Рядом с кроватью, на низенькой профессорской этажерке, на кружевной салфетке, лежал револьвер.
Первой проснулась товарищ Евгения. Она осторожно высунулась из-за ширмы и уставилась на незнакомца в темном костюме, который стоял у окна и тихо говорил по телефону. Трубку он держал в левой руке, пистолет в правой. Товарищ Евгения успела расслышать, что незнакомец диктует кому-то адрес: Вторая Тверская, номер дома и квартиры. То, что комиссарского револьвера на этажерке у кровати нет, она увидела сразу. Перепуганной девушке удалось растолкать комиссара, когда незнакомец уже положил трубку.
Кажется, он не заметил, что товарищ Евгения проснулась. Он сунул пистолет в карман, достал портсигар и спокойно закурил.
– Тихо, это Данилов, белый полковник, – зашептала товарищ Евгения комиссару на ухо, – лежи спокойно, пусть думает, что мы спим. Он тут нелегально, всего боится.
Комиссар первым делом стал шарить рукой по кружевной салфетке.
– Не дергайся, он, конечно, револьвер взял, – шепнула Евгения.
– Убью, гнида белогвардейская! – прохрипел комиссар негромко, но гость его услышал.
– Доброе утро, граждане, – голос его был приятным и спокойным.
– Что вам угодно? – спросила Евгения.
Гость аккуратно стряхнул пепел в пепельницу. Папиросу он держал в левой руке. В правой опять был пистолет.
– На вашем месте я бы не спешил вылезать из постельки, ибо вам теперь не скоро придется ночевать так тепло и уютно. Мне угодно вас арестовать.
– У господина полковника хорошее чувство юмора, – сказала товарищ Евгения и рассмеялась.
Комиссар молчал и пыхтел. Чутье подсказывало ему, что гость не блефует. К тому же без своего револьвера комиссар никогда не орал и не буянил.
Федора слегка царапнуло слово «полковник». Впрочем, он тут же подумал, что на его месте Данилов вряд ли повел бы себя так уверенно и красиво. Появление Таниного мужа здесь было бы огромным риском для всех, и он бы с комиссаром не справился. Разве что пристрелил сгоряча, но чем бы это потом обернулось, представить жутко.
«Появись здесь Данилов, – размышлял Федор, – ему пришлось бы прятаться, молчать и терпеть, стиснув зубы, и исчезнуть поскорей. Как это унизительно. И до чего приятно быть сильным, быть в полном своем должностном праве. Впрочем, я дорого за это право плачу, унижением плачу особенным, глубоким, неизлечимым. Полковнику такая плата не снилась».
– Слышь, ты все ж таки кто будешь, гражданин? – донесся хриплый комиссарский голос.
– Агапкин Федор Федорович. Особый отдел ВЧК.
За ширмой несколько минут шептались. Наконец комиссар спросил:
– А как насчет документика? Документик какой-никакой при вас имеется, товарищ?
– Имеется, да только в темноте вам, гражданин, читать будет затруднительно.
– Ничего, я вот свечечку зажгу.
Заскрипела кровать, комиссар вылез из-за ширмы. Коренастая фигура в кальсонах медленно двинулась на Агапкина. По особенной вкрадчивости движений, по тому, как Шевцов вжал голову и весь вытянулся вперед, стало ясно, что кроме револьвера, который теперь лежал у Федора в кармане, в комнате есть еще оружие, и комиссар надеется до него добраться.
– Стоять! – приказал Федор и щелкнул предохранителем.
Шевцов застыл.
– Вот так и стой. Шевельнешься, буду стрелять. Сопротивление при аресте.
Из-за ширмы высунулась белокурая голова.
– Товарищ Агапкин, хотя бы объясните, за что вы нас хотите арестовать? – жалобно проворковала Евгения.
– За покушение на жизнь профессора Свешникова, что само по себе является попыткой нанесения тяжкого вреда здоровью трудящихся молодой Советской республики и всего мирового пролетариата. За уничтожение бесценных медицинских препаратов и подопытных животных, за умышленное вредительство, саботаж и шпионаж, ибо только грязным белогвардейско-империалистическим наймитам могло прийти в голову разгромить народное достояние, лабораторию профессора, – произнес Агапкин суровым тихим голосом, без запинки, и мысленно самому себе зааплодировал.
Автомобиль подъехал довольно скоро. В квартире все проснулись. Как по волшебству, включилось электричество, явился дворник Сулейманов.
Растерянный сонный профессор сидел в своем кабинете за столом. Бойкий юноша Фима Эрнст, заместитель начальника отдела по борьбе с бандитизмом, допрашивал его как потерпевшего. Молчаливые молодые люди в кожаных куртках потрошили комиссарское хозяйство. Было обнаружено много всего интересного. Годовой запас круп, сахара, мыла, консервов, настоящего бразильского кофе. Огромные бруски сала, шоколад, шелковые чулки, пар пятьдесят, три бутыли чистейшего спирта. В одном из ящиков буфета лежал новенький наган. В стопках белья нашли множество бумажных пакетиков с тонким белым порошком.
– Это белая лаванда, для аромата, – слабо пискнула товарищ Евгения.
Но и без химического анализа было ясно, что это кокаин, общим весом фунта полтора, не меньше.
Давно настало утро. Свет ненужных ламп раздражал глаза. Чтобы вывести конфискованное добро, пришлось вызвать грузовик. Профессор, не читая, подписал протокол.
– Товарищ Агапкин, вы с нами? – спросил Фима, когда увели арестованных.
– Нет. Я подъеду позже.
Фима тепло попрощался со всеми, даже няне пожал руку. Агапкин успел шепнуть ему, что медицинскими исследованиями профессора весьма интересуются товарищи Луначарский, Семашко и сам Ильич.
Наконец все ушли. Стало тихо. Михаил Владимирович молча смотрел на Федора.
«Простите, так получилось. Я не мог иначе. Я не хотел, но вы сами видите. Или сумасшедший комиссар с револьвером, или они, эти, что, впрочем, одно и то же. Мне стыдно, противно, однако я ведь сумел защитить вас, и вы должны понять» – все это оглушительно звучало у него в голове, но вслух он не произнес ни слова, стоял перед профессором низко опустив голову, как провинившийся ребенок.
Зюльт, 2007
Соня забыла завести будильник, забыла поставить на подзарядку и включить телефон. Прочитав несколько страниц романа, незаконченного, написанного неизвестно кем и когда, она спокойно и крепко уснула.
Во сне стучали колеса поезда, стаканы летали под потолком купе первого класса. Алхимик Альфред Плут сидел развалившись, вытянув ноги в джинсах, в кроссовках сорок пятого размера, тряс кожаным мешком с золотыми слитками, шипел змеиным голосом: «Смотри на меня, слушайся меня!», но стоило на него взглянуть, он зыбко морщился, расплывался, оборачивался жеманной дамой в пудреном парике, с мушкой.
Сновидение было жутким, пока не возник в нем некто в сером дождевике, в шляпе, надвинутой до бровей. Из-под шляпы сверкали странно знакомые, большие карие глаза. Невозможно было понять, кто он, откуда взялся, взрослый он или ребенок. Невозможно вспомнить, где, когда Соня его встречала. Но стоило ему появиться, и сразу стало не так одиноко в мире вкрадчивых зыбких чудовищ.
Ровно в семь она проснулась, без всякого будильника. В комнату заглянула Герда, шепотом спросила:
– Что тебе приготовить на завтрак?
Это стало ритуалом. Каждое утро фрау Герда спрашивала, Соня отвечала: «Что угодно!»
– Человек, которому безразлично, что он ест на завтрак, никогда не будет иметь здоровый желудок, – неизменно ворчала Герда.
На этот раз Соню ожидало яйцо всмятку, тонкие ржаные гренки с маслом, огромный, бархатный пунцовый персик и крепкий кофе с ванилью.
Дедушка еще спал, хотя обычно вставал вместе с Соней и провожал ее до лаборатории. Это тоже стало ритуалом.
– Всю ночь возился со своим компьютером, – пожаловалась Герда. – Я проснулась, слышу, бродит по кабинету, время два часа. Я спрашиваю: Микки, в чем дело? Он говорит: Герда, я завис. Опять вирус. Я говорю: Микки, вам не кажется, что пора спать? А он так посмотрел на меня, будто я и есть этот самый вирус. Не вздумай выходить с мокрыми волосами, фен придумали не самые глупые люди. Фриц Радел мне тоже не нравится, – добавила она и надменно вскинула подбородок.
– Вы его давно знаете? – спросила Соня.
– Я вообще его не знаю и знать не хочу.
– Но ведь у вас хорошие отношения с его тетей, с фрау Барбарой, хозяйкой книжного магазина?
– Никакая она ему не тетя, и он никакой не племянник.
– А кто же?
– Ну, как бы это приличней выразиться? – Герда нахмурилась и закусила губу. – У них сердечная дружба.
– То есть они любовники? – изумилась Соня, тут же представив восьмидесятилетнюю Барбару со жгуче-черными взбитыми волосами, высокими, аккуратно нарисованными дугами бровей и гладеньким, румяным личиком пластмассовой куклы.
Герда кивнула и покосилась на дверь.
– Микки слышать об этом не желает, называет меня ханжой и сплетницей. Да, я не такая либералка, как он, однако я не ханжа. Если, допустим, мужчина живет с мужчиной или женщина с женщиной, я считаю, это их личное дело. Они имеют право так жить, а я имею право на собственное мнение об этом. У них своя мораль, у меня своя. Но если молодой ловкий жулик морочит голову беспомощной глупой старухе, тут уж дело не в морали. Тут пахнет уголовщиной. Разве я не права?
– Конечно, Гердочка, но ведь невозможно об этом заявить в полицию. – Соня хлебнула кофе и посмотрела на часы.
– Ага, попробуй, заяви! Полковник Кроль, начальник полиции острова, и Фриц Радел, наглый проходимец, – лучшие друзья! У тебя еще пятнадцать минут. Все равно, пока не высушишь волосы, я тебя не отпущу. Беда в том, что Барбара, старая дурочка, верит, будто он ее искренне любит. Деньги ее он любит, вот что! Такой, как он, не то что деньги, душу всю вытянет. Меня вон тоже пытался лечить своим гипнозом от радикулита. Нет, в первое время, правда, болеть стало меньше, да только потом целый месяц я спать не могла, мерещились всякие ужасы, а главное, такая тоска нападала, что и жить не хотелось.
– Тоска?
– Ну да, как поговоришь с этим Раделом, сразу все кажется серым, унылым, будто всегда только сумерки, дождь и слякоть, никогда солнышко не светит и никто во всем мире никого не любит.
– Герда, а дедушку он случайно не пытался лечить своим гипнозом? – тихо спросила Соня.
– Пытался, еще как! Постоянно предлагает, уговаривает, да только Микки, слава Богу, не дурачок. Ну что ты застыла? Если кофе больше не хочешь, отправляйся в ванную, сушись!
Соня вышла из дома ровно в восемь. Прошла пару кварталов, стянула с головы и запихнула в карман куртки розовую, с синими и зелеными кисточками, вязаную шапку, художественное произведение Герды, изготовленное за два вечера, под аккомпанемент жарких страстей мексиканского сериала.
За ночь море затихло. На небе не видно было облаков, его затянуло ровной молочной дымкой. Пляж еще спал, кафе не открылись. Светлый песок был расчерчен следами уборочной машины, частыми ровными полосами, как бумага в линейку. Над горизонтом поднималось холодное маленькое солнце. Сквозь дымку на него можно было смотреть, не щурясь.
На берегу, за границей пляжа виднелось трехэтажное белое здание с плоской крышей, аккуратный кубик, филиал фармацевтической фирмы «Генцлер». Окна приветливо блестели, отражая мягкие солнечные лучи.
Соня вышла на пляж, прошла по влажному деревянному настилу. Возле здания лаборатории лежала зарытая в песок старая лодка. Соня уселась на деревянное днище, закурила. Было удивительно тихо и красиво. Редкое утро здесь, на берегу Северного моря, когда нет ветра, шторма, дождя и снега, когда не слишком холодно и можно несколько минут просто посидеть в тишине, посмотреть на море. Оно казалось светлей, чем обычно, с легким перламутровым отливом. Далеко от берега покачивалась одинокая сине-белая яхта.
Городская пристань была далеко, в противоположной стороне, возле рыбного рынка. Туда причаливали небольшие рыбацкие суденышки, там зимовали личные яхты местных жителей, иногда заплывали роскошные посудины странствующих по морям миллионеров.
Соня смотрела на одинокую яхту и не могла понять, плывет ли она или стоит на якоре. Возле Сониных ног опустилась жирная чайка, принялась энергично тыкать черным жестким клювом в песок, ничего не нашла, посмотрела на Соню желтыми круглыми глазами, пронзительно крикнула и улетела. В воздухе остался едва уловимый запах тухлой рыбы.
Соня всегда приходила в лабораторию на час раньше остальных сотрудников и уходила на пару часов позже. Официально она была включена в небольшую группу немецких химиков и биологов, которая занималась разработкой серии пищевых добавок и косметических средств на основе уникальных желтых водорослей, водившихся исключительно в этой части побережья. Начальный этап включал работу с подопытными крысами и морскими свинками.
Российский миллиардер Петр Борисович Кольт щедро спонсировал исследования, здание было построено и оборудовано на его деньги. Соня числилась независимым экспертом. В ее распоряжении имелось все необходимое. Отдельный кабинет, отдельная просторная лаборатория, крысы и свинки, к которым никто, кроме нее, не прикасался. Никому, кроме самого Петра Борисовича и Ивана Анатольевича Зубова, начальника службы безопасности российского миллиардера, не было известно, чем на самом деле занимается в этой тихой лаборатории кандидат биологических наук Лукьянова Софья Дмитриевна.
Впрочем, желтыми водорослями она своих животных регулярно подкармливала, аккуратно фиксировала результаты наблюдений и обсуждала их с немецкими коллегами на еженедельных совещаниях.
Входная дверь оказалась незапертой. Уборщица иногда приходила с утра пораньше. Соня поднялась на второй этаж, слегка огорчилась, увидев, что дверь ее кабинета приоткрыта.
– Доброе утро, фрау Циммер, – громко произнесла она, – вы сегодня рано. Много вам еще осталось?
Обычно в таких случаях в ответ слышалось:
– Доброе утро, фрейлейн Лукьянофф, минут десять, не больше.
На этот раз никто не ответил. В кабинете было пусто. Соня остановилась на пороге, сердце сильно стукнуло, во рту пересохло.
– Фрау Циммер!
– Доброе утро, Софи, – ответил по-русски знакомый мужской голос.
Дверь в глубине комнаты вела в лабораторию. Она была распахнута. В дверном проеме возникла массивная фигура Фрица Радела. Соня стала медленно отступать назад, в коридор, на ходу открыла сумку, пыталась нащупать телефон, но тут же вспомнила, что так и не поставила его на зарядку.
Сумка выпала. Сзади кто-то схватил Соню за плечо, вывернул руки, быстро и ловко, так, что почти никакой боли она не почувствовала, застегнул наручники на запястьях, за спиной. Веселая богатырка Гудрун, та самая, которая вчера подмигивала Соне в кафе Пинакотеки, подтащила ее к маленькому кабинетному дивану и усадила, несильно надавив на плечи.
– Можешь покричать, – разрешил Радел, – это помогает при шоке. У тебя ведь шок, верно? Давай, Софи, приди в себя. Я понимаю, трудно, слишком все неожиданно, однако ты постарайся сосредоточиться. Надо проверить, ничего ли мы не забыли.
Он пододвинул стул, сел напротив, уперся ей в лицо своими желтыми, пустыми, как у чайки, глазами. Гудрун поставила рядом с ним большой пластиковый ящик. Он открыл крышку.
– Смотри, Софи. Тут образцы крови первой опытной партии животных. Верно? Здесь гистологические срезы разных участков мозга. Не волнуйся, я знаю, все должно храниться при низких температурах.
Надо отдать ему должное. Он действительно собрал все самое важное и ценное, в том числе вакуумные банки со спящими цистами. Он раскрыл ладонь и показал Соне плоскую серую коробочку размером не больше сигаретной пачки.
– Тут содержимое жесткого диска твоего компьютера. Ты умница, что догадалась ввести в компьютер записи твоего гениального прапрадедушки. Конечно, тетрадь представляет собой огромную историческую ценность, но главное сам текст, верно?
Радел убрал коробочку в карман, закрыл и запер пластиковый ящик. Все это он делал, продолжая смотреть на Соню, и так же, как вчера в поезде, у нее заболела голова, тело стало слабым, тяжелым, не осталось сил, чтобы произнести хоть слово, да и был ли в этом сейчас какой-нибудь смысл?
– Ты умница, что оставила свой ноутбук здесь. Умыкать его из дома Микки, из твоей комнаты на втором этаже, было бы сложно и неприятно. – Радел подмигнул и легонько потрепал Соню по щеке.
«Фокусы со стрельбой из подмышки, метанием ножичков, спринтерским бегом и прыгучестью, как у австралийского кенгуру, ты можешь забить в бутылку, залить сургучом и бросить в открытое море. Авось поймает кто-нибудь, кому все это действительно поможет», – вдруг вспомнила Соня.
– Фриц, нам пора, – сказала Гудрун по‑немецки.
– Да, дорогая. Пора, – кивнул Фриц, встал, поднял Соню с дивана. Ноги ее сразу подкосились. Гудрун стояла рядом, в руках у нее был шприц. Слабо запахло спиртом. Соня почувствовала, как Гудрун задирает ей рукав свитера, как игла входит в вену локтевого сгиба. Радел держал ее за плечи и внимательно глядел в глаза.
– Не бойся, Софи, это очень мягкое успокоительное, Гудрун мастерица делать уколы. Вот и все. Совсем не больно. Ты просто поспишь немного, тебе обязательно надо поспать.
Лицо его приблизилось, на Соню повеяло едва уловимым, омерзительным запахом тухлой рыбы. Также пахла легкая волна воздуха, поднятая крыльями взлетающей чайки.
Москва, 1918
Михаил Владимирович обнял и поцеловал Федора.
– Бедный, бедный мой мальчик. Представляю, как тебе все это тяжело, как мучительно.
– Я не мог отказаться. Так получилось. Простите меня, – повторял Агапкин, едва сдерживая слезы.
– Да Бог с тобой, за что простить? Ты спас нас от этого комиссара, дышать стало легче в доме. Ладно, пойдем чай пить.
Няня бережно выкладывала на стол агапкинские дары. Андрюша хмурился и кусал губы. Таня принесла Мишу. Федор хотел взять его на руки, но ребенок отчаянно заревел. Он был удивительно похож на Данилова, и это сразу бросалось в глаза.
– Они вас заставили? – спросил Андрюша. – Интересно, каким образом?
– Перестань, – одернула его Таня, – тебе не стыдно?
– Мне не стыдно. Я им не продавался, – буркнул Андрюша, глядя мимо Федора на тарелку с пирожками.
Повисла тяжелая пауза. Няня всхлипнула и высморкалась в тряпочку. Федор медленно встал из-за стола.
– Простите. Мне, пожалуй, пора.
– Федор, сиди спокойно, пожалуйста, – сказал Михаил Владимирович и посмотрел на Андрюшу. – Ты гуся ел?
– Какого гуся?
– На той неделе я принес гуся. Ты его ел?
– Ну, ел. И что?
– Гусь этот был моим гонораром за аппендикс, который я удалил у одной знатной большевички. Правда, гусь оказался с душком, но няня его вымочила в соли и уксусе. Ничего, получилось вкусно. А сало помнишь? Настоящее украинское, целых два фунта. Это за вскрытый нарыв в горле любимого племянника наркома общественных работ. А гречка! Три с половиной фунта! Постное масло, еще полбутылки осталось! Консервы! Манка! Яичный порошок! Откуда все это? Ну, что молчишь?
– Я думал, это паек, твой и Танин, из лазарета, – чуть слышно пробормотал Андрюша.
– Паек? – Михаил Владимирович засмеялся. – Вот наш паек, ржаная крупа, сушеная морковка, лук гнилой, цикорий да хлеба плесневелого полфунта. На одном только пайке мы бы умерли давно.
– Но как же, папа? Павел Николаевич там, на фронте, воюет с ними, а ты их тут лечишь, и Федор теперь в ЧК. Я не понимаю.
– Андрюшенька, детка, успокойся, скушай пирожок, – сказала няня и поцеловала его сзади в макушку.
– Да ешь ты, наконец. Хватит дуться, – сказал Михаил Владимирович. – Хочешь понять – думай. Сначала думай, потом бросайся словами. Комиссар убил бы меня, рано или поздно. А тебя товарищ Евгения приучила бы к кокаину. Не появись тут Федор, было бы именно так. Он сумел избавить нас от этих людей. Но сумел только потому, что служит в ЧК.
– Там служат палачи и ублюдки, – сказал Андрюша.
– Да, есть и такие, – сказал Агапкин, – но не все. Соотношение злодеев и обычных людей там примерно такое же, как было в Охранном отделении, в полиции, в любой полиции – английской, французской, немецкой. Другое дело, что в спокойное время, в здоровом государстве кроме силы существует закон, юридическое право. А у нас нет.
– Это слова. Оправдать можно что угодно, – сказал Андрюша.
– И осудить тоже что угодно. Никогда никого не суди, Андрюша. Если совсем уж невмоготу, начинай с самого себя, – сказал Михаил Владимирович.
Андрюша ничего не ответил, встал и вышел. Няня, ворча, качая головой, положила на тарелку два пирожка, засеменила за ним следом.
В тот же день Федор встретился с Мастером. По случаю Пятого съезда Советов Белкин явился в Москву.
Они шли по Тверской. После бессонной ночи у Агапкина слипались глаза. Низкое серое небо превращало полдень в сумерки. Мимо сновали редкие прохожие, публика в основном опрятная, спокойная. То и дело попадались небольшие отряды вооруженных красноармейцев. Накануне съезда милиционеры, военные патрули гнали прочь нищих, проституток, пытаясь придать центру города более или менее пристойный вид.
– Конечно, с подселением комиссара история гадкая, – сказал Мастер. – Никто не мог ожидать. Что ж, теперь препарата совсем не осталось? Ни капли?
– Точно не знаю. Мы с Михаилом Владимировичем не успели поговорить наедине. Слишком бурное было утро. Слишком много всего сразу.
– Да, скверно, скверно. Вам, Дисипль, следовало появиться там раньше.
– Я появился, когда мог. Надеюсь, теперь к ним никого не подселят? – спросил Федор, глядя вниз, на свои новенькие сапоги из мягкой кожи, на замшевые английские ботинки Белкина.
– Перестаньте, Дисипль, перестаньте. – Мастер похлопал его по плечу. – Ну, так вышло. Виновные будут наказаны. Я не всесилен, вы должны понять, такое время. Никто не гарантирован от ошибок и просчетов.
Он нервничал, хотя держался спокойней, чем обычно, ловко перешагивал и обходил выбоины тротуара, заполненные зловонной грязью.
События развивались столь стремительно, что ему было не до профессора Свешникова. Восставшие чехословаки взяли Владивосток, двигались к Уфе и Иркутску. Вся Транссибирская магистраль, с ответвлениями на востоке, от Пензы до Тихого океана, была под их контролем. В Ярославле поднял восстание Савинков. В Москве готовился левоэсеровский мятеж.
Федор знал, что Мастер завяз в большевистской авантюре слишком глубоко и назад для него пути нет. Более всего Белкина волновал сейчас вождь.
– Будьте внимательны, Дисипль, учтите, все держится только на нем, если с ним ничего не случится, он расхлебает кашу. Только он сумеет, никто, кроме него.
– Он расхлебает, – нервно усмехнулся Агапкин, – не побрезгует, не поперхнется.
– Да, Дисипль, да. – Мастер взял его под руку и заговорил совсем тихо: – Они кошмарны, как страшный сон. Но альтернативы им нет. Если бы существовала сейчас в России реальная политическая сила, готовая и способная взять власть, она бы скинула их еще легче, чем они скинули правительство Керенского в октябре прошлого года.
– Он врет даже своим, даже Дзержинскому, – прошептал Агапкин, – невозможно понять, что у него на уме.
– Идеи. Гениальные идеи. – Мастер легонько постучал пальцем себе по лбу. – Вполне в духе великого Макиавелли. Ильич с этим автором не расстается, постоянно перечитывает. Перед ним сегодня две насущные проблемы: конфликт с левыми эсерами и политическая переориентация Мирбаха. Начнем с первой. Эсеры и большевики весьма близки друг другу, они старые товарищи, и это не позволяет покончить с ними обычными репрессивными методами. Но и терпеть их выходки невозможно. Авторитет их в народе все еще велик, они агрессивны и деятельны. Им скучно без борьбы, без накала страстей. Чтобы ситуация разрешилась, нужен формальный повод.
– Но он уже есть. Они готовят мятеж и открыто заявляют об этом.
– Совершенно верно. И тут возникает два варианта: предотвратить мятеж или дать ему свершиться. Как вам кажется, Дисипль, который из них разумней?
– Разумней, конечно, первый. Но Ленину выгодней второй, – неуверенно произнес Агапкин.
– Ну-ну, договаривайте.
– Эсеры – противники Брестского мира и открыто заявили, что готовят ряд терактов против высокопоставленных немцев. Граф Мирбах в большевиках разочаровался. Сейчас в его распоряжение поступают огромные суммы, и он намерен направить финансовые потоки не большевикам, а их противникам. Убрать германского посла руками эсеров – значит решить сразу обе проблемы.
– Именно! – Мастер хлопнул в ладоши. – И заметьте, самому вождю ничего делать не надо, он чист и честен, к нему никаких претензий.
– Но я все-таки не понимаю, почему нельзя было прямо сказать об этом Дзержинскому? Зачем понадобилось выдумывать историю с утечкой информации о переводе денег на личные счета?
– Это вовсе не выдумка. Это правда. Скажем так, часть правды, которую Ильич счел нужным использовать в разговоре с Дзержинским. Больное место Феликса – точка пересечения его личных финансовых дел и его репутации бескорыстного революционера. Ильич гениальный психолог. Вы ведь знаете, в ЧК эсеров более пятидесяти процентов, Феликс дружит с ними, и сам он был в числе противников Брестского мира. Психологически для него совсем не просто стать союзником Ленина в этом щекотливом деле. Он сомневается, колеблется, и вот, чтобы помочь ему принять правильное решение, Ленин использует наиболее убедительные доводы. А информация, полученная от Глеба, никого не касается. Ключом к личному шифру посла владеет только один человек. Бокий. У Глеба Ивановича врожденный дар. Он находит ключи к любым шифрам. Но не только к шифрам. К человеческим душам, к потаенным мыслям.
– Да. Это я успел заметить, – хмыкнул Федор.
Позапрошлой ночью он встречался с Бокием под Клином, на небольшой уютной дачке. Попивая крепкий чай, Глеб Иванович выслушал диалог Ленина и Дзержинского. Федор пересказал его в лицах, старался копировать не только интонации, но и мимику, говорил долго, вдохновенно и сам не заметил, как увлекся игрой. Бокий молчал и смотрел на Федора, почти не моргая. Лицо его оставалось задумчивым, отрешенным, немного грустным. Когда он закончил, Глеб Иванович трижды беззвучно сдвинул ладони, обаятельно улыбнулся.
– В вас, Федор, погибает талантливый актер. Впрочем, почему же погибает? Лицедейство часть нашей профессии, едва ли не главная ее часть.
Возвращаясь в Москву в автомобиле по ухабистой дороге, Агапкин чувствовал себя так, словно его вывернули наизнанку, отжали и повесили сушиться на сильном ветру.
– Почему же, если Глеб Иванович такой умный, во главе ЧК стоит Дзержинский? – спросил он Мастера.
– А вот на этот вопрос попробуйте ответить сами. Наблюдайте, думайте, делайте выводы.
Они уже подходили к Манежной площади. Прямо перед ними из подворотни вылезло существо в бурых лохмотьях. Голова замотана тряпкой, к животу привязан молчаливый бледный младенец.
– Хлеба, ради Христа, хлебушка подайте.
Голос у нищенки был такой тихий, что Федор не услышал, а понял по губам. Лицо ее оказалось совсем близко, не лицо, а череп с огромными живыми глазами в глубоких впадинах глазниц.
– Идемте, Дисипль, идемте! – Мастер взял его за локоть, потянул в сторону, пытаясь обойти нищенку.
Она смотрела на Агапкина, беззвучно открывала рот, повторяла одно слово: «Хлеба!» И вдруг опустилась на колени, потом завалилась набок, на тротуар, прямо под ноги им, дернулась и застыла. Ребенок, примотанный к ее животу, не шелохнулся, не издал ни звука.
– Вы с ума сошли! Не вздумайте! Не прикасайтесь! – Мастер отпрянул назад, с ужасом наблюдая, как Агапкин, сидя на корточках, голыми руками разматывает вшивое тряпье на шее нищенки.
От Манежной к ним приближался патруль. Сзади остановилось несколько любопытных прохожих.
– Она мертва, – сказал Федор, медленно поднимаясь, – младенец тоже. Она только что умерла, а он раньше. Холодный уже.
– Дисипль, прекратите истерику, – зло прошипел Мастер и потянул его за рукав на другую сторону улицы. – Зачем было руками трогать, не понимаю! Вы же врач!
– Вот именно, врач. Послушайте, а ведь это они, – Федор кивнул вперед, туда, где открывался вид на Кремлевскую стену, – они. Он, ваш драгоценный, с его гениальными идеями в духе великого Макиавелли.
– Перестаньте. – Мастер нахмурился. – Вы мне сегодня не нравитесь, Дисипль. Что это на вас нашло?
– Ничего, Мастер. Простите. Ночь не спал. Устал.
Несколько минут шли молча. Федор заставлял себя не оглядываться на бурый холмик тряпья и все-таки оглянулся. Над холмиком стояли два милиционера.
– Уберут. Похоронят, – пробормотал Мастер, тоже оглянувшись, – ей лет шестнадцать, не больше. Я успел разглядеть лицо. Я понимаю вас, Дисипль. Я понимаю вас лучше, чем вам кажется.
– Благодарю, – кивнул Агапкин, – это утешает.
– Утешает, – эхом повторил Белкин, – утешает. Пожалуйста, не забудьте пройти дезинфекцию в санитарном пункте прежде, чем отправитесь к Ильичу.
Глава восьмая
Зюльт, 2007
Специалист по ремонту компьютеров сидел в кабинете Микки перед монитором и тихо посвистывал. Пальцы летали по клавиатуре. На правом мизинце был перстень с агатом. Микки все пытался разглядеть тонкий рисунок, выбитый на матовом черном камне, но никак не мог.
– Поздравляю, господин Данилофф, – сказал мастер, – вы умудрились подцепить «Троян».
– И что теперь? – бодро спросил Микки.
– Теперь придется полностью перезагружать компьютер. «Троян» новейший вирус, его истребить невозможно. Он маскируется под системные файлы, разъедает всю систему изнутри. Видите, я поставил вам самую последнюю антивирусную программу, но она не справляется, против вашего «Трояна» пока оружия не придумали.
– Что значит – полностью перезагружать?
– Очистить жесткий диск, потом заполнить заново. То, что вам нужно сохранить, мы сгоним на какое-нибудь запоминающее устройство. Процедура довольно долгая и нудная. Вы не устали? Хотите сделать это прямо сегодня? Или я могу прийти завтра.
– Конечно, сегодня! Я вовсе не устал. А скажите, почту, которую я получил этой ночью, можно восстановить?
– Конечно. Как только приведем в порядок компьютер, вы прочитаете все, что вам прислали.
Микки принялся нервно расхаживать по своему просторному кабинету. Ночью он получил послание из Москвы, от Федора. Попытался открыть и безнадежно завис.
– Раньше никак нельзя?
– Там что-то важное? – сочувственно поинтересовался компьютерщик.
– Да. Очень. Я обязательно должен прочитать.
– Можете сходить к соседям или в магазин к фрау Барбаре, или в интернет-кафе. Чтобы войти в вашу почту, нужен любой нормальный компьютер, подключенный к Интернету.
– Между прочим, существует еще и телефон, – подала голос Герда.
Она все это время старательно вылизывала кабинет и балкон, в десятый раз протирала идеально чистые книжные полки.
– Конечно, я позвоню, – произнес Микки каким-то замороженным голосом.
Два старика, Михаил Павлович Данилов и Федор Федорович Агапкин, не виделись почти тридцать лет. Если бы не появилась электронная почта, они бы вряд ли общались, разве что мысленно.
Когда-то один невинный телефонный звонок, одна случайная встреча могли стоить каждому головы. Чтобы обменяться несколькими фразами, им приходилось выстраивать сложнейшие комбинации, создавать легенды, проверять по десять раз, нет ли слежки. Таким образом, несколько фраз становились драгоценным подарком, были наполнены глубоким смыслом, и потом каждый долго вспоминал их, смаковал.
Это время давно прошло, но страх остался, поселился где-то в спинном мозге и был неистребим, поскольку не имел никакого разумного объяснения. Теперь они могли болтать сколько угодно, однако предпочитали отмалчиваться.
Изредка они обменивались сухими посланиями, и тон посланий был таков, что постороннему человеку могло бы показаться: эти двое не выносят друг друга.
– Ну что же вы, Микки? – спросила Герда. – Забыли номер?
– Забыл, – растерянно кивнул Данилов, хотя помнил наизусть этот ни разу не набранный номер.
– Сейчас принесу книжку, – сказала Герда.
– Нет, я сам.
Он вышел из кабинета и стал медленно спускаться вниз, в гостиную. Он держался за перила и боялся упасть. У него началось сильное сердцебиение, с каждым шагом сердце прыгало все быстрее, к тому же где-то близко зазвонил пожарный колокол, и тревожный звон как будто задавал ритм ударам сердца.
В Москве, в квартире на Брестской, трубку взяли после первого гудка.
– Федор Федорович спит, – сообщил тихий мужской голос, – представьтесь, пожалуйста, оставьте свой номер, он свяжется с вами позже.
– Нет. Спасибо. У него есть мой номер. Я сам. Позже, – пробормотал Микки, положил трубку, рухнул в кресло, закрыл глаза.
Следовало посидеть немного, передохнуть, потом принять сердечные капли. Но колокол упорно трезвонил и не давал успокоиться взбесившемуся сердцу. К тому же завыла сирена. Звук нарастал очень быстро. Прямо под окнами промчалась пожарная машина, потом еще одна. Микки почувствовал, что кто-то мягко трясет его за плечи, открыл глаза. Над ним склонилась Герда. Лицо ее показалось таким же белым, как потолок над ее головой.
– Микки, где больно? Где?
– Тихо, Гердочка, не кричи, дай мне капель. Там пожар. Ты слышишь?
– Еще бы не слышать! Вон, дымом пахнет. Кажется, это на берегу. Пойти посмотреть?
Капли подействовали почти сразу. Сердце угомонилось, дышать стало легче. Колокол замолк, стихли сирены. Но сквозь приоткрытое окно все сильней тянуло едкой гарью.
– Иди, Гердочка, узнай, что там горит. Мне уже лучше. Нет, погоди. Сначала проводи меня наверх. Неудобно, вирусолог ждет, без меня он не может реанимировать мой компьютер.
Герда увидела зарево, как только вышла на крыльцо. Пламя поднималось высоко в небо. Здание лаборатории пылало как факел. Опять взвыла сирена, мимо пронесся фургон «скорой помощи». Не раздумывая, не слушая вопросов и вздохов соседей, высыпавших из ближних вилл, Герда помчалась к пляжу. Она забыла переобуться, только накинула куртку. Разношенные домашние шлепанцы сваливались с ног.
– Герда, стойте, дальше нельзя!
Она не заметила, как добежала до оцепления. Молодой полицейский Дитрих крепко схватил ее за руку.
– Софи! – крикнула она, вырываясь. – Пусти, там Софи!
– Не волнуйтесь, там нет людей, пожар начался, когда никто еще не вошел в здание, – сказал полицейский. – «Скорую» мы вызвали на всякий случай. Но, к счастью, даже уборщица фрау Циммер войти не успела, она пришла полчаса назад, только открыла дверь и сразу вызвала пожарников.
– Софи там! Там! Я знаю точно!
Герду пришлось держать двум полицейским. Доктор «скорой» влил ей в рот успокоительное.
– Софи ушла в лабораторию ровно в восемь, – повторяла она. – Сделайте что-нибудь, вас здесь так много! Умоляю, сделайте что-нибудь.
– Очень сожалею. Пока мы ничего сделать не можем. Видите, как сильно горит? Мы пытаемся сбить открытое пламя, – объяснял человек в пожарной каске.
– Герда, послушайте, там точно никого не было, я открыла дверь, почувствовала сильный запах гари. Я кричала, звала, спрашивала, есть ли кто-нибудь, но никто не ответил, – рассказывала уборщица, – там сначала что-то тлело, а потом разом полыхнуло. Если бы Софи была там, она бы обязательно почувствовала запах и успела уйти.
– Дверь была заперта, когда вы пришли? – спросила Герда, глядя мимо фрау Циммер пустыми сухими глазами.
– Да… Нет… не знаю, не помню, я так перепугалась, – растерянно забормотала уборщица.
Здание удивительно быстро сгорело дотла. От аккуратного белого кубика осталась дымящаяся черная куча. Небольшая толпа любопытных медленно разошлась.
– Герда, я понимаю, вам трудно сразу уйти домой, – сказал полицейский Дитрих, – сейчас пожарные и криминалисты все проверяют… – он запнулся, нервно закурил. – Я уверен, Софи успела выйти.
– Ее нет дома. Где она?
– Я не знаю, – печально вздохнул Дитрих. – Эксперты проверяют. Они скажут точно, осталось ли что-нибудь. Но это займет много времени.
– Ничего. Я подожду. Я погуляю, – спокойно ответила Герда.
– Слишком долго придется гулять. На тщательный осмотр могут уйти сутки, а то и больше. Может быть, за это время Софи найдется, живая и невредимая.
– Она бы уже давно нашлась. Она не младенец. Она бы просто вернулась домой и первая вызвала бы пожарных. Не беспокойся за меня, Дитрих. В любом случае мне надо погулять, прежде чем идти к Микки.
– Хорошо. Я понимаю. Я буду тут, рядом. Если захотите, могу потом проводить вас домой.
– Спасибо, Дитрих.
Она побрела по берегу вдоль кромки воды. Домашние тапки увязали в мокром холодном песке. Она уходила все дальше от пляжа, от черных дымящихся останков лаборатории, за мол, к маленькой, давно заброшенной рыбацкой пристани.
Когда-то все мужчины на Зюльте были рыбаками, ловили пикшу, треску, лосося. Герда в детстве приходила на пристань встречать отца. Оттуда был отлично виден старый маяк. Отец всегда возвращался, а маяк зажигался каждый вечер.
Многие считали маяк проклятым местом. Когда-то очень давно там скрывался от инквизиции таинственный чернокнижник. Говорили, что он продал душу дьяволу и будто бы именно с него великий Гете писал своего доктора Фауста. Герда с детства помнила легенду о призраке чернокнижника, который до сих пор бродит внутри древней башни. Где-то внутри маяка спрятан клад, но не золото и драгоценности, а рукописи чернокнижника и разные ритуальные предметы.
Заброшенный маяк потихоньку разваливался. Мало кто решался приблизиться к нему. Одни боялись призрака, другие опасались пройти по скользкому ненадежному пирсу. Только отставной моряк, старый Клаус, внук последнего смотрителя, навещал башню, добивался от городских властей реставрации, хотел устроить музей.
От пристани сохранилось несколько косых черных балок. На них сидели жирные чайки. Герда остановилась, долго смотрела на маяк. Сквозь пелену слез казалось, что он окружен дрожащей бледной радугой и там, внутри, горит слабый огонек. Она опустилась на колени, на мокрый песок, зачерпнула горсть ледяной воды, умылась. Ей трудно было подняться, ноги окоченели. Она потеряла равновесие, чуть не свалилась и вдруг услышала крик.
Сначала Герда подумала, что это крикнула чайка, но потом поняла: это она сама издала странный гортанный звук. Возле своей коленки она увидела что-то ярко-зеленое и вытянула из песка вязаную шапку, розовую, в полоску, с зелеными и синими кисточками.
Москва, 1918
В Большом театре, на Пятом съезде Советов, зал встречал каждое выступление воплями, топотом, свистом. Конфликт большевиков и левых эсеров достиг точки кипения, и казалось, раскаленный пар поднимается к потолку, а головы в огромном партере прыгают, как водяные пузыри в кастрюле.
Неопрятная дамочка в пенсне, легендарная террористка Мария Спиридонова истерически обвиняла Ленина в предательстве священных революционных идеалов. Красная, потная, охрипшая, она рассказала всем участникам съезда, как приходила к вождю и лично требовала объяснений по поводу Брестского мирного договора, безобразной и бессмысленной сделки с немецкими империалистами, а он, вождь, оскорбил и унизил ее, своего боевого товарища.
– Только вооруженное восстание может спасти революцию! – кричала Спиридонова.
Федор наблюдал за лицом вождя. Ни растерянности, ни гнева. Добродушная хитрая усмешка. Вождь забавлялся, он даже иногда хихикал, как будто в зале звучали не обвинения в его адрес, а остроумные опереточные куплеты.
Федора мучил вопрос: догадывается ли эта истеричка, неутомимая Афина в пенсне, что Брестский мир не был глупой прихотью вождя? Немцы с шестнадцатого года вбивали в большевиков огромные деньги. Таким образом они разлагали вражескую страну изнутри, создавали максимально возможный хаос.
По мнению германского Генерального штаба, из всех политических движений в России маленькая партия Ленина являлась самой экстремистской и разрушительной. Немцы помогли большевикам прийти к власти, и полагалось расплатиться по счетам, заключить чудовищно невыгодный мирный договор, отдать гигантские территории.
На переговорах в Брест-Литовске большевики отчаянно торговались, хитрили, тянули время. Терпение немцев лопнуло. Генерал Эрих Людендорф, серый кардинал Генерального штаба, потребовал начать военное наступление на Петроград и свергнуть этих жуликов. Войска восьмого германского армейского корпуса, размещенные в прибалтийских провинциях, получили секретный приказ подготовиться к наступлению в направлении Ревель – Петроград.
Вот тогда и был подписан злосчастный договор, а правительство во главе с Лениным стало срочно готовиться к переезду из Петрограда в Москву, от греха подальше.
«Допустим, Спиридонова о немецких деньгах не ведает, – думал Федор, – допустим, ей кажется, будто все произошло само собой, благодаря героизму борцов и по воле народных масс. Но Дзержинский, Бухарин, они не могут не знать, на какие средства живет и побеждает их партия. Неужели искренне не понимают, что Брестский мир – услуга, от выполнения которой отказаться невозможно, ибо аванс получен колоссальный. Такие обязательства нельзя не выполнять».
Спиридонова дергалась, поправляла пенсне, волосы, бретельки, вытягивала руку, производила пальцами странные скребущие движения и, уже покидая сцену, продолжала кричать о предательстве, лжи, лицемерии вождя. В ответ вождь весело похлопал ей и даже притопнул слегка каблуками.
Поднявшись на сцену, он окинул беснующийся зал насмешливым прищуренным взглядом, дождался не тишины, которая была сейчас невозможна, а короткой передышки между криками и ловко в нее вклинился.
– Товарищи! Время работает на нас. Обожравшись, империалисты лопнут. В их чреве растет новый гигант! Он растет медленней, чем мы хотим, но он растет, он придет к нам на помощь, и, когда мы увидим, что он начинает свой первый удар, тогда мы скажем: кончилась пора отступлений, начинается эпоха мирового наступления и эпоха победы мировой революции!
На последние три слова зал откликнулся мощной волной одобрения. «Мировая революция» действовала безотказно, все сразу хлопали и кричали ура.
Вождь тут же сменил тему и сообщил, что вовсе не обижал товарища Спиридонову, это сказки, и негоже настоящим революционерам опускаться до сказок, а если кто опускается, то гнать надо таких в шею. Спиридонова что-то закричала в ответ, но беснование зала заглушило ее осипший голос. Вождь опять сменил тему, заговорил о хлебных излишках, потом почему-то о Корнилове, которого следовало сразу расстрелять, о слюнтяйстве интеллигентов, виновных в том, что Корнилова не расстреляли, и, не докончив фразы, вернулся к Брестскому миру. Несколько раз повторил, что решение было единственно разумным и верным, а те, кто этого не понимает, безмозглые дураки.
Зал взорвался топотом и свистом. Казалось, маленького разгоряченного Ленина сейчас стащат со сцены и начнут бить. Но ему все было нипочем. Непонятно, каким образом его резкий голос заглушал чудовищный шум. Он клеймил германский империализм точно так же, как только что клеймили его противники Брестского мира. Он почти дословно повторял доводы самых жестоких своих оппонентов, но ни он сам, ни публика не замечали этого.
– У нас этот истекающий кровью зверь оторвал массу кусков живого организма. Но погибнут они, а не мы!
Зал Большого театра бесновался. На легендарной сцене, с которой звучал голос Шаляпина, на которой танцевала Павлова, теперь стоял некрасивый больной человек, маленький капризный буржуа, любитель европейских курортов, велосипедных прогулок, куриного бульона и домашних котлет, никогда не занимавшийся никаким полезным трудом. В анкетах, в графе «профессия», он скромно писал: «литератор». Что ж, пожалуй, да. Литератор. Он постоянно что-то сочинял. Многие годы, день за днем, час за часом, сотни тысяч фраз выходили из-под его пера. Слог его был тяжел и вязок, как конторский клей.
У Федора закладывало уши, речь Ленина стала казаться ему ревом штормовой океанской волны, воем урагана. Не было в этих звуках ни смысла, ни логики, только страшная сокрушительная мощь, справиться с которой никто не сумеет.
На следующий день, 6 июля, вождь с самого утра пребывал в приподнятом настроении. Позавтракал плотно, с аппетитом. На вопрос командира отряда латышских стрелков, можно ли сегодня отряду в полном составе отправиться за город, праздновать национальный праздник Лиго, латышский День Ивана Купалы, ответил с добродушной усмешкой:
– Пережиток. Религиозная отрыжка, ну да черт с вами, езжайте, празднуйте.











