Читать онлайн Циники. Бритый человек (сборник)
- Автор: Анатолий Мариенгоф
- Жанр: Классическая проза
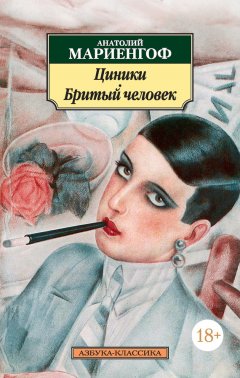
© А. Мариенгоф, наследники, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2022
Циники
Почему может быть признан виновным историк, верно следующий мельчайшим подробностям рассказа, находящегося в его распоряжении? Его ли вина, если действующие лица, соблазненные страстями, которых он не разделяет, к несчастью для него, совершают действия глубоко безнравственные.
Стендаль
Вы очень наблюдательны, Глафира Васильевна. Это все очень верно, но не сами ли вы говорили, что, чтобы угодить на общий вкус, надо себя «безобразить». Согласитесь, это очень большая жертва, для которой нужно своего рода геройство.
Лесков
1918
– Очень хорошо, что вы являетесь ко мне с цветами. Все мужчины, высуня язык, бегают по Сухаревке и закупают муку и пшено. Своим возлюбленным они тоже тащат муку и пшено. Под кроватями из карельской березы, как трупы, лежат мешки.
Она поставила астры в вазу. Ваза серебристая, высокая, формы – женской руки с обрубленной кистью.
Под окнами проехала тяжелая грузовая машина. Сосредоточенные солдаты перевозили каких-то людей, похожих на поломанную старую дачную мебель.
– Знаете, Ольга…
Я коснулся ее пальцев.
– …после нашего «социалистического» переворота я пришел к выводу, что русский народ не окончательно лишен юмора.
Ольга подошла к округлому зеркалу в кружевах позолоченной рамы.
– А как вы думаете, Владимир…
Она взглянула в зеркало.
– …может случиться, что в Москве нельзя будет достать французской краски для губ?
Она взяла со столика золотой герленовский карандашик:
– Как же тогда жить?
После четырехдневной забастовки собрание рабочих тульского оружейно-патронного завода постановило:
«…по первому призывному гудку выйти на работу, т. к. забастовка могла быть объявленной только в силу временного помешательства рабочих, страдающих от общей хозяйственной разрухи».
Чехословаки взяли Самару.
В Петербурге хоронили Володарского. За гробом под проливным дождем шло больше двухсот тысяч человек.
ВЧК сделала тщательный обыск в кофейной французского гражданина Лефенберга по Столешникову переулку, дом 8, и в кофейной словака Цумбурга тоже по Столешникову переулку, дом 6. Обнаружены пирожные и около 30 фунтов меда.
Вооруженный тряпкой времен Гомера, я стою на легонькой передвижной лесенке и в совершеннейшем упоении глотаю книжную пыль.
Внизу Ольга щиплет перчатку цвета крысиных лапок.
– Нет, Ольга, этого вы не можете от меня требовать!
Она продолжает отдирать с левой руки свою вторую кожу.
– Итак, вы хотите, чтобы я поделился с прислугой этим ни с чем не сравнимым наслаждением? Вы хотите, чтобы я позволил моей прислуге раз в неделю перетирать мои книги? Да?..
– Именно.
– Ни за что в жизни! Она и без того получает слишком большое жалованье.
– Марфуша!
От волнения я теряю равновесие. Мне приходится, чтобы не упасть, выпустить из рук тряпку времен Гомера и уцепиться за шкаф. Тряпка несколько мгновений парит в воздухе, потом плавно опускается на Ольгину шляпу из жемчужных перышек чайки.
О, ужас, античная реликвия черной чадрой закрывает ей лицо!
Ольга давится пылью, кашляет, чихает.
Со своего «неба» я бормочу какие-то извинения. Все погибло. С земли до меня доносится:
– Марфуша!
Входит девушка, вместительная и широкая, как медный таз, в котором мама варила варенье.
– Будьте добры, Марфуша, возьмите на себя стирание пыли с книг. У Владимира Васильевича на это уходит три часа времени, а у вас это займет не больше двадцати минут.
У меня сжимается сердце.
– Спускайтесь, Владимир. Мы пойдем гулять.
Спускаюсь.
– Ваша физиономия татуирована грязью.
Моя физиономия действительно «татуирована грязью».
– Вам необходимо вымыться. Работает ли в вашем доме водопровод? Иначе я понапрасну отсчитала шестьдесят четыре ступеньки.
– Час тому назад водопровод действовал. Но ведь вы знаете, Ольга, что в революции самое приятное – ее неожиданности.
Мы идем по Страстному бульвару. Клены вроде старинных модниц в больших соломенных шляпах с пунцовыми, оранжевыми и желтыми лентами.
Ольга берет меня под руку.
– Мои предки соизволили бежать за границу. Вчера от дражайшего папаши получили письмецо с предписанием «сторожить квартиру». Для этого он рекомендует мне выйти замуж за большевика. А там, говорит, видно будет.
По небу раскинуты подушечки в белоснежных наволочках. Из некоторых высыпался пух.
У Ольги лицо ровное и белое, как игральная карта высшего сорта из новой колоды. А рот – туз червей.
– Хочу мороженого.
Я отвечаю, что Московский Совет издал декрет о полном воспрещении «продажи и производства»:
…яства, к которому вы неравнодушны.
Ольга разводит плечи:
– Странная какая-то революция.
И говорит с грустью:
– Я думала, они первым долгом поставят гильотину на Лобном месте.
С тонких круглоголовых лип падают желтые волосы.
– А наш конвент, или как он там называется, вместо этого запрещает продавать мороженое.
Через город перекинулась радуга. Веселенькими разноцветными подтяжками. Ветер насвистывает знакомую мелодию из венской оперетки. О какой-то чепухе болтают воробьи.
В Казани раскрыли контрреволюционный офицерский заговор. Начались обыски и аресты. Замешанные офицеры бежали в Райвскую пустынь. Казанская ЦК направила туда следственную комиссию под охраной четырех красногвардейцев. А монахи взяли да и сожгли на кострах всю комиссию вместе с охраной.
Причем жгли, говорят, по древним русским обычаям: сначала перевязывали поперек бечевкой и бросали в реку, когда поверхность воды переставала пузыриться, тащили наружу и принимались «сушить на кострах».
История в Ольгином духе.
– Я пришел к тебе, Ольга, проститься.
– Проститься? Гога, не пугай меня.
И Ольга трагически ломает бровь над смеющимся глазом.
– Куда же ты отбываешь?
– На Дон.
– В армию генерала Алексеева.
Ольга смотрит на своего брата почти с благоговением:
– Гога, да ты…
И вдруг – ни село, ни пало – задирает кверху ноги и начинает хохотать ими, как собака хвостом.
Гога – милый и красивый мальчик. Ему девятнадцать лет. У него всегда обиженные розовые губы, голова в золоте топленых сливок от степных коров и большие зеленые несчастливые глаза.
– Пойми, Ольга, я люблю свою родину.
Ольга перестает дрыгать ногами, поворачивает к нему лицо и говорит серьезно:
– Это все оттого, Гога, что ты не кончил гимназию.
Гогины обиженные губы обижаются еще больше.
– Только подлецы, Ольга, во время войны могли решать задачки по алгебре. Прощай.
– Прощай, цыпленок.
Он протягивает мне руку с нежными женскими пальцами. Даже не пальцами, а пальчиками. Я крепко сжимаю их:
– До свидания, Гога.
Он качает головой, расплескивая золото топленых сливок:
– Нет, прощайте.
И выпячивает розовые, как у девочки, обиженные губы. Мы целуемся.
– До свидания, мой милый друг.
– Для чего вы меня огорчаете, Владимир Васильевич? Я был бы так счастлив умереть за Россию.
Бедный ангел! Его непременно подстрелят, как куропатку.
– Прощайте, Гога.
На Кузнецком Мосту обдирают вывески с магазинов. Обнажаются грязные, прыщавые, покрытые лишаями стены.
С крыш прозрачными потоками стекает желтое солнце. Мне кажется, что я слышу его журчание в водосточных трубах.
– При Петре Великом, Ольга, тут была Кузнецкая слобода. Коптили небо. Как суп, варили железо. Дубасили молотами по наковальням. Интересно знать, что собираются сделать большевики из Кузнецкого Моста?
Рабочий в шапчонке, похожей на плевок, весело осклабился:
– А вот, граждане, к примеру сказать, в Альшванговом магазине буржуйских роскошей будем махру выдавать по карточкам.
И, глянув прищуренными глазами на Ольгины губы, добавил:
– Трудящемуся населению.
Предвечернее солнце растекается по панелям. Там, где тротуар образовал ямки и выбоины, стоят большие, колеблемые ветром солнечные лужи.
– Подождите меня, Владимир.
– Слушаюсь.
– В тридцать седьмой квартире живет знакомый ювелир. Надо забросить ему камушек. А то совсем осталась без гроша.
– У меня та же история. Завтра отправляюсь к букинистам сплавлять «прижизненного Пушкина».
Ольга легкими шагами взбегает по ступенькам.
Я жду.
Старенький действительный статский советник, «одетый в пенсне», торгует в подъезде харьковскими ирисками.
Мне делается грустно. Я думаю об улочке, на которой еще теснятся книжные лавчонки.
Когда-то ее назвали Моховой. Она тянулась по тихому безлюдному берегу болотистой речки Неглинной. Не встречая помехи, на мягкой илистой земле бессуразно пышно рос мох.
Вышла Ольга.
– Теперь можем кутить.
Она покупает у действительного статского советника ириски.
Рыжее солнце вихрястой веселой собачонкой путается в ногах.
Мой старший брат Сергей – большевик. Он живет в «Метрополе»; управляет водным транспортом (будучи археологом); ездит в шестиместном автомобиле на вздувшихся, точно от водянки, шинах и обедает двумя картофелинами, поджаренными на воображении повара.
У Сергея веселые синие глаза и по-ребячьи оттопыренные уши. Того гляди, он по-птичьи взмахнет ими, и голова с синими глазами полетит.
Во всю правую щеку у него розовое пятно. С раннего детства Сергея почти ежегодно клали на операционный стол, чтобы, облюбовав на теле место, которого еще не касался хирургический нож, выкроить кровавый кусок кожи.
Вырезанную здоровую ткань накладывали заплатой на больную щеку. Всякий раз волчанка съедала заплату.
– Я пришел к тебе по делу. Напиши, пожалуйста, записку, чтобы мне выдали охранную грамоту на библиотеку.
– Для чего тебе библиотека?
– Чтобы стирать с нее пыль.
– Ходи в Румянцевку и стирай там.
– Ладно… не надо.
Сергей садится к столу и пишет записку.
Я завожу разговор о только что подавленном в Москве восстании левых эсеров; о судьбе чернобородого семнадцатилетнего мальчика, который, чтобы «спасти честь России», бросил бомбу в немецкое посольство; о смерти Мирбаха; о желании эсеров во что бы то ни стало затеять смертоносную катавасию с Германией.
Еще не все улеглось. Еще останавливают на окраинах автомобили и держат, согласно ленинскому приказу, «до тройной проверки»; еще опущены шлагбаумы на шоссе и вооруженные отряды рабочих жгут возле них по ночам костры.
Чтобы раздразнить Сергея, я говорю про эсеров:
– А знаешь, мне искренно нравятся эти «скифы» с рыжими зонтиками и в продранных калошах. Бомбы весьма романтически отягчают карманы их ватных обтрепанных салопов.
Ольга про эсеров неплохо сказала: «они похожи на нашего Гогу – будто тоже не кончили гимназию».
Сергей трется сухой переносицей о край письменного стола. Он вроде лохматого большого пса, о котором можно подумать, что состоит в дружбе даже с черными кошками.
– Тут, видишь ли, не романтика, а фарс. Впрочем, в политике это одно и то же.
Мягкими серыми хлопьями падает темнота на Театральную площадь.
– Ихний главнокомандующий – Муравьев – третьего дня сбежал в Симбирск и оттуда соизволил ни больше ни меньше как «объявить войну Германии». Глупо, а расстреливать надо.
Садик, скамейки, тоненькие деревца и редкие человеческие фигурки внизу завалены осенними сумерками. Будто несколько часов кряду падал теплый серый снег.
Я упираюсь в мечтательные глаза Сергея своими – тверезыми, равнодушными, прохладными, как зеленоватая, сентябрьская, подернутая ржавчиной вода.
Мне непереносимо хочется взбесить его, разозлить, вывести из себя.
– Эсеры, Муравьев, немцы, война, революция – все это чепуха…
Сергей таращит пушистые ресницы:
– А что же не чепуха?
– Моя любовь.
Внизу на Театральной редкие фонари раскуривают свои папироски.
– Предположим, что ваша социалистическая пролетарская революция кончается, а я любим…
Среди облаков вспыхивает толстая немецкая сигара.
– …трагический конец!.. а я?… я купаюсь в своем счастье, плаваю по брюхо, фыркаю в розовой водичке и пускаю пузырики всеми местами.
Сергей вытаскивает из портфеля бумаги:
– Ну, брат, с тобой водиться – все равно что в крапиву с… садиться.
И подтягивается:
– Иди домой. Мне работать надо.
Большевики, как умеют, успокаивают двухмиллионное население Белокаменной.
В газетах даже появились новые отделы:
«Борьба с голодом».
«Прибытие продовольственных грузов в Москву».
На нынешний день два радостных сообщения.
Первое:
«Из Рязани отправлено в Москву 48 вагонов жмыхов».
Второе:
«Сегодня прибыло 52 пуда муки пшеничной и 1 пуд муки ржаной».
Ольга лежит на диване, уткнувшись носом в шелковую подушку.
Я плутаю в догадках:
«Что случилось?»
Наконец, чтобы рассеять катастрофически сгущающийся мрак, робко предлагаю:
– Хотите, я немножко почитаю вам вслух?
Молчание.
– У меня с собой «Сатирикон» Петрония.
После весьма внушительной паузы:
– Не желаю. Его герои – жалкие, ревнивые скоты.
Голос звучит как из чистилища:
– …они не признают, чтобы у их возлюбленных кто-нибудь другой «за пазухой вытирал руки».
Ольга вытаскивает из подушки нос. С него слезла пудра. Крылья ноздрей порозовели и слегка припухли.
– Вообще, как вы смеете предлагать мне слушать Петрония! У него мальчишки «разыгрывают свои зады в кости».
– Ольга!..
– Что «Ольга»?
– Я только хочу сказать, что римляне называли Петрония «судьей изящного искусства».
– Вот как!
– Elegantiae…
– Так-так-так!
– …arbiter.
– Баста! Все поняла: вы шокированы тем, что у меня болит живот!
– Живот?..
– Увертюры, которые разыгрываются в моем желудке, выводят вас из себя. Вам противно сидеть рядом со мной. Вы хотели, по всей вероятности, прочесть мне то место из «Сатирикона», где Петроний рекомендует «не стесняться, если кто-либо имеет надобность… потому, что никто из нас не родился запечатанным… что нет большей муки, чем удерживаться… что этого одного не может запретить сам Юпитер…». Так я вас поняла?
Я хватаюсь за голову.
– Имейте в виду, что вы ошиблись, – у меня запор!
Я потупляю глаза.
– Скажите, пожалуйста, вы в меня влюблены?
Краска заливает мои щеки. (Ужасная несправедливость: мужчины краснеют до шестидесяти лет, женщины – до шестнадцати.)
– Нежно влюблены? Возвышенно влюблены? В таком случае откройте шкаф и достаньте оттуда клизму. Вы слышите, о чем я вас прошу?
– Слышу.
– Двигайтесь же!
Я передвигаю себя, как тяжелый беккеровский рояль.
– Ищите в уголке на верхней полке!
Я обжигаю пальцы о холодное стекло кружки.
– Эта самая… с желтой кишкой и черным наконечником… налейте воду из графина… возьмите с туалетного столика вазелин… намажьте наконечник… повесьте на гвоздь… благодарю вас… а теперь можете уходить домой… до свидания.
Битый третий час бегаю по городу. Обливаясь потом и злостью, вспоминаю, что в XVI веке Москва была «немного поболее Лондона». Милая моя Пенза. Она никогда не была и, надеюсь, не будет «немного поболее Лондона». Мечтаю печальный остаток своих дней дожить в Пензе.
Наконец, когда уже не чувствую под собой ног, где-то у Дорогомиловской заставы достаю несколько белых и желтых роз.
Прекрасные цветы! Одни похожи на белых голубей с оторванными головками, на мыльный гребень волны Евксинского Понта, на сверкающего, как снег, сванетского барашка. Другие – на того кудрявого еврейского младенца, которого – впоследствии – неуживчивый и беспокойный характер довел до Голгофы.
Садовник завертывает розы в старую, измятую газету. Я кричу в ужасе:
– Безумец, что вы делаете? Разве вы не видите, в ка-ку-ю газету вы завертываете мои цветы!
Садовник испуганно кладет розы на скамейку.
Я продолжаю кричать:
– Да ведь это же «Речь»! Орган конституционно-демократической партии, члены которой объявлены вне закона. Любой бульварный побродяга может безнаказанно вонзить перочинный нож в горло конституционного демократа.
У меня дрожат колени. Я сын своих предков. В моих жилах течет чистая кровь тех самых славян, о трусливости которых так полно и охотно писали древние историки.
– Можно подумать, сумасшедший человек, что вы только сегодняшним вечером упали за Дорогомиловскую заставу с весьма отдаленной планеты. Неужели же вы не знаете, что ваши розы, белые, как перламутровое брюшко жемчужной раковины, и золотые, как цыплята, вылупившиеся из яйца, ваши чистые, ваши невинные, ваши девственные розы – это… это…
Я говорю шепотом:
– …это…
Одними губами:
– …уже…
Беззвучно:
– …контрреволюция!
Ноги меня не держат; я опускаюсь на скамейку; я задыхаюсь; я всплескиваю руками и мотаю головой, как актриса Камерного театра в трагической сцене.
– Но розы, завернутые в газету «Речь»!!!
Положительно, страх сделал из меня Цицерона и конуру садовника превратил в Форум.
– Нет, тысячу раз клянусь непорочностью этих благоухающих девственниц, у меня на плечах только одна голова.
Я кладу руку на его грудь:
– Дорогой друг, если бы интересовались политикой, то вы бы знали, что коммунистическая фракция пятого Всероссийского съезда Советов Рабочих, Красноармейских и Казачьих депутатов единогласно высказалась за необходимость применения массового террора по отношению к буржуазии и ее прихвостням.
Он сочувственно качает головой.
– Но вы же не хотите мне зла и поэтому, умоляю вас, заверните розы в обыкновенную папиросную бумагу. Что?… У вас нет папиросной бумаги? Какое несчастье!
Мои ледяные пальцы сжимают виски.
Страшное дело любовь! Недаром же в каменном веке самец, вооруженный челюстью кита, шел на самца, вооруженного рогами барана.
О женщина!
Я расплачиваюсь с моим простодушным палачом пергаментными бумажками и, прижав к сердцу роковые цветы, выхожу на улицу.
Казань взята чехословаками; англичане обстреливают Архангельск; в Петербурге холера.
Мне больше не нужно спрашивать себя: «Люблю ли я Ольгу?»
Если мужчина сегодня для своей возлюбленной мажет вазелином черный клистирный наконечник, а назавтра замирает с охапкой роз у электрического звонка ее двери – ему незачем задавать себе глупых вопросов.
Любовь, которую не удушила резиновая кишка от клизмы, – бессмертна.
На будущей неделе по купону № 2 рабочей продовольственной карточки начинают выдавать сухую воблу (полфунта на человека).
Сегодня ночью я плакал от любви.
В Вологде собрание коммунистов вынесло постановление о том, что «необходимо уничтожить класс буржуазии». Пролетариат должен обезвредить мир от паразитов, и чем скорее, тем лучше.
– Ольга, я прошу вашей руки.
– Это очень кстати, Владимир. Нынче утром я узнала, что в нашем доме не будет всю зиму действовать центральное отопление. Если бы не ваше предложение, я бы непременно в декабре превратилась в ледяную сосульку. Вы представляете себе, спать одной в кроватище, на которой можно играть в хоккей?
– Итак…
– Я согласна.
Ее голова отрезана двухспальным шелковым одеялом. На хрустком снеге полотняной наволоки растекающиеся волосы производят впечатление крови. Голова Иоканаана на серебряном блюде была менее величественна.
Ольга почти не дышит. Усталость посыпала ее веки толченым графитом фаберовского карандаша.
Я горд и счастлив, как Иродиада. Эта голова поднесена мне. Я благодарю судьбу, станцевавшую для меня танец семи покрывал. Я готов целовать у этой величайшей из босоножек ее грязные пяточки за великолепное и единственное в своем роде подношение.
Сквозь кремовую штору продираются утренние лучи.
Проклятое солнце! Отвратительное солнце! Оно спугнет ее сон. Оно топает по комнате своими медными сапожищами, как ломовой извозчик.
Так и есть.
Ольга тяжело поднимает веки, посыпанные усталостью; потягивается; со вздохом поворачивает голову в мою сторону.
– Ужасно, ужасно, ужасно! Все время была уверена, что выхожу замуж по расчету, а получилось, что вышла по любви. Вы, дорогой мой, худы, как щепка, и в декабре совершенно не будете греть кровать.
Я и мои книги, вооруженные наркомпросовской охранной грамотой, переехали к Ольге.
Что касается мебели, то она не переехала. Домовой комитет, облегчая мне психологическую борьбу с «буржуазными предрассудками», запретил забрать с собой кровать, письменный стол и стулья.
С председателем домового комитета у меня был серьезный разговор.
Я сказал:
– Хорошо, не буду оспаривать: письменный стол – это предмет роскоши. В конце концов, «Критику чистого разума» можно написать и на подоконнике. Но кровать! Должен же я на чем-нибудь спать?
– Куда вы переезжаете?
– К жене.
– У нее есть кровать?
– Есть.
– Вот и спите с ней на одной кровати.
– Простите, товарищ, но у меня длинные ноги, я храплю, после чая потею. И вообще я предпочел бы спать на разных.
– Вы как женились – по любви или в комиссариате расписались?
– В комиссариате расписались.
– В таком случае, гражданин, по законам революции – значит обязаны спать на одной.
Каждую ночь тихонько, чтобы не разбудить Ольгу, выхожу из дому и часами брожу по городу. От счастья я потерял сон.
Москва черна и безлюдна, как пять веков тому назад, когда городские улицы на ночь замыкались решетками, запоры которых охранялись «решеточными сторожами».
Мне удобна эта темнота и пустынность, потому что я могу радоваться своему счастью, не боясь прослыть за идиота.
Если верить почтенному английскому дипломату, Иван Грозный пытался научить моих предков улыбаться. Для этого он приказывал во время прогулок или проездов «рубить головы тем, которые попадались ему навстречу, если их лица ему не нравились».
Но даже такие решительные меры не привели ни к чему. У нас остались мрачные характеры.
Если человек ходит с веселым лицом, на него показывают пальцами.
А любовь раскроила мою физиономию улыбкой от уха до уха.
Днем бы за мной бегали мальчишки.
Сквозь зубцы кремлевской стены мелкими светлыми капельками просачиваются звезды.
Я смотрю на воздвигнутый Годуновым Ивановский столп и невольно сравниваю с ним мое чувство.
Я готов ударить во всполошные колокола, чтобы каждая собака, проживающая в этом сумасшедшем городе, разлегшемся, подобно Риму и Византии, на семи холмах, знала о таком величайшем событии, как моя любовь.
И тут же задаю себе в сотый раз отвратительнейший вопросик:
«А в чем, собственно, дело? Почему именно твоя страстишка – Колокольня Ивана? Не слишком ли для нее торжественен ломбардо-византийский стиль?..»
Гнусный ответик имеет довольно точный смысл:
«Таков уж ты, человек. Тебе даже вонь, которую испускаешь ты собственной персоной, не кажется мерзостью. А скорее – приятно щекочет обоняние».
Центральный Исполнительный Комитет принял постановление:
«Советскую республику превратить в военный лагерь».
По скрипучей дощатой эстраде расхаживает тонконогий оратор:
– Наш террор будет не личный, а массовый и классовый террор. Каждый буржуй должен быть зарегистрирован. Зарегистрированные должны распределяться на три группы. Активных и опасных мы истребим. Неактивных и неопасных, но ценных для буржуазии запрем под замок и за каждую голову наших вождей будем снимать десять их голов. Третью группу употребим на черные работы.
Ольга стоит от меня в четырех шагах. Я слышу, как бьется ее сердце от восторга.
Совет Народных Комиссаров решил поставить памятники:
Спартаку
Гракхам
Бруту
Бабефу
Марксу
Энгельсу
Бебелю
Лассалю
Жоресу
Лафаргу
Вальяну
Марату
Робеспьеру
Дантону
Гарибальди
Толстому
Достоевскому
Лермонтову
Пушкину
Гоголю
Радищеву
Белинскому
Огареву
Чернышевскому
Михайловскому
Добролюбову
Писареву
Глебу Успенскому
Салтыкову-Щедрину
Некрасову…
Граждане четвертой категории получают:
1/10 фунта хлеба в день и один фунт картошки в неделю.
Ольга смотрит в мутное стекло.
– В самом деле, Владимир, с некоторого времени я резко и остро начинаю чувствовать аромат революции.
– Можно распахнуть окно?
Небо огромно, ветвисто, высокопарно.
– Я тоже, Ольга, чувствую ее аромат. И знаете, как раз с того дня, когда в нашем доме испортилась канализация.
Круторогий месяц болтается где-то в устремительнейшей высоте, как чепушное елочное украшеньице.
По улице провезли полковую кухню. Благодаря воинственному виду сопровождающих ее солдат, миролюбивая кастрюля приняла величественную осанку тяжелого орудия.
Мы почему-то с Ольгой всегда говорим на «вы».
«Вы» – словно ковш с водой, из которого льется холодная струйка на наши отношения.
– Прочтите-ка вести с фронта.
– Не хочется. У меня возвышенное настроение, а теперешние штабы не умеют преподносить баталии.
Я припоминаю старое сообщение:
«Потоцкий, роскошный обжора и пьяница, потерял битву».
Это о сражении с Богданом Хмельницким под Корсунем.
Ветер бегает босыми скользкими пятками по холодным осенним лужам, в которых отражается небо и плавает лошадиный кал.
Ольга решает:
– Завтра пойдем к вашему брату. Я хочу работать с советской властью.
Реввоенсоветом разрабатывается план подготовки боевых кадров из подростков от 15 до 17 лет.
Мы подходим к номеру Сергея. Дверь распахивается. Седоусый, прямоплечий старик с усталыми глазами застегивает шинель.
– Кто это?
– Генерал Брусилов.
К моему братцу приставлены в качестве репетиторов три полководца, украшенных, как и большинство русских военачальников, старостью и поражениями.
Если поражения становятся одной из боевых привычек генерала, они приносят такую же громкую славу, как писание плохих романов.
В подобных случаях говорят:
«Это его метод».
Сергей протягивает руку Ольге.
Он опять похож на большого дворового пса, которого научили подавать лапу.
Мы усаживаемся в креслах.
На письменном столе у Сергея лежат тяжелые тома «Суворовских кампаний». На столике у кровати жизнеописание Скобелева.
Я спрашиваю:
– Чем, собственно говоря, ты собираешься командовать – взводом или ротой?
– Фронтом.
– В таком случае тебе надо читать не Суворова, а записки барона Герберштейна, писанные в начале XVI столетия.
Сергей смотрит на Ольгу.
– Даже в гражданской войне генералиссимусу не мешает знать традиции родной армии.
Сергей продолжает смотреть на Ольгу.
– Стратегия Дмитрия Донского, великого князя Московского Василия, Андрея Курбского, петровеликских выскочек и екатерининских «орлов» отличалась изумительной простотой и величайшей мудростью. Намереваясь дать сражение, они прежде всего «полагались более на многочисленность сил, нежели на мужество воинов и на хорошее устройство войска».
Ольга достает папироску из золотого портсигара.
Сергей смешно хлопает себя «крыльями» по карманам в поисках спичек.
Я не в силах остановиться.
– Этот «закон победы» барон Герберштейн счел нужным довести до сведения своих сограждан и посланник английской королевы – до сведения Томаса Чарда.
Сергей наклоняется к Ольге:
– Чаю хотите?
И соблазняет:
– С сахаром.
Он роется в портфеле. Портфель до отказа набит бумагами, папками, газетами.
– Вот, кажется, и зря нахвастал.
Бумаги, папки и газеты высыпаются на пол. Сергей на лету ловит какой-то белый комок. В линованной бумаге лежит сахарный отколочек.
– Берите, пожалуйста.
Он дробит корешком Суворова обгрызок темного пайкового сахара.
– У меня к вам, Сергей Василич, небольшая просьба.
Ольга с легким, необычным для себя волнением рассказывает о своем желании «быть полезной мировой революции».
– Тэк-с…
Розовое пятно на щеке Сергея смущенно багровеет.
– Ну-с, вот я и говорю…
И, ничего не сказав, заулыбался.
– О чем вы хотели меня спросить, Сергей Васильевич?
Он почесал за ухом.
– Хотел спросить?..
Чай в стаканах жидкий, как декабрьская заря.
– Да…
Ложечка в стакане серая, алюминиевая.
– Вот, я и хотел спросить…
И почесал за вторым ухом:
– Делать-то вы что-нибудь умеете?
– Конечно, нет.
– H-да…
И он деловито свел брови.
– В таком случае вас придется устроить на ответственную должность.
Сергей решительно снял телефонную трубку и, соединившись с Кремлем, стал разговаривать с народным комиссаром по просвещению.
Марфуша босыми ногами стоит на подоконнике и протирает мыльной мочалкой стекла. Ее голые, гладкие, розовые, теплые и тяжелые икры дрожат. Кажется, что эта женщина обладает двумя горячими сердцами и оба заключены здесь.
Ольга показывает глазами на босые ноги:
– Я бы на месте мужчин не желала ничего другого.
Теплая кожа на икрах пунцовеет.
Марфуша спрыгивает с подоконника и выходит из комнаты, будто для того, чтобы вылить воду из чана.
Ольга говорит:
– Вы бездарны, если никогда к ней не приставали.
Ольга формирует агитационные поезда.
Юноша с оттопыренными губами и ушами величественно протягивает мне руку и отрекомендовывает себя:
– Товарищ Мамашев.
Это ее личный секретарь.
Ветер крутит: дома, фонари, улицы, грязные серые солдатские одеяла на небе, ледяную мелкосыпчатую крупу (отбивающую сумасшедшую чечетку на панелях), бесконечную очередь (у железнодорожного виадука) получающих разрешение на выезд из столицы, черные клочья ворон, остервенелые всхлипы комиссарских автомобилей, свалившийся трамвай, телеграфные провода, хвосты тощих кобыл, товарища Мамашева, Ольгу и меня.
– Ну и погодка!
– Черт бы ее побрал.
Товарищ Мамашев топорщит губы:
– А что я говорил? Нужно было у Луначарского попросить его автомобиль…
И подпрыгивает козликом:
– …он мне никогда не отказывает…
Вздергивает гордо бровь:
– …замечательно относится…
Делает широкий жест:
– …аккурат сегодня четыре мандата подписал… тринадцать резолюций под диктовку… одиннадцать отношений…
Хватает Ольгу под руку:
– …ходатайство в Совнарком аккурат на ваши обеденные карточки, в Реввоенсовет на три пары теплых панталон для профессора Переверзева, в Президиум Высшего совета народного хозяйства на железную печку для вашей, Ольга Константиновна, квартиры, записочку к председателю Московского Совета, записочку… тьфу!
И выплевывает изо рта горсть льда.
Ветер несет нас, как три обрывка газеты.
В деревнях нет швейных катушек. Центротекстиль предложил отпустить нитки в хлебные районы при условии: пуд хлеба за катушку ниток.
Отдел металла ВСНХ закрывает ввиду недостатка топлива ряд крупнейших заводов (Коломенский, Сормовский и др.).
Окна занавешены сумерками – жалкими, измятыми и вылинялыми, как плохенькие ситцевые занавесочки от частых стирок.
Марфуша вносит кипящий самовар.
Четверть часа тому назад она взяла его с мраморного чайного столика и, прижимая к груди, унесла в кухню, чтобы поставить.
Может быть, он вскипел от ее объятий.
Сергей перебирает любительские фотографические карточки.
– Кто этот красивый юноша? Он похож на вас, Ольга Константиновна.
– Брат.
Самовар шипит.
– …бежал на Дон.
– В Добровольческую?
– Да.
Я смотрю в глаза Сергея. Станут ли они злее?
Ольга опускает тяжелые суконные шторы цвета заходящего июльского солнца, когда заря обещает жаркий и ветреный день.
Конечно, его глаза остались такими же синими и добрыми. Он кажется мне загадочным, как темная, покрытая пылью и паутиной бутылка вина в сургучной феске.
Я не верю в любовь к «сорока тысячам братьев». Кто любит всех, тот не любит никого. Кто ко всем хорошо относится, тот ни к кому не относится хорошо.
Он внимательно разглядывает фотографию. В серебряном флюсе самовара отражается его лицо. Перекошенное и свирепое. А из голубоватого стекла в кружевной позолоченной раме вылезает нежная ребяческая улыбка с ямками на щеках.
Я говорю:
– Тебе надо почаще смотреться в самовар.
Всероссийский Совет Союзов высказался за временное закрытие текстильных фабрик.
Как-то я зашел к приятелю, когда тот еще валялся в постели. Из-под одеяла торчала его волосатая голая нога. Между пальцами, короткими и толстыми, как окурки сигар, лежала грязь плотными черными комочками.
Я выбежал в коридор. Меня стошнило.
А несколько дней спустя, одеваясь, я увидел в своих мохнатых, расплюснутых, когтистых пальцах точно такие же потные комочки грязи. Я нежно выковырял ее и поднес к носу.
С подобной же нежностью я выковыриваю сейчас свою любовь и с блаженством «подношу к носу».
А когда я гляжу на Сергея, меня всего выворачивает наружу. (Он вроде молодого купца из «Древлепечатного Пролога», который «уязвился ко вдовице… люте истаевал… ходил неистов, яко бы бесен».)
Совет Народных Комиссаров предложил Наркомпросу немедленно приступить к постановке памятников.
Из Курска сообщают, что заготовка конины для Москвы идет довольно успешно.
Щелкнув рубиновой кнопкой, Ольга вынимает из серой замшевой сумочки сухой темный ломтик.
Хлеб пахнет конюшней, плесенью Петропавловских подземелий и, от соседства с кружевным шелковым платком, – убигановским Quelques Fleurs’ом.
Я вынимаю такой же ломтик из бумажника, а товарищ Мамашев – из портфеля.
Девушка в белом переднике ставит на столик тарелки. У девушки усталые глаза и хорошее французское произношение:
– Potage a la paysanne [суп по-крестьянски (фр)].
Смешалище из жидкой смоленской глины и жирного пензенского чернозема наводит на размышления.
Ольга вытирает платочком тусклую ложку. Французское кружево коричневеет.
Кухонное оконце, как лошадь на морозе, выдыхает туманы.
Я завидую завсегдатаям маленьких веселых римских «попин» – Овидию, Горацию и Цицерону; в кабачке «Белого Барашка» вдовушка Бервен недурно кормила Расина; ресторанчик мамаши Сагюет, облюбованный Тьером, Беранже и Виктором Гюго, имел добрую репутацию; великий Гете не стал бы писать своего «Фауста» в лейпцигском погребке, если бы старый Ауэрбах подавал ему никуда не годные сосиски.
Наконец (во время осады Парижа в семьдесят первом году), только высокое кулинарное искусство ресторатора Поля Бребена могло заставить Эрнеста Ренана и Теофиля Готье даже не заметить того, что они находятся в городе, который был «залит кровью, трепетал в лихорадке сражений и выл от голода».
Ольга пытается сделать несколько глотков супа.
– Владимир, вы захватили из дома соль?
Я вынимаю из кармана золотую табакерку времен Елизаветы Петровны.
– Спасибо.
С оттопыренных губ товарища Мамашева летят брызги восторженной слюны.
– Должен вам сказать, Ольга Константиновна, что здесь совершенно нет столика без знаменитости.
Восторженная слюна пенится на его розовых губах, как Атлантический океан.
– Изысканнейшее общество!
Он раскланивается, прижимая руку к сердцу и танцуя головой с кокетливой грацией коня, ходившего в пристяжке.
– Обратите, Ольга Константиновна, внимание – аккурат, Евтихий Владимирович Туберозов… европейское имя… шесть аншлагов в «Гранд-Опера»…
Товарищ Мамашев отвешивает поклон и прижимает руку к сердцу.
– …аккурат вчера вывез по ордеру из особняка графини Елеоноры Леонардовны Перович буфет красного дерева рококо, волосяной матрац и люстру восемнадцатого века.
Кухонное оконце дышит туманами. Скрипят челюсти. Девушка с усталыми глазами вывернула тарелку с супом на колени знаменитого художника, с которым только что поздоровался товарищ Мамашев.
– Петр Аристархович Велеулов, аккурат с утренним поездом привез из Тамбова четыре пуда муки, два мешка картошки, пять фунтов сливочного масла…
Ольга вытирает лицо кружевным платочком.
– Товарищ Мамашев, вы не человек, а пульверизатор. Всю меня оплевали.
– Простите, Ольга Константиновна!
Девушка с усталыми глазами подала нам корейку восемнадцатилетнего мерина.
Петр Аристархович вытаскивает из-за пазухи фунтовую коробку монпансье.
Товарищ Мамашев впивается в жестянку ястребиным взглядом. Он почти не дышит.
В коробке из-под монпансье оказывается сливочное масло. Мамашев торжествует.
Возвращаемся бульварами. Деревья шелестят злыми каркающими птицами.
Вороны висят на сучьях, словно живые черные листья.
Не помню уж, в какой летописи читал, что перед одним из страшнейших московских пожаров, «когда огонь полился рекою, каменья распадались, железо рдело, как в горниле, медь текла и дерева обращались в уголь и трава в золу», – тоже раздирательно каркали вороны над посадом, Кремлем, заречьями и загородьем.
В Москве поставили одиннадцать памятников «великим людям и революционерам».
Рабочие национализированной типографии «Фиат Люкс» отказались работать в холоде. Тогда районный Совет разрешил разобрать на дрова большой соседний деревянный дом купца Скоровертова.
Ночью Марфуша притащила мешок сухих, гладко оструганных досок и голубых обрубков.
Преступление свое она оправдала пословицей, гласящей, что «в корчме, вишь, и в бане уси ровные дворяне».
У Марфуши довольно своеобразное представление о первой в мире социалистической республике.
Купеческий «голубой дом» накалил докрасна железную печку. В открытую форточку вплывает унылый бой кремлевских часов. Немилосердно дымят трубы.
Двенадцать часов, а Ольги все еще нет.
В печке трещит сухое дерево. Будто крепкозубая девка щелкает каленые орехи.
Когда доиграли невидимые кремлевские маятники, я подумал о том, что хорошо бы перевидать в жизни столько же, сколько перевидал наш детинец с его тяжелыми башнями, толстыми стенами, двурогими зубцами с памятью следов от ржавых крючьев, на которых висели стрелецкие головы – «что зубец – то стрелец».
Час ночи.
Ольга сидит за столом, перечитывая бесконечные протоколы еще более бесконечных заседаний.
Революция уже создала величественные департаменты и могущественных столоначальников.
Я думаю о бессмертии.
Бальзаковский герой однажды крикнул, бросив монету в воздух:
– «Орел» за бога!
– Не глядите! – посоветовал ему приятель, ловя монету на лету. – Случай такой шутник.
До чего же все это глупо. Скольким еще тысячелетиям нужно протащиться, чтобы не приходилось играть на «орла и решку», когда думаешь о бессмертии.
Ольга спрятала бумаги в портфель и подошла к печке. Сверкающий кофейник истекал пеной.
– Кофе хотите?
– Очень.
Она налила две чашки.
На фаянсовом попугае лежат разноцветные монпансье. Ольга выбрала зелененькую, кислую.
– Ах да, Владимир…
Она положила монпансьешку в рот.
– …чуть не позабыла рассказать…
– …я сегодня вам изменила.
Снег за окном продолжал падать и огонь в печке щелкать свои орехи.
Ольга вскочила со стула.
– Что с вами, Володя?
Из печки вывалился маленький золотой уголек.
Почему-то мне никак не удавалось проглотить слюну. Горло стало узкой переломившейся соломинкой.
– Ничего.
Я вынул папиросу. Хотел закурить, но первые три спички сломались, а у четвертой отскочила серная головка. Уголек, вывалившийся из печки, прожег паркет.
– Ольга, можно мне вас попросить об одном пустяке?
– Конечно.
Она ловко подобрала уголек.
– Примите, пожалуйста, ванну.
Ольга улыбнулась:
– Конечно…
Пятая спичка у меня зажглась.
Все так же падал за окном снег и печка щелкала деревянные орехи.
О московском пожаре 1445 года летописец писал:
«…выгорел весь город, так что ни единому древеси остатися, но церкви каменные распадошася и стены градные распадошася».
Ночь. Хрустит снег.
Из-за выщербленной квадратной трубы вылезает золотое ухо казацкого солнышка.
Каждый шаг приближает меня к страшному. Каждую легчайшую пушинку времени надо бы ловить, прижимать к сердцу и нести с дрожью и бережью. Казалось бы, так.
В подворотне облезлого кривоскулого дома большие старые сварливые вороны раздирают дохлую кошку. Они жрут вонючее мясо с жадностью и стервенением голодных людей.
Дохлая кошка с расковырянными глазницами нагло, как вызов, задрала к небу свой сухопарый зад:
«Вот, мол, и смотрите мне под хвост со своим божественным равнодушием». Очень хорошо.
С небом надо уметь по-настоящему разговаривать. На Державине в наши дни далеко не уедешь.
Я иду дальше.
Мой путь еще отчаянно велик, отчаянно долог. Целых полквартала до того семиэтажного дома.
Заглядываю мимоходом в освещенное окно старенького барского особняка.
Почему же окно не занавешено? Ах да, хозяин квартиры Эрнест Эрнестович фон Дихт сшил себе брюки из фисташковой гардины. Эрнест Эрнестович фон Дихт был ротмистр гусарского Сумского полка. У сумчан неблагонадежные штаны. Фон Дихт предпочел, чтобы ВЧК его арестовала за торговлю кокаином.
Я вглядываюсь. Боже мой, да ведь это же Маргарита Павловна фон Дихт. Она – как недописанная восьмерка. Я никогда не предполагал, что у нее тело гибкое и белое, как итальянская макарона. Но кто же этот взъерошенный счастливец с могучими плечами и красными тяжелыми ладонями? Он ни разу не попадался мне на нашей улице.
В первую минуту меня поражает женское небрежение страхом и осторожностью, во вторую – я прихожу к другому, более логическому выходу: супруг Маргариты Павловны, бывший ротмистр Сумского гусарского полка, уже расстрелян. По всей вероятности, в начале этой недели, так как еще в субботу на прошлой у очаровательной Маргариты Павловны приняли передачу.
Скромность уводит меня от освещенного окна.
Какая мертвая улица!
Казацкое солнышко, завернувшись в новенький бараний кожух, сидит на трубе.
Хрустит снег.
Семиэтажный дом смотрит на меня с противоположной стороны сердитыми синими очками. Как старая дева с пятого курса медицинского факультета. Реликвия прошлого. В пролетарской стране, если она в течение первой четвертушки столетия не переродится в буржуазную республику, «старые», по всей вероятности, все-таки останутся, но «девы» вряд ли. Молодой класс будет слишком увлечен своей властью, чтобы обращать внимание на пустяки.
Чем ближе я подхожу к вечности, тем игривее становятся мои мысли.
Не бросить ли, в самом деле, веселенький царский гривенник в воздух? Благо завалялся в кармане от доковчеговых времен.
Я не поклонник монархии:
– «Решка» за бессмертие!
Случаю – представляется случай покаверзничать.
Гривенник блеснул в воздухе, как капелька, упавшая с луны.
– «Орел», черт побери!
Противоположную сторону рассек переулочек, ститснутый домами и завернутый в ночь (как узкая, стройная женщина в котиковую, до пят, шубу).
В переулочке проживала какая-то дебелая вдова. Я называл ее «моя крошка».
Во вдове было чистого веса пять пудов тридцать фунтов.
А все-таки мы самый ужасный народ на земле. Недаром же в книге «Драгоценных драгоценностей» арабский писатель записал:
«Никто из русов не испражняется наедине: трое из товарищей сопровождают его непременно и оберегают. Все они постоянно носят при себе мечи, потому что мало доверяют друг другу и еще потому, что коварство между ними дело обыкновенное. Если кому удастся приобрести хотя малое имущество, то уже родной брат или товарищ тотчас начинают завидовать и домогаться, как бы убить его или ограбить».
Казацкое солнышко напоминает мне веселый детский пузырь. Какой-то соплячок выпустил из рук бечевку, и желтый шарик улетел в звезды.
На углу дремлет извозчик. Чалая кобыла взглянула на меня равнодушным, полированным под мореный дуб глазом.
Лошади, конечно, наплевать!
Двор. Грустный и брюнетистый – как помощник провизора. С четырех сторон мрачные высоченнейшие стены. Без всяких лепных фигурочек, закавычек и закругляшек.
Мимо ворот ковыляет кляча.
Пьяная потаскушка забористо выхрипывает:
- Ты, говорит,
- Нахал, говорит,
- Каких, говорит,
- Нема-а-ало.
- Все ж, говорит,
- Люблю, говорит,
- Тебя, говорит,
- Наха-а-ала.
Поднимаюсь по черной лестнице. Железные ржавые перила, каменные, загаженные, вышарканные ступени и деревянные, в бахроме облупившейся клеенки, крашенные скукой двери чужих квартир.
Сквозь мутное стекло глядят звезды.
Лень тащиться еще два этажа. А что, ежели с пятого?
Визгливый женский голос продырявил дверь. Я оглянулся в сторону затейных растеков и узорчиков собачьей мочи. Мягко и аппетитно чавкнуло полено. Неужели по женщине?
Мне пришла в голову счастливая мысль, что, может быть, некоторые старые способы в известных случаях приносят пользу.
Луна состроила издевательскую рожу.
Полез выше.
1919
«Винтовку в руку, рабочий и бедняк! В ряды продовольственных баталионов. В деревню, к кулацким амбарам за хлебом. Симбирские, уфимские, самарские кулаки не дают тебе хлеба – возьми его у воронежских, вятских, тамбовских…»
Это называется «катехизисом сознательного пролетария».
Большевики дерутся (по всей вероятности, мужественно) на трех фронтах, четырех участках и в двенадцати направлениях.
Из приказа Петра I:
«Кто с приступа бежал, тому шельмованным быти… гонены сквозь строй и, лица их заплевав, казнены смертию».
Из приказа Наркомвоенмора:
«Если какая-нибудь часть отступит самовольно, первым будет расстрелян комиссар, вторым командир».
Еще:
«Трусы, шкурники и предатели не уйдут от пули. За то я ручаюсь перед лицом всей Красной Армии».
– Доброе утро, Ольга.
– Доброе утро, Володя.
На гробе патриарха Иосифа в Успенском соборе братина, чеканенная травами. По ободку ее вилась надпись:
«Истинная любовь уподобится сосуду злату, ему же разбитися не бывает; аще погнется, то разумно исправится».
Дело обстояло довольно просто.
На черной лестнице седьмого этажа в углу примостился ящик с отбросами – селедочные хвосты, картофельная шелуха, лошадиные вываренные ребра.
Я вылез из шубы и бросил ее на ящик. Потом снял с головы высокую, из седого камчатского зверя, шапку (чтобы она, боже упаси, не помешала мне как следует раскроить череп).
На звезды наполз серебряный туман. Луна плавала в нем, как ломтик лимона в стакане чая, подбеленного сливками.
Надо было разбить толстое запакощенное стекло.
Я стащил с левой ноги калошу и ударил. Стекло, хихикнув, будто его пощекотали под мышками, рассыпалось по каменной площадке и обкусанным ступеням довольно крутой лестницы.
Некрепкий ночной морозец пробежал от затылка по крестцу, по ягодицам, по ляжкам – в потные трясущиеся пятки. Словно за шиворот бросили горсть мелких льдяшек.
Каркнула птица. В темноте она показалась мне франтоватой. Ее крылья трепыхались, как фрачная накидка. Светлый зоб был похож на тугую крахмальную грудь.
А ведь в Париже еще носят фрак. Черт с ним, с Парижем!
Мне захотелось взглянуть на то место, где через несколько минут должен был расплющиться окровавленный сверток с моими костьми и мясом.
Я просунул голову.
Какая мерзость!..
Узнаю тебя, мое дорогое отечество.
Я выругался и плюнул с седьмого этажа. Мой возмущенный плевок упал в отвратительную кучу отбросов.
Негодяи, проживающие поблизости от звезд, выворачивали прямо в форточку ящик с пакостиной. Селедочные хвосты, картофельная шелуха и лошадиные вываренные ребра падали с величественной высоты.
Прошу поверить, что я даже в мыслях не собирался вскрывать себе вены, подражая великолепному другу Цезаря. Не лелеял мечту покончить жалкие земные расчеты прыжком с ломбардо-византийского столпа, воздвигнутого царем Борисом, который, по словам летописи, «жил, как лев, царствовал, как лисица, и умер, как собака».
Но умереть в навозной куче!
Нет, это уж слишком.
Пришлось снова надеть калошу.
У меня мрачное прошлое. В пятом классе гимназии я имел тройку за поведение за то, что явился на бал в женскую гимназию с голубой хризантемой в петлице отцовского смокинга. Это было в Пензе.
Легкий ночной морозец садился на щеки, кусал уши и щекотал перышком в ноздрях.
Я извлек из мусорного ящика шапку и нежно погладил красивого камчатского зверя.
Ветер трепыхал фрачную накидку на черной ворчливой птице, ерошил мои волосы и сметал в кучу звезды. Плеяды лежали золотой горкой.
На рукаве шубы сверкало несколько серебряных искорок селедочной чешуи. Я соскоблил их, застегнулся на все пуговицы и поднял воротник. «Повесившись, надо мотаться, а оторвавшись, кататься!» – сказал я самому себе и, упрятав руки в карманы, стал сходить вниз почти с легким и веселым сердцем.
В Коллегии Продовольственного Отдела Московского Совета заслушан доклад доктора Воскресенского о результатах опытов по выпечке хлеба из гнилого картофеля.
Вон на той полочке стоит моя любимая чашка. Я пью из нее кофе с наслаждением. Ее вместимость три четверти стакана. Ровно столько, сколько требует мой желудок в десять часов утра.
Кроме того, меня радует мягкая яйцеобразная форма чашки и расцветка фарфора. Удивительные тона! Я вижу блягиль, медянку, ярь и бокан винецейский.
Мне приятно держать эту чашку в руках, касаться губами ее позолоченных краев. Какие пропорции! Было бы преступлением увеличить или уменьшить толстоту фарфора на листик папиросной бумаги.
Конечно, я пью кофе иногда и из других чашек. Даже из стакана. Если меня водворят в тюрьму как «прихвостня буржуазии», я буду цедить жиденькую передачу из вонючей, чищенной кирпичом жестяной кружки.
Точно так же, если бы Ольга уехала от меня на три или четыре месяца, я бы, наверно, пришел в кровать к Марфуше.
Но разве это меняет дело по существу? Разве перестает чашка быть для меня единственной в мире?
Теперь вот о чем. Моя бабка была из строгой староверческой семьи. Я наследовал от нее брезгливость, высохший нос с горбинкой и долговатое лицо, будто свернутое в трубочку.
Мне не очень приятно, когда в мою чашку наливают кофе для кого-нибудь из наших гостей. Но все же я не швырну ее – единственную в мире – после того об пол, как швырнула бы моя рассвирепевшая бабка. Она научилась читать по слогам в шестьдесят три года, а я в три с половиной.
В какой-то мере я должен признавать мочалку и мыло.
Не правда ли?
А что касается Ольги, то ведь она, я говорю о том вечере, исполнила мою просьбу. Она приняла ванну.
В Черни Тульской губернии местный Совет постановил организовать «Фонд хлеба всемирной пролетарской революции».
– Ольга, четверть часа тому назад сюда звонил по телефону ваш любовник…
Она сняла шляпу и стала расчесывать волосы большим черепаховым гребнем.
– …он просил вас прийти к нему сегодня в девять часов вечера.
Республиканцы обрастают грязью.
Известьинский хроникер жалуется на бани, которые «все последнее время обычно бывают закрыты».
Мы едем по завечеревшей Тверской. Глубокий снег скрипит под полозьями, точно гигроскопическая вата. По тротуарам бегут плоские тенеподобные люди. Они кажутся вырезанными из оберточной бумаги. Дома похожи на аптечные шкафы.
Через каждые двадцать шагов сани непременно попадают в рытвину.
Я крепко держу Ольгу за талию. Извозчичий армяк рассыпался складками, как бальный веер франтихи прошлого века.
Мы едем молча.
Каждый размышляет о своем. Я, Ольга и суровая спина возницы.
На углу Камергерского наш гнедой конь врастает копытами в снег.
Старенький, седенький, с глазами Миколы Чудотворца, извозчик старается вывести его из оцепенения. Сначала он уговаривает коня, словно малого дитятю, потом увещевает, как подвыпившего приятеля, наконец, начинает орать на него, как на своенравную бабу.
Конь поводит ушами, корчит хребет, дыбит хвост и падает в снег. Мыльная слюна течет из его ноздрей; розовые десны белеют; наподобие глобусов ворочаются в орбитах огромные страдальческие глаза.
Я снимаю шапку. Почтим смерть. Она во всех видах загадочна и возвышенна. Гнедой мерин умирает еще более трагически, чем его двуногий господин и повелитель.
Я беру Ольгу под руку:
– Идемте.
С отчаяния седенький Микола Чудотворец принимается стегать изо всех силенок покойника и выкручивает ему хвост.
Ольга морщит брови:
– На нынешней неделе подо мной падает четвертая лошадь. Конский корм выдают нам по карточкам. Это бессердечно. Надо сказать Марфуше, чтобы она не брала жмыхов.
Ольга вынимает из уха маленький бриллиантик и отдает извозчику.
Мы идем вниз по Тверской.
На площади из-под полы продают краюшки черного хлеба, обкуски сахара и поваренную соль в порошочках, как пирамидон.
Около «Метрополя» Ольга протягиает мне свою узкую серую перчатку:
– Вы меня сегодня, Владимир, не ждите. Я, по всей вероятности, пойду на службу прямо от Сергея.
– Хорошо.
Я расстегиваю пуговку на перчатке и целую руку.
– Скажите моему братцу, что книгу, которую он никак не мог раздобыть, я откопал для него у старьевщика.
Ольгу заметает вертушка метропольского входа.
Я стою неподвижно. Я думаю о себе, о россиянах, о России. Я ненавижу свою кровь, свое небо, свою землю, свое настоящее, свое прошлое; эти «святыни» и «твердыни», загаженные татарами, французами и голштинскими царями; «дубовый город», срубленный Калитой, «город Камен», поставленный Володимиром и ломанный «до подошвы» Петром; эти церковки – репками, купола – свеколками и колокольницы – морковками.
Наполеон, который плохо знал историю и хорошо ее делал, глянув с Воробьевой горы на кремлевские зубцы, изрек:
– Les fieres murailles!
«Гордые стены!»
С чего бы это?
Не потому ли, что веков шесть тому назад под грозной сенью башен, полубашен и стрельниц с осадными стоками и лучными боями русский царь кормил овсом из своей высокой собольей шапки татарскую кобылу? А кривоносый хан величаво сидел в седле, покрякивал и щекотал брюхо коню. Или с того, что гетман Жолкевский поселился с гайдуками в Борисовском Дворе, мял московских боярынь на великокняжеских перинах и бряцал в карманах городскими ключами? А Грозный вонзал в холопьи ступни четырехгранное острие палки, полученной некогда Московскими великими князьями от Диоткрима и переходившей из рода в род как знак покорности. Мало? Ну, тогда напоследок погордимся еще царем Василием Ивановичем Шуйским, которого самозванец при всем честном народе выпорол плетьми на взорном месте.
– Владимир Васильевич! Владимир Васильевич!
Я оборачиваюсь.
– Здравствуйте!
Товарищ Мамашев приветствует меня жестом патриция:
– Честь имею!
Он прыгает петушком вокруг большой крытой серой машины.
– Хороша! Сто двадцать, аккурат, лошадиных сил.
И треплет ее по железной шее, как рыцарь Ламанческий своего воинственного Росинанта.
Шофер, закованный в кожаные латы, добродушно косит глазами:
– Двадцать сил, товарищ Мамашев.
Товарищ Мамашев выпячивает на полвершка нижнюю губу:
– Товарищ Петров, не верю вам. Не верю!
Я смотрю на две тени в освещенном окне третьего этажа. Потом закрываю глаза, но сквозь опущенные веки вижу еще ясней. Чтобы не вскрикнуть, стискиваю челюсти.
– Ну-с, товарищ Петров, а как…
Мамашев пухнет:
– …Ефраим Маркович?
– В полном здравии.
– Очень рад.
Я поворачиваюсь спиной к зданию. Спина разыскивает освещенное окно третьего этажа. Где же тени? Где тени? Спина шарит по углам своим непомерным суконным глазом. Находит их. Кричит. Потому что у нее нет челюстей, которые она могла бы стиснуть.
– Ну-с, а в Реввоенсовете у вас все, товарищ Петров, по-старому – никаких таких особых понижений, повышений…
Товарищ Мамашев снижает голос на басовые ноты:
– …назначений, перемещений? По-старому. Вчера вот в пять часов утра заседать кончили.
– Ефраим Маркович…
Метропольская вертушка выметает поблескивающее пенсне Склянского. Товарищ Мамашев почтительно раскланивается. Склянский быстрыми шагами проходит к машине.
Автомобиль уезжает.
Товарищ Мамашев поворачивает ко мне свое неподдельно удивленное лицо:
– Странно… Ефраим Маркович меня не узнал…
Я беру его за локоть.
– Товарищ Мамашев, вы все знаете…
Его мягкие оттопыренные уши краснеют от удовольствия и гордости.
– Я, товарищ Мамашев, видите ли, хочу напиться, где спиртом торгуют, вы знаете?
Он проводит по мне презрительную синенькую черту своими влажными глазками:
– Ваш вопрос, Владимир Васильевич, меня даже удивляет…
И поднимает плечи до ушей:
– Аккурат, знаю.
Товарищ Мамашев расталкивает «целовальника»:
– Вано! Вано!
Вано, в грязных исподниках, с болтающимися тесемками, в грязной ситцевой – цветочками – рубахе, спит на голом матраце. Полосатый тик в гнилых махрах, в провонях и в кровоподтеках.
– Вставай, кацо!
Словно у ревматика, скрипят ржавые, некрашеные кости кровати.
Грозная, вымястая, жирношеяя баба скребет буланый хвост у себя на затылке.
– Толхай ты, холубчик, его, прохлятого супруха моего, хрепче!
Черный клоп величиной с штанинную пуговицу мечтательно вылезает из облупившейся обойной щели.
Вано поворачивается, сопит, подтягивает порты, растирает твердые, как молоток, пятки и садится.
– Чиго тебе?… спирту тибе?… дороже спирт стал… хочишь бири, хочишь ни бири… хочишь пей, хочишь гуляй так. Чихал я.
Он засовывает руку под рубаху и задумчиво чешет под мышкой. Волосы у Вано на всех частях тела растут одинаково пышно.
Мы соглашаемся на подорожание. Вано приносит в зеленой пивной бутылке разбавленный спирт; ставит прыщавые чайные стаканы; кладет на стол луковицу.
– Соли, кацо, нет. Хочишь ешь, хочишь ни ешь. Плакать ни буду.
Вано видел плохой сон. Он мрачно смотрит на жизнь и на свою могучую супругу.
Я разливаю спирт, расплескивая по столу и переплескивая через край.
В XIII веке водку считали влажным извлечением из философского камня и принимали только по каплям.
Я опрокидываю в горло стакан. Захлебываюсь пламенем и горечью. Гримаса перекручивает скулы. Приходится оправдываться:
– Первая колом, вторая соколом, третья мелкой пташечкой.
На пороге комнаты вырастают две новые фигуры.
Товарищ Мамашев прижимает руку к сердцу и раскланивается.
У вошедшего мужчины широкополая шляпа и борода испанского гранда. Она стекает с подбородка красноватым желтком гусиного яйца. Глаза у него светлые, грустные и возвышенные. Нос тонкий, безноздрый, почти просвечивающий. Фолиантовая кожа впилась в плоские скулы. Так впивается в руку хорошая перчатка.
На женщине необычайные перья. Они увяли, как цветы. В 1913 году эти перья стоили очень дорого на Rue de la Paix. Их носили дамы, одевающиеся у Пакена, у Ворта, у Шанеля, у Пуарэ. На женщине желтый палантин, который в прошлом был такой же белизны, что и кожа на ее тонкокостном теле. Осень горностая напоминает осень березовых аллей. Женщина увешана «драгоценностями». В дорогих оправах сияют фальшивые бриллианты. Чувствуется, что это новые жильцы. Они похожи на буржуа военного времени. Вошедшая одета в атлас, такой же выцветший, как и ее глаза. Венецианские кружева побурели и обвисли, как ее кожа. Еще несколько месяцев назад эта женщина в этом наряде, по всей вероятности, была бесконечно смешна. Сегодня она трагична.
Товарищ Мамашев приветствует «баловня муз и его прекрасную даму».
Слова звучат как фанфары.
Женщина протягивает пальцы для поцелуя, «баловень муз» снимает испанскую шляпу.
Вано ставит на стол зеленую бутылку.
Я пью водку, закусываю луком и плачу. Может быть, я плачу от лука, может быть, от любви, может быть, от презренья.
«Баловень муз» делает глоток из горлышка и выплевывает. Кацо обязан знать, что прадед поэта носил титул «всепьянейшества» и был удостоен трех почетнейших наград: «сиволдая в петлицу», «бокала на шею» и «большого штофа через плечо»!!
Вано приносит бутылку неразведенного спирта.
Я закрываю лицо и вижу гаснущий свет в окне третьего этажа. Я зажимаю уши, чтобы не слышать того, что слышу через каменные стены, через площадь и три улицы.
Дверь с треском распахивается. Детина в пожарной куртке с медными пуговицами и с синими жилами обводит комнату моргающими двухфунтовыми гирями. У детины двуспальная рожа, будто только что вытащенная из огня. Рыжая борода и рыжие ноздри посеребрены кокаином.
«Баловень муз» интересуется моим мнением о скифских стихах Овидия. Я говорю, что Назон необыкновенно воспел страну, которую, по его словам, «не следует посещать счастливому человеку».
Мой собеседник предпочитает Вергилия. Он нараспев читает мне о волах, выдерживающих на своем хребте окованные железом колеса; о лопающихся от холода медных сосудах; о замерзших винах, которые рубят топором; о целых дубах и вязах, которые скифы прикатывают к очагам и предают огню.
Я лезу в пьянеющую память и снова выволакиваю оттуда Назона. Его «конские копыта, ударяющие о твердые волны», его «сарматских быков, везущих варварские повозки по ледяным мостам». Говорю о скованных ветрами лазурных реках, которые ползут в море скрытыми водами; о скифских волосах, которые звенят при движении от висящих на них сосулек; о винах, которые – будучи вынутыми из сосудов – стоят, сохраняя их форму.
В конце концов мы оба приходим к заключению, что после латинян о Пушкине смешно говорить даже под пьяную руку.
«Баловень муз» мычит презрительно:
- Зима… Крестьянин торжествуя…
- На дровнях… обновляет… путь…
- Его лошадка… снег почуя…
- Плетется рысью как-нибудь…
Товарищ Мамашев спит рядом с могучей вымястой бабой на голом, в провонях, матраце. Женщина в увядшем горностае роняет слезу о своем друге – Анатоле Франсе. Пожарный, оборвав крючки на ее выцветшем атласном лифе, запускает красную пятерню за блеклое венецианское кружево. После непродолжительных поисков он вытаскивает худую, длинную, землистую грудь, мнет ее, как салфетку, и целует в сморщенный сосок.
Метель падает не мягкими хлопьями холодной ваты, не рваными бумажками, не ледяной крупой, а словно белый проливной ливень. Снег над городом – седые космы старой бабы, которая ходит пятками по звездам.
Пошатываясь, я пересекаю улицу. В метельной неразберихе натыкаюсь на снежную память. Сугробище гораздо жестче, чем пуховая перина. Я теряю равновесие. Рука хватается за что-то волосатое, твердое, обледенелое.
Хвост! Лошадиный хвост!
Я вскрикиваю, пытаюсь подняться и раздираю до крови вторую руку об оскаленные, хохочущие, мертвые лошадиные десны. Вскакиваю. Бегу. Позади дребезжит свисток.
Метель вздымает меховые полы моей шубы. Я, наверное, похож на глупую, прикованную к земле птицу с обрезанным хвостом.
Вот и наш переулок. Он узок, ровен и бел. Будто упала в ночь подтаявшая стеариновая свеча. В окне последнего одноэтажного домика загорелся свет: подожгли фитиль у свечи.
Кто это там живет?
Я долго и безуспешно роюсь в карманах, отыскивая ключ от английского замка входной двери. Какая досада! Должно быть, потерял у трупа. Надо непременно завтра или послезавтра отправиться на то место и поискать. Мертвая лошадь, на самый худой конец, пролежит еще дня три.
Но кто же все-таки благоденствует в одноэтажном домике? Ах! И как это я мог запамятовать. Под крышей, обрамленной пузатыми амурами, проживает очаровательная Маргарита Павловна. Я до сих пор не могу забыть ее тело, белое и гибкое, как итальянская макарона. Не так давно Маргарита Павловна вышла замуж за бравого постового милиционера из 26-го отделения. Я пробегаю церковную ограду, каменные конюшни, превращенные в квартиры, и утыкаюсь в нашу дверь. Звоню.
По коридору шлепают мягкие босые ноги. Мне делается холодно за них.
Б-p-p-p-p!
Щелкает замок. Из-за угла выскакивает метель. Я открываю рот, чтобы извиниться перед Марфушей, и не извиняюсь…
Метель выхватывает из ее рук дверь, врывается в коридор, срывает с голых, круглых, как арбузы, плеч зипунишко (кое-как наброшенный спросонья) и вспузыривает над коленными чашечками розовую, широкую, влажноватую ночным теплом рубаху.
Слова и благоразумие я потерял одновременно.
Ольга почему-то не осталась ночевать у Сергея. Она вернулась домой часа в два.
Я слышал, с оборвавшимся дыханием, как повернулся ее ключ в замке, как бесшумно, на цыпочках, миновала она коридор, подняла с пола мою шубу и прошла в комнаты.
Найдя кровать пустой, она вернулась к Марфушиному чуланчику и, постучав в перегородку, сказала:
– Пожалуйста, Владимир, не засыпайте сразу после того, как «осушите до дна кубок наслаждения»! Я принесла целую кучу новых стихов имажинистов. Вместе повеселимся.
Тифозники валяются в больничных коридорах, ожидая очереди на койки. Вши именуются врагами революции.
Из Прикаспия отправлено в Моску верблюжье мясо.
В воскресенье в два часа дня в Каретном ряду состоялась торжественная закладка Дворца Народа. Разрабатывается проект постройки при Дворце театра на пять тысяч человек, который по величине будет вторым театром в Европе.
Все семейство в сборе: Ольга сидит на диване, поджав под себя ноги, и дымит папиросой; Марфуша возится около печки; Сергей собирает шахматы.
Он через несколько дней уезжает на фронт. Несмотря на кавалерийские штаны и гимнастерку, туго стянутую ремнем, вид у Сергея глубоко штатский. Он попыхивает уютцем и теплотцой, точно старинная печка с изразчатыми прилепами, валиками и шкафными столбиками.
Я выражаю опасение за судьбу родины:
– У тебя все данные воевать по старому русскому образцу.
И рассказываю о кампании 1571 года, когда хитрый российский полководец, вышедший навстречу к татарам с двухсоттысячной армией, предпочел на всякий случай сбиться с пути.
– А точный историк возьми да и запиши для потомства: «сделал это, как полагают, с намерением, не смея вступить в битву».
Сергей спрашивает:
– Хочешь, я дам записку, чтобы тебя взяли обратно в приват-доценты? Все, что тебе необходимо выболтать за день, – выбалтывай с кафедры.
Я соглашаюсь на условие и получаю пространную записку к Анатолию Васильевичу.
Сергей очень ловко исполнил Ольгину просьбу. Мне самому не хотелось тревожить высокопоставленного братца.
Мы приятничаем горячим чаем. Марфуша притащила еще охапку мелко нарубленных дров. Она покупает их фунтами на Бронной.
Жители Бурничевской и Коробинской волости Козельского уезда объявили однодневную голодовку, чтобы сбереженный хлеб отправить «красным рабочим Москвы и Петрограда».
– Мечтатель.
– Кто?
– Мечтатель, говорю.
– Кто?
– Да ты. По ночам, должно быть, не спишь, воображая себя «красным Мининым и Пожарским».
Ольга мнет бровь:
– Пошленьким оружием сражается Владимир.
– Имею основания полагать, что, когда разбушевавшаяся речонка войдет в свои илистые бережочки, весь этот «социальный» бурничевско-коробинский «патриотизм» обернется в разлюбезную гордость жителей уездного лесковского городка, которые следующим образом восторгались купцом своим, Никоном Родионовичем Масленниковым: «Вот так человек! Что ты хочешь, сичас он с тобою может сделать; хочешь в острог тебя посадить – посадит; хочешь плетюганами отшлепать или так, в полицы розгами отодрать – тоже сичас он тебя отдерет. Два слова городничему повелит или записочку напишет, а ты ее, эту записочку, только представишь – сичас тебя в самом лучшем виде отделают. Вот какого себе человека имеем».
Прибыло два вагона тюленьего жира.
За заставы Москвы ежедневно тянутся вереницами ломовые, везущие гробы. Все это покойники, которых родственники везут хоронить в деревню, так как на городских кладбищах, за отсутствием достаточного числа могильщиков, нельзя дождаться очереди.
Поставленный несколько дней тому назад в Алексндровском саду памятник Робеспьеру разрушен «неизвестными преступниками».
Сергей – в собственном салон-вагоне из бывшего царского поезда – уехал «воевать».
Сегодня утром Ольга вспомнила, что Сергей уехал «в обыкновенных нитяных носках».
Я разделил ее беспокойство:
– Если бы у наполеоновских солдат были теплые портянки, мы с вами, Ольга, немножко хуже знали бы географию. Корсиканцу следовало наперед почитать растопчинские афиши. Градоправитель не зря болтал, что «карлекам да щеголкам… у ворот замерзать, на дворе аколевать, в сенях зазебать, в избе задыхаться, на печи обжигаться».
Ольга сказала:
– Едемте на Сухаревку. Я не желаю, чтобы великая русская революция угодила на остров Святой Елены.
– Я тоже.
– Тогда одевайтесь.
Я подошел к окну. Мороз разрисовал его причудливейшим серебряным орнаментом: Египет, Рим, Византия и Персия. Великолепное и расточительное смешение стилей, манер, темпераментов и воображений. Нет никакого сомнения, что самое великое на земле искусство будет построено по принципу коктейля. Ужасно, что повара догадливее художников.
Я дышу на стекло. Ледяной серебряный ковер плачет крупными слезами.
– Что вас там интересует, Владимир?
– Градусы.
Синенькая спиртовая ниточка в термометре короче вечности, которую мы обещали в восемнадцать лет своим возлюбленным.
Я хватаюсь за голову:
– Двадцать семь градусов ниже нуля!
Ольга зло узит глаза:
– Наденьте вторую фуфайку и теплые подштанники.
– Но у меня нет теплых подштанников.
– Я вам с удовольствием дам свои.
Она идет к шкафу и вынимает бледно-сиреневые рейтузы из ангорской шерсти.
Я нерешительно мну их в руках:
– Но ведь эти «бриджи» носят под юбкой!
– А вы их наденете под штаны.
С придушенной хрипотцой читаю марку:
– «Loow Wear»…
– Да, «Loow Wear».
– Лондонские, значит…
Ольга не отвечает. Я мертвеющими пальцами разглаживаю фиолетовые бантики.
– С ленточками…
Она поворачивает лицо:
– С ленточками.
Брови повелительно срастаются:
– Ну?
Я еще пытаюсь отдалить свой позор. Выражаю опасения:
– Маловаты…
В горле першит:
– Да и крой не очень чтобы подходящий… Треснут еще, пожалуй.
И расправляю их в шагу.
Она теряет терпение:
– Не беспокойтесь, не треснут.
– А вдруг… по шву…
Она потеряла терпение:
– Снимайте сейчас же штаны!
По высоте тона я понял, что дальнейшее сопротивление невозможно.
Да и необходимо ли оно?
Что такое, в сущности, бледно-сиреневые рейтузы с фиолетовыми бантиками перед любовью, которая «двигает мирами»?











