Читать онлайн Водоворот
- Автор: Маргарита Симоньян
- Жанр: Современная русская литература
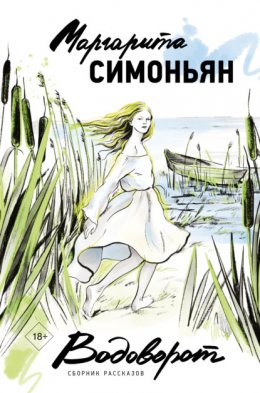
Дизайн обложки и художественное оформление книги Виктории Голицыной
Фото Маргариты Симоньян на обложке предоставлено телеканалом Russia Today
© Симоньян М. С., текст, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023
Маргарита Симоньян известна как журналист, политический эксперт и руководитель крупнейших международных СМИ. Но сама она много лет повторяет в интервью, что всегда хотела быть только писателем и с детства мечтала лишь об одном – стать частью русской литературы. В этом сборнике – рассказы Маргариты Симоньян последних лет. Герои, темы и атмосфера рассказов разительно отличаются от телевизионного образа их автора.
Беламур
Ночью была гроза, девятая за этот август, и Петр Гурамович, перед тем как заснуть, остро почувствовал, что завтра у него отнимут что-то еще.
Так и вышло.
Утром, отшвырнув краем шлепанца Наткины тряпки, Петр Гурамович пнул калитку, прохромал из тени своего виноградного дворика на раскаленный асфальт, зыркнул в синие окна ЖК «Магнолия». Воздух был липким, как чурчхела, которую продавала соседка Рузанна, сгорбившись на табуретке прямо напротив проволочной калитки Петра Гурамовича.
– Бздыхов много? – вежливо поприветствовал соседку Петр Гурамович.
– Бздыхов много – толку мало, – улыбнулась Рузанна.
В глубине ее двора заливался лаем старый пес Будулай, заливался яростно, но покорно, поскольку провел свою жизнь привязанным к металлическому пруту вдоль забора.
Петр Гурамович обогнул Рузаннин двор, такой же, как все старые адлерские дворы, где кафельный уличный коридор упирается в стол, покрытый скрутившейся по краям клеенкой, тянутся самодельные полки с баллонами острой турши, перетертого с сахаром фейхоа, баночки злой аджики, где стоит столитровый чан, в котором варят пугр – соленье из горного лопуха, – где холодильник то и дело дыхнет копченой форелью, чачей, шкарой из мелкой ставриды, где ковер стыдливо навешен на голые пеноблоки пристройки, которую соорудили, когда родился внук, но внук уже сам женился, а оштукатурить пристройку все некогда, да и не на что, да и вроде бы незачем. Обогнув этот старый двор, увитый рыжими лентами в изумрудах навозных мух, Петр Гурамович вышел к задней ограде ЖК «Магнолия» – нового многоквартирного дома, сияющего пластиковыми террасами, – швырнул пакет с Наткиными бутылками специально мимо магнолиевского мусорного бака так, чтобы они разлетелись осколками под олеандрами, и пошел к своему эвкалипту.
Каждое утро Петр Гурамович здоровался со своим эвкалиптом через забор городского парка, и это было единственное в городе существо, к которому он все еще продолжал относиться почтительно.
В голове сверлило так, как всегда сверлит в голове у людей, если они не могут вспомнить что-то очень знакомое: со вчерашнего вечера Петр Гурамович забыл слова «Отче наш» – сразу после «и не введи нас во искушение». Он мог бы, конечно, открыть Библию и найти там эти слова, но Петр Гурамович чувствовал, что важно было именно вспомнить, а вспомнить не получалось.
Читать «Отче наш» Петра Гурамовича научил на зоне батюшка, сосед по бараку. Петр Гурамович спросил его как-то, что делать, когда внутри разевается смрадная ненасытная пасть, когда она тащит тебя за кишки к себе в глотку, в зловонную неизвестность. Батюшка не удивился и посоветовал читать наизусть «Отче наш».
Десятки лет Петр Гурамович помнил эту молитву, десятки тысяч раз повторял, и вот – забыл.
Все это – и девятая за месяц гроза, и забытые слова «Отче наш» – казалось Петру Гурамовичу предзнаменованием неизбежного рока, как черный паук в кофейной чашке, и он ожидал новой потери с яростью и покорностью привязанного к металлическому пруту Будулая.
Так и вышло. Подойдя ближе к ограде старого парка, Петр Гурамович обмер: за оградой не было его эвкалипта.
Смрадная пасть внутри Петра Гурамовича раззявилась молниеносно, и он схватился за первый попавшийся олеандр, чтобы не рухнуть в нее прямо здесь, на дороге.
Успокоив дыхание, Петр Гурамович крикнул через ограду:
– Люди! Люди! Что случилось? Что случилось с моим эвкалиптом?
Но отдыхающие за оградой не отвечали Петру Гурамовичу – кто-то не слышал, кто-то косился и отворачивался.
День стремился уже к одиннадцати, к жаре, и Петр Гурамович еле доплыл в этом мареве до входа в парк, где в будке с кондиционером сидела пухлая контролерша.
– Марина! Что случилось с эвкалиптом моим? – хрипло прорычал Петр Гурамович в будку.
– Без понятия. Я только заступила.
– Пусти, я сам посмотрю.
– Двести рублей. Че ты опять начинаешь, Гурамыч, как будто не знаешь, – сказала Марина.
– Марин, пусти так. Пенсионер же я.
– Не могу, Гурамыч. Парк платный.
– Раньше же могла.
– Ну, то когда было! А сейчас скрытые камеры, вишь, поставили. Не могу.
Петр Гурамович потоптался, хромая на левую, нездоровую ногу, полез в карман за деньгами, вынул бумажки, отсчитал двести рублей. По старой привычке к сложению и умножению подсчитал, что двести рублей – это одна пятидесятая его пенсии. Вроде бы немного, но в этом месяце уже не отложишь на новый спиннинг, не купишь лишнюю пачку сигарет, или вот еще сдуру полюбил он в последнее время сладкую вату, которой торгуют на набережной, а она как раз столько и стоит.
Пройдя мимо секвойи, обогнув пруд с белыми амурами, Петр Гурамович увидел свой эвкалипт. Огромный благоуханный красавец был не просто повержен, он был расчленен – распилен на пять бревен. Его душистая грива поникла вдоль песчаной дорожки. Сухим эвкалиптовым запахом из нее выдыхалась жизнь.
Рядом возился работник в желтом жилете.
– Зачем спилили? – яростно крикнул Петр Гурамович, надвигаясь на желтый жилет.
– Ночью молния долбанула, – ответил работник, продолжая возиться с бензопилой.
– Что, прям в него?
– Прям в него.
– Не могла она прям в него.
– Ну вот не могла, а долбанула.
– В секвойю не долбанула? Именно в мой эвкалипт?! – в отчаянии прохрипел Петр Гурамович.
– С чего он твой-то?
– Я его сажал! В школе!
– Ну так то когда было…
У Петра Гурамовича закололо под левой лопаткой. Схватившись правой рукой за грудь, он нагнулся, поднял длинный кусок коры, отвалившейся от расчлененного эвкалипта, и засунул его между рубашкой и брюхом, горлом чувствуя невозвратность очередной потери.
Каждый день отъедал у Петра Гурамовича еще ломоть его жизни – но не так, как обычно у людей настоящее отъедает от будущего, превращая завтра в сегодня, а сегодня во вчера. У Петра Гурамовича настоящее отъедало от прошлого. Настоящее было прекрасно вооружено против Петра Гурамовича. У настоящего были скрытые камеры, хромота, жилые комплексы с олеандрами, металлические ограждения, грозы и молнии, старость и смерть, наконец. А у него, у Петра Гурамовича, был только древний обрез дробовика, с которым ходил он когда-то на перепелок. Куда дробовику против молнии.
Ах, как пылала заря Петра Гурамовича! Полыхала сначала кострами у озера Кардывач, у истока бешеной Мзымты, где по краю снежной поляны цветут рододендроны, склоны стелются эдельвейсами и где Мзымта снесла его с ног и чуть не разбила о камни, но ему подфартило – физрук, водивший их класс в этот поход, успел ухватить его за ногу, а потом физрука хотели судить, но снова все обошлось; дальше были всполохи первых бессонных рассветов с институтскими девочками, самая губастенькая из которых, Зиночка, кусала пломбир и подставляла ему свои сдобные губы под эвкалиптом в бесплатном парке; потом была армия, свадьба, распределение на Дальний Восток, где крабы и гребешки, командировки и винтовая служебная лестница, на поворотах которой ему снова фартило, пока, наконец, Петра Гурамовича не назначили директором знаменитого сочинского «Океана», самым молодым в Советском Союзе.
Петр Гурамович сразу навел порядок: по субботам на стол местным горкомовским и прокурорским плюхалась картонная коробка, дышащая сладким морозцем, внутри которой сияли розовые снежинки камчатского краба, икра черная, паюсная, азовская, в плоских жестянках, и астраханские балыки. В аквариумах «Океана» живая форель била хвостом, как русалочка из сказки, которую Петр Гурамович читал перед сном своей кучерявой Натке.
А в начале восьмидесятых Петру Гурамовичу опять сказочно подфартило: прогремело «Рыбное дело», и прокурор, делая вид, что не знает ни Петра Гурамовича, ни его крабов и балыков, определил ему все-таки только 12 лет, тогда как многих других директоров «Океанов», включая даже одну женщину, расстреляли.
Зиночка, умница, педагог, читавшая их детям перед сном не сказки, а «Мцыри», втихаря развелась с Петром Гурамовичем через год. Но детей до ума довела: Петр Гурамович возвращался как раз к свадьбе сына. В тюрьме он обзавелся татуировкой с инициалами сына и дочки и целым набором шутейных песенок вроде: «Потерялся мальчик, мальчик Карапет, потерялся мальчик, ему сорок лет», – и уже предвкушал, как поселится с невесткой и сыном в своем старом доме у парка и будет развлекать внуков этими песенками, тягать их к пруду за беламуром, а осенью они будут стрелять на полях у болот жирненьких перепелок.
Сын разбился, когда ехали из ЗАГСа фотографироваться на новом мосту через Мзымту, – за рулем был дружок, гнал, громко орал в окно, не удержался на серпантине.
А дочка ушла на катамаране за шубами на другую сторону моря и не возвращалась.
В своем старом доме Петр Гурамович поселился один. Постепенно привык и даже как будто внутри устаканился, уравновесился рутиной снов и пробуждений, утром варил яйцо, ел его с брынзой и помидором, ловил белых амуров, стрелял перепелок, по вечерам перечитывал оставшиеся от Зиночки мифы Древней Греции и привезенную с зоны Библию – и эта рутина заменила ему то, что давным-давно казалось – или действительно было – счастьем и предначертанием.
Но настоящее отбирало и эти ошметки – один за другим, один за другим. Сначала построили Олимпиаду, как раз на тех перепелиных болотцах, где ежевичные заросли сменялись брошенными колхозными виноградниками, где грелись на тропках ящерицы и рогозовые озерца упирались в скользкие валуны, за которыми бормотала морская волна. Так настоящее сожрало его перепелок.
Потом кто-то вспомнил про «Южные культуры». Этот старый дендрологический парк был основан еще при царе. При коммунистах адлерские пионеры сажали здесь эвкалипты, а их родители растили самый северный в мире чай. После советской власти парк оказался заброшен, родители, ставшие челноками, отправляли туда детей, не успевших стать пионерами, тырить рассаду пальм, на ура уходившую в Польше, – пока не закончилась и рассада.
Вернувшись с зоны, Петр Гурамович позвал приятелей-рыбаков, и они вместе зарыбили старый пруд, годами встречались там по утрам, принося туда свой одинокий завтрак: лаваш, помидор, сулугуни, – и ловили в пруду свой обед. Приятели предпочитали форель, но Петр Гурамович, тоскуя по яркой дальневосточной заре, признавал одного беламура, сам же и выпустил тонну малька в этот пруд, потратив все, что успел спасти от конфискации.
Беламур, глазастый, губастенький, низколобый, напоминал Петру Гурамовичу его Зиночку тех времен, когда Зиночка еще пахла пломбиром.
Вытащив рыбину из воды, он целовал ее в толстые губы, дома вялил, коптил, любуясь плывущими над двором лентами дыма. Летом хромал по пляжу с рюкзаком и кричал: «Рапан копченый, мидия, раки, беламур! Попробуйте беламур!»
К Олимпиаде дремучий парк привели в порядок, вход в него сделали платным, рыбалку совсем запретили, насовали в пруд бессмысленных черепах, а недавно – еще более бессмысленных лотосов. Поначалу Петр Гурамович с рыбаками еще прорывались к пруду – парк упирался в лес, в грабы и буки, в ежевичные буреломы, и оттуда они, местные, знавшие тропы, пробирались в парк по ночам. Но Петр Гурамович стал так хромать, что спускаться по тропам уже не мог.
Горько дыша, он свернул мимо темной бамбуковой рощи к пруду, где рисовалась янтарная молодая форель, где белый амур прятался в стеблях лотоса, подгрызая их на корню, как будто мстил за Петра Гурамовича.
Петр Гурамович быстро взглянул на пруд, увидел застывшую красноглазую черепаху, сплюнул и похромал домой.
Кора эвкалипта щипала и грызла брюхо, как власяница.
Дома Натка уже проснулась и уже приняла. Она вернулась с другой стороны моря лет десять назад – худая, беззубая, почти облысевшая, нищая, но почему-то не грустная.
Петр Гурамович бережно выложил эвкалиптовую кору на клеенчатый стол, от которого пахло вяленой рыбой.
– Че это ты притащил? Мало в доме хлама? – спросила Натка.
– Когда ты уже человеком станешь? – сказал Петр Гурамович, не глядя на дочь.
– Я и есть человек. И неплохой человек. Получше многих. Никому не причиняю зла. «Но людям я не делал зла, и потому мои дела…» – продекламировала Натка и потянулась к рюмке.
– Начала. Несчастный ты человек.
– Я несчастный? Несчастный человек – ты. А я – человек счастливый. И если я вдруг изредка просыпаюсь несчастным человеком, мне только надо лизнуть – и я уже опять счастливый человек. А тебе что надо? Что тебе надо, чтобы стать счастливым человеком?
– Смотреть на тебя противно.
– Снаружи, может, и противно. А внутри я прелестна.
Петр Гурамович сплюнул, взял удочку и вышел на улицу.
Рузанна торговалась с подгоревшим на солнце бздыхом. Бздых выбирал выдохшиеся специи, уложенные в пластиковые миски так, что сверху они образовывали надпись на любой вкус: «Бабушке от внука» или «Путин тоже любит Сочи». Рузанна, как все местные, знала толк в предпочтениях отдыхающих.
– Че так дорого все у вас? – негодовал отдыхающий.
– Хочешь дешево – едь в Крым, – отвечала Рузанна.
– Там тоже дорого.
– Дома тогда сиди, – резюмировала Рузанна.
Рузаннин дом и дом Петра Гурамовича остались одни в переулке – настоящее выкупило остальные хибары и втиснуло в эту старую улочку жилой комплекс «Магнолия», загородивший Петру Гурамовичу вид на парк.
Как и Рузанна, он не продал свой двор из принципа, не желая помогать настоящему отгрызать от его прошлого такой жирный ломоть. Но у Рузанны был муж, дети, внуки, сдающиеся комнаты с занавесками вместо дверей, а двор Петра Гурамовича хирел: полки, на которых когда-то Зиночка держала туршу, заплесневели, уличный холодильник ржавел, из забора один за другим вываливались камни. Давным-давно Петр Гурамович сам вылепил этот забор, сам натаскал для него гальку с пляжа, а когда перед Олимпиадой администрация обнесла все одноэтажные халабуды Имеретинки жестяными листами с наклеенным на них изображением каменного забора, Петр Гурамович за ночь их распилил, и никто ему ничего не сделал.
Их всего-то осталось в Имеретинке две-три – таких улицы с увитыми виноградом электрическими столбами и низким шифером крыш. По одной из этих выживших улочек Петр Гурамович и похромал к волнорезу, где все еще дозволялось бесплатно ловить барабульку. Кое-где вдоль дороги бамбук разрывал олимпиадные жестяные листы с нарисованными заборами, и этот бамбук – тупое вообще-то растение, живущее только толпой, только колхозом, – вдруг вызвал у Петра Гурамовича уважение.
Быстрокрылые бражники, которых бздыхи неизменно принимают за колибри, погружали тоненькие хоботки в такие же тоненькие цветки ночных красавиц.
В некоторых дворах, где упрямые старожилы пообдирали олимпиадную жесть, оставались старые изгороди лаврушки, покрытой белыми крапинками, как веснушками.
Петр Гурамович шел и думал, что еще год, три, пять – и не будет двориков, занавешенных стиркой, деревянных окошек, виноградных навесов, клеенчатых скатертей, уставленных по утрам перевернутыми чашками с выпитым кофе из джезвы, а будет один сплошной ЖК «Магнолия», где квартиры стоят как его пенсия за двести лет и в кафешках на набережной нет ни одной джезвы.
Петр Гурамович вышел к марине. Ее тоже построили к Олимпиаде, сначала она стояла пустая, и Петр Гурамович спокойно ходил к своему волнорезу, как раньше, ловил барабульку, не глядя на металлические контейнеры порта, передавившие горло красивой бухте. Но в последние пару лет в марине появились парусники, потом настоящие яхты, и рыбы стало все меньше.
Здесь уже не было теплой имеретинской пыли, не было плоских кактусов, облепивших электрические столбы, черные провода не путались в виноградной лозе – только надменные пальмы, как модели на дефиле, выстроились в аккуратную очередь, и выражение лиц у них было такое же пренебрежительное, какое всегда бывает у моделей на дефиле.
И вдруг, пройдя мимо пальм, Петр Гурамович увидел настоящее морское чудовище. Целый многоэтажный дом, небоскреб, это было как десять ЖК «Магнолия» вместе взятых, несуразный громадный железный кит с вертолетной площадкой, палубами размером с футбольное поле и локаторами на голове – эта немыслимая в роду человеческом яхта заняла всю марину до самого волнореза.
Онемев, Петр Гурамович уставился в жирный бок чудовища, когда до него донеслись обрывки экскурсии.
– …можно сказать, новая достопримечательность Имеретинского района, недавно к нам зашла одна из самых больших в мире яхт и самая дорогая…
– Самая дорогая, сука, – вслух сказал Петр Гурамович. – Это сколько же она стоит? Мало им просто дорогую, им, сука, надо самую дорогую!
Гид, длинный парень в модной соломенной шляпке, чем-то напоминал одну из надменных пальм.
– Она принадлежит бизнесмену Майклу Врубелю… – мечтательно продолжал гид.
– Майкл. Какой он Майкл? Еврей же, сука. Косит под американца. Че они все косят под американцев? – прорычал Петр Гурамович.
– Вы из группы? – брезгливо спросил гид.
– Нужна мне ваша группа.
– Отойдите от группы. Экскурсия – платная.
– У вас все платное, сука.
Несмотря на девичью шляпку, от гида несло вполне молодецким потом.
– Стоимость яхты оценивается в полмиллиарда долларов… – продолжал тот, и на его беду, и на беду вообще всех, эта фраза долетела до слуха Петра Гурамовича.
Исправный калькулятор в голове Петра Гурамовича сразу выдал ему, что полмиллиарда долларов – это его пенсия почти за полмиллиона лет, и он почувствовал, как в горле заклокотала неутолимая ярость: не та покорная ярость привязанного старого пса, которую Будулай легко топил в миске прокисшей крапивной каши, а та, которую не утопить ни в старом пруду, ни в Черном море, а можно ее утопить только в Рузанниной ядерной чаче.
У Рузанны Петр Гурамович немного полежал лохматой головой на клеенке – отдыхал, выдыхал, выплевывал ярость. Потом опрокинул стакан, закусил жареным пугром. Рассказал Рузанне про яхту.
– Весь порт заняла, одоробла! Жопой прямо в мой волнорез уперлась! – не успокаивался Петр Гурамович. – Майкл Врубель, сука!
Рузанна тоже плевалась. Ее лицо покрывала рассада седеющей бороды.
– Подожди, погадаю тебе по чашке. Посмотрю про этого пидараса.
– Откуда он возьмется у меня в чашке?
– Ты же думаешь про него. Оттуда и возьмется.
Невестка Рузанны принесла две пузатые чашечки с тонкой кофейной пенкой. Петр Гурамович выпил, привычно перевернул чашку на блюдечко. Рузанна напялила очки, уставилась в чашку.
– Ай, ты смотри! Помрет он скоро! – радостно сообщила Рузанна.
– С чего он помрет?
– Уфф! – обиделась Рузанна. – Мое кофе никогда не врет! Вот видишь, черная лошадь?
– Ни хера я не вижу. Без очков я.
– Ну, я тебе говорю. Там черная лошадь. А у лошади задницы нету.
– Кентавр, что ли?
– Кентавр-шментавр, я не знаю. Но точно помрет. Раз задницы нету.
Рузанна внимательно крутила чашку черными пальцами.
– Одинокий он очень. От одиночества и помрет. Одиноким нельзя быть.
– Я тоже одинокий.
– Тебе тоже нельзя.
Зашевелилась занавеска одной из сдающихся комнат, оттуда вышла в сарафане блондинка с накрашенными губами, лет шестидесяти, не очень толстая.
– Например – вот! – многозначительно сказала Рузанна, взглядом указав Петру Гурамовичу на блондинку. – Таня! Иди садись с нами. Вино мы пьем.
Петр Гурамович, весь просоленный, прокопченный, сохранял уверенные черты очень красивого в молодости мужика. Возраст его выдавали только табачная рыжина бороды, негнущиеся колени и мутная пленка на выцветших синих глазах.
Таня бросила взгляд на крепкое тело Петра Гурамовича, на его ржавую бороду, улыбнулась и присела к клеенке.
Петр Гурамович угрюмо молчал, уставив глаза на свои руки с инициалами Натки и погибшего Тимура.
– Что значит Н.Т.? – игриво спросила блондинка.
– Значит «не твоего ума дело», – нагрубил Петр Гурамович.
– А где же тогда У и Д? – не обиделась отдыхающая.
Петр Гурамович хотел быстро ответить какой-нибудь резкостью, но ничего не придумал, стушевался, который раз за сегодня рассердился на свой стареющий мозг, забывший даже «Отче наш», – лучше бы этот мозг забыл, как считать, и не смог так быстро выдать, сколько тысячелетий жизни Петра Гурамовича составляет яхта одного Майкла Врубеля.
Петр Гурамович встал.
– Спасибо, Руз, напоила меня. Может, получится теперь заснуть.
– Ну и сам себе ты дурак, – сказала Рузанна и посмотрела на отдыхающую извиняющимся взглядом.
Дома Петр Гурамович лег, натянул на голову наволочку, как в детстве, когда хотел вызвать хороший сон.
Он надеялся, что ему снова приснится, как отец учил его чистить раков. Петру Гурамовичу было семь лет, он стоял во дворе, на кафеле, у клеенчатого стола, а отец, бородатый, как Зевс, или, того лучше, как Маркс, с ювелирной внимательностью колупался в багровой рачице, и в этот момент он был не обычным учителем биологии адлерской сельской школы с высохшей, раненной под Сталинградом рукой, – он был нейрохирургом, вынимающим опухоль из больного мозга; собственно, он и стал бы, наверно, нейрохирургом, если бы не война.
– Смотри, Петька, это желудок, – говорил отец, зажав двумя ногтями маленький полупрозрачный мешочек. – Если его не найти и не удалить, печень будет горчить. А печень в раке – самое вкусное.
Отец протянул Петьке целого рака. Он был шершавым, немножко даже колючим, а мясо его оказалось сладким.
Вечером Петька сам уже выцеплял ногтями из мягкого мяса жесткий мешочек, а на следующий день он едва не погиб – самой презренной и омерзительной смертью.
Отец поручил Петьке кормить свиней, обитавших в загоне в конце огорода, где мелкие, грязные фиолетовые виноградины пробивались сквозь заросли бамбука, уводящего их двор дальше в лес, в ежевику, за которой и начинались перепелиные топи, расстилавшиеся вплоть до самого моря. Петька нарвал крапивы, натаскал из погреба отрубей, воды, вылил все в прокопченный чан над костром, потом ведрами потащил это варево свиньям, а на обратном пути, потянувшись за шишечкой нераспустившейся мальвы, соскользнул ногой в яму их старого туалета, и зловонная жижа потащила его внутрь, в глубину, а он от позора не мог даже крикнуть. И так бы и сгинул в этой смрадной пасти, как Иона в пасти кита, если бы отец по случайности не пошел проверить, покормил ли Петька свиней.
С тех пор все плохое в жизни Петра Гурамовича разевало в его душе ненасытную нечистотную пасть, а все хорошее пахло укропными семенами и было не гладким, а как будто немножко шершавым – колючим, но сладким.
Стараясь настроиться на хороший, правильный сон, в котором были бы раки и не было выгребных ям, Петр Гурамович плотнее натянул на голову наволочку. Стены сочились приятной сыростью и тишиной. Натка опять удрапала в ночь, да и шут с ней.
Настоящее начало отходить, проваливаться куда-то за волнорез, в синеву.
И вдруг оно яростно ворвалось назад – со стороны марины послышался оглушительный рев дискотеки. Петр Гурамович подскочил и сразу понял, что это оно, металлическое одоробло, морское чудовище разинуло свою пасть и рявкает на Петра Гурамовича и на его почти уже сожранную всеми этими одороблами Имеретинку, что оно, это чудовище, только что отгрызло у Петра Гурамовича последнее, что у него оставалось, – его сны.
Мгновенно внутри у Петра Гурамовича раскрылась зловонная бездна, и в этот раз он не смог удержаться на краю. Шатаясь, он дохромал до шкафа, вынул оттуда старый обрез, зарядил его, сунул в карман патроны, прицелился в окно и вышел на улицу.
Рузанна, сидя одна у стола, продолжала разглядывать чашку Петра Гурамовича.
– Черный паук! – громко сказала она и схватила себя под левую грудь, думая, что там находится сердце. – Ты видишь? – спросила Рузанна занавеску. – А я вижу!
По кафелю зашлепали шаги, и во двор вошел Петр Гурамович с обрезом. Рузанна молча уставилась на него.
– Руз, – громко сказал Петр Гурамович, – дай мне пакет – такой большой, черный, который для мусора у вас.
Рузанна молча достала мешок для мусора из шкафа уличной кухни.
– Пойду, успокою этих музыкантов, – сказал Петр Гурамович.
Он сам до конца не понимал, хочет ли, чтобы Рузанна его остановила, или не хочет.
– Потому что мое кофе никогда не врет, – обреченно сказала Рузанна и закрыла за ним калитку.
Музыка грохотала над всеми проулками, ведущими к морю. Проулки были черны, слепы, и только болталась лампочка над вывеской «Гостиница “Русо туристо”», про которую Натка как-то сказала: «Опять армяне соревнуются, кто тупее свою гостиницу назовет». Но постепенно в этом реве и темноте начали оживать калитки, заборы, спины Рузанн над столитровыми чанами, деревья с еще зелеными, но уже увесистыми котелками хурмы – и Петр Гурамович, хромая к марине, давился ночной одышкой старых проулков и, давясь, чувствовал их поддержку, их одобрение. Портулак перед ним расстилался красной дорожкой, в кипарисах ухали овации филинов. «Давай, давай, за всех нас!» – кричали ему немые рты цветов пассифлоры, похожие на ядовитых медуз, полные фиолетовых жал.
Одна только равнодушная ко всему ночная красавица, разлепив свои красные веки, валялась под каждым забором, как Натка.
Ни один человек не встретился на пути Петру Гурамовичу, никто не заметил его обрез, завернутый в Рузаннин черный мешок, никто не остановил.
Выйдя к терминалу марины, он остановился сам – перевести дыхание. Белая яхта торчала созревшим фурункулом на спине уснувшего моря.
Музыка стихла, сменилась веселыми вскриками, дребезгом вечеринки. Петр Гурамович заметил, что гости мелькают на палубе, как перепелки в траве, и стал машинально прицеливаться. Поискал глазами, где бы ему присесть, чтобы понять, сколько у него патронов, и решить, как именно следует пострелять обитателей одоробла: с берега или пробраться в самую пасть.
На единственной лавочке сидел одутловатый старик – в мятой льняной рубашке, шортах и стоптанных мокасинах. В отсветах яхты Петр Гурамович заметил, что ноги его покрыты узорами тромбофлебита.
Лицо старика удивило Петра Гурамовича – оно было похоже на рачий панцирь, багровое, шершавое, с выпуклыми буграми.
Старик неподвижно смотрел на маяк, что-то перебирая руками.
– Печатает, – разозлился Петр Гурамович. – Сами понаехали и айфонов своих понавезли.
Петр Гурамович внимательнее посмотрел на руки шершавого старика и от неожиданности сильнее припал на левую ногу: сидящий на лавочке вовсе не печатал в айфоне, а чистил рачий хвост. Перед его ногами стояло пластиковое ведро с коричневатым бульоном, в котором посверкивали красные рачьи хребты, а рядом росла гора изжеванных панцирей. То, как ловко старик отгибал острые хвостовые углы, ломая белое рачье подбрюшье, сразу вызвало уважение Петра Гурамовича, достаточное, чтобы заговорить с незнакомцем.
– Чего мусоришь? – спросил Петр Гурамович, кивая на гору панцирей.
– Уберут, – спокойно ответил незнакомец.
– Неправильно ешь. Желудок не вынимаешь. Когда желудок не вынимаешь – печень горчит.
– Знаю, батя учил, – не удивившись, ответил незнакомец. – Лень.
Петр Гурамович, подумав, присел на лавочку. Перед тем как броситься в смрадную пасть, надо было передохнуть.
Незнакомый старик молча подвинул коленом ведро с раками к Петру Гурамовичу – мол, угощайся. Петр Гурамович покосился, подвинул ведро обратно, но тут ему подмигнул черный алмаз укропного семени, прилипший к багровому панцирю, – Петр Гурамович не удержался, хмыкнул и сунул руку в остывший бульон, нащупывая широкий хвост икряной рачицы.
– Отдыхающий? – спросил Петр Гурамович, аккуратно отделяя верхний панцирь – так, чтобы сохранить в нем глоток укропного сока.
– Можно и так сказать.
Петр Гурамович крепче зажал локтем свой мусорный мешок с обрезом, слегка удивляясь, что незнакомец не обращает на него внимания. Впрочем, было темно.
– У нас вас бздыхами называют, – с вызовом сообщил Петр Гурамович.
Незнакомец хмыкнул – скорее весело, чем обиженно.
– Я бы уже в люле храпел, – как будто оправдываясь, сказал незнакомец. – Дочка никак не угомонится. Тупая, как паровоз.
– А че цацкаешься с ней, если тупая?
– Другой нет.
Петр Гурамович тоже хмыкнул.
– У меня у самого ноги больные, – сказал Петр Гурамович, кивая на фиолетовые узлы на ногах незнакомца, похожие на созревшие ягоды терна – вестники неминуемой осени. – На зоне застудил, – специально громко и четко сказал Петр Гурамович и почти нарочно выдвинул свой обрез, продолжая удивляться тому, что старик не удивляется.
– Тебе семьсят есть? – спросил незнакомец.
– Через месяц.
– А мне месяц назад.
Незнакомец достал из-под лавочки бутылку, и Петр Гурамович только сейчас заметил, что он пьян.
– Давай отметим, что ли? – предложил незнакомец.
– А что у тебя? Чача?
– Можно и так сказать.
С яхты снова рвануло музыкой.
– И че они там поют? Ты понимаешь? – спросил незнакомец, перекрикивая песню.
– Нет.
– «Папа, не жди дома, я уже пьяна». Что это значит, ты понимаешь?
– Это значит, что папа ее дома ждет, а она пьяная, сука.
– И что? Об этом надо петь? О чем мы раньше пели. Помнишь?
Петр Гурамович задумался. Незнакомец затянул:
– О, море, море… к ветреным скалам… Как дальше?
– Преданным, а не ветреным.
– Ты ненадолго подаришь прибой, – затянули старик и Петр Гурамович вместе.
Подул ветерок, и пальмы удостоили двух стариков презрительным полукивком.
– Постреляю я их всех, – вдруг сказал Петр Гурамович, кивая на яхту.
– Всех не постреляешь, – спокойно ответил незнакомец.
– Сколько патронов хватит – столько расстреляю.
Петр Гурамович поднялся с лавочки, сначала нагнувшись, уперев руки в колени, чтобы не вставать резко, чтобы не закружилась голова.
– Я тоже сидел, – сказал незнакомец, продолжая смотреть на маяк.
– За что?
– Ни за что. А ты?
– За то же самое.
– Скажи, у вас водятся колибри? Я сегодня, кажется, видел, – вдруг спросил незнакомец.
– Нет. Это бражник. Бабочка такая. Вы, бздыхи, все время их с колибрями путаете.
– Я так и думал. Не могут у вас водиться колибри.
– А на кой тебе колибри?
– Да нет, просто. Я на старости лет природу полюбил. Птички, цветочки.
Петр Гурамович, сам не зная зачем, снова присел к незнакомцу.
– У меня сегодня ночью эвкалипт молнией убило, – глухо сказал Петр Гурамович.
– Земля пухом, – ответил незнакомец и поднял рюмку, не чокаясь.
Молча выпили за упокой души эвкалипта.
– А у меня какой-то белый амур все лотосы пожрал, – с досадой сказал незнакомец.
– Это он может! – усмехнулся Петр Гурамович.
– Знаешь белого амура?
– Знаю? Никто так беламура не знает, как я!
Незнакомец первый раз внимательного оглядел крепкую фигуру Петра Гурамовича.
– Слушай, – сказал он. – А не хочешь гешефтик один? Парк знаешь местный?
– Ну.
– Там в парке пруд. Надо оттуда всего белого амура достать. А то он лотосы жрет.
– Да как ты его достанешь? Там его тонны. Да и не пустят, – ответил Петр Гурамович.
Но незнакомец, не слушая, продолжал.
– Еще рыбаков местных надо оттуда шугануть. Ружье вон есть у тебя. Лазят по ночам. Форель тягают. А форель для лотосов хорошо. Если ты всего белого амура выловишь, малька форель пожрет – и будет у меня весь пруд в лотосах.
– Что значит – у тебя?
– Купил я его. Месяц назад. Себе на юбилей.
– Пруд???
– Парк.
– Не понял. А ты кто? Олигарх?
– Можно и так сказать.
Петр Гурамович уставился на шершавое лицо незнакомого старика. В его стриженой бороде запуталась изломанная рачья ножка.
– И на хера тебе наш пруд, если ты олигарх? – посмеиваясь, спросил Петр Гурамович.
– Говорю же – птички, цветочки. Лотосы. На Рублевке они не растут. А в Италию меня больше не пускают. Под санкциями я. Че, ты думаешь, я здесь торчу на лодке этой? Больше не пускают никуда. Тю-тю.
Петр Гурамович дернулся, подскочил, но снова недоверчиво посмотрел на тромбофлебитные узлы и стоптанные мокасины старика и сел обратно на лавочку.
– Хорош дуру гнать.
– Во дает. Не хочешь, не верь.
– А че ты здесь делаешь, на лавочке, если это твоя яхта? – все еще не веря, спросил Петр Гурамович.
– Да жду, пока они угомонятся. Дочка с друзьями гуляет. Я им мешаю, они – мне. Говорю же – тупая, как паровоз.
– Охрана где тогда твоя? – вдруг сообразил Петр Гурамович, прижимая к себе мешок с обрезом.
– А на кой ляд мне охрана? Стукачи одни. Все, кому я мешал, уже лет двадцать никому не мешают, – усмехнулся незнакомец и отхлебнул из бутылки граппы.
– Подожди. Как звать тебя?
– Миша. Миша Врубель.
Петр Гурамович резко встал, покачнулся и вцепился в мешок с обрезом так, что белые полукруги под его черными ногтями побелели еще сильнее.
В висках застучал зэковский поезд, везущий Петра Гурамовича по этапу на Дальний Восток. Сквозь устричный ветер Имеретинки пахнуло капустной баландой. И этот запах, и этот стук вдруг показались не страшными, а долгожданными.
Петр Гурамович хватанул ртом побольше воздуха, как пойманный белый амур, и стал крутить головой, ища поддержки у винограда, у пассифлоры, хоть бы даже у ночной красавицы. Но бетонные челюсти терминала были голы, как обглоданная голова тупорылой акулы – маленькой, злой, единственной в Черном море акулы, и только шептались бледные лопасти усаженных в кадки бананов да жались друг к другу их недоношенные плоды, обреченные на ежегодное мертворождение в этом климате, притворяющемся субтропиками.
– Полтинник буду в месяц тебе платить. А беламура сколько поймаешь – весь твой. Хочешь, вяль его, хочешь – копти, – сказал Майкл Врубель, продолжая разглядывать огоньки парусников, изредка выныривающие из черноты горизонта.
Ближе к осени черепахи стали чаще выползать на островок у южной стороны пруда, карабкаться на валуны, падать с них, вызывая хохот поредевшей толпы отдыхающих. Работники в желтых жилетах делали стрижку заросшим за лето изгородям фейхоа. Уцелевшие эвкалипты клонили к траве свои вечнозеленые гривы, как будто все еще горевали по убитому соплеменнику.
На входе в парк, в будке с кондиционером, сидела новая контролерша, беззубая, с синевой под глазами, – работники говорили, что ее взяли по блату, по протекции отца, который смертельно невзлюбил предыдущую контролершу Марину. Эта новая контролерша отпугивала бы посетителей, если бы не производила странное впечатление абсолютно счастливого человека.
К будке подошел старик в подвернутых летних брюках, из-под которых были видны страшные тромбофлебитные узлы.
– Смотри мне, без билетов никого не пропускай! – крикнул старик в будку. – Шляются тут кто попало. А парк – платный.
– Ты же сам без билета, – весело подмигнула из будки Натка.
– Поумничай мне, – проворчал старик.
К октябрю работники и посетители парка уже привыкли к этому злому лохматому старику, сидящему с новым спиннингом у пруда, вечно что-то бормочущему. Он ловил только белых амуров, уходил, прижимая к сердцу ведро с губастыми рыбинами, а по ночам рыскал по всей бамбуковой роще со своим древним обрезом, гонял рыбаков и, кажется, стал даже меньше хромать.
Кто отваживался подойти к нему ближе, слышал, что лохматый старик бормочет себе под нос «Отче наш».
На пруду вдоль всей кромки воды триумфально сияли лотосы, похожие издалека на сотни океанических яхт.
Вистерия
Когда Вадик купил Веронике этот дворец, она расплакалась.
Солнечной стороной обрываясь над морем, дорога к дворцу петляла по склону вечнозеленых самшитов, ныряла в гербовые ворота и ящеричным хвостом обвивала фонтан, за которым таился в мимозах единственный в Сочи настоящий дореволюционный дворец.
Век назад архитектор-итальянец вписал его в склоны и выступы самшитового утеса так филигранно, будто дворец вырос здесь сам, повинуясь движению молодой горной породы, частым смерчам, причудливо остановившимся камнепадам. Призрачные балюстрады нависали над цельнотканым полотном моря и неба, и в этой струящейся синеве горизонт растворялся бесшовно – так, что впечатлительные отдыхающие без устали фотографировали единственную на земле по-настоящему бесконечную даль: ведь там, где нет горизонта, нет никакого конца.
Эту точную копию одного из знаменитых итальянских приморских палаццо выпросила у царского генерала его жена – то ли княжна, то ли княгиня – за пять лет до того, как все трое – и она, и генерал, и царь – сгинули в смерче гражданской войны (дворец потом так и назвали – «Красный смерч», разместив в нем сначала базу отдыха НКВД, а потом интернат для трудных подростков) – и за сто лет до того, как Вероника, увидев дворец на персональной экскурсии, представила себя на этих каменных лестницах в белом платье со шлейфом и выпросила его у Вадика.
Первое время Вероника любила выйти утром на верхнюю террасу в шелковом пеньюаре, прищурить глаза, пытаясь поймать исчезающую в утренней дымке нитку игривого горизонта, который то появлялся, то снова рассасывался в синеве. В такие моменты она и сама чувствовала себя то ли княжной, то ли княгиней, ей хотелось уметь играть на рояле и говорить по-французски – или хотя бы знать, в чем разница между княжной и княгиней.
Когда Вадик купил дворец, его как раз назначили управлять развитием чего-то не очень понятного Веронике, каких-то новых курортных кластеров в рамках очередной госпрограммы, и они стали жить неделями в Сочи, а в этом году застряли тут на всю зиму.
Январь Вероника пережила на кураже вечеринок в Красной Поляне, подарков, лыж, казино, фейерверков, розового рюинара со льдом, но, когда все разъехались и мимоза покрылась первым желтым пушком, оттаявшая тоска начала подтапливать все девять спален дворца – и рюинар больно колол язык.
В тот день, как всегда, торжественные кипарисы отражались в металле темно-зеленого кабриолета, припаркованного у фонтана так давно, что даже плитка под ним стала другого цвета.
Вадик мягко стукнул по крыше кабриолета костяшками пальцев.
– Вот он, красавец мой. Ни разу не надеванный, – сообщил Вадик фонтану и сел на заднее сиденье своего служебного майбаха. Сзади пристроился джип охраны.
Вадик делал так каждое утро – стучал пухленькими костяшками по крыше кабриолета и с гордостью говорил: «Ни разу не надеванный».
Обычно Вероника сопровождала привычные шутки мужа выученной аристократической улыбкой – слегка растягивая и одновременно сжимая губы, подколотые совсем чуть-чуть, тоже очень аристократически. Но сегодня она вдруг сказала Сусанне, выбежавшей отдать хозяину два забытых айфона:
– Зачем тут вообще этот кабрик? Он же не может никуда поехать на нем – мало ли кто снимет и выложит в интернет. Да у него и прав-то нет.
Майбах и джип взвизгнули шинами и двинулись сквозь парадный конвой кипарисов.
Была середина февраля. Склон над дорогой выткался первыми цикламенами, фарфоровыми подснежниками, бледно-желтыми зимовниками. Но и они не радовали Веронику, выросшую в этих краях и привыкшую не замечать их бесстыдную роскошь.
С утра ее слегка развлекла лежавшая на лаковом черном комоде коробочка с рубиновыми длинными серьгами в виде сердечек (Вадик никогда не забывал про Валентинов день), но сережки так и остались на голом комоде; примерив их, Вероника даже не посмотрела в зеркало.
Именно в этот день вдруг позвонил Вачик.
– Женщина, а ты когда мне собиралась сказать, что ты с Нового года в Сочи и мне не звонишь – не пишешь? – не поздоровавшись, весело спросил Вачик.
Вероника удивилась, почему у нее внутри вдруг что-то хлопнуло в ребра и в щеки, как будто там бахнули рождественским фейерверком.
– Ты откуда узнал мой номер? – сказала Вероника, стараясь, чтобы ее голос звучал юно и все-таки аристократично.
– Я про тебя все знаю! Короче, первого марта у нас вечер встречи выпускников. Если ты не придешь – все кончено между нами! Я за тобой заеду, в замок твой, в шесть часов.
– Откуда ты знаешь, где я живу?
– Сказал же тебе – я про тебя все знаю!
Фейерверк снова бахнул куда-то под Вероникину диафрагму. Она стояла в своей гардеробной, где кашемировые костюмы Лоро Пьяна, и шелковые платья Брунелло Кучинелли, и даже бриллиантовые колье совсем разучились радовать Веронику – они умудрялись стариться и тускнеть, как только их вынимали из коробок, и вдруг Вероника заметила через окно, что земля в самшитовой роще, огибающей замок, покрыта действительно очень красивыми подснежниками, как если бы Вероникин голый черный комод накрыли вязанными крючком бабушкиными салфетками.
Вачик был Вероникиным одноклассником. В школе он не особенно на нее заглядывался, хотя всегда нравился ей – широкий, не слишком высокий, со сверкающей, как расплавленный битум, недобритой черной щетиной, с коричневой гладкой спиной, от вида которой у Вероники лопалось что-то горячим соком внизу живота, когда они после уроков бегали нырять с волнореза за мидиями.
Она всегда знала, что он, армянин, никогда не женится на ней, русской девочке из неполной семьи. Но через несколько лет, когда она уже работала парикмахером и ей было уже неважно, женится он или нет, а просто хотелось расцарапать его рельефную спину своими длинными накладными ногтями, расписанными цветочками, они встретились в кабаке, и он подливал ей ликер «Амаретто», а потом посадил в свою белоснежную девяносто девятую и повез кататься в Поляну.
В машине пахло Вачикиным ядреным потом и ежевичным освежителем воздуха. До Поляны они не доехали. Вачик остановил машину на смотровой площадке у водопада, нашарил на заднем сиденье какой-то плед, молча взял Веронику за руку и повел ее в лес.
Был такой же теплый февраль, и лесные мимозы разливали свой аромат на парковку. Вачик бросил плед у полянки мягкого папоротника, одной рукой обнял Веронику выше талии, а другой стал расстегивать молнию сбоку на юбке.
Он не был ее первым. Но, как впоследствии оказалось, он был ее лучшим. И сейчас, в сорок пять, она уже точно знала: неправда, что женщины всю жизнь помнят своего первого. Всю жизнь они помнят своего лучшего.
В открытой двери гардеробной появилось смуглое личико Сусанны:
– Вам ужин с «Мамай-Кале» заказать или с «Высоты»?
Вероника молча разглядывала новое, песочного цвета, шитое сдержанным кружевом платье.
– Скажи, – спросила она Сусанну. – У тебя было много мужчин кроме мужа?
Сусанна вытаращила глаза и засмеялась, прикрывая рукой лицо.
– Кроме мужа? У меня и мужа-то, считай, не было! Вот сколько три сына у меня есть, столько раз он со мной и спал. А теперь говорит: «Как я могу трахать мать моих сыновей?» Ой, извиняюсь за грубизну.
– А ты что?
– А мне что? Мне и не надо.
– Как это – не надо?
– А зачем?
– Ты же живой человек.
– Живой человек не может не жрать. А не трахаться легко может. Ой, опять извиняюсь.
– Интересная философия, – заметила Вероника.
Почему-то ей не понравилось то, что сказала Сусанна, и тут же ей не понравилось, что ей это не понравилось. «Наверно, это из-за говора», – подумала Вероника. Прислуга говорила с нагловатыми южными гласными. Когда-то Вероника так говорила сама, пока Вадик не нанял ей преподавателя, – и теперь, слыша у женщин этот небрежный, тянущийся говорок, Вероника чувствовала неприязнь, как если бы ей напомнили о чем-то стыдном.
– Никакая не философия. От безделья рукоделье, прабабушка моя говорила. Прабабушка у меня профессор была! Хотя читать не умела, – не останавливалась Сусанна.
– Ну все. Иди, – раздраженно бросила Вероника. Пристально посмотрела на новое платье. Надела его. Под пупком выпирал предательский валик жира. Вероника встала у зеркала, подняла и опустила руки. Белая, нижняя часть плеч отвратительно заколыхалась в такт. На грудь Вероника старалась вообще не смотреть.
С трудом расстегнув молнию, она выползла из песочного платья и крикнула в коридор:
– Я не буду сегодня ужинать! Не заказывай ничего! И завтра не буду!
Ночь, полногрудая и надушенная, в желтой пижаме фланелевых мягких мимоз, прижималась губами к окнам дворца, как будто пыталась сделать ему, полумертвому, искусственное дыхание. Сквозь приоткрытую форточку в спальню сочились шорохи древних самшитов, запахи эвкалиптов, испарения распускающейся земли.
Вероника проваливалась в полудрему, в сотый раз прокручивая в голове тот влажный лес за парковкой у водопада, как она лежала спиной на колючем пледе, и Вачик, двигаясь медленно и уверенно, не отрываясь смотрел в ее голубые глаза своими блестящими черными, и эти глаза, и сам он сливались с темной бездной ущелья, за которой была темная бездна небес, а за ней – темная бездна космоса, вечной жизни, и никогда – ни после, ни до – Вероника не чувствовала так остро и несомненно эту вечную жизнь, как в ту февральскую ночь на колючем пледе.
Проснулась она от привычного мокрого шепота Вадика и почувствовала, как он трется о ее ягодицу.
– Пусти, пусти, – мурлыкал Вадик. – Доктор пришел сделать укольчик.
Уже лет пятнадцать секс Вероники начинался всегда одинаково – с трения Вадика сзади о ее ягодицу и с этих слов про укольчик. Когда Вадик засыпал, Вероника шла в ванную и сама заканчивала то, что у нее никогда не получалось довести до конца с ним. Именно с ним.
Но сегодня ей прямо почти до паралича не захотелось этот укольчик.
– Вадь. Не обидишься? Совсем не хочется сегодня. Я спала уже.
– Ты всегда спишь, и что? – продолжал мурлыкать Вадик, задирая на Веронике шелковую сорочку.
Она вдруг резко отдернула его руку. Вадик остановился.
– Странно. На тебя не похоже. Может, у тебя кто-то завелся? А? А?
– Ты серьезно?
– Все о-о-о-очень серьезно! – продолжал мурлыкать Вадик, вкладывая в руку Вероники доказательство серьезности своих намерений.
– Да нет, ты серьезно про «кто-то завелся»?
– О-о-о-очень серьезно я завелся! – и Вадик снова полез под сорочку.
Вероника вздохнула и закрыла глаза. Она знала, что ей грех жаловаться, хотя бы потому что она единственная из всех известных ей женщин, кому не изменяет муж. Не изменяет не потому, что боится скандала, а потому что до сих пор все так же в нее влюблен, как в первые пять минут их первой случайной встречи. Громко вдыхая в такт движениям Вадика, Вероника вдруг подумала об этом его не заканчивающемся обожании с сожалением и даже с чувством страшной, роковой безысходности.
В двадцать два, когда Вероника встретила Вадика, в нее влюблялись все поголовно. Кроме как раз одноклассника Вачика, который еще раза четыре возил ее по ночам то на пляж, то снова в Поляну, то один раз даже в гостиницу, а потом перестал звонить и брать трубку. С тех пор они и не виделись.
Видимо, Вачику, двоечнику и хулигану, не хватало какого-то вещества в голове не только на то, чтобы выучить «семью восемь – пятьдесят шесть», но и на то, чтобы увидеть в ней, в Веронике, все, что видели остальные, включая одного настоящего то ли канадца, то ли корейца, который трижды, поскальзываясь на мытом полу Вероникиной парикмахерской, припадал на одно колено, тыча в живот Веронике довольно авторитетным кольцом. Но Вероника, как настоящая сочинка, не собиралась ни в Корею, ни даже в Канаду, она была не то чтобы счастлива, но спокойна среди запыленных мимоз, хранящих воспоминания об открывшейся ей в том Вачикином лесу незыблемой вечности.
Она была исключительно, безупречно и как-то очень интеллигентно красива – неожиданно интеллигентно для мастера по мужской укладке хостинской парикмахерской «Южная роза»; впрочем, и название заведения, и особенно название должности описывали Веронику так точно, как не описал бы поэт, – поэты чураются пошловатого остроумия, которым сочится подлинная реальность.
Особенно хороши у Вероники были колени: она относилась к тому редкому типу женщин, которые могут себе позволить носить строгие узкие юбки чуть выше колена, потому что эти вот их колени так остры и так тонки, что заставляют подозревать в их хозяйке недюжинный интеллект и классическое воспитание.
Когда Вадик – тридцатилетний московский политтехнолог, зарабатывавший в тот момент на выборах мэра Сочи свой первый трудовой кадиллак, – зашел в Вероникину парикмахерскую, она как раз была в узкой юбке чуть выше коленок. Гладкие и блестящие интеллигентно каштановые волосы до лопаток, большие голубые глаза, совершенно прямой, безупречно классический нос, удлиненный овал лица Наталии Гончаровой – все это было так убедительно, так достойно, что Вадик даже и не заметил накладные ногти, расписанные цветочками.
Прикоснувшись к Вероникиной беленькой ручке, Вадик почувствовал себя Александром Сергеевичем, – тогда еще он не начал лысеть и носил довольно внушительные бакенбарды. Собственно, он всегда и хотел быть Пушкиным, с детства любил рифмовать, но свернул в политтехнологии, когда осознал, что Пушкин и в наше время ездил бы на конной упряжке, потому что на кадиллак в наше время Пушкин бы не заработал.
К тому времени, когда Вадик все-таки разглядел Вероникины ногти и расслышал южный пренебрежительный говорок, она уже накормила его, пухлого, маленького, неуклюжего, объедками деликатесов с Вачикиного стола, и он, не подозревая, что это объедки, бесповоротно влюбился – так же безудержно и безрассудно, как мог влюбиться уродливый Пушкин в снисходительную Гончарову.
Вадик тут же решил быть не Пушкиным, а Бернардом Шоу – к тому же он года три как побывал в Лондоне, видел там двухэтажный автобус и поэтому определился, что все английское ему нравится больше, чем русское.
Вадик не знал тогда – и никогда не узнал – что Вероника оказалась в его надушенной английской лавандой постели лишь потому, что, слишком буквально принимая советы подружек вышибать клин клином, таким образом вытравляла из своей головы Вачика, который, как адлерский придорожный бамбук, все не хотел вытравляться; что в этой напрасной очереди он, Вадик, был восемнадцатым и далеко не последним.
Несколько лет Вадик летал к Веронике на выходные, иногда выгуливал ее в Москве – то с японцами в Большом театре, то с русскими в караоке – заставил ее переделать ногти, выдавил из нее, как угри, эти южные гласные, научил носить под узкими юбками интеллигентный капрон, восхитился всем, что из этого вышло, подарил ей кольцо, еще более убедительное, чем тот канадец, сказочно разбогател, и к двадцати четырем Вероника, повинуясь инстинкту любой настоящей сочинки обязательно родить до двадцати пяти, решила, что рожать все-таки лучше в Москве, а не в Лазаревском, и чтобы тебя из роддома забирали на кадиллаке, а не на девяносто девятой, пусть даже белоснежной.
Они поженились, и Вероника родила тоже очень красивую дочь, только Настя выросла чуть ниже ростом, чуть шире, чуть неуклюжее, и вдоль ее щек даже немножко пушилось что-то похожее на зачаточные бакенбарды. Впрочем, в Лондоне, где она уже третий год училась то на дизайнера, то на микробиолога, Настины бакенбарды были скорее плюсом, чем минусом.
После секса Вадик сразу пошлепал в душ, – он делал так всегда, без исключений, но сейчас Вероника подумала, что, в конце концов, это унизительно, когда твой муж каждый раз тут же уходит мыться.
– Как будто я его испачкала собой, – пробормотала она вслух.
Вадик вернулся, поставил свой «антибудильник» – он всегда отмерял от того времени, когда ему надо проснуться, семь с половиной часов назад, ставил будильник на это время и, услышав его, через пять минут засыпал. Ровно через семь с половиной часов он просыпался сам. Вадик считал это единственным разумным способом регулировать правильное количество сна.
Укрывшись отдельным одеялом, он поцеловал Веронику в лоб.
– Спокойной ночи, моя прекрасная леди. Ты по-прежнему совершенно иррезистибл.
И тут же, счастливый и мирный, с удовольствием повернулся спиной.
Вероника лежала на своей стороне кровати, глядя в прорезь шелковой шторы, за которой колыхалась пушистая лапка мимозы.
– А если бы кто-то завелся? Тогда что бы ты сделал? – тихо произнесла Вероника.
– Кто завелся, Виви? – неожиданно переспросил Вадик.
Вероника промолчала. Но Вадик уже проснулся и внимательно смотрел на нее. Она подумала, что в глазах у нее сейчас, наверное, испуг, но в спальне очень темно, и как хорошо, что дворец специально построен так, чтобы луна смотрела ночью в гостиную, а не в спальню, и что, наверное, было бы нестерпимо, если бы луна каждую ночь отражалась в круглой лысине Вадика.
– Кто завелся? Ты про собаку опять? Тебе так нужна эта собака? – спросил Вадик устало, но дружелюбно.
Вероника сделала еще один глубокий вдох и сказала:
– Про собаку, да. Мне очень нужна собака. Очень. Ты даже не представляешь, как.
Утром, натянув спортивный костюм из песочного кашемира, Вероника уложила в сумку секатор, аккуратную медную лопатку и грабельки, книжку «Руководство начинающего садовода» и вышла работать в сад.
С тех пор как Вадик купил ей этот дворец, почти все свободное время, то есть все время, не занятое массажем, укладками, маникюром, примеркой вещей из новых коллекций, вялотекущей благотворительностью, просмотром Настиного Тиктока и собственного Инстаграма[1], Вероника посвящала растениям. Вадик одобрял это аристократическое увлечение.
Не то чтобы Веронике нравились растения, она их не очень-то замечала, но она нравилась себе сама – с этой сложной прической, когда нужно два часа укладывать волосы, чтобы они выглядели неуложенными, в этих неброских костюмчиках, каждый из которых стоил как Сусаннина «Таврия», с этой книжкой, которую она листала, красиво откинувшись на скамейке, пока Сусанна фотографировала ее для Инстаграма.
Но сегодня ей и вправду захотелось весны, воздуха, напоенного цикламенами, бризом, мимозой, свежей работы в саду, напряжения мышц, которые вдруг показались ей все еще сильными и молодыми.
По каменной лестнице Вероника спустилась в ту часть сада, где были высажены деревья, зацветающие раньше всех (Вадик настаивал, чтобы сад был разбит на сезоны), – и остановилась, замерев: за ночь расцвела еще вчера совершенно лысая магнолия Суланжа. Ее голый серый ствол и неловкие ветви густо покрылись хрупкими, как будто фарфоровыми лепестками; на гладком дереве без листвы эти большие цветы, белые с розовыми прожилками, казались приклеенными каким-то ночным шутником; магнолия выглядела нездешней, неправдоподобной, и Вероникино сердце заколотилось еще сбивчивее и тревожнее: от неожиданной ранней весны, от ее запретных чудес и хрупких, как будто фарфоровых, воспоминаний.
Присев на скамейку, Вероника достала из кармана телефон, нашла в звонках номер Вачика и написала:
– И все-таки откуда ты знаешь, где я живу?
– Слежу за тобой, – ответил Вачик.
– Зачем? – спросила Вероника, пытаясь унять участившееся дыхание.
– Забыть тебя не могу.
Они встретились через два часа в ресторане, который выбрала Вероника, – кабак был довольно терпимым, но не таким, где можно было бы встретить Вадика или их общих знакомых.
Вероника надела короткое платье широкого кроя – так, чтобы скрыть располневшую талию, но показать по-прежнему исключительной красоты ноги. Заказала себе апероль-шприц. Вачик спросил кофе по-восточному. Кофе по-восточному не оказалось, и Вачик не стал больше ничего заказывать.
Изменился он очень мало. «Как назло», – подумала Вероника. Черная шевелюра поредела и поседела, но это его не портило, скорее, наоборот. Телом Вачик всегда был кряжистый, ширококостный, и даже если чуть-чуть располнел с возрастом, в глаза это не бросалось. Кожа на его бычьей шее и мощных руках стала медной и грубой, и в этом тоже было что-то влекущее, мужественное. Вероника вспомнила белую дряблую кожицу Вадика, на ощупь тонкую и неприятную, как промокшая марля.
А глаза у Вачика не изменились вообще – такие же черные, топкие, подернутые обманчивой поволокой задумчивости, они вдруг взрывались небезопасными искрами, как зажженные в тесной квартире бенгальские огни.
Он молча смотрел на Веронику, слегка улыбаясь торжествующей и лукавой улыбкой.
– Ты что с собой сделала? – спросил наконец Вачик. – Как будто двадцать лет тебе.
– Ничего не делала, – соврала Вероника.
– А почему так выглядишь хорошо?
– Ты тоже хорошо выглядишь.
– Это я для тебя побрился. Я помню, что тебя щетина царапала.
От этого прямолинейного даже не намека, а указания на их прошлое внутри Вероники снова поднялся огневой фейерверк, который она потушила крупным глотком коктейля.
– Я замужем, – чуть хрипло сказала Вероника.
– Я в курсе, – посмеиваясь, ответил Вачик. – Сказал же, я все про тебя знаю.
– Что, например?
– У тебя дочка в Англии учится. И тебе скучно.
– С чего ты взял?
– В твоем возрасте всем красивым женщинам скучно. Потому что красивые женщины удачно выходят замуж, и им не надо работать. Дети вырастают – и женщины скучают. Но для этого есть Вачик! – сказал он и поиграл бровями.
У Вероники задрожала рука – так, что она чуть не вылила на себя коктейль.
– Я поеду, – сказала Вероника, поставив бокал на стол.
– Неа. Не поедешь, – ответил Вачик и взял ее руку.
– Почему? – спросила Вероника, воровато оглянувшись по сторонам, но руку не забрала.
– Потому что не хочешь.
– Не хочу, – покорно согласилась Вероника.
– Если честно, мне самому ехать пора, – вдруг сказал Вачик, вставая. – Тебя отвезти?
– Нет, я с водителем.
– Конечно, ты с водителем. Кто же такую отпустит одну, – ухмыльнулся Вачик. – На созвоне тогда.
Домой Вероника не поехала – не смогла себя заставить. Она молча сидела в своем голубом кайенне, блуждая глазами по выцветшим пятиэтажкам с подъездами в корчах чернеющей виноградной лозы, по пыльным мимозам и фонарям с линялыми вывесками; вокруг бродили тощие псы, чужие машины шныряли, как блохи в немытой шерсти стареющей Хосты… Но Вероника не видела ничего, она досматривала в голове – и не хотела выключать, пока не закончится, – одно из своих теперешних наваждений – мучительных и сладострастных сцен понятного только ей сериала, целиком состоящего из драгоценных обрывков воспоминаний о Вачике.
Теперь эти сцены включались в голове Вероники непрошено, неминуемо, неотвязно. Сидя за спиной у своего водителя – мужа Сусанны Сурена – она смотрела, как Вачик, тяжелый и влажный, лежит на Веронике на пляже – оба они были наполовину в воде – и говорит: «Вкусная ты, такая вкусная. Сама не знаешь, какая ты вкусная, маленький».
Собственно, это была их последняя встреча.
– Поехали на кладбище, – очнулась вдруг Вероника.
Сурен не сразу, нехотя нажал на педаль.
Грязное кладбище за аэропортом было похоже на штопаную мешковину в желто-зеленых заплатках цветущих мимоз. Груды пластиковых бутылок, пакетов, тарелок, приборов, бумажных цветов карабкались вверх по горе вдоль каменных памятников.
Мама лежала одна, почти на самой вершине горы. Ее не было уже двадцать лет, она умерла сразу после Вероникиной свадьбы, хотя давно болела, – как будто удерживала этот рак усилием воли, пока не убедилась, что дочь в надежных руках.
Вероника присела на лавочку. На кладбище было все по-другому, не как в день похорон: за новой взлетной полосой почти не видно старую Мзымту, за Мзымтой шумит олимпийская трасса, и гора с нахлобученным на нее белым облаком, когда-то чистая и зеленая, теперь застроена новым коттеджным поселком.
Вероника встала, прошлась, цепляя кашемировым кардиганом чугунные вензеля оградки. Потрогала мягкие гроздья склонившейся над могилой мимозы. Сдула с руки желтенькую пыльцу.
– Мам. Я Вачика встретила. Помнишь Вачика? – сказала Вероника серой надгробной плите.
Верхушки прямых кипарисов колыхались, как огоньки поминальных свечей. Из кипариса вынырнула сойка с бирюзовыми крыльями, села на ограду и покачала головой в сторону Вероники.
– Ты осуждаешь меня, мам? – спросила Вероника и замолчала, как будто действительно ждала услышать ответ. – Осуждаешь. Конечно, ты осуждаешь.
Из-под мимозы метнулся кладбищенский кот, сойка снова вспорхнула в глубь спасительного кипариса.
– А за что меня осуждать? Что я жить еще хочу? Что я не привидение еще в этом дворце? Даже в Библии написано, что нет ничего в жизни, кроме любви. И нету! И нету!!! Все остальное пресное, мама, пресное, несоленое, жрать невозможно все остальное, мама, понимаешь? Мне вот тут домработница говорит, что человек не может не жрать. И я не могу. И жрать эту жизнь несоленую я не могу тоже. В горло не лезет!.. А ты осуждаешь.
Мамино лицо, вытатуированное на сером граните, смотрело вдаль, за Мзымту, за гору, сквозь Веронику, бессердечное в своей безучастности.
Когда Вероника вернулась домой, Вадик один ужинал в столовой. На серебряном блюде еще дымились ломти запеченной бараньей ноги с розмарином и чесноком. Рядом в прозрачном сотейнике лежала белая спаржа, в серебряной миске Кристофль уже остыл соус беарнез.
– Ты можешь объяснить Рузанне, что в беарнез надо класть эстрагон? – сразу сказал Вадик вошедшей Веронике. – Что если не класть в беарнез эстрагон, то это просто масло с яйцом, а не беарнез! Если не могут найти эстрагон, пусть лучше делают голландез, а не беарнез. Голландез к спарже даже и лучше. Можешь ты ей это объяснить?
– Нет, – сухо ответила Вероника. – Именно это я ей объяснить никогда не смогу.
– Ну, значит, я сам объясню, – сказал Вадик, внимательно прожевывая спаржу.
Вероника сделала шаг обратно к дверям и вдруг спросила:
– Скажи, откуда это: «Тебе есть в мире, что забыть, ты жил, я так же мог бы жить»?
– Это Лермонтов, Михаил Юрьевич. Следовало бы вам знать, моя прекрасная леди. Я вам, помнится, не раз вслух читал.
И Вадик принялся по памяти декламировать:
- – Пускай теперь прекрасный свет
- тебе постыл, ты слаб, ты сед,
- и от мечтаний ты отвык,
- что за нужда – ты жил, старик!
- Тебе есть в мире, что забыть!
- Ты жил! Я так же мог бы жить.
- Меня могила не страшит…
– А меня страшит, – перебила Вероника.
– Всех страшит, – беззаботно отозвался Вадик. – Но нам рано об этом думать.
Вероника подошла к дверям.
– Слушай, – остановил ее Вадик. – Ты вчера была какая-то… другая. Ночью. Почему? Может, ты не кончила?
Вероника брезгливо посмотрела на Вадика и молча вышла из столовой.
– Поднимись в нашу спальню. Думаю, там кое-что тебя порадует, – сказал ей вслед Вадик.
– В нашей спальне меня точно ничего не может порадовать, – прошептала, не оборачиваясь, Вероника.
– Это я уже понял. И все-таки поднимись.
Медленно, тяжело, как больная, Вероника поднялась в спальню, отделанную английскими обоями, с английской шахматной черно-белой напольной плиткой. За открытым окном перекрикивались дрозды. Вдруг очень близко Вероника услышала другой, жалобный звук. Обернулась. На постели скулило бежевое и пушистое – маленький живой щенок померанского шпица, которого Вероника не то чтобы очень хотела завести, но именно его не хватало для полноты ее инстаграм-странички.
Схватив в охапку послушного шпица, Вероника спустилась в столовую. Вадик доедал пирог баноффи, любимый десерт просвещенных лондонцев, который обескураженная кухарка Рузанна научилась делать с Вадикиных слов из растворимого кофе, бананов и вареной сгущенки.
Вероника тихонько подошла сзади к Вадику, погладила его лысину лапкой шпица и сказала:
– Конечно, я кончила вчера. Разве я могу с тобой не кончить?
Предзакатную февральскую тишину, еще не разрушенную скорым апрельским грохотом жаб и цикад, взрезал гул частного самолета, который Вадик отправил за своими гостями, пожелавшими отметить День защитника Отечества у него во дворце.
Зимовники, как только что вылупившиеся цыплята, окружили дорожки вокруг дворца, и Вероника заранее утомилась, предвкушая восторги питерцев и москвичей, Вадикиных друзей и покровителей – всем известных больших чиновников, никому не известных, но очень значительных генералов, постаревших эстрадных звезд и тех, кого во времена этих звезд было принято называть олигархами.
С утра Вероника бесцельно бродила по дворцу. Теперь она смотрела на дворец не своими скучающими глазами, а порывистыми глазами Вачика. Что бы он сказал, если бы увидел, как она живет? Ничего бы не сказал, конечно, – он никогда не говорит, что думает, – но что бы он подумал?
Веронике очень хотелось показать ему эту каминную с вензелями, эти девять спален – восемь из них гостевые, и у каждой отдельная, как говорит Вадик, «декораторская идея», которая заключается в том, что в спальнях поклеены одинаковые обои разных оттенков, а в прикроватных тумбочках лежат разные томики воспоминаний Черчилля.
В ванных пахло душистым мылом ручной работы, которое Вадику доставляли прямо из Хэрродс даже в пандемию.
С той короткой встречи в ресторане Вероника больше не видела Вачика, хотя они переписывались каждый день. Вероника ждала, что он позовет ее куда-нибудь выпить кофе, но он писал только: «Когда мы уже посидим нормально?» – и, если она отвечала: «Когда скажешь», – Вачик больше не отвечал.
– Наверно, работает много. Таксистом или охранником, – думала Вероника. – Зарабатывает столько, сколько Вадик тратит на мыло.
Сусанна притащила в гардеробную огромные оранжевые пакеты, которые Вероника специально заказала доставкой из ЦУМа, чтобы выбрать платье для вечера встречи выпускников.
Всю неделю Вероника не могла думать ни о чем, кроме этого вечера. Она представляла, как Вачик заедет за ней в шесть часов, как она пригласит его во дворец, небрежно проведет по гостиным и спальням, покажет каминную с вензелями, потом предложит ему кофе по-восточному на террасе над морем, и, пока он будет пить, шалея от ее гранатового заката, жалея о том, каким он был идиотом, она наденет новое платье, серьги с рубиновыми сердечками и выйдет к нему, неотразимая, на каблуках. Он сразу молча поймет: она видит, как он шалеет и как он жалеет, и что не надо жалеть, потому что она все простила, – и что все еще впереди.
На вечер встречи они опоздают и бесстрашно войдут вдвоем – может даже, она возьмет его под руку. А потом, на обратном пути, по дороге, в лесу, если она решится, если только она решится… Но дальше Вероника пока запрещала себе представлять.
– Сурен тебе изменяет, конечно? – вдруг спросила Вероника Сусанну. Сусанна даже не удивилась.
– Изменять не изменяет. Так, летом трахается с отдыхающими, как все. Ой, извиняюсь. А так нет, не изменяет.
Вероника расхохоталась.
– То есть с отдыхающими – это не измена?
– Да нет, конечно.
– Почему?
– Ну, ему надо же. Он же мужчина. Ему надо. Так его природа устроила. Хочется же ему. Если он все время не будет делать, что ему хочется, он же будет нервный, – мне, что ли, лучше будет?
– А ты ему изменяла когда-нибудь?
Сусанна даже всплеснула руками от кощунства такого предположения.
– Нет, конечно!
– Я так и думала. Мужчине, значит, надо, а женщине – не надо?
– Я считаю, да. И все так считают.
– А если женщине тоже очень хочется?
– Если женщине очень хочется, значит, она блядь. Ой, извиняюсь.
Вежливо постучав пухлыми костяшками в открытую дверь, в гардеробную зашел Вадик. В руках он бережно, как младенца, нес запыленную бутылку виски. Сусанна, увидев хозяина, предусмотрительно вышла, – он не любил, чтобы прислуга попадалась ему на глаза.
– Single Malt Founders Private Сellar, – прочитал этикетку Вадик. – Запомни, Виви. Сингл молт фаундерз прайвэт селла. Лучший английский виски. Из Норфолка. Вообще весь лучший виски – из Норфолка. Прайвэт селла – значит, частный погреб. Это виски из частного погреба, из Норфолка.
Вероника кивала.
– Ты знаешь, где находится Норфолк?
– В Англии? – неуверенно спросила Вероника.
– Разумеется, в Англии. Но где именно?
– Не знаю.
– А что мы делаем, когда чего-то не знаем? – улыбнулся Вадик. – Мы гуглим!
И Вероника послушно достала свой телефон, чтобы выяснить, где находится Норфолк. Она знала, что Вадик за столом обязательно попросит ее рассказать об этом.
Вадик любил учить Веронику. В самом начале их брака он пытался приблизить ее школьное среднее образование к своему, мгимошному. Но училась она плохо, запоминала только неважные мелодраматические подробности: из всей Великой Отечественной запомнила только, что героиня знаменитого стихотворения «Жди меня – и я вернусь» изменяла автору этого стихотворения с каким-то маршалом.
Вадик любил и перечитал всего Набокова – то ли потому что действительно одолел его припудренные лабиринты, то ли потому что когда-то узнал: Набоков еще ребенком был воспитан как англичанин и даже на ночь молитвы читал на английском. Вероника осилила одну «Лолиту» и запомнила из нее только фразу «скипетр моей страсти», потому что Веронике показалось забавным называть обычный мужской половой член скипетром.
Из всего английского языка Вероника выучила только слово irresistible, поскольку Вадик произносил его каждый день по разным поводам, не уставая объяснять, что это одно из многих английских слов, не переводимых на русский, что его можно было бы перевести как «несопротивлябельное», то есть то, чему невозможно сопротивляться, но слова «несопротивлябельный» в русском языке нет. Вадик говорил: «Иррезистибл краб, иррезистибл виски, иррезистибл деловое предложение, иррезистибл костяная щеточка для чистки ногтей».
В конце концов Вадик от Вероники отстал, ограничившись тем, что заставил ее все-таки выучить историю средневековой Англии – с ее Кромвелем, Магна картой и первым в Европе парламентом.
– Иначе нам с тобой совсем не о чем будет разговаривать, – сказал Вадик.
Она покорилась, историю выучила, и теперь на своих знаменитых раутах Вадик предоставлял жене возможность ввернуть что-нибудь про войну Алой и Белой розы, в результате чего в лучших московских гостиных Вероника слыла энциклопедически образованной женщиной.
– Ты чего такая смурная сегодня? – спросил Вадик, убедившись, что Вероника запомнила название виски. – Сплин? Что-то тебя раздражает?
– Раздражает? Да нет. Хотя, – быстро придумала Вероника. – Сурен раздражает. Спит на ходу.
Вадик, улыбаясь, потрепал Веронику по ягодице. Вероника впервые подумала: как это странно, что он, будучи ростом ниже ее, все равно умудряется улыбаться ей свысока.
Гости начали съезжаться к фонтану. Заканчивая макияж, Вероника слышала в окно, как Вадик подводил их к кабриолету, стучал костяшками и говорил:
– Ни разу не надеванный!
Из столовой тянуло печеным козленком. Вадик умел накрывать столы. Обитатели московских гостиных знали его фазанов, фаршированных фуа-гра, лобстеров термидор, террины с каперсами и зайчатиной и неизменный английский пастуший пирог с легкими и бараньим мозгом, который Вадик наутро съедал целиком один, ворча, что гости снова были неделикатны и плохо воспитаны – даже из вежливости не притронулись к его бараньему мозгу.
Среди закусок всегда стояла в креманках на льду черная икра – ненавязчиво, интеллигентно, глаз не мозолила.
Сегодня к Вадику прилетели один очень нужный ему генерал и один довольно бессмысленный, но все-таки губернатор, а с ними еще их компаньонка – известный телеведущий, и Вадик лично ездил в аэропорт встречать не только всех их, но и живых устриц, и провел полночи, перебирая свой винный погреб, занимавший весь цоколь дворца, – вылез оттуда, не замечая, что его лысина затянута паутиной. Вероника заметила и долго и зло смеялась.
Прямо у входа гостей, как всегда, встречало на деликатной тележке неизменное блюдо английских сэндвичей с огурцом.
– Но для начала, леди и джентльмены, позвольте аперитив, – объявил Вадик и откупорил виски. – Виви, ты все знаешь про этот виски. Расскажи страждущим.
Вадик так делал всегда, и раньше Веронику это не утомляло, она считала это своей справедливой обязанностью, а теперь вдруг почувствовала себя пятилетней девочкой, которую в обмен на новогодний подарок поставили на табуретку читать стишок про Ленина, а она и кто такой Ленин не знает, и на табуретке стоять боится, и обижается, что никто не хочет дарить ей подарок просто так, без стишка.
– Это сингл молт фаундерз прайвэт селла, – отчеканила Вероника. – Прайвэт селла – значит, частный погреб. Виски из Норфолка. Вы же знаете, весь лучший виски – из Норфолка, с восточного побережья Англии.
– Правда, она похожа на Мэри Поппинс? – с гордостью сказал Вадик.
Женщины попросили показать им дворец. Вероника проводила экскурсию автоматически, повторяя заученный текст про царского генерала, влюбленного в свою жену – то ли княжну, то ли княгиню, – с отрепетированными повествовательными интонациями.
Пока заученные слова сами вываливались из Вероники, она пыталась усилием воли хоть на один этот вечер вытравить из своей головы мысли о Вачике.
– Он как вистерия, – думала Вероника, вспоминая главу из книжки «Руководство начинающего садовода», там было написано про самое красивое из всех вьющихся растений, рядом с которым любая другая лиана кажется просто травой.
«Вистерия подавляет все другие растения, отбирает место, так что рядом с ней даже кампсис и жимолость будут безжизненны». Один раз посаженная, вистерия сминает под собой и балкон, и беседку, и выкорчевать ее до конца никогда нельзя – она всегда возвращается.
– Сколько у тебя прислуги тут? – спросила Полина, дочка вдового генерала, строгая тридцатилетняя девушка с очень прямой спиной и самоуверенным подбородком, чем-то похожая на Веронику.
– Да нисколько. Кухарка только и домработница. Мы же вдвоем. Едим мало. Вадик не любит, когда много людей.
– А платишь сколько? – уточнила Полина. Генерал не был богат – не потому что не имел возможностей разбогатеть, а потому что был глуп и небрежен; и дочка его с детства привыкла считать деньги и завидовать тем, кто их не считает.
– Пятьдесят. Вадик говорит, что много.
– Конечно, много! С ума ты сошла, – сообщила пухленькая жена губернатора. – Я своих еще штрафую, если накосячили. Иногда все пятьдесят на штраф и уходят.
– И на что они живут, если косячат? – спросила Вероника.
– Это не мои проблемы, – сказала жена губернатора. – Хочешь жить – не косячь.
Вероника задумалась о том, сколько это – пятьдесят тысяч. Наверное, это меньше, чем босоножки жены губернатора, но, возможно, больше, чем очки ее мужа.
– А странно, да, что ваша прислуга до сих пор вас всех не зарезала? – спросила Полина.
– Подожди, еще зарежут, – рассмеялась неухоженная пожилая блондинка, вполне довольная жизнью с телеведущим, про которого все знали, что он гей.
Женщины вернулись в столовую, и как раз подъехал генерал. Весь сегодняшний день он провел на перепелиной охоте, и его лицо было слегка исцарапано ежевичными плетками. Генерал добродушно швырнул на стол целую связку пепельных перепелок, нарушив Вадикину педантичную сервировку. Телеведущий бросился разглядывать перепелок и, всплескивая руками, поздравлять генерала. Вадик поспешил подать генералу водки – он знал, что тот не пьет виски и вообще не пьет ничего, кроме водки, но водку Вадик все-таки подготовил английскую.
Генерал был особенным гостем не только потому, что он был генерал, – мало ли в России генералов, – не только потому, что он давно уже думал исключительно приговорами, как режиссеры думают сценами, а операторы – кадрами, не только потому, что ходили слухи, как он в восьмидесятые, в Дрездене, в одной очень щекотливой ситуации очень правильно себя повел, но еще и потому, что именно он помог Вадику купить этот дворец, последние сорок лет числившийся на балансе одного силового ведомства, и теперь именно от него, генерала, зависело, чтобы этот дворец у Вадика не отобрали обратно.
Генерал зачерпнул своей вилкой полкреманки икры.
– А хлеба с маслом дадут? Как мы славно постреляли сегодня! Еще на ночную рыбалочку завтра на лодочке! Лодочка-то есть у тебя, боец?
– Все организуем! – подтвердил Вадик.
– Только яхты вот эти ваши не надо мне. Просто лодку организуй, катерок какой-нибудь.
– Ну какой катерок, Пал Палыч? – суетился Вадик. – У меня и нет катерка никакого.
– Ну что ж делать. Уговорил, – согласился генерал. – На яхте и удобнее. Поспать можно. Поспать, а потом барабулечка, камбалка. Да, боец? Ну что? За Россию?
Генерал поднял рюмку английской водки, оглядел стол свинцовым взглядом, чокнулся с одним Вадиком и мокро поцеловал его в щеку.
Вадик плавно повел вечер к тому, чтобы садиться за стол:
– Приветственное слово предоставляется губернатору – и, с разрешения товарища генерала, прошу всех садиться!
Губернатор, усталый молодой человек с тяжелыми, не по возрасту, мешками под глазами, взял за руку свою пухленькую жену и сказал:
– Я коротко. Поскольку я молодой губернатор или, как нас называют, губернатор-технократ, одна журналистка как-то спросила меня, какой у нас, у технократов, кипиай. Мол, раньше кипиай был, чтобы «Единая Россия» на выборах собрала не меньше семидесяти, но не больше начальника, а теперь какой? И я сказал ей: «У нас, у технократов, барышня, один кипиай – не сесть». Так выпьем же за то, чтобы никто из здесь присутствующих не сел.
Разумеется, приглашать всех садиться после этих слов было как-то неловко, и все остались стоять. Вадик волновался – лед под черной икрой начинал неопрятно таять, да и вообще черную икру неудобно есть стоя – она падает.
– Ну что, может, уже присядем? – спросил он наконец, выдержав паузу, и делано рассмеялся.
– Ты? Присядешь обязательно, – пошутил телеведущий, считавший своей обязанностью поддерживать веселое настроение генерала. Генерал расхохотался, отчего из его рта брызнул фонтанчик черной икры с пережеванным белым хлебом.
Вадик смутился, не понимая, как ему реагировать, и обернулся к жене.
– Что по этому поводу имеет сказать история средневековой Англии? – задал он первый попавшийся вопрос, который, как ему показалось, мог бы разрядить атмосферу.
Вероника непонимающе смотрела на мужа и помогать ему не собиралась.
– Понятно. История средневековой Англии по этому поводу молчит, – неловко улыбнулся Вадик.
Генерал, продолжая хохотать, потянул свою рюмку и свои мокрые губы к телеведущему.
– А вы читали последнюю книжку о войне Алой и Белой розы? – вдруг спросила Полина, обращаясь к Вадику с таким видом, как будто здесь больше не к кому было обращаться.
– Сколько раз тебя просил не говорить «последний», а говорить «крайний», – поправил ее генерал.
– Пап, а ты не боишься, что тебя в лесу клещ укусит? И кирдык, – радостно сказала Полина.
– Здесь нет плохих клещей, – добродушно ответил генерал.
– Ну да, – фыркнула Полина. – Тут все клещи с родословной и привитые.
– Кстати, о прививках, – вдруг грозно сказал генерал. – Я надеюсь, вы тут все привитые?
Ему никто не ответил – каждый ждал, что ответит кто-то другой.
– Да привитые, конечно! – соврал наконец Вадик.
– Смотри мне! – погрозил генерал сразу всем присутствующим, отправляя в рот второй бутерброд с икрой.
– Кстати, – вовремя вспомнил Вадик, – одним из ранних сторонников вакцинации был доктор Вистар, в честь которого назвали вот эту вистерию. Ее очень любит моя жена.
И Вадик показал в окно на край оплетавшей беседку вистерии, пока еще голой, уродливо крючковатой, которая в апреле должна закрыть всю беседку невиданными сиренево-голубыми букетами.
– С чего ты взял, что я ее люблю? – настороженно спросила Вероника.
– Ну разве нет? Только о ней и говоришь.
– Ну и что? Это не любовь. Это просто…
И вдруг Вероника брызнула глазами, дернулась и, пробормотав: «Извините», быстро ушла. Вадик даже побледнел, – он не ожидал, что жена доставит ему столько неловкостей за один вечер, при людях, да еще при каких. Он слегка улыбнулся и объяснил:
– Ничего страшного. Аллергия. У нее аллергия на черную икру.
Утро выдалось пресным, как Вадикина обязательная девятичасовая овсянка. Солнце бледнело над безжизненным морем; мимоза уже начала перегорать: гроздья желтых пушинок ссыхались в бурые катышки, такие же, как на Вероникиных кашемировых свитерах.
– Гуд морнинг! – объявил Вадик, заходя в ванную, где Вероника втирала в лицо сыворотку с экстрактом сапфира – «волшебный омолаживающий эликсир», как было сказано в чьей-то инстаграмной интеграции. – Что это за слезы были вчера? Опять сплин?
– Да, – тихо промямлила Вероника. – Сплин.
– Все из-за Сурена?
– Из-за кого? – Вероника испуганно отвела взгляд от зеркала.
– Сурен, водитель твой, тебя раздражает, ты говорила.
– А! Да. Водитель. Редкий идиот. Просто бесит.
И Вероника снова принялась втирать чудодейственный эликсир в носогубные складки.
– Ты сегодня сопровождаешь Полину в аэропорт. Мне нужно дискретно поговорить по дороге с Пал Палычем, – не комильфо отправлять ее одну с водителем, – сказал Вадик.
Вероника слегка кивнула.
Въезд в вип-зал был закрыт из-за недавней грозы, выведшей из себя нервную Мзымту так, что она снесла половину взлетно-посадочной полосы и парковку. Пришлось тащиться в обход, по общему тротуару.
Над раздраженной рекой сутулился новый аэропорт. Таксисты сидели на корточках у серых переносных ограждений, отделивших от них улыбчивый мир гигантских украшенных бриллиантами ролексов на рекламных щитах, официантов вип-зала в белых передничках, коктейлей апероль-шприц с апельсиновой долькой, улыбающейся из пузырчатой глубины, мраморных стен, кожаных кресел и тихих, почтительных, в черных костюмах, водителей мерседесов.
Таксисты помнили времена, когда здесь не было никаких ограждений и бомбилы подтягивались по утрам прямо к старому аэропорту, пили кофе из турки, до обеда играли в нарды, прикручивая шипящую рацию, требовавшую от них куда-то зачем-то поехать: «Гумария, второй подъезд возле гор, сколько могу повторять, кто у меня поедет?»; презрительно провожали черными взглядами Магадан и Иркутск, тащившие свои оклеенные скотчем баулы к автобусу или маршрутке, дожидались московского рейса и, нехотя дефилируя к выходу из сарая, десятилетиями служившего пунктом выдачи багажа, бросали:
– Две тысячи до «Жемчужины», дешевле только маршрутка тебя повезет.
Теперь в черных глазах таксистов отражалось сияющее стекло нового аэропорта и угадывалось осознание, что их крикливое время покосилось и скоро рухнет в забвение, как тот казавшийся вечным сарай с багажом.
Так же неловко, как сами таксисты, лишней неряшливой горсточкой у каймы сизой лужи сгрудились их окурки, словно бы не решаясь нарушить ее горделивую гладь, украшенную бензинными переливами, похожими на Полинин неоновый маникюр, заметив который, Вероника с ностальгией вспомнила расписные цветочки из своей прошлой жизни (Вадик разрешал ей носить только строгий прозрачный френч) и мысленно усмехнулась: попадись такая Полина в Вадикин золотой капкан, никогда бы ей не видать неоновых маникюров.
Вероника под руку с Полиной – одна была в сдержанных светлых туфлях Кристиан Диор, другая просто на каблуках (тоже светлых и сдержанных, но безымянных) – брезгливо обходили сизую лужу, когда Вероника услышала:
– Женщина, подожди, я тебя перенесу через нее!
Вачик поднялся с корточек и смотрел на Веронику прямо, дважды прогладив взглядом все ее тело, улыбаясь рядом здоровых зубов, в котором не хватало одного слева, но остальные удивительным образом сохранили свою вызывающую белизну.
Вероника глотнула воздух мгновенно высохшим ртом. Пресное утро вдруг обрело вкус хорошо перченного шашлыка, чей дым доносился с другой стороны улицы.
– Полина, познакомься, это Вачик, мой одноклассник, – сказала Вероника.
Полина разглядывала Вачика, как вчера она разглядывала в адлерском обезьяньем питомнике самца клыкастого гамадрила с большой красной задницей и манерой при всех душить свою самочку.
– Вы работаете таксистом? – спросила Полина, подняв брови.
– Да какая это работа! – сплюнул Вачик. – Это так, временно. Пока не раскручу одну тему.
И он облокотился на свою белоснежную дэу.
– Ты помнишь, что я за тобой в понедельник в шесть заеду? – подмигнул Вачик Веронике.
– Я-то помню, а вот ты-то помнишь? Опять на эсэмэску не ответил, – сказала Вероника.
– Ты что! Я как мог такое забыть? – и Вачик маслено заблестел черными глазами.
– Мы опаздываем, – напомнила Полина, с любопытством разглядывая уже не только Вачика, но и Веронику, которую она только что как будто увидела в первый раз.
Прощаясь, Вероника нерешительно сделала шаг навстречу Вачику, но он уже сам подхватил ее и оставил у нее на щеке влажный след совсем не приятельского поцелуя. На Веронику дохнуло его совершенно не изменившимся запахом – сигарет, одеколона, кожаной куртки, мускусного, здорового пота, вяжущего, как адлерская хурма, твердая, красная, по которой видно, что будет вязать, но не откусить все равно невозможно.
– Ты переписываешься со своим одноклассником? – насмешливо улыбаясь, спросила Полина.
– Нет, конечно, с чего ты взяла? – Вероника слегка вздрогнула.
– Ты сказала, что он на эсэмэску тебе не ответил.
– А… Да. Я с кучей своих одноклассников переписываюсь, ты разве нет?
Дорога обратно тянулась вдоль длинного одинакового жестяного забора с наклеенными на металл фотообоями, имитирующими забор настоящий, каменный. Возвращались Вероника и Вадик в одной машине.
– У тебя одноклассник таксистом работает? – вдруг спросил Вадик.
– Откуда ты знаешь? – Вероника остановила поднявшуюся первую волну испуга, вспомнив, что пока еще ни в чем не виновата и не может быть изобличена.
– Мне Полина сказала. Прелестная девушка эта Полина.
– Да, – ответила Вероника. – Прелестная.
– Так что этот одноклассник? Он тебе нравится?
– В каком смысле? – с возмущением сказала Вероника и сама заметила неестественность своего возмущения. Которую, впрочем, совершенно не заметил Вадик.
– В человеческом, в каком еще.
– Ну, он мне не не нравится. Он нормальный.
– Не хочешь Сурена на него заменить?
– Что? – Вероника поперхнулась слюной.
– Я говорю, Сурен же тебя расстраивает. Замени его на одноклассника своего. Если уж менять Сурена, все-таки лучше, чтобы не совсем с улицы человек. В нашем положении. Ты понимаешь.
Вероника отвернулась к окну, чтобы не расхохотаться.
– У Вачика, – сдавленно произнесла Вероника и удивилась, как ее взволновало впервые при муже вслух назвать это имя – то самое имя, которое уже две недели будило ее, отправляло ко сну и не отпускало ни ночью, в счастливых горячечных сновидениях, ни каждое ставшее значимым и осязаемым мгновение каждого дня.
– У Вачика, – хрипло повторила Вероника, – это временная работа. Пока не раскрутит одну тему.
Все платья на вешалках в гардеробной Вероники были разных оттенков песочного цвета. Как требовал Вадик, она надевала новое каждый день, и все вместе – и платья, и дни – сливалось в глазах Вероники в измученный караван, совершающий свой бессмысленный переход через равнодушную и неживую пустыню.
– Самый бесцветный из всех цветов. Вадика любимый, – сказала Вероника Сусанне, показывая на длинный ряд своих платьев.
Сусанна смотрела на хозяйку, стоявшую посреди гардеробной в одном белье, не скрывая удивления.
– Вы так похудели! Каждый день прямо таете. Это которая диета?
– А вот никоторая! – торжествующе объявила Вероника. – Просто сама по себе худею, и все.
Вероника хотела улыбнуться, но не стала, – на всякий случай, чтобы необязательная улыбка вдруг не спровоцировала появление морщин.
– А знаешь что? – заговорщически произнесла Вероника. – Забери эти платья. Все забери! Видеть их не могу.
– Ой, не надо, вы что! – Сусанна даже попятилась от такой неожиданной щедрости.
– Двадцать лет живем, а он не знает, что я песочное не люблю! – продолжала Вероника.
– Так у вас все песочное.
– Вот именно! – сказала Вероника и с силой дернула за штангу, на которую вплотную были навешаны платья. Дерево сухо хрустнуло и надломилось, отчего песочные шелка, сатины и шерсть вместе с гремящими вешалками рухнули на теплый плиточный пол.
На шум заглянул Вадик.
– Что у вас за катаклизм?
– Ты не можешь просто спросить: «Что у вас случилось?» – раздраженно бросила Вероника. – Зачем тебе нужно все время вот эти слова использовать?
Вадик изумленно посмотрел на Веронику. Поняв, что она действительно переборщила, Вероника взяла принятый у них с Вадиком домашний полушутливый тон.
– Просто нормально разговаривай, ара, – сказала Вероника, подражая местному акценту.
– Как тебе не идет этот южный говор, – Вадик сморщил свои короткие белесые брови. – Даже в шутку. Это же совсем не ты. Очень неорганично.
– Это я! Это и есть я! Не я – это то, что ты из меня сделал! – вдруг окончательно сорвалась Вероника.
Сусанна, увидев, что дело идет к хозяйской ссоре, которые стали частыми в последнее время, потихоньку выскользнула из комнаты.
– Я «из тебя» сделал? Я из тебя ничего не делал. А вот ДЛЯ тебя действительно сделал немало, – сказал Вадик.
– Тебе нравится мне об этом напоминать, да?
– Почему же не напомнить? Если ты начала забывать. А также хочу тебе напомнить, что сама ты не делаешь вообще ничего. И всю жизнь не делала. Конечно, если не считать твоих ботоксов и фитнесов.
– Ботоксов и фитнесов? – фыркнула Вероника. – Ботоксов и фитнесов? А эти ботоксы и фитнесы для кого? Кто не выносит вида морщин? У кого изжога от целлюлита? Мне, что ли, все это нужно? Я, может, всю жизнь ничего и не делала, но все, что я делала, я делала для тебя. А все, что делал ты, ты делал для себя. И меня ты сделал такой для себя.
– Какой интересный у нас разговор, – спокойно произнес Вадик, удивленно поднимая белесые брови и замечая ворох песочных платьев на черно-белом полу. – Неожиданно. И этот дворец я купил не тебе?
– И этот дворец ты купил не мне. Ты его купил, чтобы все видели, что он у тебя есть. Чтобы ты его всем показывал. Так же, как твой кабрик тупой. «Ни разу не надеванный!» И меня ты так же всем показываешь, точно так же! «Правда, она похожа на Мэри Поппинс»? – передразнила Вероника. – А я не похожа на Мэри Поппинс!
Вероника заметила в зеркальных дверях гардеробной свой разъяренный оскал – ее новые винировые коронки сверкали, как клыки саблезубого тигра, – и разозлилась еще больше.
– Я из-за тебя всю осень торчала у стоматологов! Потому что тебе приспичило, чтобы у меня были виниры, как у чьей-то там жены! А я не хотела эти виниры! Я не считала, что у меня что-то не так с зубами.
– Во-первых, не у чьей-то там жены, а у супруги премьер-министра, которой ты должна быть благодарна за то, что она лично рекомендовала тебя своему дантисту. Во-вторых, у всех английских аристократок что-то не так с зубами, – довольно мирно констатировал Вадик.
– Слушай, ты издеваешься? – захлебнулась Вероника. – Ты реально веришь, что я английская аристократка??? Я сочинская парикмахерша, а не английская аристократка! Была, есть и буду!
– Ты ошибаешься. Твоя аристократичность – это твоя природа. Она существует вопреки твоему происхождению, вопреки воспитанию, вопреки тебе самой. Чего стоят одни твои коленки!
– Да при чем тут коленки? Коленки – это просто кости! Или хрящи!
– Так кости или хрящи? – улыбнулся Вадик. – А что мы делаем, когда чего-то не знаем? Мы гуглим!
– Я не буду гуглить, из чего состоят коленки, – медленно и зло сказала Вероника. – И это не моя природа. Ты понятия не имеешь, какая у меня природа! Я, может быть, сама только сейчас это поняла.
– Что ты имеешь в виду? – спросил Вадик, уткнув взгляд в экран своего айфона. – О! Ты смотри! И из хрящей, и из костей! Коленки состоят!
Вот тогда Вероника и решилась.
Она обещала себе, что сделает это один раз. Один раз. И сразу улетит в Москву. Скажет Вадику, что ей надо к врачу. Что она не доделала виниры. По большому счету – как Вадику может навредить, что в ее сериале появятся несколько сладостных новых минут, ради которых можно даже пожертвовать будущим, потому что будущее без таких мгновений не стоит того, чтобы быть прожитым.
Вероника вспомнила, как Вачик поцеловал ее на парковке у аэропорта и как ее щека, с которой она не стала стирать его влажный след, долго горела под ветром с привкусом перечного шашлычного дыма, как будто ее обожгло ежевичной петлей в том лесу, где они были в свой первый раз и будут завтра в свой крайний.
Изменился ли он на ощупь? Или у него такая же гладкая, плотная кожа, спина как горячий каток, по которому так легко скользили Вероникины ногти, впиваясь во время его особенно мощных толчков, оставляя надолго багровые следы, которыми, как трофеями, хвастаются молодые и холостые мужчины и которых боятся старые и женатые.
– Ты женатый? – написала Вачику Вероника.
– Обязательно, – ответил Вачик.
– Дети?
– Сын 14 лет.
– Большой. Помнишь, как мы в 14 лет играли в раздевалке в бутылочку? – написала Вероника, замирая от собственной подзабытой свободы, от смелой раскованности, которая стала ее постоянным настроением в эти последние дни.
– Завтра опять поиграем. С тобой вдвоем, – ответил Вачик.
Да. Вероника решилась. Что будет потом – не так важно, а даже если важно, то не настолько, чтобы она была в состоянии думать об этом сейчас, когда в ее голове пульсировало негасимое пламя завтрашних поцелуев, объятий, сплетений, проникновений, конвульсий, и судорог, и иррезистибл счастья.
Потом она вернется в Москву, заставит Вадика продать этот опостылевший ей дворец и больше никогда не приедет в город, где растет вистерия – самая красивая на земле лиана, – а будет только смотреть еще много лет свой сериал в голове, к которому сегодня ночью добавится новая, лучшая, ошеломительная и крайняя серия.
– Ты – вистерия, – написала она Вачику.
– Сама ты в истерике. Т9 отключи, женщина, – ответил Вачик.
Солнце, наливаясь ярким румянцем, как готовый расплакаться новорожденный младенец, клонилось к своей серебристой люльке, выткавшейся на дальней линии волн.
Последний свет скупо сочился в окно гардеробной, как в сжатую апертуру. С восточного края в кадр попадали огрызки хостинских пятиэтажек. Это всегда раздражало Веронику, но сейчас показалось особенно оскорбительным.
Вместо старых песочных платьев на вешалках теперь пестрели новые, привезенные из ЦУМа специально для вечера встречи выпускников. Часть их лежала цветастой кучей на полу. На фоне песочных шелков, которые Сусанна все никак не осмеливалась забрать себе, эта куча смотрелась сочинской вечнозеленой клумбой посреди подмосковной апрельской травы, умерщвленной длинной зимой.
Вероника осталась довольна собой в новом красном облегающем платье Дольче Габбана, одновременно кокетливом и элегантном, абсолютно несопротивлябельном.
– А принеси шампанского! – весело скомандовала Вероника. – Давно я рюинар не пила!
Сусанна вернулась с бокалом розового шампанского. Вероника выпила с наслаждением, сразу целый бокал, и снова подошла к зеркалу, весело и придирчиво оглядывая себя.
– Мочки у меня не висят?
– Мочки? – непонимающе переспросила Сусанна.
– Мочки ушей. Ничто так не выдает возраст, как мочки ушей. Если мочки отвисли – это все, это уже конец.
Между тем закат был все неминуемее. Кофе по-восточному стыл на приглаженной вечерним светом террасе с малахитовым столиком между двух ухоженных пальм в керамических кадках. Вачика не было.
Вероника, надушенная, наряженная, в новых рубиновых серьгах с сердечками, облокачивалась на балюстраду террасы, растворяя в шампанском невидимый горизонт, как лекарство против старения, как будто его бесконечность была наивным залогом ее, Вероникиной, собственной бесконечности.
Через минуту солнце наполовину исчезнет, вспарывая багровой хордой бесшовный синий шифон, – и вот уже одна сияющая игла из дрожащих бликов подшивает лопнувшую канву, протягивает за собой синюю нить горизонта ровно в том месте, где только что утонуло багровое солнце, оставив глазам обманный чернеющий след истрепанных пялец.
Но тут утомившее Веронику молчание мироздания прервалось жизнерадостным: «Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем!» – к фонтану подъехал Вачик.
– Поехали, женщина, время нету! – крикнул Вачик, не выходя из машины.
– Поднимись! – грациозно помахала ему Вероника. – Я тебе дворец покажу. И кофе тебе сварила. По-восточному.
– Давно?
– Что давно?
– Давно сварила?
– Полчаса назад.
– Остыл уже. Холодным кофем бздыха своего угощай, – нагло рассмеялся Вачик. – И дворец твой сто раз я видел. Давай, спускайся, время нет, нам еще по дороге Майдреса захватить надо!
Галантно посадив Веронику за стол, где сидели одни женщины – их общие одноклассницы, – Вачик сразу ушел за другой столик играть с Майдресом в нарды. Так же, как Вачик, остальные мужчины опаздывали. Заходя в зал, они видели играющих и сразу присоединялись к ним, образуя вокруг стола все более увесистую груду широких спин. Девочки подошли было позвать мальчиков за общий стол, но Вачик, раскрасневшийся от азарта, не поворачиваясь, крикнул им:
– Что мы там будем делать с вами, сидеть туда-сюда?
Девочки вернулись за стол, налили сами себе водки и стали делиться новостями, случившимися в те два дня, что они не виделись. После школы из Сочи уехала одна Вероника, а остальные так и продолжали неизбежно встречаться в маленькой Хосте, и некоторые даже успели переженить друг с другом своих детей.
Сквозь оглушительный пульс собственных кровеносных сосудов, знающих, что или сегодня, или уже никогда, до Вероники доносились звуки падающих зар, бьющих камней, обрывки музыки, смех.
Наконец камни с последним грохотом шваркнулись о коробку нард, и Вачик подошел к столу с торжественным и сияющим видом, стараясь не расплескать чувство собственного достоинства, как сочинская хозяйка, несущая кофе, старается не расплескать пенку: он выиграл у Майдреса.
Вероника волновалась, что перед одноклассниками Вачик будет демонстративно ее не замечать, но он, наоборот, чтобы сесть рядом с ней, согнал со стула какого-то малозначительного одноклассника, тихо моргнув ему:
– По-братски, брат.
Вероника быстро оглядела накрытый стол. Уже принесли острый соленый лопух, зажаренных на вертеле перепелок, толму из виноградных листьев, собранных и засоленных хозяйкой кабака, которая тоже училась в Вероникиной школе.
– Ты что будешь? – тихо спросила Вероника, наслаждаясь их прилюдной интимностью.
– Я буду все! – сказал Вачик и с силой сжал под столом Вероникину коленку, другой рукой одновременно наливая ей водку.
На стул рядом с Вероникой присела одноклассница Рузанна, мама Сусанны, работавшая в Вероникином дворце кухаркой.
– Вероника-джан, я понимаю, что сейчас не время, но, когда я дома у вас, – вообще время нету. Поговорить с тобой хотела. Насчет Сурена. Говорят, ты его уволить хочешь. Я не знаю, что мы будем делать, если ты его уволишь. Трое детей у них, что мы будем делать? Я знаю, какая ты добрая, все знают, какая ты добрая.
– Сейчас и правда не время, – сказала Вероника, испугавшись, что если она отвлечется на разговор с Рузанной, то Вачик тоже на что-нибудь отвлечется.
Но тут Вачик встал и, вытерев шерстью тыльной стороны руки губы, жирные от шашлыка, протянул эту руку Веронике, вызывая ее на медленный танец.
– Человек не огурец, чтобы жопу лизнуть и сразу понять – горький он или нет, – тихо сказала Рузанна кому-то из одноклассниц.
Пела Любовь Успенская. Вачик развернул Веронику в косматых лапах и длинно, протяжно посмотрел на нее своими терпкими глазами цвета спелой лесной ежевики.
- – Почему так путаются мысли,
- Почему так часто меркнет свет.
- Я к тебе пришла из прошлой жизни,
- В этой мне с тобою жизни нет.
– пела Успенская, и Вероника, никогда раньше не обращавшая внимания на эти слова, вдруг, захлебываясь от восторга, который всегда у людей вызывают доказательства правоты мистических совпадений, поняла, что это про них, про нее и Вачика, и они танцуют сейчас именно под эти слова не просто так, а то ли благодаря, то ли вопреки какому-то плану, потому что все это точно не может быть глупой случайностью в третьесортном хостинском кабаке, пропахшем жареной барабулькой, что это она, бесшовная ткань мироздания, окутала их своим синим шифоном, обвиваясь вокруг них все плотнее, мягко, но очень настойчиво сжимая их нерешительные объятия.
Вероника жадно смотрела на Вачика, пытаясь разглядеть в его ежевичных топях, понимает ли он это, чувствует ли то же самое.
Вачик привлек ближе к себе Вероникины бедра, сжимая скользящее платье так, что Вероника кожей почувствовала напор и уверенность его шершавой руки.
- – Рыцарем без страха и упрека
- Ты, увы, не стал, любовь моя.
- Скучно мне с тобой и одиноко.
- Видно, эта дверь не для меня,
– не успокаивалась Успенская.
На этих словах у Вероники пересохло в горле, ей стало жалко себя, а еще жальче стало судьбу – за то, что она, очевидно, ослепла от старости, иначе как бы она могла приземлить Веронику в аккуратную Вадикину песочницу, одним щелбаном выбив ее из ежевичных ущелий ее бессмертия.
И вдруг Вачик тихим махровым голосом затянул:
- – А я сяду в кабриолет.
- И уеду куда-нибудь…
И в его глазах Вероника увидела, что он тоже все это понял, что он тоже знает, какой неметкой оказалась судьба, что он тоже сейчас поет эту песню про них, только про них двоих, и что все еще будет, что они молоды и сильны, и, в конце концов, еще живы, и вдвоем они могут исправить убийственный промах ослепшей старухи.
– Мне кажется или ты читаешь мои мысли? – спросила Вероника.
– Это ты читаешь мои мысли, – с искренним изумлением ответил Вачик.
– Отвези меня туда. В лес. Как тогда, – тихо сказала Вероника.
– Может, лучше в гостиницу?
– Нет. Не лучше, – многозначительно сказала Вероника.
Вачик молча смотрел на нее.
– Не помнишь, куда? – спросила Вероника. – Первый раз наш с тобой. Где площадка у водопада.
– У которого водопада, женщина? В этом городе одни сплошные водопады.
– Я сама тебя отвезу, – ласково сказала Вероника, и ей еще больше понравилось и это отчаянное приключение, и даже Вачикина такая естественная для самца забывчивость, и она сама – бесшабашная, сексуальная, юная – за рулем Вачикиной белоснежной дэу.
Уходя из ресторана, Вероника подошла к Рузанне и, наслаждаясь своим великодушием, сказала:
– Не буду я увольнять Сурена. Не переживай.
Разбуженные мимозы насморочно чихали холодными брызгами. Но Веронике, в ее открытом платье, не было холодно. Она сняла босоножки и легко босиком поднялась вдоль темнеющих папоротников по мягкому коврику проклюнувшейся черемши. А Вачик замерз. Его пальцы, холодные и дрожащие, не могли справиться с молнией платья – Вероника расстегнула ее сама и осталась стоять посреди мимоз в одном кружевном белье, радуясь своей вновь обретенной беспечности.
– Плед не взяли, – глухо сказал Вачик.
– Ничего. Мне и так хорошо. Так хорошо! – выдохнула Вероника и сама упала в Вачикины холодные руки.
Но хорошо все никак не получалось. Получалось скомканно, неуклюже, неловко и, главное, немощно.
– Помоги мне, – сказал Вачик, направляя Вероникину голову вниз, к «скипетру своей страсти», не желавшему воплощать Вероникины наваждения.











