Читать онлайн Между Амуром и Невой
- Автор: Николай Свечин
- Жанр: Исторические детективы, Полицейские детективы
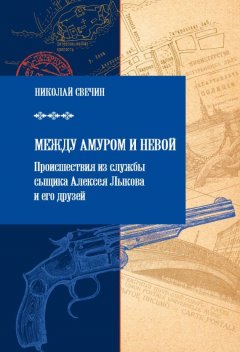
Глава 1
Три Ивана
Саженного роста негр в обтягивающем атлетическую фигуру заморском трико быстро выкинул вперёд правый кулак. Рыжий крутоплечий бородач замер на секунду, голова его дёрнулась назад, ноги подкосились. Готов…
Распластавшееся тело оттащили в сторону, негр оскалился, окинул весёлым уверенным взглядом собравшуюся толпу.
– Ну, кто ешшо? Выходи на чесной бой! Не бойсь, православные, негра до смерти не убьет, он удар чувствует, какому мужчину какой отвесить по чину. Кто тут есть смелый? Бой по правилам аглицкаго боксу, на кону пя-а-тьдесят рублев, кто чёрного победёт, тот деньги и унесёт!
Мужичонка в синем картузе ходил по кругу, образованному зрителями во дворе нового доходного дома на Ближней Рогатке и потрясал сложенным в кулаке банковским билетом, тщетно вызывая смельчаков. Разномастная, из простого люда сбитая толпа гудела, подзуживая сама себя, но в круг никто ступить не решался. Больно уж ловко чертяка-негр укладывал самых-самых силачей увесистыми кулаками. Двух уже отвели, а одного так и отнесли к дровнику. Даже Степана Вагина чёрный бес завалил, сильнейшего в Питере ломового извозчика! Кто ж теперь, после такого, решится?
Негр, разгорячённый боем, поднял руки, что-то гортанно закричал. Что – не понятно, но явно для общества явно обидное. Народ засвистал, заулюлюкал, пьяные плечистые парни крикнули из задних рядов в ответ, чем они сейчас гостя порадуют. Однако с места никто не сдвинулся. Публика, понимая, что дураки кончились и зрелища больше не будет, начала уже расползаться, весело матерясь, как вдруг из подворотни что-то колыхнулось. Уходившие уже люди толпой бежали назад. Посреди них, возвышаясь над всеми, как башня, вразвалку, неспешно шёл гигант с русой бородой, русыми волосами и сочными голубыми глазами на мужественно-красивом лице. Однако при всей такой писаной красоте улыбался он как-то нехорошо и вообще от всей его фигуры, от гордо-ленивой осанки веяло чем-то грозным и недобрым.
– Пересвет пришёл! Пересветушко сейчас этой облизьяне покажет! – кричали вокруг синюшные от водки люди, плотным кольцом вновь окружая импровизированную арену. Мужик в синем картузе нахмурился настороженно, и так же подобрался негр-боксёр, внимательно и оценивающе осматривая нового бойца. Плечи такие же, как у только что побитого Вагина и рост не выше, и так же самоуверен, но что-то в нём есть такое…
– Ну, валяй, арапская харя, кажи свой бокс.
Бойцы стали друг против друга. Негр принял стойку, подняв кулаки и выглядывая из-за них, как из укрытия; русак стоял спокойно, но смотрел зорко, готовый ко всему, как сжатая пружина. Толпа мгновенно затихла.
Негр сделал стремительный выпад, Пересвет отшатнулся назад, чёрный кулак просвистел слева направо прямо перед его носом.
– Левый свинг, не получился, – громким шёпотом прокомментировал рослый студент своему не менее рослому товарищу. – Нам в Гимнастическом обществе показывали.
Негр постоял секунду, затем мгновенно сблизился с соперником и с невероятной скоростью нанёс ему серию из четырёх ударов, причём как минимум два из них попали в цель. Русак отскочил назад, недовольно затряс головой, из рассечённой губы его хлестала кровь. Толпа неодобрительно загудела.
– Апперкот прошёл! Как же он не упал? – ахнул студент.
Негр, по-видимому, тоже этого не понял и смотрел на русака озадаченно. Зато тот сразу озверел.
– Ах, ты, сволочь! Вот ты, значит, как! Ну, держись, каторга!
Пересвет надвинулся на негра, как паровоз на кролика, хотя роста они были одинакового. Чернокожий боксёр быстро-быстро замахал руками, пытаясь остановить эту гору мускулов, но русак будто не замечал эти страшные удары. Через секунду он прорвался к противнику, дёрнулось его правое плечо, раздался шлепок удара и какой-то противный хруст. Негр упал как подкошенный, Пересвет набросился на него и стал ожесточённо, со всей силы пинать, выцеливая сапожищами голову, лицо, висок. В наступившей тишине – народ от ужаса оцепенел – слышно было лишь пыхтение русака и глухие звуки ударов. Наконец Пересвет успокоился, постоял секунду над поверженным телом, смачно плюнул, молча вырвал у мужика в картузе банковский билет и так же молча, вразвалку, удалился.
Толпа мгновенно расступилась и исчезла, будто её и не было. Посреди двора на вытоптанной траве осталось огромное чёрное распростёртое тело с залитым кровью лицом, с нелепо вывернутой рукой; только «картуз», охая, причитал над ним.
– Вань, а что это был за удар? – спросил шёпотом второй студент у первого.
– Пошли отсюда, – угрюмо ответил тот и они быстро скрылись в арке.
– Как же это, православные? – всхлипывал мужичонка, беспомощно озираясь вокруг. – Убил ведь, чёрт яманный, Абдулку! Убил, без обману… Куда ж я теперь? И в полицию не сунешься…
Вечером этого дня, осмотрев труп несчастного негра в морге Александро-Невской части, Благово сказал Лыкову:
– Видишь, Алексей? Такой вот у них Пересвет. Представляешь, каков тогда Челубей?
На следующий день, в двенадцатом часу дополудни, Лыков сидел в трактире «Три Ивана», самом зловещем и грязном из всех трактиров Лиговки. На нём был среднего качества, опрятный сюртук с георгиевской ленточкой в петлице; картуз лежал по правую руку. По-солдатски тщательно начищенные, второго срока носки, сапоги тускло блестели, ногти на руках пострижены, усы и короткая русая борода аккуратно подбриты. По виду Алексея всякий бы определил в нём вчерашнего служаку, но затруднился бы в определении статуса. На офицера не похож, для фельдфебеля чересчур молод, для унтера слишком самоуверен. Малый знает себе цену, и плечи у него ого-го, сидит кум королю, но, видать, в прогаре, раз оказался в эдаком месте…
Лыков не спеша потягивал водку (взял сразу полуштоф[1]), закусывая пирогом с визигой, и осматривался вокруг. В «Три Ивана» сыщики с давних уже пор не совались. Четыре года назад, в семьдесят девятом, здесь, прямо у стойки, зарезали двух «наружников» с Офицерской, из сыскного, а трупы подбросили на Калашниковскую набережную в пакгаузы. Облава была потом злая, но ничего не дала, а через три месяца сменился пристав и дело закрыли. Сыскари с тех пор, затаив обиду, обходили «Иванов» стороной, чем вся лиговская шпанка очень гордилась. Единственный представитель власти, рисковавший появляться здесь, был податный инспектор Сорока, хитрый хохол, пьянчуга и взяточник – лиговцы считали его своим, не опасались и не обижали.
Большое, на тридцать столов, помещение трактира было освещено довольно скупо, а клубы табачного дыма поддерживали вечные сумерки. В дальнем углу за стойкой возвышался крупный, пузатый и совершенно лысый мужик в фартуке, формальный хозяин заведения Прохор Демидыч. Он зорко оглядывал залу, одним движением бровей направляя в нужную точку или шустрого полового с грязным полотенцем на плече, или пару сурового вида вышибал. Дрались, впрочем, в «Иванах» не часто – хозяин больно строг, и при необходимости обменяться любезностями обычно выходили на улицу. Но случалось всякое… Публика, по наблюдением Алексея, была сплошь уголовная: сидели только два-три спивающихся «ханурика», простых обывателей не замечалось ни одного. Многие посетители трактира на вид были «деловые элементы», спокойные, уверенные и серьёзные; они сидели кучками и вполголоса что-то обсуждали. Даже пили они как-то солидно, почти скучно. Ещё больше было «красных», то есть воров – маровихеров, шниферов, мойщиков, глухарей[2]; эти вели себя шумно, вольготно, многие уже пьяны в угар. Их столы, обсаженные марухами, густо заставленные бутылками, занимали большую часть зала, для них играл драный, с сизым носом, румын-скрипач. За одним из угловых столов сидели два серых человека и о чём-то шептались – не иначе, как блатер-каины, скупщики краденого, тырбанили слам[3]. Прямо за спиной Лыкова два приятеля-маровихера, не видавшиеся, почитай, с самого Томска, торопливо напивались; волей-неволей Алексей слушал их разговор, непонятный обычному человеку:
– …Взял я тогда с верхового ширмана лопатошник, да бимбары ещё…
– Нешто скуржавые?
– Ха! скуржавые! Бери, товарищ, выше – рыжие!
– Эх, барно!
– Ещё бы не барно. Три собаки от съёмщика, жидомора, получил! А в лопатошнике ещё финажек на большую.
– На большую! – ахнул собеседник. – Ну, товарищ, тебе и подфартило! Ну и подфартило!
– Ты слушай, что дальше было. Отлил я, сколько положено, тырщику да и всунулся на мельницу к Тимохе Огороднику. Ну и… тово… замазался. Укутался прям в полусмерть. Споили меня у Тимохи пивом на окурках и раздели. Утром отверзел, смотрю – хрустов ни серса, как есть пустой, и даже пальтуган со двора свели!
– Да, братан, така наша жисть: был фарт, а стал локш.
– Вот-вот. Ну, пошёл я по музыке – кумпол свиндит, грабки дрожат. Отлежаться бы мне, в спокойствие войти, а я уж духовой совсем заделался. Решил сей же час гальё насунуть, штоб, значит, отбить всё взад.
– На ширмака проехаться надумал!
– Точно! Ну, и облопался, конешно. Определили меня с бутором на Литейном.
– Подлипалы али добровольцы?
– Подлипалы, из первого участка, с Гагаринской улицы.
– Знаю, знаю, там майор Степовой командирит, строгий мужчина.
– Он самый, Николай Василич, отец родной. Сразу почал гнать под меня шары – я же с бутором!
– Банки ставил?
– Не то слово! Надрал когтями на полный завтрак! Миног наелся – щёту нет. А все почему? Они мне прицеп повесить хотели, будто я избушку дяди Коли чистанул, аржаны увел. Это я то – честный маровихер! Фараонам для отчету надоть дело закрыть, а клюкаря изловить силенок не хватает; и решили на меня списать. А там срока совсем другие: не наши три с полтиной, а шесть лет за Буграми жигана водить!
– Да, ну ты влип. И как управился?
– Как-как…Я стойку держу. В индии три недели прожил, а как перевели в общую, я и смыслил лытки сделать, из хезника.
– Так ты от дяди, с цинтовки ушёл! – восхитился второй вор.
– Оттель, оттель. Теперь сижу в долушке, как был пустой, бусаю на халтон, хожу жохом, совсем ракло стал. Паша-родский обещает к Троице в свою артель впустить, а пока… угости, товарищ, тарачкой!
(Представляю читателю самому сделать вольный перевод этой абракадабры, сообщу лишь ключевые слова: верховой ширман – наружный карман; лопатошник – бумажник; бимбары – часы, скуржавые – серебряные, рыжие – золотые; барно – хорошо, здорово; съёмщик – скупщик краденого; финажки – кредитные билеты; большая – тысяча рублей; тырщик – помощник вора, толкающий и отвлекающий жертву; мельница – тайный игорный дом; замазаться – проиграть больше, чем имел; укутаться в полусмерть – проиграться полностью; хрусты – деньги, серсо – рубль, локш – неудача; идти по музыке – воровать; грабки – пальцы; духовой – отчаянный; насунуть гальё – украсть деньги; проехаться на ширмака – на авось; облопатъся – попасться; определить с бутором – взять с поличным; подлипалы – сыщики; гнать шары – готовить обвинительный материал; ставить банки – бить; надрать когтями на полный завтрак, есть миноги – быть битым плетьми; избушка дяди Коли – Никольская церковь; аржаны – серебряные оклады икон; клюкарь – вор, грабящий церкви; держать стойку – не сознаваться; индия – карцер; лытки – ноги; хезник – уборная; цинтовка – тюрьма; за бугры жигана водить – отправлять в Сибирь; долушка – тайный притон; бусать на халтон – пить и есть на чужой счёт; ходить жохом – быть в нужде; ракло – босяк; родский – старший вор; тарачка – папироса.
Читатель должен также понимать, что все диалоги уголовных должны звучать примерно так. Но, дабы не утомлять ваш слух, автор облагораживает их речь, изредка вставляя в неё лишь отдельные необходимые выражения из уголовного жаргона второй половины XIX века).
Допивая второй стаканчик, Лыков заметил, что привлёк к себе внимание одного из завсегдатаев «Трёх Иванов» – замухрышку в драной паре, по виду шпанку из тех, что в тюрьме образует свиту «делового элемента». Такой тип подпевал был Лыкову хорошо знаком – сейчас будет просить налить чарку…
И точно, драный уселся напротив, уставился на гостя наглыми и одновременно трусливыми глазами и сказал, стараясь быть покровительственным:
– Слышь, кавалер! Налей-ка за знакомство!
Лыков, глядя сквозь него, нацедил себе ещё полстакана и молча выпил.
Драный сразу окрысился.
– Ах, ты… Вавило – свиное рыло! Пришёл в чужой дом, да ещё и хозяев не уважил! Сдаётся мне, паря, что ты «двадцать шесть»[4], слухач – старатель. Чтой-то я тебя здеся раньше не видел. Знаешь, что мы тут с такими делаем?
Алексей, не обращая на крикуна никакого внимания, лениво пережёвывал визигу.
Сидящие вокруг начали на них оборачиваться, кто-то вполголоса сказал: «Тузик опять на выпивку зарабатывает, горлопан лиговский». Почувствовав поддержку, драный ещё больше обнаглел и решил уязвить незнакомца побольнее:
– Ишь, егорьевскую ленту надел, а у самого рожа, что огонь – хоть онучи суши. Поди, в трынку крест-то выиграл?[5]
Все вокруг загоготали. Тузик, довольный собою, гордо озирался, как вдруг Лыков мгновенно схватил болтуна за ухо, перетащил вокруг стола к себе и другой рукой сильно защемил ему нос. Тузик завизжал от боли, как дворняжка, оправдывая свою собачью кличку; из разорванного носа хлынула красным ручьём кровь. Брезгливо вытерев руку об поддёвку шпанки, Алексей развернул униженного врага к себе задом, не вставая, дал крепкого пинка и снова взялся за пирог. Всё это он проделал, по-прежнему не говоря ни слова.
Отлетевший к порогу Тузик поднялся с пола и, скуля и размазывая кровь по лицу, выбежал на улицу. В «Иванах» стало тихо; тот час же от стойки отделился один из вышибал, огромный детина, весь в оспинах и угрях, и направился решительными шагами к Алексею. Лыков спокойно лил водку себе в стакан, не обращая на это никакого внимания. Подойдя, верзила неожиданно схватил его двумя руками за пояс и, крякнув, легко поднял на воздух, оторвав от пола на поларшина. Придвинул к своему лицу и, густо дохнув табаком, сказал зло:
– Чего, язёвый лоб, всегдатаев обижаешь? Жили мы тута без тебя… А давно ли ты рылом хрен не пахал?
Алексей, болтаясь на весу, даже на секунду растерялся. Вышибала держал его, пятипудового, легко, словно ребёнка, а весь зал с интересом наблюдал, чем вся эта история закончится. Сам не раз проделывавший подобные номера, Лыков оказался «на воздухе» впервые, но быстро сообразил и с полузамаха обоими кулаками сильно ударил обидчика по ушам. На рябом лице детины мелькнуло удивление, он выпустил Алексея из своих ручищ, тот легко соскочил на пол и снова сел к бутылке. Вышибала, глупо выпучив глаза, постоял ещё секунды две, потом молча, медленно осел перед Лыковым на колени. Зал ещё ничего не понимал. Лыков покосился на стойку, лениво отпихнул угреватого носком сапога, и почти саженного роста детина без звука растянулся на заплёванном полу – он был без сознания.
Ближайшая к Алексею шпанка резво очистила скамьи, деловые по углам грозно нахмурились, кто-то торопливо метнулся на улицу – стать на стрёму. В тишине, мягко ступая, подошёл и сел напротив, как минуту назад Тузик, сам трактирщик Прохор Демидыч. Двинул бровью, и перед ним появилась рюмка. Лыков молча налил в неё из своей бутылки. Мужчины выпили, глядя друг на друга, затем хозяин вежливо спросил:
– Кто таков будете?
– Весь народ из одних ворот, – уклончиво ответил Алексей.
– От дяди?
– От него.
– С заячьей квартиры?[6]
– Никак нет, вчистую с биркой.[7]
Прохор Демидыч внимательно осмотрел крепко сбитую фигуру Лыкова и его явно не уголовный вид, подумал немного и спросил:
– Вы, кажись, не из этих… (кивнул за спину на притихшую публику). Брус? Четыреста восемьдесят четвёртая, глядя по характеру?[8]
– Без обдуманного намерения, в запальчивости, – пояснил Лыков. – Народ нынче хлипкий пошёл, от щелчка дохнет.
– Видим мы, какие у вас щелчки, – неодобрительно сказал трактирщик, глядя, как начавшего приходить в себя вышибалу утаскивали волоком в соседнюю комнату. – В нашем заведении, позвольте вас спросить, что делаете?
– В вашем заведении, позвольте вам сказать, человеку водки спокойно выпить не дают всякие прощелыги. Сижу спокойно, никого не трогаю, так на тебе…
– За Тузика извиняйте, мы ему опосля добавим за хамоватость. Так что делаете в нашем-то заведении?
Лыков оглянулся, трактирщик понял его, легко и быстро, как подросток, поднялся и кивнул в угол, где стойка:
– Позвольте вас угостить; вон там комнатка есть, в ней нам покойно будет.
Лыков пошёл за ним, не забыв прихватить недопитую бутылку. Двое оставшихся в строю вышибал конвоировали его, настороженно наблюдая за каждым движением. Алексей так им улыбнулся, что те отступили еще на шаг…
Хозяин заведения провёл гостя за стойку, в небольшую чистую комнату, из которой шумный зал почти не просматривался. В комнате было всего два стола, за один из них Прохор Демидыч и усадил Алексея. Усадил так, что дверь в дальнем углу оказалась у него за спиной. Лыков недовольно оглянулся на неё, посмотрел выразительно на хозяина, но тот распоряжался закусками, делая вид, что ничего не замечает.
Как по мановению волшебной палочки, на столе появились приборы польского серебра, а так же балык, солёные рыжики, холодная белуга с хреном и горячая ветчина. Вдруг Алексей почувствовал сзади опасность и резко оглянулся. Дверь за его спиной бесшумно отворилась, в комнату тихо вошли и уселись за другой стол двое мужчин. Алексей вежливо их поприветствовал («здоровы будете»), но те не удостоили его ответом. Один из них был вчерашний красавец-волгарь Пересвет, нагло-самоуверенный гигант (Лыков узнал его по портретному описанию, что изучил в полицейской картотеке), второй оказался колоритнее. На полголовы выше Лыкова, с атлетичной, стройной фигурой и повадками силача и красавца, с выразительным лицом и умным, внимательным взглядом, человек этот не потерялся бы в любой компании. Что он тут делает? Черты у него были русские, но с тонкой примесью какой-то восточной крови, и это делало лицо незнакомца ещё интереснее. Что-то значительное было, в этом человеке, что-то симпатичное, и одновременно он вызывал чувство опасности. Русский с татарскими чертами… Неужели тот самый Челубей, которого даже приблизительного портрета нет ни в одной картотеке?
С большим трудом Алексей заставил себя повернуться спиной к этим людям и сказал кабатчику с ухмылкой:
– Плохо всё-таки в вашем заведении с воспитанием. Ты им «здрасьте», а они… Ну, нальём, что ли?
Он взялся было за принесённую с собой бутылку, но Прохор Демидыч отстранил её и выставил на стол свою посуду – штоф тёмного стекла с изящным золотым ярлыком.
– Для такого гостя хорошую откроем.
Двойная померанцевая завода Штритера, отметил Лыков. Дорогая вещь, а главное, лимон любой вкус забьет. Вряд ли его хотят отравить – и опасно, и пока ещё не за что; скорее попытаются усыпить и обыскать.
– Выпейте, уважаемый, этого, в знак, так сказать, извинения, а я уж вашу допью, чтоб добру не пропадать.
И трактирщик быстро и ловко налил две рюмки: Алексею – померанцевой, а себе из его бутылки, и получилось у него это так естественно, что и нечего возразить.
– Позвольте представиться: Чулошников Прохор Демидович, здешний хозяин.
– Лыков Алексей Николаевич.
Мужчины встали, пожали друг другу руки, затем сели, выпили и принялись закусывать. Несмотря на лимонную горечь, Лыков сразу различил в водке приторный вкус веротрина[9]. Не пожалели добра, сволочи! Больше двух рюмок пить нельзя, опасно; падать надо уже после следующей…
Словно прочитав мысли сыщика, трактирщик сразу же налил ещё по рюмке, спросил, чавкая ветчиной:
– А что пытаете в наших краях, Алексей Николаевич?
– Да вот службу ищу, Прохор Демидович. Человек я серьёзный, с образованием, не в белые же дворники мне идти.[10]
– Вестимо дело. А по какой части ищите? Да вы пейте, пейте!
Выпили по второй, в затылке у Лыкова заломило.
– Странная у вас какая померанцевая, аж с ног валит… А позвал меня в ваше заведение барон Флагге, который Тимофей Шелашов, телохранителем своим предлагает стать, – сказал, понижая голос и оборачиваясь, Алексей. – У меня, вы видели, с силой-то всё в порядке. А чего они там сидят за моей спиной? Не люблю я этого.
– Ничего, они нам не помешают, люди тихие, – успокоил трактирщик начавшего уже заговариваться Лыкова. Голос его доносился до Алексея откуда-то издали, глухо, словно из погреба. Сыщик потряс головой, и в ней ненадолго вновь прояснилось. – Трудно проверить ваши слова, Алексей Николаевич. Замели вчера Тимоху, барона-то нашего, и остались вы, значит, без службы.
Это была легенда, удачно придуманная Благово. Известный петербургский карточный шулер Шелашов, вхожий в полусвет и выдававший там себя за остзейского барона Флагге, всегда ходил с телохранителем. Занятие у него было опасное, без этого нельзя… Четыре дня назад сыскные взяли на облаве Федьку Зобикова по кличке Зоб, охранника «барона», и тот принялся искать ему замену. А вчера под вечер взяли и Шелашова, за нарушение правил прописки и присвоение чужого звания (высылка на полтора года из столиц).
– Без службы… – вяло повторил вслед за трактирщиком Алексей, протянул было руку за третьей рюмкой, упрямо зажал её в кулаке и так, вместе с ней, повалился на пол.
Он ещё чувствовал, как два силача легко подняли его, унесли во внутренние комнаты, уложили на диван и стали обыскивать. Вынули из внутреннего кармана завёрнутые в чистую тряпицу паспорт, Георгиевский крест с двумя медалями, и приговоры: Думы знака отличия Военного ордена 161-го Александропольского полка и Думы знака отличия Св. Анны Кавказского отдельного корпуса.
– Гляди-кось, «вечность»[11]! – удивлённо сказал Пересвет. – Так они у нас из благородных…
– Знаем мы эти «вечности», – недоверчиво пробурчал трактирщик. – Гусляки тебе за червонец такую малашку сделают, не то, что в дворяне, в архиереи запишут.[12]
– Нет, паспорт, похоже, настоящий, – прервал его Челубей. – А уж приговоры обеих Дум точно подлинные. Господин Лыков у нас потомственный дворянин из города Петрокова, крест получил за войну с турками на Кавказе. Как же он дворянином-то остался, после арестанских рот? Там же, помнится, «лишение всех особенных, лично и по состоянию присвоенных, прав и преимуществ» следует. Или он не сидел?
– Разберёмся, – коротко, но с угрозой в голосе сказал Пересвет, и на этом Лыков ухнул в глубокую, чёрную яму беспамятства.
Глава 2
Нижегородцы в Петербурге
Начальник Нижегородской сыскной полиции статский советник Павел Афанасьевич Благово и его помощник титулярный советник Алексей Лыков оставили свои должности в августе 1881 года. За полтора месяца до этого, 20 июня, молодой император посетил Нижний, чтобы участвовать в освящении собора Александра Невского, небесного покровителя и его самого, и убитого бомбистами отца. В феврале этого страшного, омрачившего всю страну года в ледяных подвалах собора разыгралась кровавая драма. На Александра Второго готовилось очередное покушение, причем в этом случае – эпизод, доселе неслыханный – «Народная Воля» призвала на помощь уголовных. Узнав, что нападение состоится во время приемки императором иконостасов храма, Благово попытался спасти своего монарха.
В тот раз государя удалось уберечь, но дорогой ценой. Какая-то невидимая, но мощная сила расчищала убийцам путь в подвалы собора, чтобы произвести оттуда покушение. Погибали при загадочных обстоятельствах сыщики и их осведомители, был изгнан из охраны императора лучший офицер военной разведки ротмистр Таубе. Затем проломили голову самому Благово, и предотвращение покушения легло на плечи двадцатичетырехлетнего Алексея Лыкова. Кульминацией стала бойня под собором, в ходе которой злоумышленники были перебиты, убежал только знаменитый Фроленко, сидящий ныне в Петропавловской крепости. Все трое защитников государя, спустившиеся тогда в черноту подвала, пролили свою кровь. Легче всех отделался Лыков: броневой панцирь под шинелью спас его от смерти, контузия в голову и простреленная ключица не в счет. Ротмистр Таубе получил два ранения, каждое из которых доктора назвали смертельными, но каким-то чудом барон выжил и даже не стал инвалидом. Старый же друг Алексея Федор Ратманов по кличке Буффало, отошедший от прежних опасных своих занятий, женившийся и начавший наконец мирную торговую жизнь, был убит наповал.
Когда вечером 1 марта, сидя дома с плохо заживающей рукой, Лыков узнал от прибежавшего курьера об убийстве в столице императора, он впервые в жизни заплакал. Получалось, что он втянул в свое полицейское дело, за которое ему платили жалование, мирного статского человека, погубил его этим, и все зазря…
Россия оцепенела от ужаса, и даже известный своим твердым характером молодой император предпринял беспрецедентный шаг. Пока озверевшие полицейские выкуривали уцелевших террористов из их явочных квартир, Александр Третий вступил в заочные переговоры с зарубежными руководителями бомбистов. По поручению графа Воронцова-Дашкова, личного друга императора и начальника его охраны, в Женеву приехал некий доктор Нивинский. Он встречался с самим Лавровым и привез в Питер написанный им манифест «Народной Воли» с пунктами, на которых возможно перемирие с властью. Следом за ним в Париже появился Николай Николадзе, грузинский публицист и общественный деятель, либерал, умный и по-кавказски эмоциональный человек. Он пообщался со Львом Тихомировым, самым крупным народовольцем из тех, кто к тому времени еще не попал в крепость или на эшафот.
Николадзе приехал в Женеву, чтобы предложить страшному всесильному Исполнительному Комитету выдвинуть условия, на которых тот хотя бы временно, до коронации, согласен прекратить террор. Тихомиров сразу понял, какая удача пришла ему в руки. Правительство, пораженное цареубийством, не успело ещё понять, что силы партии надорваны и её остается только добить. После длительных переговоров было решено, что власть объявляет общую политическую амнистию, свободу печати, социалистической пропаганды, свободу обществ, и освобождает немедленно одного важного политического преступника в доказательство искренности своих намерений. Кого именно освободить, Лев Александрович придумать не смог, отдал это на откуп Николадзе, и тот сам решил, что лучше всего Чернышевского… Не забыли и о злате-серебре. «Какое-нибудь благонадежное третье лицо в Париже» должно было задепонировать у себя на счете миллион рублей залога и возвращать их частями в Россию в случае выполнения правительством своих обязательств, а при невыполнении передать Исполнительному Комитету. Так бы эта торговля на крови и состоялась, но в это время гениальный сыщик Судейкин арестовал в Одессе отставного штабс-капитана Сергея Дегаева, который и сообщил властям об истинном, жалком положении якобы всесильной партии. Николадзе немедленно был отозван в Россию…
К этому времени в воцарившемся хаосе начали закладываться первые камни будущего порядка. 15 апреля директором Департамента государственной полиции вместо бестолкового барона Велио (перелицованного в полицейские из главных почтмейстеров) был назначен Вячеслав Константинович фон Плеве. Это стало первым назначением молодого монарха, и оно оказалось на редкость удачным. Всего лишь тридцатипятилетний бывший прокурор Петербургской судебной палаты, три дня как получивший первый «генеральский» чин действительного статского советника, Плеве железной рукой быстро и эффективно начал наводить в империи порядок.
29 апреля подал в отставку любимец покойного государя, покоритель неприступного Карса, генерал от кавалерии, украшенный Георгием 2-й степени и Владимиром 1-й степени с мечами, Михаил Тариелович Лорис-Меликов. Хитрый, умный, храбрый и энергичный армянин даже после цареубийства не отказался от идей введения в России народного всесословного представительства. А ведь именно он по должности министра внутренних дел нес главную ответственность за гибель венценосца, он должен был выжигать крамолу, а не либеральничать перед окровавленным троном…
Трудно понять, почему Александр Третий назначил на освободившийся пост руководителя важнейшего (особенно в эпоху смут) ведомства графа Николая Павловича Игнатьева. Никогда не бывавший в бою полный генерал неожиданно для всех сделался министром внутренних дел огромной взбаламученной страны. Не имея навыков государственной работы такого масштаба, не знающий тайных технологий управления петербургского чиновничества, граф, вместо того, чтобы заняться полицейской прозой, ударился в прожектерство. Весь год, что он был министром, Игнатьев в окружении вызванной им из Москвы кучки бородатых людей в неопрятных пиджаках сочинял проект созыва Земского собора. Из всего состава МВД делом занимались только Плеве со своими людьми. Вот на подмогу этому человеку, и без того умному и даровитому, Игнатьев и вызвал из Нижнего Новгорода Благово с Лыковым, обещая им свое покровительство.
Служба на ярмарке под руководством графа нравилась сыщикам, и предложение его в качестве министра показалось им соблазнительным. Кто ж тогда знал, что это лишь на год… Нижегородцы переехали в столицу. Благово стал одним из двух вице-директоров департамента и в этом качестве курировал все общеполицейские дела за минусом политических преступлений. Лыкову был предложен пост помощника начальника второго делопроизводства, занимающегося в том числе и сыском. Однако бюрократ из Алексея получился плохой: он постоянно путал предикты[13] в официальной переписке, да и заниматься «рабочим вопросом» или наблюдением за питейными заведениями (что тоже входило в обязанности делопроизводства) ему было скучно. В итоге в декабре 1881 года Лыков оказался в Женеве в качестве наружника зарубежной агентуры Департамента. Он следил за Плехановым и Лавровым, и снова без особых успехов – мешало плохое знание языков. Через три месяца Алексей вернулся в Россию с ощущением своей ненужности в МВД. По счастью, Благово сумел включить его в состав Летучего отряда, который помогал полициям обеих столиц и крупных городов в розыске и поимке наиболее опасных преступников. Чины отряда выезжали в Варшаву, Одессу, Пятигорск, на Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки, «чистили» Москву к коронации. Задержания производили обязательно в масках или в гриме. Служба была лихая и опасная – из двадцати человек кадра за год погибли двое. Здесь Лыков оказался в своей стихии и был на хорошем счету у Плеве. Как чиновник особых поручений IХ класса при Департаменте полиции, он стал далек от чернильных дел, а выполнять «особые поручения», зачастую очень рискованные – вот это было по нему…
В мае 1882 года Игнатьева отставили от министерства. Государь, решивший навести в стране порядок, не собирался играться с Земскими соборами и прочими конституционными реформами. Граф же так увлекся поиском популярности у говорунов-либералов, что не смог понять очевидного. Победоносцев собрал совещание, на котором Николай Павлович выглядел очень жалко, пытаясь доказать, что задуманный им созыв всесословных представителей – лишь красивый кордебалет к коронации в духе царя Алексея Михайловича. Когда император заставил его прочитать вслух проект указа, написанный его собственной рукой, ложь Игнатьева стала очевидной. В последний день мая новым шефом МВД стал граф Дмитрий Андреевич Толстой. Старик и не мечтал уже о возвращении во власть после увольнения его прежним государем из министров народного просвещения. Тогда, при моде на все либеральное, имя Толстого было символом реакции; теперь оно означало твердость характера и жесткость решений. Все разговоры про Земское собрание в России сразу прекратились.
Благово с Лыковым закручинились. Репутация любимчиков их опального покровителя теперь больно била по ним. Недоброжелатели, до сей поры не смевшие нападать на нижегородцев, тут же подняли головы. У Павла Афанасьевича произошла резкая стычка с управляющим судебным отделом Петром Дурново, самым влиятельным после Плеве человеком в полицейском ведомстве. Лыкова попытались отчислить из экстерната Петербургского университета, куда его успел всунуть Игнатьев, и обошли чином. Тогда неудачливые столичные чиновники написали бывшему начальнику генералу Каргеру, продолжавшему служить в Нижнем Новгороде полицмейстером – нельзя ли блудным сыновьям вернуться назад? Каргер быстро переговорил с губернатором Безаком и отбил телеграмму: «ВСЕ ПОРЯДКЕ ЖДЕМ РАДЫ». И тут, как снег на голову – смена Безака генералом Барановым!
Николай Михайлович Баранов прославился в 1877 году. Тогда маленький торговый пароход «Веста», переоборудованный под сторожевой корабль, под его командованием вступил в бой в районе Констанцы с сильным турецким броненосцем «Фетхи-Буленд». Турки превосходили его огневой мощью в несколько раз; исход схватки стального крейсера с деревянным судном, имеющим скорость 10 узлов, был очевиден. Тем не менее, в ходе пятичасового боя «Веста» победила. Удачным выстрелом из кормового орудия лейтенант Рождественский повредил машину броненосца и тот ретировался. Россия ахнула в восхищении, Баранов получил сразу Георгия, Железный крест и Почетный легион.
Бывший морской офицер, Благово усомнился в достоверности этой истории. Понятно, что во время войны нужны герои; понятно, что, когда их нет, героев приходится выдумывать. Но общаться с такими газетными орлами Павел Афанасьевич не любил. После окончания войны начались суды. Автор «меткого выстрела» лейтенант Рождественский обвинил Баранова в авантюризме и раздувании своих заслуг. Участники знаменитого боя рассказывали в узком кругу, что и боя-то никакого не было – так, удирали, удирали, да и удачно-таки смылись… Затем военно-морской суд приговорил Баранова к исключению со службы за оскорбление начальства и нарушение дисциплины. Цесаревич Александр спас склочного моряка от позора, переведя его в генерал-майоры артиллерии и затем в ковенские губернаторы. После 1-го марта новый император, с симпатией относившийся к Николаю Михайловичу, неожиданно для всех назначил его петербургским градоначальником. Здесь энергичный, честолюбивый и склонный к очковтирательству Баранов затеял, вместо ловли жуликов, странные игры в либеральные реформы на полицейской ниве. Пришлось переводить его аж в Архангельск, но за несколько месяцев своей буффонадной столичной службы герой «Весты» успел поссориться с обоими нижегородцами.
Благово навлек на себя его неприязнь тем, что однажды в Яхт-клубе провел саркастический, но блестящий анализ славного боя под Констанцей, неопровержимо доказав лживость всей этой раздутой газетчиками истории. Баранов, как оказалось, сидел в это время в соседней комнате и все слышал; только внезапный вызов его на пожар пресек уже начавшуюся ссору.
С Лыковым получилось еще смешнее. По вторникам он занимался атлетизмом в Полицейском гимнастическом обществе, в третьем этаже съезжего дома Коломенской части. Слава о молодом титулярном советнике, отжимающем лёжа с груди двадцать пять пудов, дошла до градоначальника и уязвила его. Баранов обладал огромной физической силой и склонен был считать себя непобедимым и самым лучшим. Однаждь вечером он ввалился в съезжий дом во время упражнений и потребовал от Алексея схватиться с ним на поясах.
Лыкову в тот вторник менее всего хотелось бороться. За день до этого, в Новой Деревне он участвовал в задержании банды дезертиров из второй гвардейской стрелковой дивизии, убивших мирового судью. Два огромных парня, убегая, наткнулись на Алексея и успели порядком намять ему бока, прежде чем он их угомонил. Каждый двенадцати вершков росту[14], раскормленные на гвардейских харчах, убийцы очень не хотели на каторгу и сопротивлялись с невиданной яростью. У Лыкова было выбито правое плечо, гематомы на груди и боку, рассечена бровь, разбиты костяшки пальцев… Натертый оподельдоком[15], он стоял себе тихо в углу и осторожно работал с малым весом, пытаясь восстановить плечо. Ссориться с градоначальником он вовсе он хотел и пытался свести все к шутке, потом показал свои разбитые пальцы, предлагал перенести борьбу на недельку. Баранов был настойчив до наглости. Его бесцеремонность разозлила-таки Лыкова, и схватка состоялась. Подняв героя «Весты» левой рукой (правая сильно болела), Алексей развернул его в воздухе вниз головой и сильно припечатал об тюфяк… Больше им встречаться не приходилось. Офицеры столичной полиции месяц жали Лыкову руку, благодарили на ухо за урок их шефу и втихомолку смеялись.
Злопамятный Баранов написал тенденциозное отношение к Плеве, в котором обвинял Благово в оказании помех градоначальнику при исправлении им своей ответственной должности. Владимир Константинович показал письмо своему вице-директору и затем молча выбросил его в корзину, не тратя времени на объяснения. И вот теперь Баранов – нижегородский губернатор!
Неопределенность положения сыщиков прошла очень быстро благодаря другому Дурново – Ивану Николаевичу. Приглашенный в товарищи министра из екатеринославских губернаторов графом Игнатьевым и сам уже подумывающий об отставке при новом министре, он неожиданно ловко смог сдружиться с Толстым. Войдя к нему в полное доверие, Дурново вскоре фактически стал управлять министерством, оставляя своему начальнику лишь самые важные либо ритуальные функции. Иван Николаевич, известный отзывчивым характером и доброй душой, симпатизировал Благово, да и умному Плеве требовались сильные работники. Нижегородцы остались в столице.
Павел Афанасьевич поселился в хорошей квартире в доме МВД на Театральной улице, с ватер-клозетом, казенными дровами и свечами. Он нанял кухарку и зажил так же по-холостяцки, как и в Нижнем. Завел еще рыжего кота, и назвал его попервоначалу Васькой. Но очень быстро кот отьелся, достиг пудового веса, сделался огромным, ленивым и солидным, как кондуктор сверхсрочной службы[16], и его стали уважительно звать Василием Котофеевичем Кусако-Царапкиным. По вечерам рыжий любил сидеть у хозяина на коленях и урчать, как машина броненосца…
По происхождению своему статский советник был вхож в высший свет, воспитания отменного, должность занимал неплохую, поэтому в знакомствах недостатка не испытывал. Благово ведут свой род от князей Смоленских и Заболоцких. Афанасий Иванович Благой был воеводой в Березове в 1594 году при Федоре Иоанновиче, Борис Петрович – послом в Царьграде в 1584, Афанасий Федорович Благово – стольником самого патриарха Филарета, отца первого Романова. По свойству Благово не чужие Волконским, Новосильцевым, Баташевым и Арбеньевым. Как человек очень умный, Павел Афанасьевич сразу же вошел в Яхт-клубе в «кружок политиков», к мнению которого сильно прислушивались в Министерстве иностранных дел. Однако ни с кем особенно Благово не сближался, больше всего любил проводить время в общении с Лыковым, по воскресеньям читал «Отче наш», «Верую», «Достойно» и «Аминь»[17]. Каждые полтора месяца ездил на два дня во Владимир, где вел курс в недавно созданной школе сыскных агентов. Да еще ловил рыбу летом в гатчинских прудах, возле самой царской резиденции, усиленно охраняющейся после известных событий. Туда скромного статского советника впускали по распоряжению генерала Черевина, нынешнего начальника личной охраны государя. Никто кроме них двоих не знал, что в 1875 году Черевин чуть не погиб на Нижегородской ярмарке, неосторожно отведав «малинки» в уголовном трактире Зотыкевича. Бесчувственного гостя положили в погребе на ледник, чтобы утопить, когда стемнеет. По счастью для него, вечером Благово ворвался в трактир с очередной облавой и спас незадачливого выпивоху, сделавшегося теперь близким другом государя.
Лыков, не имея в роду стольников и воевод, долго маялся в столице, привыкая к новой жизни. Все его раздражало: толкотня, бешеные цены, натянутые чиновные нравы. По ночам Алексею часто снились его конные прогулки за Казанской заставой, шлемовидные главки Благовещенского собора, милые рожи гордеевских головорезов. В холодной чопорной столице, где положение человека определяется либо капиталом, либо расположением министра, Лыкову было тошно. Только оказавшись в кадре Летучего отряда и занявшись знакомым делом, Алексей успокоился. Внутри отряда у него была специализация – убийства и вооруженные грабежи. Туда, где пахло жареным, Плеве высылал свою «особую артель», коей Алексей был важным и серьезным членом, и все обычно кончалось задержанием.
В конце 1882 года Алексей, забыв на время свою нижегородскую привязанность – Вареньку Нефедьеву, влюбился в Машеньку Коковцову. Она происходила из хорошей петербургской чиновной семьи среднего достатка. Отец девушки, военный инженер, умер десять лет назад; брат Владимир делал успешную карьеру в Главном тюремном управлении МВД. Когда Лыков в первый раз внедрялся в уголовный мир, именно Коковцов подобрал ему легенду; он же неосторожно и познакомил молодого отчаянного оперативника с сестрой. Машеньке еще не встречались такие ничего не боящиеся люди. Случилось то, что и должно было случиться, и на что карьерный бюрократ вовсе не рассчитывал. Титулярный советник, дворянин во втором колене, без капитала и протекции – такого зятя господин Коковцов себе не предполагал.
Роман завершился сам собой, вследствие длительной служебной командировки Лыкова. Тогда в Петербургской и Сувалкской губерниях появились поддельные металлические четырехпроцентные билеты Государственного банка, всего на сумму почти в миллион рублей. Затем в Сухумском отделе обнаружились отлично сделанные «лексеи»[18] – кредитки двадцатирублевого достоинства. Арестованный с такой кредиткой армавирский купец Лотерейчик показал в сыскной полиции, что и «лексеи», и металлические билеты сделаны в одном месте. А именно в Псковской тюрьме!
Чтобы изобличить мошенников, орудующих даже за тюремными стенами, Плеве задумал внедрить туда своего агента. Выбор пал на Лыкова. Несмотря на риск быть узнанным кем-нибудь из своих уголовных знакомцев, Алексей согласился. Он относился к тем людям, внешность которых разительно меняет борода. Отрастив недлинную, русую с проседью бороду, Лыков стал совершенно неузнаваем. Помог – воистину нет худа без добра – и шрам на левой щеке, полученный при задержании тифлисского налетчика Лежава (за этот шрам и полюбила титулярного советника красавица Машенька Коковцова). Кроме того, лично допрашивать всякую нечисть Лыкову приходилось лишь в течении полутора лет, в провинции, в далеком Нижнем Новгороде; за минувшее с той поры время слава его в уголовном мире забылась. Да и то сказать – не больно слава эта была и велика, хотя ликвидация при задержаниях Осипа Лякина или печально знаменитого Тунгуса сделали на короткое время волжского геркулеса знаменитым. В кадре же Летучего отряда Лыков действовал только в гриме, допросов сам не проводил и вел жизнь засекреченную. Поэтому Плеве и Благово решили рискнуть.
Учитывая отсутствие у Алексея актерских талантов, личность ему придумали максимально похожую на него самого. Решили не менять даже имя с фамилией, чтоб не выдал себя чем; определили только другую родину – Привисленского края губернский город Петроков. Польшу втравили не случайно: дворян там больше, чем крестьян (легче затеряться), а застарелая вражда русских и польских уголовных затруднит, в случае чего, наведение справок.
Так год назад объявился в Псковской тюрьме новый арестант из благородных. Пришел он как подследственный за неумышленное, в запальчивости, убийство. Свежака, да еще из дворян, решили сразу же «положить под нару». Три глота из отчаянных держали в страхе всю тюрьму и не сумели вовремя понять, с кем связались. В результате двое надолго оказались в лазарете, третий добровольно попросился в карцер… Мелкая шпанка и брусы ликовали, Лыков на волне популярности был единогласно выбран в майданщики. Месяц он царствовал, торговал водкой и табаком, причем последнее у коллег-сидельцев не отымал. Тюрьма его уважала. Алексей сошелся с аристократами цинтовки – «дергачами» и «шниферами», а более всего сдружился со «счастливцем» Потапом Бреховым из Гуслиц, вокруг которого терлись два одесских еврея-гравера.[19]
Через месяц в Псковскую тюрьму пришло определение от окружного прокурора. Знаменитый адвокат Марголин доказал до суда инобытие[20] подследственного Лыкова, и того следовало из-под стражи освободить. Вся цинтовка знала, что инобытие липовое, что Лыков действительно убил в драке человека, но ловкий уход от наказания вызывает только восхищение уголовных. Алексей вышел на свободу с репутацией тертого парня, который и в лоб дать может, и водкой торгануть, и от наказания отмажется. А еще через месяц Брехова с граверами перевели в Новозыбковский централ, и фальшивые ассигнации на этом закончились. Никто не связал случившееся с краткосрочным пребыванием в Псковской тюрьме широкоплечего молодца из дворян, гордо носящего георгиевскую ленточку в петлице сюртука. Департамент же получил еще одного законспирированного агента с доказательной легендой, которого можно было использовать при необходимости. И полицейские, и уголовные называли таких людей «демонами», газетчики и преступный эпос складывали легенды об их необычных трудах. И вот новый для Алексея случай наступил…
Глава 3
Высочайшее поручение
Вся изложенная далее история началась 7 мая 1883 года в «дипломатической» гостиной Яхт-клуба. Благово, постоянный и заметный член этого самого аристократического заведения столицы, пользовался особым уважением именно в ведомстве у Певческого моста[21]. Его обитатели постоянно изводили вице-директора своими вопросами на темы международных коллизий, требовали прогнозы, опробовали на нем свои меморандумы, ноты и демарши. Известный в узких кругах своим парадоксальным умом, часто выводящим его из запутанной ситуации к верному решению, Павел Афанасьевич и сам любил иной раз потренировать логику на каком-нибудь балканском вопросе. Министр Гирс сказал ему как-то: «Вам надо дать белые пуговицы» (то есть, сделать чиновником ведомства иностранных дел). Вот и сейчас он раскуривал старинную трубку потемкинских времен в окружении двух дипломатов, и недовольно брюзжал. Слева от него, молча и внимательно слушая, примостился титулярный советник Сережа Сазонов, всего две недели, как определенный на службу в МИД по окончании Александровского лицея. Ввиду своей молодости и неопытности он внимал Благово раскрыв рот, не смея даже и подумать вставить хоть слово. Вторым собеседником был действительный статский советник и камергер граф Ламздорф, директор канцелярии МИДа и правая рука самого Гирса. Всем в Петербурге было известно, что Ламздорфа уважал лично император; двор пророчил ему со временем министерский пост. Сообразно своего высокого статуса, камергер смело оппонировал полицейскому чиновнику, но аргументы его слушал с уважением.
Речь на этот раз шла о политике внутренней. Благово был желчен и раздражен; у него снова болели почки и утром он встал с отёком ног. Смена волжской воды на невскую обострила брайтову болезнь[22], во время приступов которой вице-директор становился брюзгой и любил предсказывать всякие ужасы.
– …Как хотите, господа, но весь этот век наши монархи все более необдуманно раскачивают маятник. Амплитуда его колебаний делается все круче – далеко ли до катастрофы?
– Опять вы с вашими метафорами, Павел Афанасьевич! Что это у вас теперь за маятник такой?
– Представьте себе, Владимир Николаевич, общий тон нашей внутренней политики в виде огромного маятника, который мечется справа – от абсолютной и реакционной монархии – налево, к либеральным веяниям. Теперь начнем по хронологии с Павла Петровича. Своими сумасбродными идеями он так запугал Россию, что, защищаясь от нарастающего напряжения, общество вынуждено было убить собственного государя. Он перегнул палку, слишком вправо затолкав маятник. И, по логике событий, выпущенный из рук, тот полетел на другой фланг. Помните, Сережа, чем это кончилось?
Сазонов порозовел и быстро взглянул на свое высокое начальство:
– Восстанием… то есть, бунтом на Сенатской площади.
– Вот-вот! Александр Павлович переборщил в другой крайности, и пришлось применить картечь. Дальше все продолжалось в той же последовательности. Его августейший брат повесил пять человек, услал в ссылку Салтыкова и Герцена, заковал в кандалы Достоевского, приструнил всю Европу. И так надоел этой самой Европе, что получил крымскую катастрофу. Спохватившись, Александр Николаевич ухватился за маятник и стал, пыхтя от натуги (прости, Господи), перетаскивать его справа налево. Появились освобождение крестьян, судебная и военная реформы, земство – а также развязность газет, железнодорожные аферы, стриженые девки с револьверами и лохматые бомбисты. Амплитуда вновь не была рассчитана, и… великому реформатору оторвало ноги на набережной Екатерининского канала. Что же будет сейчас, по вашему мнению?
– Сейчас будет наведение порядка, – авторитетно пояснил Ламздорф.
– Хочется верить, что на этот раз Александр Александрович не затолкает своими могучими руками наш маятник чересчур вправо. Потому что, как показывает русская история, после «чересчур вправо» неизбежно возникает «чересчур влево». И после очередного такого заноса Россия может не уберечься. Лично у меня очень нехорошие предчувствия. Пока все неплохо: террористы сидят по тюрьмам или прозябают в эмиграции, международный престиж империи высок, как никогда, армия укрепляется, в обществе наблюдается что-то, похожее издали на стабильность. У нас давно не было такого приличного императора. Я вообще скептик и пессимист, но сейчас наконец-то не стыдно быть русским. Главное, чтобы он вовремя остановился, чтобы не во всем слушался Победоносцева… И не дай нам Бог, чтобы с ним что-нибудь случилось!
Ламздорф, хорошо изучивший государя, молча склонил голову в знак согласия. На минуту все замолчали, но тут Сазонов осторожно тронул Благово за рукав:
– Павел Афанасьевич, верно, это вас ищут.
Благово обернулся и увидел высокого, седого и осанистого генерала, беспокойно озирающегося вокруг. Это был новый петербургский градоначальник Грессер, всего три недели, как назначенный на эту должность из харьковских губернаторов. Вице-директор быстро поднялся.
– Неужели опять, Петр Аполлонович?
– Увы, Павел Афанасьевич. Уже пятая. Придется просить вас вставить в «Свод сведений».[23]
– А плод?
– На этот раз найден. Снова без сердца…
Генерал и статский советник устремились к выходу. Воскресенье для них кончилось.
Через полчаса на Гороховой в управлении петербургского градоначальника собрались Плеве, Благово, Грессер, а также товарищ министра внутренних дел, заведующий полицией и одновременно командир Корпуса жандармов, генерал-лейтенант Оржевский. Известный в столице острослов, Оржевский на этот раз был мрачен. Как старший по должности, он открыл совещание и предложил Грессеру доложить ситуацию «с первого кадавра».
– Сегодя в шесть часов дополудни, – начал градоначальник, – городовым № 63 первого участка Выборгской части в подворотне у выгребной ямы дома Янкеля по Ломанову переулку был обнаружен труп молодой женщины с разрезанными внутренностями. Личность жертвы установлена: это солдатка Федосья Гардина, проживавшая неподалеку в собственном доме по Старомуринской дороге. Убитая была на седьмом месяце беременности. Плод отыскан через два часа на Малой Охте, неродившийся младенец мужеского полу, сердце вырезано и исчезло. Как и в прошлый раз…
– Как и в прошлые разы, – дополнил Благово.
– Мы этого достоверно не знаем, Павел Афанасьевич, – возразил Оржевский. – Известно лишь, что это уже пятая жертва за последний год, все они беременные женщины и всем им взрезали живот и вынули и унесли плод. Второй раз, как найден унесенный младенец, и второй раз с вырезанным сердцем. Сволочь!!
Генерал скрипнул зубами, секунду все помолчали, затем Благово, как ни в чем ни бывало, продолжил:
– Это так, Петр Васильевич, но я убежден, что со всеми младенцами поступили одинаково, включая сюда и тех, кого мы не нашли. Всего убийств должно быть девять; значит, осталось еще четыре.
У собеседников Благово вытянулись лица.
– Но почему девять? – словно сговорившись, хором спросили генералы.
– Вы все относительно недавно занялись полицейским делом, господа, хотя у некоторых из вас оно в крови[24], – несколько менторским тоном пояснил Благово. – Потому вы и не знаете это старое уголовное суеверие. Преступники убеждены, что если съесть сердца девяти неродившихся младенцев, то можно совершить любое преступление совершенно безнаказанно. Любое!
– Но, может быть, это простое совпадение? – спросил молчавший до сих пор Плеве. – Какой-то психопат, сумасшедший, режет беременных женщин просто из безумия…
– Сердца. Почему у младенцев забирают сердца? Нет, здесь не психопат. Здесь идет подготовка чего-то очень серьезного, что пугает самого преступника и он пытается заранее защититься от возмездия. Нас ожидает невиданное, свехстрашное событие. Подобные случаи очень редки, так как чересчур возбуждают общество и заставляют полицию искать особенно старательно. Мне известно только одно такое массовитое убийство, причем давно, в шестьдесят первом году в Москве (в начале века подобное, говорят, случалось чаще). Тогда после девяти таких вот убийств произошел переворот в преступном мире Первопрестольной. Иван Голубев по кличке Стратилат сверг «короля» Хитровки Ивана же Балашиху и занял его место. Была большая резня, свыше двадцати человек собрали за зиму по закоулкам, но Стратилат взял верх. Боюсь, что подобный исход только убедил этот поганый люд в верности суеверия.
– Думаете, и сейчас то же самое? Готовится перемена вождей? – подал реплику Грессер.
– И кто, кстати спросить, является сегодня «королем» Санкт-Петербурга? – добавил вопросов Оржевский.
– Это доподлинно не известно. Личность очень законспирированная… Мы знаем, что его зовут Лобов; возможно, это кличка. Иван Дмитриевич Путилин давно его выслеживает, да Бог удачи не дает. Опять же сдал очень наш первый сыщик, часто болеет, а его ученики не столь талантливы, как он. Сведения очень расплывчивые, но есть один купец первой гильдии в сильном подозрении, и фамилия у него как раз Лобов.
– Купец первой гильдии?
– Что ж в этом странного? Не каретным же мастером ему числиться. В Петербурге 786 купцов первой гильдии, из них не менее 20 подозреваются в разных нехороших вещах: контрабанда, фальшивые деньги, сокрытие доходов. Но этот особенный.
– И он действительно «король»? В том смысле, что обладает в их мире властью, – пояснил свой вопрос Оржевский.
– Всем королям король. Уже два года, со смерти небезызвестного Блохи, Лобов царствует в столице, и подмял под себя все шайки и преступные сообщества. Даже «Черные братья», финские то ли бандиты, то ли сепаратисты, вынуждены были подчиниться ему в пределах Петербургской губернии, после того, как были перебиты две их явочных квартиры. Лобов поставил на поток новый для России вид преступлений – вымогательства. Его отряды обложили данью все мелкие лавки, постоялые дворы, трактиры и харчевни в городе и даже уезде…
(Тут градоначальник смачно выругался, виновато посмотрел на коллег и понурил голову).
– … Да, да, Петр Аполлонович, ваши предшественники изрядно развратили столицу. Что вы хотите – каждый участковый пристав набирает в лапу не менее тридцати тысяч в год. Это все Лобова деньги; поэтому о нем по сию пору ничего и не известно. Отряды сборщиков дани (в Америке их называют модным словом «рэкетиры»[25]) хорошо вооружены и решительны. Если лавочник отказывается платить, его лавка на первый раз сгорает; на второй раз могут и убить, поэтому платят все, кто не имеет знакомств в полиции. Кроме того, у Лобова сеть отделений по России, включая сюда и Сибирь; в каждом централе, на каждой каторге имеются свои люди, которые помогают тем членам шайки, кто молчал на следствии и суде. И, естественно, наказывают болтунов. Это самый сильный ход Лобова, до него никому не удававшийся. Его агенты выходят на поселение и живут там, как в командировке, два-три года, обеспечивая связь, поддержку беглых, передачу ценных грузов (например, россыпного золота, украденного с приисков). Затем возвращаются в города Европейской части России, сдавая пост сменщику. Лобов человек серьезный, организация у него будь здоров, и, конечно, без его ведома в столице ничего выдающегося произойти не может. Тем более пять убийств.
– Вы думаете, Павел Афанасьевич, это под него роются? Как в Москве – готовят замену?
– Боюсь, Петр Васильевич, все еще хуже. И намного хуже. Если бы готовился переворот, мы наблюдали бы войну банд. В Москве, например, она длилась полгода до воцарения Стратилата и полгода после. У нас же все тихо. Я ожидаю совсем нехороших вещей. Хотел бы ошибиться в своей догадке, но… Вы заметили особенность в датах совершения всех пяти убийств?
Плеве и Оржевский недоуменно переглянулись, Грессер зашелестел бумагами:
– Что-то в апреле их много было, а первое в самом начале января. Вот, нашел! 3 января обнаружен труп на Фурштадской, в Литейной части. Потом долго не было, о находке уже забыли, а затем как прорвало: 11 апреля в Кокушкином переулке, 28-го – на Большой Болотной улице (там неподалеку мы нашли первый плод, а до того не находили), 30 апреля – на острове Гоноропуло. И вот сегодня – в Ломакином переулке. Какая же тут система, Павел Афанасьевич?
– Отнимите от всех чисел один день. Ведь трупы всегда обнаруживались утром, а убийства происходили накануне. И задайте себе вопрос: а что у нас было вчера, 6 мая?
– Вчера? Вчера был «царский день», праздновали пятнадцатилетие цесаревича… О, Боже!
Гессер, Плеве и Оржевский вскочили и одновременно принялись вырывать друг у друга «Весь Петербург за 1882 год». Через минуту тягостное молчание повисло в кабинете градоначальника. Наконец его нарушил Плеве:
– Отдаю должное вашей наблюдательности, Павел Афанасьевич. Действительно, если отнять от всех рапортов об убийствах один день, получается, как сказал генерал Грессер, «система». 2 января – день рождения великого князя Алексея Александровича, 10 апреля Владимира Александровича, 27 – младшего сына государя Георгия Александровича, 29 – великого князя Сергея Александровича и 6 мая – наследника, великого князя Николая Александровича. Но что все это значит?
– Да уж ничего хорошего! – рявкнул Оржевский. – Надо немедля доложить об этом его величеству! А через восемь дней коронация! Августейшая чета и двор уезжают в Москву сегодня вечером! Я считаю своим долгом…
– Позвольте, ваше превосходительство! – еще громче гаркнул Грессер. – Это дело относится до столичного градоначальника! Я сам считаю своим долгом лично доложить обо всем государю еще до отьезда!
Благово встал и молча отошел в сторону. Завязалась обычная чиновная свара, которые он так не любил. Из всех присутствующих Оржевский и Грессер по должности имели право всеподданнейшего доклада, и от того, кто из них первый доложит императору неприятную новость, зависело, в чьей обработке тот о ней узнает: градоначальник будет валить на министерство, а то, в свою очередь, постарается изгадить градоначальника. Победил в споре Грессер и сразу уехал в Аничков дворец, где остановился перед отьездом государь; эмвэдэшники заторопились к Чернышеву мосту доложить все министру.
В девять часов вечера этого же дня Плеве и Благово стояли навытяжку перед графом Дмитрием Андреевичем Толстым. Чуть сбоку так же тянулся во весь свой огромный рост генерал Грессер.
Министр пожевал бледными болезненными губами, посмотрел недовольно на подчиненных:
– Господа! Господин петербургский градоначальник только что сообщил мне повеление государя императора: найти и арестовать убийц беременных женщин в столице. И выяснить, что все это значит. Я имею в виду странный подбор дат всех пяти преступлений, подмеченный статским советником Благово… Данной мне властью министра поручаю исполнить настоящее повеление департаменту государственной полиции. Вице-директору Благово лично возглавить расследование; директору фон Плеве руководить его действиями и оказать всю необходимую помощь. О ходе расследования докладывать мне раз в две недели перед всеподданнейшими докладами. Учитывая, что начальник столичного сыскного управления Путилин болен и находится на излечении в Пятигорске, приказываю господину градоначальнику оказать содействие чинам министерства в исполнении ими высочайшего повеления по линии столичной полиции. За исход дела вы трое отвечаете персонально! Все свободны. Я уезжаю немедленно в Москву; жду вас, Павел Афанасьевич, через сорок минут на дебаркадере.
Грессер по-военному щелкнул каблуками, и троица покинула кабинет министра. Машина сыска завертелась, но немедленному её действию мешало одно важное обстоятельство – коронация.
Остерегаясь покушения, Александр Третий затянул с ней уже до неприличия долго. Наконец, по прошествии более чем двух лет после воцарения, выяснив у арестованных террористов, что бояться уже некого, он решился наконец появиться в Успенском соборе. Торжества должны были продлиться с 8-го по 18 мая. 8-го, в воскресенье, император со всем семейством приезжает в Москву и прямо с вокзала, по старинному романовскому обычаю, отбывает в пригородный Петровский дворец. Живет там четыре дня, никуда не выезжая и только принимая гостей. 12-го мая – первый выезд в Кремль, к Иверской, представление народу, 15-го – собственно коронация, 18-го освящение храма Христа Спасителя, после чего августейшая семья возвращается в Гатчину. На все эти дни обычная жизнь замирает, женщин на улицах Питера могут резать сколько угодно – МВД будет не до них, все оперативники уедут в Первопрестольную.
Сложнейший вопрос охраны особы государя и сохранения порядка на всех многолюдных торжествах был возложен не только на общую и дворцовую полиции. Благово имел давние крепкие связи с влиятельными московскими старообрядцами, завязавшиеся четыре года назад при расследовании в Нижнем Новгороде так называемого «дела о завещании Аввакума», Сейчас он их использовал. На масленицу вице-директор вместе с бывшим начальником императорской охраны, а ныне министром двора Воронцовым-Дашковым тайно ездил в Москву договариваться с раскольниками. Арсений Иванович и Алексей Викулович Морозовы, предводители двух наиболее влиятельных ветвей старого толка – беглопоповцев Рогожской общины и беспоповцев Поморского согласия – хорошо помнили нижегородских сыщиков. Да и с властью сотрудничать «тузы» умели всегда. Поэтому Лыков уже с конца апреля жил в Москве во главе группы из десяти агентов. Он тесно взаимодействовал с начальником рогожской секретной службы Степаном Горсткиным, сменившим на этом посту покойного Буффало. Уважение к памяти Буффало, а также пластунское прошлое сблизило двух боевитых мужчин и помогало хорошо вести дела. Лыков отвечал за все перемещения государя вне пределов Петровского дворца и Кремля, и пять тысяч(!) старообрядцев, в тайне от всех, помогали ему в этом. Коронация удалась «от и до». Не произошло никаких чрезвычайных происшествий, если не считать того, что княгиня М.А.Голицина на одном из балов потеряла исподнее…Усердию старообрядцев немало способствовал Закон от 3 мая (тотчас после подписания, с непросохшими еще чернилами императорской подписи, отправленный Лыкову секретным курьером для показа рогожцам). Он назывался «О некоторых правах гражданских и правах по отправлению духовных треб», и давал невиданные ранее свободы раскольникам невредных толков.[26] Прямым следствием благодарности императора стал еще один Указ от 15 мая о фактически полном разрешении старообрядства; рогожских архиереев тот час же выпустили из Суздальской монастырской тюрьмы.
Примирение нового государя со старообрядцами началось сразу же после его восхождения на престол. При взрыве на Обводном канале, помимо Александра Второго, погиб и чин его конвоя беглопоповец Малевич. Он был первым, кого разрешили публично отпеть и похоронить по староверческому обряду. А уже через четыре дня после цареубийства, 5 марта, в главном храме Рогожского кладбища были сломаны печати, открыт алтарь и состоялась массовая по численности присяга раскольников Александру Третьему.
Спокойствию на коронации немало способствовало и то, что в Петропавловке, в качестве заложников, сидело целых шесть членов Исполнительного Комитета «Народной Воли». Особое присутствие Сената уже приговорило, кого следует, к смертной казни, но исполнение приговора было сознательно отложено. Сняв с могучих плеч горностаевую порфиру, государь заменил всем им виселицу пожизненной каторгой.
Суета, хлопоты и огромное напряжение этих десяти майских дней отодвинули для Благово и Лыкова все другие дела. Однако уже через два дня по приезде, когда жизнь вернулась в привычное русло, Плеве вызвал их к себе и напомнил про высочайшее повеление. Весь желтый от переутомления, он был еще и подавлен новостями, случившимися в Петербурге за время их отсутствия.
– Езжайте в сыскное. Там еще одну нашли, пока мы с вами в Москве отдыхали…
– Но ведь царских дней не было, – попробовал удивиться Алексей, но директор только сдвинул брови, и нижегородцы быстро удалились. С Плеве шутки плохи… Петербургское управление сыскной полиции располагалось на Офицерской улице, во втором этаже Казанской части. Путилин все еще болел, поэтому министерских посланцев встретил его многолетний бессменный помощник, знаменитый Виноградов. Кроме него, в кабинете присутствовали лучший агент управления Шереметьевский и начальник секретного делопроизводства Вощинин[27]. Лица всех троих были угрюмо-сосредоточены. Шереметьевский, кроме того, весь был в белых точках – сыпь выступила от нервного напряжения (тоже оттрубил десять дней на коронации старшим группы филеров).
– Итак, господа, – начал Виноградов, едва дав всем усесться, – генерал Грессер довел до нас повеление государя относительно этих ужасных убийств. Пока вы были в Москве, я внимательно изучил все рапорты о происшествиях с осени прошлого года. Вдруг что-то не заметили, упустили, не связали… И обнаружил задним числом еще одну жертву. 27 февраля в селе Смоленском найден труп крестьянки Подневой, работницы с Обуховского завода. Поэтому и не попала в городскую сводку, прошла по Канцелярии полицмейстера пригородных местностей. Она была на седьмом месяце беременности. С ней поступили… как и в предыдущих случаях.
– Плод нашли?
– Нашли, двойню. Тоже, как в предыдущих случаях…
– Двойню! – оживился Благово. – Значит, ему осталось дорезать только двух.
– Точно так, Павел Афанасьевич. Мы в сыскном разделяем вашу версию и тоже считаем, что жертв должно быть девять. И никакой это не психопат-одиночка, здесь план и организация. Шесть убийств в разных частях Петербурга, и нет ни следов, ни свидетелей… Кто-то очень серьезный понтирует.
– Да, и очень в себе уверенный. Если вычесть по моей методе сутки, получается, что Подневу убили в день рождения государя. Значит, у нас есть время до сентября.
– Совершенно верно, – сразу согласился с Благово Виноградов. – Нам тоже пришла в голову эта мысль. Из всей близкой родни государя остались не отмеченные столь ужасным знаком только трое: сестра, Мария Александровна, брат – Павел Александрович, и сама августейшая супруга, императрица Мария Федоровна. Убийцам же случайно подвернулась двойня и они, так сказать, сэкономили одну жертву. Думаю, из своего дьявольского счета они уберут сестру государя, нынешнюю герцогиню Саксен-Кобург (Благово молча кивнул в знак согласия), и тогда остаются две даты: 21 сентября – день рождения Павла Александровича, и 14 ноября – императрицы. Значит, до этого времени мы должны найти убийц.
– Теперь к вопросу, кто понтирует, – продолжил Вощинин. – Человека, который, по нашему мнению, правит преступностью в столице, зовут Анисим Петрович Лобов. Потомственный почетный гражданин, владелец самого крупного кожевенного завода в Чекушах, что на Васильевском острове. Пятьсот человек работников! Снаружи держит вид серьезного промышленника. Проживает в Коломенской части, в собственном доме в Упраздненном переулке, возле набережной Пряжки. Гласный Петербургской городской думы, был один срок старшиной в Купеческом клубе, избирался присяжным заседателем, представлялся столичному генерал-губернатору. Родом из Лаишевского уезда Казанской губернии, но вот уже тридцать лет в родном селе не появляется. И вообще, нам не удалось – а мы старались! – найти ни одного человека, который бы знал господина Лобова с парней. Прошлое у кожевенного фабриканта, видать, уж больно тёмное. Сельчане по фотографическому портрету его не признают, хотя и отмечают некоторое сходство.
– Может быть, сильно изменился под влиянием жизненных обстоятельств?
– Все может быть. Отец, мать и брат Лобова угорели в доме восемнадцать лет назад, все разом, а единственный дядя утонул в проруби. Как хотите, а подозрительно…
– Наблюдение что-нибудь дало?
– Мало. Личности вокруг него самые поганые. Стряпчий Мойша-Рива Погост имеет очень дурную репутацию… Банкир Борейто так просто мошенник, но ухватить его не за что. А особенно колоритен охранник лобовский, Иван Кареткин по прозвищу Пересвет. Ваш, кстати, земляк, из Нижегородской губернии.
Лыков уже слышал о Пересвете, уроженце старинного волжского воровского села Татинец, название которого говорило само за себя.
– …Легальное его звание – ученик басонщика[28], но плодов этих его трудов никто никогда не видел. Настоящее же занятие – выполнение особых поручений Лобова. Пересвет трижды был под судом, и трижды оставлен «в сильном подозрении». Штатный убийца, необыкновенно жестокий и очень опасный. Силен неимоверно, говорят, почти, как покойный Тунгус. Лобов без него из дому не выходит. Пересвет очень предан своему хозяину, выполняет только его распоряжения и готов ради него на все. Но там есть и еще один личный телохранитель, некто Челубей. О нем почти ничего не известно, только несколько слухов. Вроде бы, он не без татарской крови. Говорят еще, что он чуть ли не из столбовых дворян, силой не уступает Пересвету, но значително умнее. Эдакий элегантный боевик. Лобов никого не принимает без предварительной проверки этими двумя головорезами. Вообще он ведет закрытый образ жизни, на людях появляется мало, на фабрике бывает два-три раза за неделю, не подолгу, зато часто заседает в трактире «Три Ивана».
– «Три Ивана»? Том самом, где сыщиков зарезали?
– Том самом, на углу Лиговской набережной и Свечного переулка. Место нехорошее, настоящий «пчельник»[29]; обыватели туда не ходят, поэтому и наблюдение вести очень затруднительно. Одного нашего там давеча чуть не взяли в ножи. Настучали изрядно по шее и выгнали, наказали больше не приходить… В «Трех Иванах» никогда не бывает случайных или незнакомых людей. Одним словом, нужен «демон».
При этих словах все, словно сговорившись, посмотрели на Лыкова. Благово ухмыльнулся:
– Понимаем. Он с приезда из Москвы бороду растит, еще недели две потребуется. Покамест ему легенду подновим, он же полгода где-то жить был должен. Как у вас там «барон Флагге», все еще жирует? Не пора ему в Томск?
Так Лыков оказался в трактире «Три Ивана».
Глава 4
Майор Таубе
Таубе прибыл в Париж уже вечером, когда зажгли газовые фонари. Взял фиакр на площадке у Восточного вокзала и назвал вдрес. Интересующий его человек жил на самом краю города, возле старых фортификаций времен Луи Филиппа. Рю де ла Гласьера, бедная, застроенная ветхими неказистыми домами, упиралась одним концом в парк Монсури, другим вливалась в бульвар Порт Ройял. Таубе знал по агентурным сводкам, что где-то здесь живут опасные враги империи Лавров и Тихомиров, но сегодня у него было другое задание, весьма щекотливое. Мутный парижский полуадвокат, полупроходимец Д’Ашэ где-то перекупил письма покойного Николая Александровича, старшего брата государя, бывшего до своей смерти от чахотки в 1865 году в Ницце наследником российского престола. Вот, говорят, вышел бы государь! да Бог не дал… Николай был по любви обручен с датской принцессой Дагмарой и написал ей всего более тридцати писем, весьма приватных. Письма эти исчезли вскоре после того, как автор их умер. А принцесса – что было неожиданно для многих – передала руку и сердце, как бы по наследству, новому цесаревичу, а ныне российскому императору Александру Третьему. Теперь Дагмара – императрица Мария Федоровна; с государем у них удивительные семейные отношения, и память о первом женихе, любимом брате государя, лишь скрепляет их брак. А тут какой-то парижский негодяй предлагает купить у него те, забытые, похищенные письма! Держись, мэтр, не переоцени себя…
Фиакр довез его до самого тёмного квартала Рю де ла Гласьера и остановился. Было безлюдно, освещенных окон почти не видать. На другой стороне улицы ярко горело огнями ночное кафе для местного сброда. Оборванные, полупьяные люди сидели за столиками и пили свое печально известное «синее вино»[30], громко разговаривали, ругались, кто-то пел. Место было небезопасное, и возница крайне неохотно согласился подождать барона четверть часа, и то лишь получив заранее плату, включая обратный проезд, с хорошими чаевыми.
Войдя в парадное, Таубе нос к носу встретился с консьержем – крепким мужчиной совершенно бандитской наружности, даже со шрамом на горле. На стойке за его спиной лежал кастет. Консьерж внимательно, настороженно осмотрел ротмистра и сделал шаг назад, к стойке. Заглянул в какую-то бумажку.
– Мсье Засурски?
Таубе молча высокомерно кивнул.
– Подымайтесь, вас ждут.
И сразу же запер на засов входную дверь и встал возле нее, скрестив волосатые руки на груди.
Таубе, одернув щегольской редингот, помахивая изящной, с серебряным набалдашником, тростью, двинулся вверх по лестнице. Она отвратительно визгливо и громко скрипела при каждом его шаге. Знакомый прием…
Дойдя до дубовой двери, ротмистр требовательно и властно стукнул в нее дважды и вошел в кабинет мэтра. Просторный, полуосвещенный, какие-то мраморные голые девки по углам, шкаф со сводом законов, старинный камин в углу. Сбоку дверь – поди, за ней какой-нибудь сюрприз в виде парня с револьверами. Что ж, при его ремесле вещь обязательная…
Мэтр Д'Ашэ не спеша, с достоинством поднялся из-за стола, фальшиво-приветливо воздел руки:
– Мсье Загурски, полагаю?
Стряпчий был одет в легкомысленную полосатую визитку; лысый, толстенький, с неприятно бегающими глазками и нелепым «мушем»[31] на подбородке, потное лицо, короткие пухлые пальцы.
– Засурский, с вашего позволения. Где прикажете сесть? Нам понадобится не более четверти часа.
Д’Ашэ усадил гостя на стул спиной к неприметной дверке, сам уселся в кресло напротив, поправил съехавшее пенснэ.
– Я, честно говоря, так и не понял предмета нашего разговора. Вы хотите что-то купить. Что именно? У меня много интересного. И потом, для чего такая загадочность?
– Вы правы, мэтр, перейдем сразу к делу. Я послан русским двором. Мне нужны письма покойного цесаревича Николая Александровича принцессе Дагмаре.
– Ах, вон оно что! – хлопнул себя по жирной ляжке мэтр. – Я ждал вас, и дождался. Вы пришли узнать мои условия? Охотно!
– Не совсем так, мэтр, – вежливо поправил его Таубе. – Я пришел сообщить вам свои условия, на которых это дело может быть разрешено относительно благополучно для вас. В смысле последствий.
Секунду Д’Ашэ молчал, словно не верил своим ушам, потом резко рассмеялся – противным визгливым смехом, и несколько неестественно.
– Мой дорогой друг! Вы мне еще и угрожаете! Как это замечательно! Ничего, ничего, я уже привык. Вы все одинаково начинаете. У меня такое занятие, что все мне угрожают. Сначала. Потом договариваются. Жак, голубчик! Зайди-ка сюда. Ты, как всегда, понадобился.
Дверь за спиной ротмистра сразу открылась и в кабинет быстро вошел огромного роста мужчина лет сорока, с неправдоподобно широкими плечами, пузатый, с отвислыми усами и цепким настороженным взглядом. Не говоря ни слова, он стал прямо за спиной барона, нависая над ним, как гора.
– Вы не против, мсье Засурски, если Жак поучаствует в нашей беседе? Он чемпион Марселя по савату[32] и одновременно мой секретарь для общения с такими, как вы, клиентами. Которые, вместо того, чтобы внимательно выслушать мои условия, приезжают со своими… Мои условия от этого лишь ужесточаются. Итак, теперь продолжайте! Но будьте осторожны впредь.
Таубе мельком, без всякого интереса, взглянул на Жака, и, не обращая на него ни малейшего внимания, сказал:
– Ваше ремесло, мэтр Д’Ашэ, вызывает у меня только отвращение (мэтр еще раз хохотнул, а Жак за спиной шумно выдохнул и угрожающе сделал полшага вперед). Условия мои весьма просты. Вы отдаете мне сейчас же письма, и мы расстаемся. Так и быть, император Александр Александрович на первый раз простит вам ваше хамское желание шантажировать его.
– Какое великодушие! А если я не соглашусь, если я все-таки захочу продать эти письма, а не подарить? Уже сейчас некий антиквар из Антверпена предлагает мне за них 75 тысяч золотых франков.
– Ну, если вы не согласитесь, то наша беседа примет другой оборот.
На этих словах Таубе мгновенно, как кием, сильно стукнул стоящего у него за спиной чемпиона по борьбе тростью в пах. Не оборачиваясь. Трость была особенная, сделанная из стальной шестигранной трубки, залитой внутри свинцом, и не раз уже служила барону в подобных ситуациях. Жак вскрикнул и согнулся пополам от боли, причем лысеющая голова его оказалась у Таубе прямо над левым плечом. Тот столь же быстро крутанул трость, как сигару, в тонких пальцах, набалдашник описал стремительный круг и врезался сверху в затылок Жака. Раздался удар, хруст, грохот падения огромного тела, а ротмистр уже, перегнувшись через стол, схватил Д’Ашэ за глотку и, обведя вокруг стола, как барана на веревке, бегом потащил за собой к дверям.
Таубе делал все молниеносно и рассчитывал свои действия по секундам. Д’Ашэ уже открыл ящик стола, чтобы схватить револьвер, но не успел. Не успеет и этот! Снизу вверх грохотали шаги. «Этот» влетел с площадки в кабинет, размахивая кастетом. Но Таубе уже стоял перед дверью, держа полупридушенного, покорного от ужаса стряпчего левой рукой за шею и едва давая ему дышать. Удар правым кулаком с зажатым в нем набалдашником пришелся консьержу в переносицу; он отлетел обратно на лестницу, с грохотом скатился вниз, и стало тихо.
Ротмистр развернул посеревшего, мелко дрожавшего Д’Ашэ лицом к себе и очень внимательно посмотрел ему в глаза. Мэтр задрожал еще сильнее, хотел сказать что-то, но не мог, а только хрипел.
– Где? – только и сросил ротмистр, слегка ослабив хватку, и для большей убедительности несильно стукнул шантажиста набалдашником своей страшной трости по лбу. Тот обмер, чуть не упал, но, поняв, что его может спасти лишь одно, бегом кинулся отпирать несгораемый шкаф. Вынул дрожащими руками из него пачку перевязанных тесьмой писем и протянул барону.
– Вот… Здесь все. Я… я… я не…
– Понятно, что больше не будешь. Но если вдруг обманешь, от себя обещаю, не от императора, от себя лично, приду еще раз. В последний. Слово офицера.
Д’Ашэ часто-часто закивал, подобострастно и испуганно смотря на ротмистра бараньими глазами, готовый ко всему, жалкий и ничтожный.
– Тьфу! – не выдержал Таубе, и уже повернулся, чтобы уйти, но вдруг вспомнил что-то и вновь подошел к стряпчему.
– Чуть не забыл. Это тоже от меня лично. В наказание за твое поганое ремесло, поломаю тебе твои поганые руки.
Он схватил шантажиста за правую кисть, потянул на себя, а затем дернул вниз с резким изломом. Уже спускаясь вниз, барон услышал идущий из кабинета вой, совсем собачий.
Через два дня Таубе входил в гатчинский кабинет императора. Посреди небольшой, квадратной и низкой комнаты, с двумя окнами в сад, стоял простой стол, покрытый до полу синим сукном, на столе – поднос с перьями, карандашами и писчей бумагой. Император встретил барона стоя. Таубе вручил ему письма его покойного брата. Александр Александрович вздохнул, подержал их секунду в своей огромной руке и убрал в бюро.
– Отдам Марии… потом. А вы расскажите, как все было.
Таубе четко, без лишних деталей описал всю сцену «переговоров» с шантажистом. И про Жака, и про наглый тон негодяя, и про сломанную руку. Последнее особенно понравилось императору.
– Значит, сломали ему ее, барон?
– Сломал, ваше величество. Пусть запомнит, как меряться силами с вами, с Россией.
– Ха-ха! Вот молодец! Жалко, нельзя ему шею сломать, но хоть так…
Александр Третий медленно, задумчиво прошелся к окну и обратно. Потом сунул руку в карман своего генеральского кителя, порылся в нем и протянул Таубе большой серебряный портсигар со своим вензелем:
– Вот! От меня с императрицей в награду за образцово исполненное приватное поручение.
– Служу Отечеству, ваше императорское величество!
– Позавтракаете сегодня с нами. И сейчас (император посмотрел на каминные часы) не уходите, есть разговор.
Он нажал кнопку звонка, мгновенно в двери появился камердинер.
– Зови.
В кабинет с портфелями в руках зашли начальник Главного штаба генерал-адъютант Обручев и директор канцелярии Военно-Ученого комитета генерал-майор Енгалычев.
– Садитесь, господа, – император усадил, после приветствия, всех троих вокруг стола, сел сам и сказал. – Начнем с того, на чем остановились в тот раз – с железных дорог. Что надумали?
– Я по-прежнему настаиваю, ваше величество, на развитии Полесской казенной дороги, – эмоционально заговорил Обручев. – Она стратегическая, без нее мы совершенно определенно не успеем отмобилизоваться против Германии. Министр финансов, как всегда, этого не понимает. Ему удобнее мыслить узко: дебит, кредит, бюджетный дефицит. А как мы будем воевать – война же с германцами неизбежна! – это его не волнует, клистирная его душа![33]
И Обручев нервно стукнул портфелем по столу.
– Не сердитесь, Николай Николаевич! – добродушно успокоил государь своего генерала. – Бунге я беру на себя. Но помогите мне в этом. Давайте подробнее – что нужно? в какие сроки?
– Виноват, ваше величество…Я понимаю соображения экономии и буду говорить лишь о самом важном. Основные магистрали Полесской дороги: Вильно – Ровно через Лунинец-Сарны и Брест – Брянск через Гомель надо сделать двухпутными к 87-му году. Кровь из носу, ваше величество.
Император отметил что-то в своем блокноте.
– Далее, Пинско-Жабинскую дорогу необходимо продлить до Ровно. Это крайне важная рокадная артерия, и, кроме того, по ней можно перевозить крепостную артиллерию к западным крепостям.
– Хм… Знали бы вы, Николай Николаевич, как это знаю я, сколько в русском хозяйстве таких вот крайне важных дел, на которые десятилетиями не хватает денег, – хмуро пробурчал в бороду император. – Казна до сих пор не отойдет после турецкой войны… Ну, ладно. Готовьте доклад на ближайшее заседание Особой комиссии по оборонительным сооружениям. Я его конформирую. Теперь порох.
Енгалычев пытался встать, но Александр жестом остановил его.
– Вы по-прежнему настаиваете на Казани?
– Так точно, ваше величество. Казанский казенный пороховой завод с июня будет готов приступить к разработке и затем выделке бездымного пороха. Для запуска необходимо ассигновать 23 тысячи рублей, желательно побыстрее.
Император снова сделал пометку в блокноте.
– Ружья.
– Созданная в феврале «Особая комиссия по испытанию магазинных ружей» испытывает к настоящему времени четыре переделочных винтовки: Лутковского, Квашневского, Роговцева и Моссина. Наиболее интересен последний образец, хотя он еще дорабатывается.
– Капитана Моссина?
– Так точно, начальника инструментальной мастерской Тульского оружейного завода капитана Моссина. Он представил пока лишь чертежи 4,2-линейной магазинной винтовки, но очень интересного замысла. Комиссия продолжает сбор и изучение отечественных и иностранных образцов.
– Хорошо. Держите меня в курсе этого вопроса. Далее. Крепости.
– Брест-Литовск и Ивангород строятся согласно плана. В июне начнутся первые работы по возведению совершенно новой крепости Осовец. Это будет лучшее в мире укрепление, Ваше Величество! А когда заложим Ковно и Новогеоргиевск, прикроем от германцев все Полесье.
– Кстати о германцах. Как они реагируют на реформу нашей кавалерии?
– Нервно, ваше величество, – ответил Енгалычев уже в качестве начальника военной разведки. – Их необычайно раздражает то, что мы перекомплектовали из четырехэскадронного в шестиэскадронный состав только те полки, которые стоят на нашей западной границе. А тут еще перевод артиллерии на конную тягу…[34] Германцы видят во всём этом целую систему враждебных к ним действий, и готовятся ответить тем же. Мы ждём больших осложнений…
Император посидел минуту молча, ковыряя свою огромную ладонь. Генералы и Таубе переглянулись, но тоже молчали.
– Ладно, хрен с ними! – сказал, наконец, государь. – Хочешь мира – готовься к войне. Теперь перейдём к вопросу, который касается нашего всеми любимого ротмистра.
И иронично при этом хмыкнул. Генералы также дружно, незлобливо ухмыльнулись, Таубе скорчил гримасу. Император имел в виду последнюю выходку барона. Тот отказался перевестись из Корпуса жандармов в гвардию, хотя его величество настаивал на этом, и перешёл в армейскую кавалерию. Общеизвестно, что вся армия дружно ненавидела гвардейцев даже не за преимущество в один чин, а именно за отсутствие «у них» звания подполковника. Ротный или эскадронный командир, пусть даже и заслуженный офицер, очень уж скоро получал там в погон два просвета. Таубе этой неприязни не желал, и вместо возвращения в кавалергарды прикомандировался к славному Нижегородскому драгунскому полку, заведомо отодвигая от себя на лишние шесть лет калоши.[35]
– Как, генерал, – обратился государь к Енгалычеву, – забыли уже англичане ту обиду, что нанёс им барон тогда в Лхасе?
– Да бес бы с ними, даже если и не забыли, ваше величество. Пора ротмистру возвращаться на «Крышу Мира». И наплевать нам при этом на Альбион четыре раза…
– Правильно. Итак, барон, настала ваша очередь вернуться туда, откуда вы временно, по необходимости отлучились.
Таубе глянул на всех сразу повеселевшим взором, придвинулся к столу; под ним тонко дзенькнула шпора.
– Ишь, как копытом-то бьёт, – повернулся государь к Обручеву. – Молодой, ни черта не боится. Только нет там, барон, ничего весёлого. Наглеют англичане, и за Индию свою дрожат, на хрен она нам не сдалась… Трудно нам на Памире, с сильным противником бодаемся, а не бодаться нельзя! Туркестан – огромный кипящий котёл. Русская власть там пока только на бумаге. Не защитим её, не выставим в горах твёрдой границы – всё потеряем, и хлопка опять не будет, и рынки от наших мануфактуристов уйдут. Главное же – подстрекаемый англичанами Афганистан. Коканд он в покое не оставит, и будет на наших южных границах не прекращающийся десятилетиями пожар… Понимаете, Виктор Рейнгольдович, что это такое? Огромная пороховая бочка под нашим боком, фитиль – в Кабуле, а спички в Лондоне.
– Понимаю, ваше величество. Прикажете отбыть немедленно?
Император посмотрел на Енгалычева, тот раскрыл лежащую перед ним папку и подвинул её к Таубе:
– Несколько дней на подготовку и ознакомление с ситуацией мы вам, конечно, дадим. Положение и впрямь очень серьёзное. Британцы действительно обнаглели: наши владения кишат шпионами. Пундиты – специально подготовленные туземные топографы – скрытно ведут картографирование местности, изыскивают караванные пути, переходы через перевалы, броды, проходимые для артиллерии дороги, и так далее. Большая Съёмка[36] весьма оживилась: она готовит и засылает в Кашгарию и Восточный Туркестан по пятьдесят новых пундитов ежегодно. «Крыша Мира», эта спорная территория между нами и британцами, быстро англизируется; пора поставить этому заслон. Мы наращиваем наше военное присутствие на Памире. В рамках этой программы вы, барон, едете туда для вступления в должность начальника разведочного отделения – старшего адьютанта штаба Туркестанского военного округа. С присвоением, кстати, вам за отличие звания майора.[37]
Все, как по команде, встали и пожали Таубе руку, причём первым это сделал государь.
Таубе, серьёзный и собранный, молча поклонился, взял енгалычевскую папку и вышел из царского кабинета. Оставшиеся до завтрака полчаса он изучал в помещении охраны секретные бумаги. За простым, но сытным завтраком с императорской четой, Обручевым, Енгалычевым и дежурным флигель-адьютантом говорили только о недавней коронации. Освободившись, наконец, барон приехал на двенадцатичасовой машине из Гатчины в столицу. Первым делом он купил в магазине офицерских вещей на Невском майорские погоны с двумя просветами и двумя звёздочками. Надо было, по обычаю, спрыснуть новое звание. Как говорит Лешка Лыков, целковому голову свернуть. Но с кем? Лучше всего, конечно, с тем же Лыковым. Последний раз они виделись месяц назад, когда шлялись по городу втроём – третьим был Федька Таубе, двоюродный брат и тоже барон, и горячо при этом спорили. Подъесаул Оренбургского казачьего войска, Федька намеревался перейти на службу в Отдельный жандармский корпус и просил у родственника совета и протекции. Виктор и Алексей настойчиво, но безуспешно, его от этого отговаривали. Наконец, устав, Алексей ткнул казака-барона крепким пальцем в грудь и спросил:
– Ну, объясни: почему тебе всё-таки хочется идти именно в жандармы? Там ведь служба тяжёлая и неблагодарная, мёдом не намазано…
Федька похлопал белесыми немецкими ресницами и неожиданно ответил:
– Призванье чувствую. Именно у них быть мне командиром![38]
Виктор и Алексей рассмеялись, и все трое пошли обедать в «Лейнер». Снова, что ли, туда махнуть? Но сначала надо было избавиться от секретной папки. Барон зашёл в дом номер 12 по Адмиралтейскому проспекту, где в здании Военного министерства квартировала, под вывеской Военно-Учёного комитета, русская военная разведка. Оставил там в личном несгораемом шкафу полученные от Енгалычева бумаги, вышел, весело свистнул и сказал часовому загадочные слова:
– Бам-и-Дунья.[39]
Отойдя шагов на двадцать, Таубе воровато оглянулся, вынул из кармана майорские погоны, любовно их погладил и снова убрал. Посмотрел вдоль улицы, словно ища знакомых. Эх, где ты, Леха, друг сердешный? Выпить не с кем…
Глава 5
Сунуло Ерёмушку к семи чертям
Лыков очнулся в опрятной комнатке с одним, плотно занавешенным, окном под самым потолком, видимо, в полуподвале. Кровать, стул с висящим на спинке сюртуком, да образ в углу. Судя по приглушенному свету – утро.
Голова у Алексея сильно болела, во рту было противно горько от веротина, но помнил он все хорошо и сразу же сел в кровати, готовый действовать. Где он? В «Трех Иванах», в задних комнатах, или его куда-то перевезли?
Алексей бесшумно встал, обулся – сапоги стояли возле, накинул сюртук, взял картуз и потянул тихонько дверь. Та оказалась незаперта. Он вышел в коридор – пусто. Открыл вторую дверь, и оказался в большой комнате с горкой и длинным обеденным столом. За ним восседал Чулошников и щелкал костяшками счет, записывая что-то в тетрадку; перед ним, сложенные в несколько стоп, лежали кредитные билеты.
– Выспались, Алексей Николаевич? – приветливо спросил он, глядя на Лыкова поверх очков спокойными светлыми глазами.
– Не то слово, Прохор Демидыч, – в тон ему ответил Алексей. – С вашего веротрина ох как славно спится, можно и вовсе не проснуться.
– Догадались-таки, – довольно констатировал трактирщик. – А если обиделись на меня, то зря. Иначе и быть не могло, сами должны понимать. У нас тут чужих не жалуют.
– Как не понять. Скажите лучше – проверили меня уже, или как? Бумаги вон забрали… вместе с деньгами.
Чулошников уважительно хмыкнул:
– Приятно иметь дело с умным человеком: ни обид, ни скандалов. Спите вы, Алексей Николаевич, уже вторые сутки. За это время мы нашли двух свидетелей, подтвердивших вашу личность. Про инобытие ваше послушали… Бумаги вам сейчас вернем, деньги тоже – мы не мелкая шушера – да и отпустим с Богом. Вы человек нам чужой, не фартовик и не деловой, но и не опасный. Разойдемся с миром, да и все. Куда теперь направитесь? Флагге-то вашего замели.
– Ляд с ним, с Флагге. Мелко это для меня, какого-то поганого шулера от заслуженных тумаков оборонять. Я серьезную службу ищу, у серьезного человека, где не только кулаки нужны, а еще и голова. Его превосходительство господин Ратьков, говорят, ищет помощника главноуправляющего, специалиста по 15-му тому; к нему наведаюсь.[40] У него хозяйство большое, дел много, авось договоримся. «Виленцы» опять же зовут консультантом по военному делопроизводству. Сашка-Блинодел[41] в долю приглашает – ему сбыт нужен, а у меня на Москве и в кавказских губерниях хорошие знакомства среди староверов, там сколь хошь «блинов» уйдет. Не пропаду! Верните бумаги, чайку на дорожку налейте, да и впрямь разойдемся с миром.
Чулошников долго, внимательно смотрел на Алексея, словно хотел залезть ему в душу. Крутил-крутил седой ус, потом что-то надумал и стукнул негромко кулаком в стену. Дверь за его спиной открылась, вошли и степенно сели два богатыря, что давеча маячили у Лыкова за спиной.
– Это Челубей, а это – Пересвет, – представил их трактирщик. – Верните, ребята, господину Лыкову его бумаги и деньги.
Челубей выложил на стол двести рублей кредитными билетами и досрочными купонами[42], документы Лыкова и в отдельном конверте – Георгиевский крест и две медали. Алексей молча рассовал все это по карманам, взялся было за картуз, но Чулошников остановил его:
– А может, вам и у нас занятие найдется? Давайте покалякаем: что можете, чего хочется, какие деньги за какие дела готовы получать…
– А где это – у вас? В трактире «Три Ивана» Тузика воспитывать?
Челубей с Прохором Демидовичем рассмеялись, а Пересвет грохнул кулачищем по столу и свирепо выпучил голубые, как небо, глаза:
– Он, вишь, еще и смеется, фитюк! Да на хрен он нам сдался! Я таких троих одной левой! Пусть катится в свою Петроковскую губернию паненок щипать, а мы тута и сами обойдемся.
Чулошников зыркнул на гиганта:
– Ты, Ванятка, помолчи – не твоего умишка вопрос! Человека велено сыскать, штучного, пригодного для наших дел. Оборотистого да боевитого. Возможно, Лыков и есть как раз нужный человек. Аттестация на него из Пскова самая наилучшая. Не мешай нам разговаривать, а то враз выгоню из комнаты.
Челубей тем временем пристально рассматривал Алексея, потом вдруг протянул ему через стол крепкую ладонь:
– Яков Недашевский.
Лыков подумал секунду и молча пожал поданную руку.
– Ну, вот и познакомились, – констатировал трактирщик. – А Пересвет позлиться, да и тоже отойдет, потому, как деваться ему некуда будет. Насчет же службы у нас имею прояснить: служба будет при первой гильдии купце Анисиме Петровиче Лобове по его торговым и иным интересам. Преимущественно по иным.
Лыков сделал серьезно-уважительное лицо:
– Про господина Лобова я хоть и немного, но наслышан; какие у него «иные» интересы, могу предположить. Служить у него дело достойное, спору нет, да только я не в любом качестве могу. Мирное население я трогать не привык, потому, как солдат, а не дергач[43]. Шушеру уголовную гонять – другое дело, ее не жалко. Но и там мокрушничать зря я не большой любитель: все ж за это в Сибирь посылают. Только при условии, что свои же не сдадут. И жалование хочу приличное. Нужен ли я вам такой?
– Во! еще и ломается, фря! – заорал Пересвет. – Свиная рожа везде вхожа. Полгорода таких, что с почтением за «синенькую» любого удавят, да еще и сдачи два рубли принесут!
– У сочинителя Пушкина в «Руслане и Людмиле» – советую почитать – про меня хорошо написано, – спокойно отвечал ему Алексей.
– Это где же?
– А там, где «еду, еду, не свищу, а наеду – не спущу».
– Ну, ты, ярыжник! – взвился немедля Пересвет. – Вчера пришел, а нынче уж идолы кажешь?[44] Я те их щас повыбью! Запечатаю в ящик по самый хрящик!
И, перегнувшись через стол, схватил Лыкова за грудки. Чулошников пытался было оттащить его, но Челубей остановил трактирщика. Алексей, хоть и ожидал уже потасовки, но отскочить не успел: бандит крепко вцепился ему в лацканы сюртука и начал тащить через стол, на свою сторону. Сюртук трещал по швам. Высокий, с налитыми плечами, с огромными вздувшимися мускулами и совершенно бешеными глазами, Пересвет был страшен; он уверенно пригибал нехилую лыковскую шею к столу, в глазах у сыщика уже темнело. Упершись ногами в пол, а локтями в столешницу, Алексей изо всех сил боролся, пытаясь удержаться на своей стороне. Так они, натужно пыхтя, простояли полминуты. Наконец Лыков собрался, ухватился поудобнее за запястья противника и включился уже наполную. Через несколько секунд страшных усилий пальцы Пересвета разжались, он захрипел, но тут же дернулся всем телом вперед, целя Алексею головой прямо в лицо. Тот успел в последний момент увернуться, и бандит шмякнулся животом об стол, едва не перелетев через него. Не мешкая ни секунды, Лыков схватил его одной рукой за пояс, а второй за шею и, как куль, отшвырнул в угол. Пересвет мгновенно и ловко вскочил на ноги, с матерной руганью кинулся было вновь на Алексея. Но, пока он подымался, Лыков успел уже подскочить и сходу заехать ему правой в челюсть. От такого удара все прежние противники сразу летели на пол без сознания; Пересвет же только замер да мотнул головой. Ах, ты, сволочь здоровая, ну теперь держись, подумал Лыков, и замахнулся уже «со всей дури». Таким ударом он убил бы быка, не то, что человека… Но как раз тут к нему подбежал Челубей, обнял крепко, так, что ребра затрещали, и оттащил Алексея от потрясенного уже соперника на середину комнаты.
– Хватит с него, Лыков.
Тот и сам опомнился – все ж в гостях, да еще в таких, где никакая сила не спасет, ежели решат его взять в ножи. Тяжело дыша, Алексей опустил кулаки, сердито оглянулся на Чулошникова и увидел вдруг, что тот довольно смеется, весело переглядываясь с Челубеем. Засмеялся и Пересвет, но охнул, сделал два неверных шага и опустился на скамью.
– Да, есть силенка у ребенка… Сгодится для первого разу. Едва меня не поклал – а все ж таки не поклал, – похвастался он, осторожно ощупывая челюсть. – Надо бы дохтуру показать… уксусу приложить…
– Вторым ударом он бы тебя точно свалил, – хлопнул пострадавшего по плечу Челубей. – Сила, действительно, выдающаяся; я еще не видел, чтобы так круто с тобой обернулись. Что же, поехали к Анисиму Петровичу, он ждет.
Через несколько минут втроем (трактирщик остался в заведении) они сели в пароконную коляску, что дежурила на углу Разъезжей и Лиговки, и поехали через весь город в Коломню. Алексей догадался, что его везут к Лобову домой. Извозчик спокойно проехал по Чернышову мосту вдоль родного Лыкову здания МВД, затем мимо Спасской части на Большой Садовой, за Никольским рынком свернул на Канаву и по Коломенскому мосту въехал в недлинный Упраздненный переулок. Дом, который занимал петербургский «король», стоял на самой Пряжке. Лыков третьего дня проезжал мимо в закрытой карете и знал уже его снаружи: два этажа с полуподвалом, семь окон в переулок, шесть на реку и одно, на скошенном углу, смотрит на Банный мост. Место отдаленное, тихое, но не бандитское, а цивильное, как и положено купцу первой гильдии. Говорят, из шести домов по переулку в четырех живут лобовские люди: конторщик, служители по дому, охрана и, кажется, личный доктор и кассир.
Извозчик – рожа у него была вполне арестантская – остановился без напоминания прямо у дубовых ворот. Денег при этом никто ему не давал, видно, приписанный почасовик. Сразу же на шум выглянул дворник, высокий, атлетически сложенный; внимательно осмотрел Лыкова и молча пропустил в подъезд. Первым уверенно шел Челубей, Лыков следом; замыкал колонну Пересвет, держащий у скулы полотенце, смоченное свинцовым уксусом.
Лыков знал и внутренне устройство лобовского дома – из той самой папки, что дали ему на изучение в сыскном. Согласно уложения, брандмауэр должен превышать кровлю защищаемого им от огня строения на аршин. В конце марта к Лобову в сопровождении околоточного явился чиновник из строительной инспекции при канцелярии градоначальника. И потребовал замерить верх брандмауэра, причем самолично залез наверх с плотничьей саженью. Действительно, до указанного значения не хватило двух вершков, пришлось их выкладывать, а пронырливого инспекторишку поить коньяком в столовой, да еще и сунуть ему в конверте четвертной билет. Чиновник тот был на самом деле с Офицерской улицы, и запустил глазенапа во все углы преступного логова, включая даже отхожее место.
Поэтому теперь Лыков вполне ориентировался в помещениях и, на худой конец, имел пути для отступления. Они, кстати, лежали как раз через луфт-клозет, устроенный по дорогой, но прогрессивной гейдельбергской системе, с вывозом нечистот в сменных бочках.
Алексей шел и отмечал детали, говорящие о достатке и основательности хозяина дома. Тротуар перед фасадом выложен клинкерным кирпичом, подъезд залит природным ганноверским битумом, входная дверь железная, обшитая палисандром. Такие хоромы штурмовать придется, как шамилевский аул Гуниб… Полы в доме из гренадилового дерева, на окнах дорогие плюшевые портьеры, ореховая мебель покрыта красным штофом, в углах кадки с комнатными колокольчиками, китайскими розами и цареградским стручком, а на стене в гостиной висит даже пейзаж Клевера. Смотреть на тот пейзаж Лыкову, правда, не пришлось. Прямо под холстом с закатным солнцем сидел и подозрительно смотрел на гостя некрупный, лысоватый, бритый, как актер, человек лет сорока пяти, в запростецкой чесучевой паре. Подбородок у него был очень маленький, куцый, будто срезанный, что придавало человеку вид капризный и обиженный. У окна стоял второй: хорошего роста, моложавый (хотя уже и далеко за пятьдесят), с военной выправкой и тоже с весьма подозрительным взглядом. Опять проверочка, понял Алекесей и ухмыльнулся – не нагло, но вполне расковано.
Челубей и Пересвет поздоровались с этими двумя по-свойски за руку и уселись рядком на диван в углу. Лыков остался стоять посреди гостиной, стараясь не выказать волнения.
– Лыков Алексей Николаевич, – проговорил, словно декламируя, тот, что был похож на военного. – Отца вашего как звали?
– Николай Викулович, – несколько озадаченно ответил Алексей. – А что, знакомы с ним были?
– В Польше Николай Викулович не служил?
– Еще как служил! Три ранения и Владимирский крест выслужил.
– В какой части служил, не припомните?
«Сослуживец батюшкин, что ли? – подумал Алексей. – Ну, тут им меня не поймать, биография-то почти подлинная».
– Очень хорошо помню, – отвечал он с достоинством собеседнику. – При восстании шестьдесят третьего года командовал пехотной ротой в отряде полковника, а затем генерал-майора Ченгеры, начальника Смоленского пехотного полка.
– За что же полковника Ченгеры в генералы произвели? – настойчиво продолжал расспросы «военный».
– Батюшка рассказывал – за дело у Буска 13 марта. Очень тяжелый был бой, до ночи шел. А до этого у Малогоща и у Пясковой скалы рубились с Лангевичем.
– Хм… – озадаченно протянул настойчивый собеседник. – А про сослуживцев своих по отряду батюшка ничего не рассказывал? Фамилии какие-нибудь помните?
– Я все батюшкины рассказы помню. Фамилии он называл следующие: батальонный командир майор Гальцгауэр, ротные командиры – капитаны Сертуков и Николэ. Но чаще других и с особенной любовью он вспоминал лучшего своего товарища, поручика Власа Фирсовича Озябликова…
В лице «военного» что-то дрогнуло, глаза, до сей поры чугунные, окрасились каким-то новым, добрым цветом.
– Влас Фирсович… это вы? – растерянно спросил Лыков и вдруг, к стыду своему, в горле у него незнакомо запершило.
Озябликов шагнул к Алексею, молча крепко обнял его и так застыл на несколько секунд. Потом отступил на шаг, осмотрел с ног до головы и веселым, прямо таки счастливым голосом сказал, обращаясь к бритому:
– Все, Елтистов! Вольно-оправиться. Личность господина Лыкова удостоверена – это сын моего лучшего полкового друга. Любезного, милого моего Николая Викуловича. Как он? жив ли?
Лыков сглотнул комок в горле, сказал глухо, в сторону:
– Умер в 78-м. Похоронен в Лодзи на Военном кладбище. А я даже на похороны не попал, сам в это время в госпитале тифлисском валялся.
Озябликов молча, с грустью смотрел на Алексея, смотрел долго, потом положил ему руку на плечо:
– Жаль. Как жаль! А ведь он меня из петли вытаскивал. Рассказывал ли?
– Как же! Это когда вы в плен попали возле Опочны. Вовремя батюшка с полуротой подоспел, вас спас… а капитана Никифорова не успел.[45]
– Да, повесили они Никифорова, а меня огнем жгли четыре часа, сами устали и отложили. А к вечеру Николай появился. Я ходить уже не мог, лежал под деревом в полусознании, и уж петля была привязана; четверти часа панам не хватило.
– Вы ведь их там тогда…
– А ты сам их бы в плен повел? После четырех часов раскаленных шомполов… А с Кости Никифорова они с живого кожу содрали тесаками, эти любители свободы!
– Нет, далеко бы не повел. До ближайшего оврага только.
– Вот и мы с твоим батькой не повели. Да солдаты бы нам и не дали. Они как увидели меня обожённого, да Никифорова, так все само собой зараз решилось. Отец твой был строгих правил, зверствовать нашим в ответ не дал – а желающие были – но и патроны на них расходовать не позволил. Сказал: патроны побережем для воинов, а этих шакалов повесить…
– Вас ведь оттуда в госпиталь направили, а батюшка через три недели на штыки налетел, еле выжил, да и потерял вас из виду. Все мечтал найти, письма писал в Военное министерство.
– Ушел я из воинской службы, Алексей, по-плохому ушел, – нахмурился Озябликов. – Когда выписался через полгода из госпиталя, в свой полк хотел вернуться, но государь рассудил иначе. За проявленное мужество и перенесенные раны перевели меня следующим чином в лейб-гвардии Преображенский полк. Только прослужил я там месяц с небольшим… Не понравилось этим паркетным шаркунам, что среди них, голицыных да нарышкиных, какой-то Озябликов появился. Вольно-оправиться! Смеялись надо мною, учили нож с вилкой держать, в театры таскали. А там билет стоит три пятьдесят, и далее восьмого ряда сидеть нельзя – полковую честь уронишь! У нас в Смоленском пехотном полковую честь на поле боя выказывали, а у этих – в театре. Как же я, с жалованием сорок восемь целковых в месяц и с матерью больной в Саратове, по театрам-то буду ходить? Чую я, надо из гвардии этой чертовой лытки делать, к простому народу прибиваться. На польских жолнеров в штыки ходить штабс-капитан Озябликов годился, а шампанское жрать – рожей и кошельком не вышел. Особенно же их фамилия моя не устраивала, полковую репутацию портила… Ну, и не сдержался я, сказал кое-что старшему полковнику, когда он меня в собрании за перчатки второго срока носки разбранил. Да и остальным, кто там хихикал, тоже сказал. Вольно-оправиться! Никто меня, кстати, на дуэль за это не вызвал, зная про мои три ранения и четыре ордена с мечами, больше, чем во всем их сраном полку. Но уйти со службы, конечно, пришлось… Болтался без дела четыре года – я ж только воевать и умею! Был маклером, распорядителем кислощейной фабрики, лесом торговал, в пух заторговался. Потом повезло: заметил меня Анисим Петрович Лобов. Поговорил со мной, понял, что я за человек, и взял к себе. Он любого насквозь видит и любому дело найдет, если человеком тем заинтересуется. Тут, Алексей, совсем другая жизнь, настоящая! Обывателям с улицы даже и невдомек, как на самом деле можно жить, так, что все законы Российской империи не для тебя писаны. Не для тебя – и все!
Так что, я теперь у Лобова начальником штаба, отвечаю за планирование и проведение всех силовых операций…
На этих словах сидевший молча и подозрительно смотревший на Алексея Елтистов вдруг вскочил и вытянулся почти по-военному; капризное лицо его приняло подобострастно-преданное выражение. В комнату вошел человек. Все сразу замолчали, так же, как и Елтистов, встали и подтянулись. Алексей понял, что появился хозяин.
Лобов оказался мужчиной лет пятидесяти пяти; крепкий, весь какой-то особенный, неспешный и очень уверенный. Даже не уверенный… от него словно исходили какие-то волны всеподчиняющей воли. Строгий взгляд из-под седых бровей, седая же борода, тертое лицо много повидавшего на своем веку человека, но самое заметное – это привычная властность. Естественная, ненапускная, осознающая свое право повелевать другими как нечто само собой разумеющееся. В каком-то из романов Достоевского Алексей помнил описание дезертира Орлова, так же естественно подчиняющего себе окружающих – «иванов», гордых кавказцев, тюремное начальство. Чувство превосходства над всеми без исключения… Лобов был, судя по всему, из этой же породы.
Между тем, все расселись полукругом, только Алексей остался стоять посреди комнаты, без стеснения разглядывая «короля» преступного Санкт-Петербурга. Без наглости, но и без стеснения – он решил именно такую манеру выбрать для общения со столь опасным собеседником. Тот же разглядывал Лыкова без особого интереса, даже и не разглядывал, а просто осмотрел мельком и обратился к Челубею:
– Ну?
– Спокойный, выдержанный, неглупый. Весьма уверен в себе. И очень сильный. Очень.
– Насколько?
– С Пересветом он не без труда, но объяснился. В свою пользу.
– Да ты что! – искренне поразился Лобов, и впервые всерьез взглянул на Алексея. – Такого ж не было никогда, а, Ванька?
Пересвет ухмыльнулся, осторожно потрогал челюсть, сказал, по-волжски окая:
– Да как быдто бы не совсем объяснился… не упал я таки…
– Понятно, – констатировал Лобов, и в упор посмотрел на Алексея, как будто углями прожег. – Ну, сказывай, что ты за человек? Чего хочешь? Во сколь себя ценишь? Говорят, ты нам условия выставляешь при найме: это стану, а то не буду…
– Правильно говорят, – спокойно отвечал Лыков. – Хочу я службы, что мне по силам и по нраву, и ценю себя за такую службу в 500 рублей помесячно («Эка загнул, наглец! – ахнул из угла Елтистов, – стоко и министры не получают!»). Готов за таковые деньги работать тяжелую работу, с риском для жизни и здоровья, к чему мне не привыкать. Любую, какую укажете, кроме одного: я мирное население не трогаю.
– А мента[46] прикажу тронуть – как тогда?
– С дороги отодвину, бока намну, научу тихую жизнь любить, но убивать не стану. Больно они злы делаются, когда ихнего брата кассируют, а у меня планы на спокойную старость.
– М-да… все капризы… А если велю Васю-Василиска сократить, первейшего охтинского «ивана» – что на это скажешь?
– Такого добра, господин Лобов, сколько угодно.
– Дурак! Это же опасней, чем мента замочить, за него мстить будут.
– Мести уголовных я не опасаюсь – сам опасный, а вот месть государства мне к пенсии ни к чему.
– Так, – сказал, минуту подумав, Лобов, – стало яснее, но не до конца. Люди делятся на волков и на баранов. Посередке быть нельзя. У волка никаких ограничений нет, иначе это уже не волк. Ты кто?
– Я уже размышлял об этом. Видимо, волкодав.
В комнате сразу стало тихо.
– Нет, в другом смысле, – усмехнулся Алексей. – Зря напрягаетесь, я не из «чертовой роты»[47]. Там, полагаю, дураков таких нет в пасть ко льву забираться… А волкодав потому, что овцы мне не братья, но и волки не товарищи. Так себя ощущаю и так живу. Готов за это платить свою цену. По характеру же я то, что раньше называлось ландскнехт. Наемник. Вы, допустим, волки. Ловит волк, ловят и волка…Наверняка есть у вас среди серых и недруги, причем многонько. Вот и купите себе волкодава! Хорошего и задорого. Разумеется, с испытанием…
– Копишь, копишь, да чёрта и купишь, – проворчал недовольно Елтистов, но «король» перебил его:
– Теперь совсем понятно. Знавал я таких, и ничего – полезные были люди. Будь хоть пёс, лишь бы яйца нес! Испытаем мы тебя непременно, и ежели окажешься годен – договоримся. Боевитые люди нам сейчас нужны, потому как у нас серьезные дела, и надобно их охранять. Озябликов! Бери его в работу. Что там в первую очередь?
– Как раз «вяземские кадеты» бузят. Стеклянный фликель снова закоперщик: мы, говорят, Васе-Василиску под крыло перешли, потому платить не будем. Пора меры принимать, иначе всю Лавру упустим и Сенной рынок вместе с ней.
– Понятно. Васек давно нарывался, пора его сократить. Действуй. Лыкова – в самое пекло! А то – пять сотен в месяц… Елтистова вон чуть кондратий не хватил…
Глава 6
Первые впечатления
По итогам беседы Алексей поступил, с испытательным сроком, под команду Озябликова, а Челубей взял над ним как бы шефство, дабы быстрее освоился. Лыков был весьма доволен таким началом. Все его детство прошло под батюшкины рассказы про верного друга Власа Фирсовича, и вот теперь этот человек – непосредственный ему начальник. Челубей же сразу вызвал у него необъяснимую симпатию, столь разнясь со своим жутким напарником Пересветом. Однажды так же быстро ему глянулся Виктор Таубе, и до сих пор они друзья; но Таубе – русский офицер, а Челубей бандит и, наверняка, убийца. Да и Озябликов, честный солдат за царя и отечество, тоже оказался преступником, притом крупного калибра, а Лыков здесь для того, чтобы засадить его в тюрьму… Даже думать сейчас об этом не хотелось, да было и некогда. А интересно: встреть их Алексей сразу после войны, кем бы он теперь был – сыщиком или уголовным?
Но самое сильное впечатление произвел, конечно, Лобов. Этому человеку не то, что не стыдно – хотелось подчиняться. Будучи знаком с министрами, губернаторами, директорами департаментов, подобной фигуры Алексей еще не встречал. Удастся ли им всем вместе: Плеве, Благово и ему, грешному, одолеть такого противника – это был вопрос…
Челубей тем временем отвел Лыкова в дом через дорогу от лобовского, в котором квартировал сам и где оказалась свободная комната. Хозяйкиного сына послали в Тарасовский дом с запиской и деньгами за лыковским баулом, а сами покамест сели в комнате у Якова – небольшой, аккуратной (не бывший ли юнкер господин Недашевский?), с одним окном в переулок. Яков стал вводить Алексея в курс дела:
– Мы с Ванькой Пересветом – личные лобовские телохранители. Он уже давно, лет шесть, еще с парней, а я только третий год. Без нас, или хотя бы без одного из нас, Анисим Петрович из дому не выходит. Это только так по кабакам говориться, что он питерский «король»; все намного сложнее. Ему традиционно не подчиняются обе Охты – они никогда никому не служили. Поскольку промышленности там никакой нет, оно бы и пусть себе живут, как вздумается, но вот только голодные бойцы оттуда повадились ходить на наши огороды. Сейчас на Охте появился коновод – молодой, но уже знаменитый Вася-Василиск, деловой, бежал с каторги за тройное убийство. Отчаянный человек, самый настоящий духовой[48], чудовищно силен, а к тому и весьма неглуп для своего окружения. Что называется, прирожденный вожак. Не боится никого, даже Пересвета, а Пересвета в этом городе боятся все. Кроме, разумеется, Лобова.
Далее, так же исторически нам не подчиняется Петербургская сторона. Она тоже никогда и никому не подчинялась. Там уклад жизни наполовину деревенский, чужих не любят и сразу мутузят. На Большом проспекте даже днем пошаливают, а ночью просто беда. Держат Петербургскую сразу три банды, самые старые в городе: «Роща», «Гайда» и «колтовские». В Петровском и Александровском парках у них полная республика, самоуправляемая «башибузуками»[49], и там никогда не бывает ни полиции, ни посторонних. То, что делается на нашем берегу Невы, их совершенно не интересует, а интересует их лишь война с Васильевским островом. Противостоянию этому уже более ста лет, началось все еще при Екатерине. За это время с обеих сторон сложились свои бойцовские династии, имеются легендарные герои, создан целый устный эпос.
Впрочем, и сам Василь тоже не однороден. Там сейчас две банды и, в отличие от Петербургской стороны, они друг с другом во вражде. Собственно «васинские» квартируют в Соловьевском садике, а «железноводские» – с Голодая – располагаются к северу от Малого проспекта. Границей между двумя державами является речка Смоленка, и при попытке ее перехода нередко режут насмерть. Полиция там так же не появляется со времен Екатерины…
Кто у нас еще остался за Невой? Да, Выборгская сторона. Она пока совершенно ничья, начиная с шести часов вечера все образованное оттуда удирает, и на улицах хозяйничает пьяная рабочая масса. Поживиться там особенно нечем, но, судя по всему, «заречный король» Вася-Василиск уже начал туда карательную экспедицию и, при отсутствии у выборгских организации, скоро их себе подчинит.
Это вот очерк тех, кто нам не подчиняется. Как видишь, таких немало. Зато Лобову однозначно подчиняется вся Лиговка, а это самый преступный район столицы. Случись большая заварушка, штыков у нас больше всех, а главное – командиром Лобов! Такого вождя нет более ни у кого. Мы управляем также всей Садовой с ее рынками, Калашниковской набережной, Песками, недавно покорили Нарву и Гутуев остров. В конце зимы Пересвет разгромил «Малинник» и убил, в глазах толпы, тамошнего родского по прозвищу Казак Раззявин. Теперь на левом берегу остались лишь два непокорных аула: Горячее поле[50] и Вяземская лавра. С Полем-то мы легко разберемся, а вот Лавра… Только Блоха как-то ухитрялся держать ее в повиновении – был такой питерский «король», похлеще, говорят, нашего Лобова. Но его убили два года назад, причем не здесь, а в Нижнем Новгороде, непонятно, кто и непонятно, за что. Темная какая-то история… После его смерти началась война между бандами, как это часто бывает. Лобов тогда был старшим на Лиговке и Обводном и входил в близкое окружение Блохи. Ну и вроде бы как унаследовал этот удел… Как раз тогда я к нему и пришел, и навоевался всласть – самое горячее время было. Началось все с менял. Если ты знаешь, меняльное дело очень доходное, потому, как ему всегда сопутствует ростовщичество. В последнем и создаются наибольшие доходы, ибо берут там проценты вдвое более положенных по закону[51]. Ростовщичеством в Петербурге занимаются исключительно евреи и скопцы, причем первые преимущественно между Невой и Фонтанкой, в своих квартирах, а вторые – в лавках, пассажах, на рынках и, конечно, в Банковской линии. Между ними всегда было соперничество, а поссорились они окончательно, когда не поделили порт и буяны. А ведь на многих из них, особенно на Сельдяном, круглый год раздробительная торговля с большими оборотами, менялам там особый интерес. Скопцы обратились за помощью к Лобову. Анисим Петрович на евреев прикрикнул, сказал, что порт будет за скопцами, а буяны, мол, поделить поровну. И сыны израилевы, недолго подумав, наняли убийц. На Песках правил тогда «удельный князь» Федор Просфиркин по прозвищу Атилла. И этот Атилла с тремя своими гренадерами подкараулил Лобова на выходе с его кожевенного завода в Чекушах. А с Анисимом Петровичем был тогда только Пересвет – меня услали в дом Дероберти за недельной выручкой…
Состоялась схватка. Когда произошло нападение, Лобов сразу побежал наверх, в контору, где у него было ружье, а Пересвет один, в течение двух минут, бился с четверыми. Прорваться в завод песковские так и не сумели – сильно избитый и несколько раз порезанный, Иван продержался и никого внутрь не пустил. Потом прибежал Лобов с двустволкой и свалил двоих, начав с Атиллы. Оставшиеся двое кинулись бежать. Пересвет в дальнейшем уже не участвовал – упал без сознания; его потом долго лечили. А Анисим Петрович бросился в погоню, догнал одного и задушил…
После этого нас уже боялись задирать, и постепенно Лобов занял все, что к югу от Невы. Пересвет сейчас – лобовская кувалда. Если где нибудь возникает неповиновение, Анисим Петрович присылает Ивана и бунт мгновенно прекращается; с Пересветом шутить нельзя. Он действительно страшный человек: как оранг-утан в джонглях, запросто так может убить кого угодно. Именно кого угодно: женщину, ребенка, даже еще не роди…
Тут Челубей запнулся, поняв, что сказал лишнего:
– Ну, словом, не мне чета, хотя я здорово его подкрепил. Но сейчас особое время. Надобно совершить длинную и опасную командировку в Сибирь: там пропали подряд два наших «золотых фельдъегеря». И с ними пять пудов золотого песка… В одиночку в этом не разобраться, слишком опасно; идти лучше вдвоем, но и хозяина без охраны не оставишь. Поэтому мы и начали поиск нового человека, подходящего для таких дел. Пересвет останется при Лобове, а мы с тобой, если ты выдержишь испытательный срок, отправимся на Амур. Мне бы хотелось, чтобы ты справился… По-моему, мы с тобой поладим. Только Елтистов против тебя, что-то все подозревает, проверяет… Но все тут решает Анисим Петрович, а ему срочно нужен боевик. Так что, Алексей – завтра не подведи.
Благово проснулся посреди ночи от дурного предчувствия. Сел в кровати, отогнал остатки сна, спросил себя: что случилось? Ясно, что Алексею угрожала опасность. Но как, где? Что-то свербило, просилось из памяти, из подсознания, но сформулировать ясно это что-то он не мог. Мелькнула какая-то фраза, строка в рапортах и, не осмысленная до конца, улетела, осталось только ощущение приближающейся беды. Просыпайся, Павел, и думай! думай!
Благово заставил себя успокоиться, испил воды, закурил сигару и пошел в кабинет. Голова стала уже ясной и он понял теперь, где искать. Сейчас! На столе лежали литографированные материалы по банде Лобова. Павел Афанасьевич зажег лампу, выдохнул в потолок дым и, в который уже раз, раскрыл папку. Вот рапорт на Пересвета. Замешан в убийстве князя Мустафы Василь-Сурского; оставлен в сильном подозрении. Убийство Ицки Мордуха Аврушкина: все свидетели отказались от своих показаний… Нет, не здесь. Борейто. Аферы с обменом ассигнаций на серебряную и золотую монету… Контрабандный вывоз металлов… Необандероленные сигареты и папиросы… Не то. Дальше Елтистов. Имя – Елизвой. Эк его угораздило… А жена – Фавста! Ну, и семейка… Легальное занятие – владелец портомойного плота на Фонтанке у Чернышова моста. Прямо под окнами МВД штаны стирает, наглец! Ранее служил в Капитуле Российских орденов старшим кассиром, уволен без прошения за подделку ассигновок…
Тут Благово стукнул себя кулаком по колену. Конечно же! «Крестовые деньги»! Он кинулся к шкафу, быстро нашел нужный том, раскрыл на 368-й статье и прочитал сам себе вслух: «Каждому, удостоенному знаком отличия Военного ордена четвертой степени, назначается в прибавку одна треть годового оклада, а при увольнении в запас, в инвалиды или в отставку, в виде пенсии по смерть». Лыков, как и любой кавалер солдатского Георгиевского креста, получал от Военного министерства через Капитул орденов положенное пособие, весьма незначительное.[52] Деньги эти по его заявлению пересылались в Нижний Новгород матери и сестре. А не в Петроковскую губернию! Вдруг Елтистов, используя старые знакомства, проникнет в архив Капитула и выяснит этот факт? Благово торопливо кинулся одеваться.
Один из ста двадцати восьми петербургских телефонов был установлен на квартире Плеве. Благово на извозчике добрался до приемной министерства и от дежурного телефонировал своему директору. Когда тот понял, что титулярному советнику Лыкову угрожает опасность, в департаменте полиции собралось экстренное секретное совещание. Приглашенный на него и. о. начальника сыскной полиции Виноградов немедленно вызвал своего заштатного агента, служащего в Капитуле орденов делопроизводителем. Быстро и со знанием дела агент составил новый формуляр на Лыкова и уехал, дабы успеть поместить его в нужную папку.
На другой день он донес, что опасения Благово подтвердились: Елтистов перед обедом приходил в Капитул и долго пропадал в архиве.
Павел Афанасьевич сходил после этого во Владимирский собор и поставил двухрублевую свечу за здравие раба Божьего Алексия.
Глава 7
Вяземская лавра
В 1852 году отставной штабс-ротмистр князь А.Е.Вяземский купил у Полторацких пустующую землю за садами трех их особняков по правому берегу Фонтанки. Участок между Обуховским проспектом, Сенной площадью, Полторацким переулком и рекой он решил заставить доходными домами. Сначала выстроили огромный трехэтажный дом по проспекту и три флигеля во дворе; затем количество строений постепенно довели до тринадцати. То ли близость Сенного рынка сыграла свою роль, то ли неразборчивость княжеских управляющих, но только весь квартал доходных домов быстро превратился в огромный, развращенный, грязный, самый страшный в Петербурге притон для отбросов общества и уголовных.
Конечно, в обширном квартале «Вяземской лавры» (так прозвали это место в городе) большинство населения составлял честный трудящийся элемент. Многолюдные артели корзинщиков, наборщиков, плотников и хлебопеков по утрам выходили из своих тесных квартир на заработки. Внутри лавры были собственная бойня (поражающая антисанитарией и снабжающая всех лотошников Питера рубцом и печенкой), кузница, пекарня; в пристрое Ветошного флигеля имелись бани, и даже с двумя «дворянскими» номерами. Однако в этих чистых номерах гуляли только воры после фарта, а в комнатках над ними был главный в столице притон по изготовлению адресных билетов[53]. В доме номер 7 по Забалканскому проспекту помещались сразу четыре трактира, в том числе знаменитая «Сухаревка», описанная Достоевским и Вс. Крестовским. Через дорогу стоял не менее знаменитый дом Дероберти, весь первый этаж которого занимали низкопробные дома терпимости. Несколько сот вяземских проституток поставляли себя и туда, и в легендарный «Малинник» на Сенной площади (14 публичных домов в одном здании!).
«Вяземская лавра» сделалась каким-то особым городом в городе, местностью со своими нравами, законами, обычаями и огромным населением. Полицейская статистика насчитывала во всех ее строениях шесть тысяч двести человек – но это лишь по прописанным паспортам. Журналисты и городские администраторы называли цифру десять тысяч. Знатоки петербургского дна, то есть его бывалые обитатели, оценивали численность «вяземских кадетов» в летние месяцы в двадцать тысяч человек – целый уездный город! Правили в этом городе, как и во всем преступном мире столицы – тряпичники.
Каждое утро вместе с корзинщиками и плотниками тряпичники выходят на промысел и растекаются по улицам Петербурга, не исключая и самых дальних его окраин. Но промысел у них особенный. Заходя во дворы и подъезды, а часто и в квартиры, предлагая продать им тряпки, ношеные старые вещи, вступая в разговоры с жильцами, старьевщики делают ещё одно дело. Они незаметно высматривают обстановку квартир, оценивают достаток их обитателей, запоминают расположение комнат, конструкцию замков и внимательность дворников на воротах. Что-то при этом, конечно, и покупают, торгуются, бранятся… Каждому артельный староста выдал поутру двадцать рублей серебром, и торговля грязным барахлом, лохмотьями и сломанными вещами идет бойко до обеда. В обед тряпичники приходят в те кабаки, которые честному человеку лучше не посещать: «Избушка» по Знаменской, «Рим» в Апраксином переулке, «Пекин» на Моховой или трактир Срамотко на Садовой. Там они усаживаются со своими старыми комиссионерами – квартирными ворами, и обговаривают наметившуюся покражу: указывают дом, рисуют план, сторговываются о цене на добычу. В зависимости от условий, вызывают тех или иных специалистов: шниферов (ночных воров), циперов (таскающих верхнее платье из передних), фортачей (форточников) или скокарей (взломщиков); одновременно скупают дневной улов у маровихеров. Ночью эти же тряпичники или стоят в ближайшем переулке с пролеткой, или дожидаются воров в условленном месте. Украденное мгновенно сбывается, перепрятывается и, если успевают, то и перешивается той же ночью в подпольной пошивочной мастерской хозяина артели. Утром следующего дня переделанные до неузнаваемости вещи уже торгуются на Сенном и Толкучем рынках, а «честные тряпичники» опять выходят на промысел.
Ветошные артели являются важнейшим обслуживающим механизмом преступного мира Петербурга. Они обеспечивают главное: сбыт похищенных вещей, и снабжают непосредственных исполнителей преступлений деньгами, паспортами и квартирами. Не только воры несут им свою ночную лобычу, но и грабители, и убийцы. На многих вещах кровь их бывших хозяев, но тряпичникам это дело привычное и ничуть их не смущает. Замоют – и портному на стол. Самые страшные налетчики, на совести которых не одна человеческая жизнь, главари жутких банд, беглые с каторги, которых трепещет весь город, и те вынуждены дружить с коноводами этого обычного на вид ремесла. Хозяева тряпичных артелей – а их в городе не более двух десятков – влиятельнее любого «ивана» или родского воровской шайки. Потому, как без их поддержки, без их денег не продашь и, значит, попадешься сыщикам. Все эти двадцать человек богаты, имеют каменные дома с лавками, в домах подвалы с потайными комнатами; имеют и конюшни, где спрячут лошадь с повозкой и убитое тело, если потребуется. Наружно они купцы и гласные думы, многие – благотворители и жертвователи на храмы. В артель же они берут людей только из своей деревни, родственников и свойственников, связанных круговой порукой, и орудуют без помех годами и десятилетиями.
Так сложилась элита «Вяземской лавры», верхушка, заправляющая всем в этом необычном государстве, расположенном в четырехстах саженях от здания Министерства внутренних дел. Хозяева тряпичных артелей и главари банд объединены в один ареопаг, некий верховный совет, который принимает решения по важнейшим вопросам жизни лавры, обязательные для исполнения ее обитателями. При этом тринадцать домов посреди столицы сделались центром притяжения всего дурного и преступного в восьмисоттысячном городе. Ежедневно лавра пополняется новыми подданными: спившимися чиновниками, беглыми солдатами, беспаспортными бродягами, деклассированными элементами всех мастей и народностей. Нередкие полицейские облавы никогда не приводят к поимке крупной рыбы: беглых каторжников (а известно, что их не бывает менее полусотни зараз), убийц в розыске или опасных дезертиров. Мелочи без адресных билетов, бродяг «не помнящих родства» всякий раз набирают толпами, а на следующий день тесные конурки уже кишат новыми обитателями с сизыми носами…
Главный штаб «Вяземской лавры» расположен не в Ветошном флигеле, часто именуемом так же и Тряпичным. Не здесь двенадцатый круг местного ада, хотя и тут еженощно творятся жуткие дела. Штаб и основная резиденция «иванов» находятся в Стеклянном флигеле, прозванном так за свои большие, часто поставленные, как в теплице, окна третьего этажа. На этом этаже – истинный ад, какой не снился и Достоевскому. Подлинные страшные нравы и условия нечеловеческой жизни этого места некому описать: тот, кто владеет пером, никогда туда не попадет, а тот, кто попал, никогда об этом не напишет…[54]
Они подъехали со стороны Горсткиной улицы на двух пролетках. Вчетвером, колонной по одному, прошли в подворотню Корзиночного флигеля, пересекли сначала Пустой двор – зеленый, засаженный чахлыми березками, потом Порожний – втрое меньший и ничем не засаженный, а заваленный всяким хламом и залитый грязью так, что зловонная жижа измазала сапоги по щиколотку. Лыков дважды был здесь на задержаниях (не на облавах, а на арестах, в гриме) и знал, откуда эти мусор и вонь. Справа чернела четырехэтажная глыба Тряпичного флигеля, в окна которого десятилетиями выбрасывали на двор всякий хлам его грязные обитатели. Теперь прямо будет Конторский флигель, а налево от него – Стеклянный. Тот самый.
Шедший впереди Пересвет приблизился к полуоткрытой двери Стеклянного флигеля и остановился. Алексей разглядел в утренних сумерках его лицо – собранное, серьезное. Даже для этого, бесстрашного, пугавшего весь Питер человека, визит сюда не был развлечением.
Все четверо собрались у входа, затем Озябликов молча подтолкнул Лыкова в спину. Пересвет снова вошел первым, за ним – Челубей, потом Лыков; отставной штабс-капитан замыкал колонну. По грязной, заплеванной лестнице они бесшумно поднялись на третий этаж. Какой-то лохматый жилец в исподнем, но в дворянской фуражке как раз выходил из крайней двери – видать, до ветру. Пересвет молча сунул ему под нос огромный кулак, и тот так же молча исчез обратно в квартире.
Вдруг из-за его спины, из черного, зловонного чрева притона, выскочил бородатый детина, голый по пояс, с большим серебряным крестом на гайтане, болтающемся на крепкой волосатой груди. Он схватил Пересвета за ворот и заорал на весь дом:
– Васек! Атанда! Лобовские!
Пересвет, не мешкая, стукнул его кулаком сверху по темени и перешагнул через упавшее тело. Все четверо ворвались в квартиру. Открылся широкий коридор, освещенный масляной лампой; в конце его – большая комната, совсем темная, а в ней шевеление и говор множества людей.
– Пересвет, Челубей – фланкируйте Лыкова, – вполголоса приказал Озябликов. – Я прикрою тыл. Алексей, приготовься! и помни, он совсем бешеный…
Сразу же после этих слов из темноты бросились на них люди – кто в лохмотьях, кто в подштанниках; тускло блеснула сталь топора в чьих-то руках. Первым вырвался в коридор рослый, атлетически сложенный парень в кубовой рубахе, с лихими, веселыми и действительно бешеными глазами.
– Товарищи! Рви лобовских! – крикнул он так задорно, словно все происходящее было игрой. Словно не его пришли убивать.
Пересвет и Челубей расступились, и Вася-Василиск – а это, конечно, был он – налетел на Алексея. И все тут же закончилось. Лыков ударил его в переносицу, точно и очень сильно. Бандит нарвался на кулак с разбегу, словно ударился головой о стену – он не успел даже прикрыться. Крупное его тело застыло, затем переломилось в поясе, и громила упал комком под ноги Алексею.
Все сразу остановились, застыли, как это бывает во сне. Пересвет и Челубей в боевой стойке замерли по бокам, Озябликов щелкнул сзади курком револьвера, но пять или шесть бойцов «охтинского короля» стояли, как вкопанные. Мертвая тишина, только здоровые детины сопят, да где-то в глубине коридора хнычет ребенок.
Лыков ухватил Васю-Василиска за грудки и потянул вверх, но ворот рубахи лопнул. Тогда он схватил его левой рукой за волосы и оторвал на вершок от пола. Замахнулся, держа на весу. Бандит хлопал глупо глазами, из сломанного носа двумя струйками лилась кровь. Подумав секунду, Алексей прижал Василиска затылком к стене и примерился. Стало совсем тихо. Все наблюдали это, словно боясь пошевельнуться. Лыков коротко ударил над переносицей, разжал пальцы, развернулся и молча пошел к лестнице.
Только когда они вышли из Стеклянного флигеля на улицу, внутри начался приглушенный шум. Пересвет зыркнул голубыми глазами:
– Думаешь, убил?
– Зачем убивать, – ответил Алексей. – Найдут тело, полиция станет искать… Живой он. Только будет теперь дураком на весь оставшийся ему срок. И станет ходить по Заднему проспекту полным идиотом, показывая Выборгской стороне и Охте, каково это – ссориться с Лобовым.
Челубей и Пересвет переглянулись, а Озябликов молча хлопнул Лыкова по плечу, и они гурьбой отправились к поджидавшим их пролеткам. Светало. В Стеклянном флигеле дико, по-волчьи, завыла женщина.
Лыков шесть дней не был дома и решил наконец сходить туда переночевать. После удачного налета на «Вяземскую лавру» отношение к нему несколько изменилось. Челубей и Пересвет поняли, что пришел боец не хуже их, Озябликов просто был доволен – нашел сына своего лучшего друга; только Елтистов смотрел по-прежнему капризно и подозрительно. Понятно было, что главные проверки еще впереди, но ликвидация[55] Васи-Василиска наделала шуму и укрепила позиции Лобова в городе. Пролежав без сознания сутки, «охтинский король» действительно очнулся идиотом. Травма головы была, по-видимому, неизлечимой. Слух о том, что Васю убить не убили, но «прописали на одиннадцатой версте»[56], потряс преступный Петербург. Лавра испуганно притихла, Охта затаилась за рекой, осиротевшие василисковцы готовили явку с повинной в «Три Ивана». Когда все это выяснилось, Лыков отпросился у Озябликова якобы к женщине и, ближе к полуночи, ушел.
От напряжения последних дней голова стала чугунной, и он решил пройтись к себе пешком, по берегу Невы. Лыков жил в 4-м участке Литейной части, на углу Шпалерной и Воскресенского переулка. Слежки он не боялся: домовладелец был отставной участковый пристав, человек надежный, дворниками же набирал трезвых, неболтливых мужиков под стать себе. Алексей жил в этом доме под своим именем, но без регистрации; об этом знали те, кому положено, из Департамента полиции, и никто более. Даже если люди Лобова вычислят этот его адрес, ничего лишнего они не разведают. Кроме того, как известно, у каждого серьезного мазурика в Питере не менее двух квартир, и в положении Алексея наличие второго адреса естественно.
Была белая ночь. В воздухе разливался тот необычный свет, который так нравился Лыкову, за который он многое прощал этому холодному, жестокому городу. Он неспеша шел по набережным: Английской, Адмиралтейской, Дворцовой, подходил уже к Гагаринской. Воздух с реки освежал и выдувал усталость. Уличные фонари в Петербурге с 1 мая по 1 августа не зажигаются, поэтому в сумерках желтели только пятна окон да впереди ярко, как костры, горели электрические огни Литейного моста. Из-за решетки Летнего сада бесшумно вышли четверо. Лыков насторожился: он знал, что любой невинный на вид чудик может убить самого могучего атлета. Однажды в Полюстрово, при задержании торговца входящим в моду «кикером»[57], его чуть не зарезала одиннадцатилетняя цыганская девочка, подкравшаяся сзади… Но на этот раз все обошлось: дергачи искали более легкую добычу. Поглядев на уверенный вид и широкие плечи Лыкова, они так же бесшумно удалились обратно за угол.
Алексей заявился к себе уже в первом часу ночи, с ясной головой и легкой, приятной усталостью. Прошел в залу, зажег свечу и сразу увидел на столе неподписанный конверт. Он вскрыл его, но вместо инструкций от начальства обнаружил темно-бронзовую медаль в память Священного Коронования императора Александра III. К ней был приложен приказ по министерству внутренних дел о присвоении ему «за отлично-примерное исполнение служебных поручений по обеспечению безопасности коронации» следующего классного чина коллежского асессора. То-то Благово порадовался! Лыков стал титулярным советником еще в Нижнем Новгороде, в семьдесят девятом году, и с тех пор в Табели о рангах не подымался. Павел Афанасьевич полушутя-полуутешительно говорил ему, что чин этот почетный. Сам Пушкин погиб, будучи «тэтээсом»[58], а Путилин, когда в 1866 году возглавил первое в России сыскное отделение Петербургской полиции, также пребывал в скромном девятом классе. Быть на одной ноге с такими людьми было для Алексея лестно, однако здоровое его честолюбие требовало большего; к старости он определенно желал примерить белые брюки[59]. Поэтому награда была, чего греха таить, приятна. Теперь он «ваше высокоблагородие»! Видимо, император остался очень доволен тем, как прошла долгожданная, отложенная на два года, коронация, и на ее организаторов пролился наградной дождь.[60]
Хотелось с кем-то поделиться радостной новостью, обмыть награду. Лучше всех для этого годился, конечно, Таубе. Где ты, барон Витька?
Лыков вздохнул, убрал конверт с приказом в тайник и принялся писать рапорт о произошедших за последние шесть дней событиях.
Глава 8
Опасное задание
Вечером следующего дня Озябликов вызвал к себе Челубея и Лыкова для разговора. Он снимал весь второй этаж дома на углу Витебской улицы и Упраздненного переулка, где жил с невенчаной женою и тремя взрослыми дочерьми. Легальное занятие Власа Фирсовича было – владелец завода ламповой копоти и литографных красок. Ему принадлежало также месторождение литографного камня в Карасубазаре под Симферополем, единственное во всей России. Два этих законных ремесла позволяли Озябликову держать наружность крупного деловика и жить весьма состоятельно. Все домашние знали, однако, истинный род его занятий, почему, когда силачи прошли к хозяину в кабинет, говорить о деле откровенно никто не опасался.
– Вот что, орлы недорезанные, – сказал им начальник лобовского штаба. – Командующий поставил нам очередную непосильную задачу, которую мы с честью выполним. Требуется съездить в Москву и поговорить там по душам с Анчуткой.
– Совсем по душам? – поинтересовался Челубей.
– А это как разговор пойдет. Зададите ему вопрос о пропавших наших «золотых фельдъегерях». Есть подозрение, что без него тут не обошлось… Ежели станет вилять, темнить, или того хуже – хамить, тогда уж совсем по душам с ним поговорите. В том смысле, что душу вон…
– Кто таков этот Анчутка? – спросил Лыков, хотя хорошо знал по оперативным данным, о ком идет речь.
– Это московский нынешний «король». Соместник Анисима Петровича по Первопрестольной. Кличка ему, вольно-оправиться, не просто так дадена; она полностью соответствует его поганому характеру.[61] Таковую сволочь даже замучишься искать… К тому же еще и гнилозубый – жрет сладкое целыми днями, а лечить клыки боится. Настоящие имя и фамилия его – Фома Петров Ещин. Родом из города Недригайлов Харьковской губернии, сын извозопромышленника. В Москве проживает по чужому паспорту, потому как вышел с каторги «переменив участь». Получил в свое время двадцать лет кандалов за убийство шести человек – семьи и прислуги владельца словолитни Акилизова. Шумное было дело… На каторге пробыл недолго: переложил свой грех на бродягу, быстро освободился и вот уже третий год, как «московский король». Платит ежегодно к Пасхе приставу две тысячи рублей, и живет себе спокойно. Теперь его фамилия просто Иванов.
– Как его охраняют?
– Об этом и совещание. Обитает Анчутка, как и положено чёрту, в «Аду». Это такой трактир на углу Грачевки и Цветного бульвара, первый московский «пчельник», похлеще «Каторги» и «Сухого оврага». В «Аду» расположена его штаб-квартира, а так же дислоцируется значительная часть активных штыков. Ещин проводит там ежедневно большую часть дня, жрет, пьет, туда ему и девок возят. В этом месте его не взять – охрана не допустит. Ночует он в собственном доме в Замоскворечье, у Ивана-воина, там тоже не подступиться – караулят три человека с собаками. Наиболее уязвим Анчутка в дороге, где с ним обычно только один кучер. Правда, кучер этот особенный; кличка у него – Коська-Сажень. Он взаправду ровно в сажень росту[62], на два вершка выше нашего Пересвета, представляете! Силы, говорят, какой-то неимоверной, первый на Москве богатырь. Побить его невозможно – высоко, до рожи не дотянешься. Когда делались попытки, Коська просто брал нападавших и отбрасывал от себя на несколько аршин… Белым оружием[63] тоже опасно действовать: с одного удара такую тушу не свалишь, а второго сделать он уже не даст. Так что, самое верное – пулей. Лучше бы, конечно, из винтовки, но ее на улице не покажешь, так что садите оба сразу из револьверов в голову, с обоих рук и погуще. Алексей, как у тебя с крупнокалиберным оружием? Могу выдать казенное.
– Не надо, у меня «бульдог» пятьдесят седьмого калибра и «веблей-грин» сорок пятого. Разберемся. Есть и на черта гром… План трактира и маршруты анчуткиных перемещений имеются?
– Да.
– Надо полагать, Влас Фирсович, кто-то из своих его сдает, раз такие подробности известны?
– А вот это, Лыков, не твоего ума дело, – осадил Алексея Озябликов, но тот понял, что догадка его верна. – Выезжаете сегодня в ночь на машине. Остановитесь на постоялом дворе Триандафилова в Хамовниках, комната на двоих уже заказана. В кухмистерской на Грачевке – вот она на плане, позади трактира – сдадите заранее оружие официанту Прохору. Анчутка ждет вас в чистой половине «Ада» завтра ровно в три часа пополудни; на входе вас обыщут. Беседа будет короткой; не дерзите, не угрожайте, а сразу уходите. Будут провокировать – не поддавайтесь. Выйдете из трактира и сядете в кухмистерской, уже с оружием. Займите место возле окна. Со двора есть особый вход в трактир, не для публики, а для проноса краденного, его там каждую ночь тырбанят. Через него в четыре часа Анчутка выйдет и сядет в одноконную коляску; на козлах будет Коська-Сажень. Двор всегда пустой, полиции не бывает никогда. Там вы и нападете. Вот деньги, виды от Петербургской ремесленной управы; по ним вы писари биржевой артели. Вот еще бирки – плакатные паспорта на торговцев из княжества Липпе. По немецки не шпрехаешь? Ничего, зато Яков владеет в совершенстве. После того, как завалите Анчутку, на вас по всей Москве охота начнется, вот и сподручнее будет под немчуру перекраситься. Уезжайте в противоположную от Питера сторону, на Курск. Сойдете в Молодях, третья станция от Москвы на 69-й версте. Подле станции постоялый двор с кабаком, хозяина зовут Микитич. Это наш человек, он обеспечит ваше возвращение. Все, с Богом!
И Озябликов, наспех простившись, вытолкал их обоих на улицу. Алексей понял, что это он так переживает за вновь обретенного сына своего приятеля. Совсем, как Благово всякий раз, когда Лыков отправляется на опасное дело… Это трогало, но разнюниваться было некогда – до поезда оставалось восемь часов.
Когда через час Недашевский зашел к Лыкову, тот сидел за столом и осторожно размешивал что-то в фарфоровой посуде костяным ножом. Вокруг него веером лежали заряды, капсули и части разобранных револьверов. Заинтересовавшемуся Якову Алексей объяснил, что переделывает пули Снайдерса, начиняя их разрывным составом из равных долей антимония и бертолетовой соли, а костяной нож – для избежания искры. Второй свой револьвер Лыков зарядил крестообразно-расширяющимися пулями лорда Кина, которые при попадании образуют рваную рану диаметром с вершок. Таким образом, оба револьвера Лыкова были снаряжены огнеприпасами повышенной мощности, что при большом калибре не оставляло противникам шансов устоять на ногах даже в случае легкого ранения. Челубей признался, что ничего подобного раньше не видел, хотя почти закончил кадетский корпус и весьма интересовался оружием. «Повоюй с мое», ответил ему Алексей, и принялся сноровисто собирать «веблей-грин».
Поезда в Москву ходят двух видов: пассажирские и почтово-пассажирские, причем вагоны 1-го класса имеются лишь в смешанных составах. Экономный Озябликов снабдил их разъездными исходя из «желтого» тарифа (тринадцать целковых в один конец), но сибарит Челубей предложил Алексею добавить по трешнице из своих до «синего» и проехаться с комфортом[64]. Потом он пожелал еще и спальные диваны, а это плюс два пятьдесят сверху; зато уж и ехали они, как баре. Яков подбивал Лыкова даже на семейный вагон, утверждая, что мамаши посылают своих дочек ездить только в них и, значит, есть шансы на добычу, но тут уж Алексей отказался.
В итоге они катили по Николаевке в двухместном отделении вагона (отдельных «купе», как за границей, в России не существует), и вяло созерцали окрестности. До Москвы 604 версты; из тридцати шести станций только в семи устроены буфеты, а кондукторы разносят лишь низкосортный чай. Но Яков оказался заботливым и опытным попутчиком. Сразу после Померанья он вынул из корзины завернутые в накладной свинец фунт «лянсина», рафинад и бисквиты; стало уже веселее. В Окуловке, где стоянка была продолжительной, Челубей с Лыковым сходили в бир-галле и истребили по кружке пива, закусив холодной говядиной с сарацинским пшеном.[65] Вскоре после этого Алексей заснул, а Яков, закрутив усы и облившись о-де-колоном, отправился на поиски дам. Через четверть часа он вернулся с двумя бойкими и симпатичными бестужевками (народ не без основания именовал их «бестыживками»), разбудил напарника и заставил играть с барышнями в карты на щелбаны с поцелуями. Отсутствие «купе» не позволило знакомству развиться в приключение; после десятка партий курсистки ушли, но оставили Челубею свои московские адреса. Высокий и сильный, с выразительными чертами лица, Недашевский явно пользовался успехом у женщин и походил в этом на Таубе. Вот бы их в одну компанию – кто кого? подумал Лыков, засыпая.
В одиннадцатом часу утра питерцы сошли на пыльный московский дебаркадер. Сразу видно, что не столица… Ночные гостьи пискнули им что-то на прощанье и устремились навстречу папашам в бобриковых долгополых сюртуках. Усевшись в шикарную, обитую кожей и жестью коляску, Челубей велел лихачу ехать не в Хамовники, а на угол Моховой и Воздвиженки, в номера Соколова. На вопросительный взгляд Лыкова он только загадочно улыбнулся.
Подъехали к огромному дому, выходящему на две улицы. Расплатившись, Челубей уверенно направился прямо во двор. Там обнаружился высокий, четырехэтажный, чистенький, с большими окнами флигель. Яков вбежал на второй этаж, прошел по длинному коридору в самый конец, остановился перед голубой дверью, зажмурился и нажал на ручку воздушного звонка.
Сразу же, словно их ждали, дверь распахнулась и Алексей увидел на пороге барышню. Она радостно без стеснения бросилась на шею Челубею:
– Яша! Не соврал, молодчик!
Счастливо причитая, хозяйка втащила Недашевского внутрь; Лыков вошел следом и оказался в маленькой, но необыкновенно уютной квартирке. Разглядывать ее долго не пришлось: Челубей взял его за рукав и выдвинул вперед.
– Знакомьтесь! Это Алексей Николаевич Лыков.
– Надежда Петровна Ламанова, – барышня протянула ему ладонь, твердую и цепкую – это была ладонь работающего человека.
Она несколько секунд внимательно смотрела прямо в глаза Лыкову, потом удовлетворенно тряхнула головой:
– Совсем не как твой негодяй Пересвет! Сразу видно порядочного человека.
Лыков смутился – по легенде быть излишне порядочным ему не полагалось. Надежда словно поняла это и заторопилась к самовару.
Все в ней показалось Алексею необычным. Ясное, чистое, не красивое, но милое лицо, серые серьезные глаза, приятный голос. Одета Ламанова была в простое миткалевое домашнее платье, без всяких тренов и турнюров, лишенное какой бы то ни было роскоши. Но сам крой платья был особенный, элегантный, что придавало его хозяйке весьма привлекательный вид. Поймав взгляд Алексея, девушка пояснила:











