Читать онлайн Пляска смерти
- Автор: Стивен Кинг
- Жанр: Зарубежная публицистика, Кинематограф, Театр
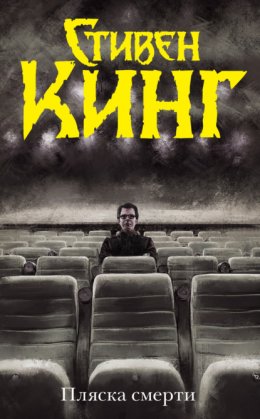
Stephen King
DANSE MACABRE
Печатается с разрешения автора и литературных агентств The Lotts Agency и Andrew Nurnberg.
© Stephen King, 1981
© Издание на русском языке AST Publishers, 2018
Очень легко – может быть, слишком легко – отдавать дань памяти умершим. Эту же книгу я посвящаю шести великим писателям ужасов, которые еще живы:
Роберту Блоху
Хорхе Луису Борхесу
Рэю Брэдбери
Фрэнку Белнэпу Лонгу
Дональду Уондри
Мэнли Уэйду Уэллману
Входи, путник, на свой страх и риск: здесь могут водиться тигры.
Предисловие
Книга, которую вы держите в руках, возникла благодаря телефонному звонку в ноябре 1978 года. В то время я преподавал литературное мастерство и вел несколько курсов в Университете Мэна в Ороно, а в свободное время доделывал черновой вариант романа «Воспламеняющая» – к настоящему времени он уже опубликован. Мне позвонил Билл Томпсон, который в 1974–1978 годах издал мои первые пять книг: «Кэрри», «Жребий Салема», «Сияние», «Ночная смена» и «Противостояние». Но что гораздо важнее, Билл Томпсон, бывший в ту пору редактором в «Даблдэй», оказался первым человеком, связанным с издательскими кругами Нью-Йорка, который с интересом прочел мои ранние, еще не опубликованные, произведения. Он явился для меня тем самым важнейшим первым контактом, которого начинающие авторы ждут, на который надеются – и который так редко находят.
После «Противостояния» наши пути с «Даблдэй» разошлись. Ушел оттуда и Томпсон – он стал старшим редактором в «Эверест-Хаус». За годы нашего сотрудничества мы сделались не только коллегами, но и друзьями, поэтому не теряли друг друга из виду, время от времени обедали вместе… ну и выпивали. Лучшая попойка случилась у нас во время бейсбольного матча всех звезд в июле 1978 года: мы смотрели его на большом телеэкране поверх рядов пивных кружек в каком-то нью-йоркском баре. Над прилавком висело объявление: «Счастливые часы для ранних пташек: с 8 до 10 утра весь алкоголь за пятьдесят центов». Когда я спросил у бармена, что за люди приходят с восьми до десяти утра, чтобы выпить «Ром Коллинз» или «Джин Рики», он зловеще улыбнулся, вытер руки о фартук и ответил: «Парни из колледжа… такие, как ты».
И вот в этот ноябрьский вечер, вскоре после Хэллоуина, Билл позвонил мне и сказал: «Слушай, а почему бы тебе не написать книгу о феномене жанра ужасов, как ты его себе представляешь? Романы, кинофильмы, радио, телевидение – все в целом. Если хочешь, поработаем вместе».
Предложение показалось мне одновременно заманчивым и пугающим. Заманчивым – потому что время от времени меня спрашивают, что заставляет меня об этом писать, а людей – читать и ходить в кино. Парадокс: люди платят деньги за то, чтобы чувствовать себя некомфортно. Я разговаривал на эту тему со многими своими студентами и написал немало слов (включая довольно длинное предисловие к моему собственному сборнику рассказов «Ночная смена»), и мысль о том, чтобы вынести наконец Окончательный вердикт, привлекала меня. Я подумал, что потом запросто смогу уходить от надоевших вопросов, отвечая: «Если хотите знать мое мнение о жанре ужасов, прочтите книгу, которую я написал на эту тему. Это мой Окончательный вердикт по делу об ужасах».
Пугало же меня это предложение тем, что мне уже виделась работа, растягивающаяся на годы, десятилетия, столетия. Если начать с Гренделя[1] и его матери, то даже в виде сжатого приложения к «Ридерз дайджест» мой труд занял бы четыре солидных тома.
Но Билл возразил, что можно ограничиться последними тремя десятилетиями, сделав лишь несколько отступлений к основам жанра. Я обещал подумать и принялся думать. Думал я долго и напряженно. Раньше мне не приходилось писать нехудожественные книги, и это меня тоже пугало. Внушала страх и мысль о необходимости говорить правду. Художественная литература – это, что ни говори, нагромождение одной лжи на другую… поэтому, кстати, пуритане никогда не могли с ней смириться. Если вы сочиняете и чувствуете, что застряли, всегда можно придумать что-то другое или вернуться на несколько страниц и что-нибудь изменить. А вот с нехудожественной книгой приходится утомительно проверять все факты, следить, чтобы не было ошибок в датах, чтобы все фамилии были написаны верно… Хуже того, это означает «раскрываться». Романист, в конце концов, скрыт от читателей; в отличие от музыканта или актера, он может пройти по улицам, и никто его не узнает. Созданные им Панч и Джуди[2] выступают на сцене, а сам он остается невидимкой. Но тот, кто отходит от вымысла, становится слишком заметен.
И все же идея казалась весьма привлекательной. Я начинал понимать, что чувствуют чудаки в Гайд-парке («чокнутые», как называют их наши британские братья), взгромождаясь на фанерные ящики. Мне уже виделись сотни страниц, на которых я смогу изложить свои излюбленные гипотезы. («И тебе еще за это заплатят!» – воскликнул он, потирая ладони и безумно хихикая.) Я представлял себе курс, который буду читать в следующем семестре. Назову его «Особенности литературы о сверхъестественном». Но больше всего меня радовала возможность поговорить о любимом жанре. Она выпадает немногим авторам популярной литературы.
Что касается «Особенностей литературы о сверхъестественном»… В тот ноябрьский вечер, когда позвонил Билл, я сидел на кухне и, попивая пиво, прикидывал программу этого самого курса, а вслух говорил жене, что скоро мне предстоит рассказывать множеству людей о предмете, в котором я прежде находил свой путь на ощупь, словно слепой. Хотя многие из тех книг и фильмов, о которых пойдет речь в этой книге, сейчас изучают в университетах, я составлял свое мнение совершенно самостоятельно, и никакие учебники не направляли ход моих мыслей. Похоже, вскоре мне предстояло впервые узнать истинную цену своих суждений.
Эта фраза может показаться странной. Но ниже я сформулирую положение о том, что никто не может быть уверен в своих мыслях по какому-либо поводу, пока не запишет их на бумаге; кроме того, я считаю, что мы вообще плохо представляем себе, что думаем, пока не изложим свои рассуждения перед другими людьми, не менее разумными, чем мы сами. Поэтому перспектива оказаться за кафедрой в университетской аудитории меня беспокоила, и я слишком много переживал по этому поводу во время во всех остальных отношениях замечательного отпуска на Сент-Томасе[3], когда размышлял о применении юмора в «Дракуле» Стокера и об элементах паранойи в «Похитителях плоти» Джека Финнея.
После звонка Билла я начал думать, что если мои беседы (у меня не хватало смелости назвать их лекциями) в области ужасов-сверхъестественного-готического будут приняты хорошо – и мною, и моими слушателями, – то, возможно, книга на эту тему замкнет круг. В конце концов я позвонил Биллу и сказал, что попробую ее написать. И, как видите, написал.
Все это я говорю для того, чтобы поблагодарить Билла Томпсона, которому принадлежит идея книги. Идея очень хороша. Если вам понравится книга, скажите спасибо Биллу, это он ее придумал. А если не понравится, вините автора, который испортил отличную задумку.
Благодарю также тех студентов – числом сто человек, – которые терпеливо (а порой снисходительно) слушали, как я развиваю перед ними свои мысли. В результате я не могу претендовать на авторство всех изложенных здесь концепций, потому что в ходе обсуждения они модифицировались, уточнялись, а во многих случаях и полностью изменялись.
Однажды на лекцию пришел Бертон Хетлен, профессор английской литературы из Университета Мэна. В тот день я рассказывал о «Дракуле» Стокера, и мысль Бертона о том, что ужас является важной частью того бассейна мифов, в котором все мы купаемся, стала одним из кирпичей в фундаменте этой книги. Так что спасибо, Берт.
Заслуживает благодарности и мой агент Кирби Макколи, любитель ужасов и фэнтези, добропорядочный гражданин Миннесоты, который прочел рукопись, указал на ошибки и поспорил с некоторыми выводами… но больше всего я признателен ему за пьяный вечер в нью-йоркском отеле «Плаза». Тогда он помог мне составить рекомендуемый список фильмов ужасов 1950–1980 годов, который входит в Приложение 1. Я в долгу перед Кирби и за многое другое, но пока ограничимся этим.
В процессе работы над «Пляской смерти» я пользовался множеством источников и постарался отметить благодарностью каждый, но здесь хочу назвать особенно ценные для меня: самую первую работу о фильмах ужасов – книгу Карлоса Кларенса «Иллюстрированная история фильмов ужасов»; подробный, эпизод за эпизодом, анализ содержания «Сумеречной зоны» [The Twilight Zone] в «Старлоге»[4]; «Энциклопедию научной фантастики», составленную Питером Николсом, которая была особенно полезна для понимания (или попыток понять) произведений Харлана Эллисона и телесериала «За гранью возможного» [The Outer Limits]; а также бесчисленное количество иных закоулков, куда мне приходилось забредать.
Наконец я хотел бы выразить благодарность писателям – в частности, Рэю Брэдбери, Харлану Эллисону, Ричарду Матесону, Джеку Финнею, Питеру Страубу и Энн Риверс Сиддонс, – которые любезно ответили на мои письма и предоставили информацию о творческой истории своих произведений. Их голоса придают книге особую глубину, которой ей как раз не хватало.
Пожалуй, все… Хочу только добавить: не думайте, что я считаю свою работу хоть в какой-то степени близкой к совершенству. Подозреваю, что, несмотря на тщательную проверку, в ней осталось немало ошибок; надеюсь лишь, что они не слишком серьезны и их не слишком много. Если обнаружите такие ошибки, надеюсь, вы напишете мне и укажете на них, чтобы я мог внести поправки в последующие издания. И знаете, надеюсь, эта книга вас позабавит. Читайте понемногу или все сразу – главное, с удовольствием. В конце концов, для того она и написана, как и любой роман. Может быть, что-то заставит вас задуматься, или улыбнуться, или рассердиться. Любая из этих реакций будет мне приятна. А вот скука – это ужасно.
Для меня работа над этой книгой была одновременно тяжким бременем и удовольствием, в иные дни – тягостной обязанностью, в другие – приятным досугом. В результате, наверное, вы обнаружите, что она написана неровно. Надеюсь только, что путешествие по ней принесет вам удовлетворение, как и мне.
Стивен КингСентер-Ловелл, штат Мэн
Предисловие к изданию 1983 года
Примерно через два месяца после начала работы над «Пляской смерти» я рассказал одному приятелю с Западного побережья, который тоже любит книги и фильмы ужасов, чем я сейчас занят. Мне казалось, он будет рад. Но он бросил на меня полный ужаса взгляд и сказал, что я свихнулся.
– Почему? – спросил я.
– Угости пивом, и я тебе объясню, – ответил он.
Я заказал ему пива. Он выпил половину и доверительно наклонился ко мне через стол.
– Это безумие, потому что фэны разорвут тебя в клочья, – сказал он. – У тебя будет столько же верных догадок, сколько ошибок. И никто из этих парней не погладит тебя по головке за верные выводы; зато за ошибки тебя по стенке размажут. А как ты себе представляешь поиски исследовательского материала по «Техасской резне бензопилой»? Куда ты полезешь? В «Нью-Йорк таймс»? Это просто смешно.
– Но…
– Одни скажут тебе одно, другие – другое. Черт побери, ты станешь расспрашивать Роджера Кормана об актерах, которых он снимал в пятидесятых, и он наврет тебе с три короба, потому что снимал по фильму в три недели.
– Но…
– Это еще не все. Из того, что написано об ужасах, половина – полная чепуха, потому что любители этого жанра – такие же, как мы с тобой. Иными словами, чокнутые.
– Но…
– На собственные воспоминания тоже можешь особенно не рассчитывать. Откажись-ка ты от этой затеи. Ты все испортишь, и фэны сожрут тебя живьем, потому что это фэны. Лучше напиши очередной роман. Только сначала купи мне еще пива.
Пива я ему купил, но от этой затеи, как видите, не отказался. Однако, помня его слова, я включил в предисловие к первому изданию просьбу ко всем фэнам писать мне, если я в чем-то ошибся. Не скажу, что писем были миллионы, но все же мой пессимистичный друг оказался прав: я получил сотни писем. И это приводит нас к Деннису Этчисону.
Деннис Этчисон – еще один любитель жанра ужасов с Западного побережья. Он небольшого роста, обычно при бороде и красив – но не той красотой, характерной для жителей Лос-Анджелеса. Кроме того, он отличается мягкой натурой, чувством юмора и глубокомыслием. Он прочел уйму книг и видел кучу фильмов – а Деннис способен глубоко понять смысл прочитанного или увиденного. К тому же он пишет фантастику, и если вы не читали его сборник рассказов «Темная страна» [The Dark Country], значит, вы пропустили одну из наиболее значительных книг в нашей области (кстати говоря, здесь она не рассматривается, потому что издана после 1980 года). Рассказы его не просто хороши; они все без исключения великолепны, а в некоторых случаях гениальны – как гениальна «Манящая красотка» [The Beckoning Fair One] Оливера Ониона. В переплете она вышла небольшим тиражом, но скоро в издательстве «Беркли» выйдет издание в обложке – и советую вам бежать в ближайший книжный магазин, как только она поступит в продажу. К слову: мне никто не платил за эту рекламу, она идет от сердца.
Так вот, Кирби Макколи подсказал мне, что именно Деннис сможет исправить ошибки, допущенные в «Пляске смерти». Я спросил Денниса, не согласится ли он это сделать, и он согласился. Я отправил ему «ФедЭксом» свою растущую с каждым днем пачку писем «вы здесь ошиблись». Не будет преувеличением заявить, что Деннис оказал мне – и всем, кого заботит точность даже в такой мрачной темнице, как жанр ужасов, – неоценимую услугу. В этом издании намного меньше ошибок, чем в первой книге, вышедшей в переплете. Это заслуга Денниса Этчисона, которому помогала толпа фэнов. Я хочу, чтобы все об этом узнали, и хочу еще раз поблагодарить человека, который поправлял мне рубашку и приглаживал волосы.
Леди и джентльмены, помогите Деннису Этчисону, как он помог мне.
Стивен КингИюнь 1983 г.
– Какой самый отвратительный поступок вы совершили?
– Этого я вам не скажу, но могу рассказать о самом отвратительном из всего, что случалось со мной… О самом ужасном…
Питер Страуб. История с привидениями
Повеселимся мы на славу, но пусть кто-нибудь стоит на шухере…
Эдди Кокран. Come Оn Everybody
Глава первая
4 октября 1957 года, или Приглашение к танцу
Впервые я пережил ужас – подлинный ужас, а не встречу с демонами или призраками, живущими в моем воображении, – в один октябрьский день 1957 года. Мне только что исполнилось десять. И, как полагается, я находился в кинотеатре – в театре «Стратфорд» в центре города Стратфорд, штат Коннектикут.
Шел один из моих любимых фильмов, и то, что показывали именно его, а не вестерн Рэндольфа Скотта или боевик Джона Уэйна, оказалось вполне уместно. В тот субботний день, когда на меня обрушился подлинный ужас, шла «Земля против летающих тарелок» [Earth vs. the Flying Saucers] с Хью Марлоу, который в то время, вероятно, был больше известен по роли коварного и страдающего безудержной ксенофобией приятеля Патриции Нил в фильме «День, когда Земля остановилась» [The Day the Earth Stood Still], чуть более старой и гораздо более рациональной научно-фантастической картине.
В «Дне, когда Земля остановилась» пришелец по имени Клаату (Майкл Ренни в ярко-белом межгалактическом комбинезоне) сажает свое летающее блюдце на Национальной аллее посреди Вашингтона (когда включен двигатель, блюдце светится, как пластмассовые фигурки Иисуса, которыми награждали в воскресной школе тех, кто вызубрил больше стихов из Библии). Клаату спускается по широкому трапу и останавливается; на него глядят сотни пар испуганных глаз и сотни армейских винтовок. Момент, исполненный напряжения, такие моменты приятно вспомнить, и именно они на всю жизнь делают людей вроде меня поклонниками кинематографа. Клаату начинает возиться с какой-то штуковиной, похожей, насколько я помню, на приспособление для борьбы с сорняками, и скорый на руку мальчишка-солдат стреляет в него. Разумеется, как выяснилось, приспособление было подарком президенту. Никаких смертоносных лучей: всего лишь межзвездное переговорное устройство.
Так было в 1951 году. А шесть лет спустя, в субботний день в Коннектикуте, поступки и внешность парней из летающих тарелок были куда менее дружественными. В отличие от благородного и немного печального Майкла Ренни в роли Клаату, пришельцы из «Земли против летающих тарелок» напоминали старые и исключительно злобные деревья с узловатыми сморщенными телами и ощеренными старческими лицами.
И они принесли вовсе не переговорное устройство для президента, подобно новому послу, приносящему дары стране, а лучи смерти, разрушение и всеобщую войну. И все это, в особенности разрушение Вашингтона, было показано удивительно реалистично с помощью спецэффектов Рэя Харрихаузена, того самого, который в детстве бегал в кино с приятелем по имени Рэй Брэдбери.
Клаату приходит, чтобы протянуть руку дружбы и братства. Он предлагает людям вступить в своего рода межзвездную Организацию объединенных наций – конечно, при условии, что мы расстанемся со своей неприличной привычкой убивать себе подобных миллионами. Ребята из «Земли против летающих тарелок» прилетели с целью завоевания, это была последняя армада с умирающей планеты, древней и алчной, ищущей не мира, а добычи.
«День, когда Земля остановилась» относится к небольшой горстке истинно научно-фантастических фильмов. Древние чужаки из «Земли против летающих тарелок» – посланцы гораздо более распространенного жанра, фильмов ужасов. Здесь нет никакого вздора насчет «дара вашему президенту»; эти парни просто высаживаются на мысе Канаверал и начинают уничтожать все вокруг.
Где-то между этими философиями и кроются семена ужаса, как мне представляется. Если существует силовая линия между двумя этими почти противоположными идеями, ужас почти наверняка зарождается там.
И вот как раз в тот момент, когда в последней части фильма пришельцы атаковали столицу, лента остановилась. Экран погас. Кинотеатр был битком набит детьми, но, как ни странно, все вели себя тихо. Если вы обратитесь к дням своей молодости, то вспомните, что толпа детишек умеет множеством способов выразить свое раздражение, если фильм прерывается или начинается с опозданием: ритмичное хлопанье; великий клич детского племени «Мы хотим кино! Мы хотим кино! Мы хотим кино!»; коробки от конфет, летящие в экран; рупоры из стаканов от попкорна, да мало ли что еще. Если у кого-то с Четвертого июля сохранилась в кармане петарда, он непременно вынет ее, покажет приятелям, чтобы те одобрили и восхитились, а потом зажжет и швырнет к потолку.
Но в тот октябрьский день ничего похожего не произошло. И пленка не порвалась – просто выключили проектор. А дальше случилось нечто неслыханное: в зале зажгли свет. Мы сидели, оглядываясь и мигая от яркого света, как кроты.
На сцену вышел управляющий и поднял руку, прося тишины, – совершенно излишний жест. Я вспомнил этот момент шесть лет спустя, в 1963 году, в ноябрьскую пятницу, когда парень, который вез нас домой из школы, сказал, что в Далласе застрелили президента.
Если в том, что касается танца смерти, можно выявить некую суть или истину, она проста: романы, фильмы, телевизионные и радиопрограммы – даже комиксы – всегда работают на двух уровнях.
Первый уровень можно назвать «отвратительным» – например, когда Ригана рвет прямо на священника, или когда он мастурбирует с распятием в руке в «Изгоняющем дьявола» [The Exorcist], или когда ужасное, словно вывернутое наизнанку чудовище из «Пророчества» [Prophecy] Джона Франкенхаймера разгрызает голову пилота вертолета, как «Тутси-поп»[5]. Первый уровень может быть проработан с различной степенью артистизма, но он присутствует обязательно.
Но на другом, более мощном уровне проявление ужаса – это поистине танец, подвижный, ритмичный поиск. Поиск той точки, зритель или читатель, где вы живете на самом примитивном уровне. Ужас не интересуется цивилизованной оболочкой нашего существования. Он танцует сквозь помещения, где собрано множество предметов мебели, каждый из которых – как мы надеемся! – символизирует нашу социальную приспособленность, наш просвещенный характер. Это поиск иного места, комнаты, которая порой может напоминать тайное логово викторианского джентльмена, а порой – камеру пыток испанской инквизиции… Но чаще всего и успешней всего – простую, грубую нору пещерного человека.
Является ли ужас искусством? На этом втором уровне его проявление ничем иным быть просто не может; он становится искусством уже потому, что ищет нечто, лежащее за пределами искусства, нечто, предшествующее искусству; ищет то, что я бы назвал критической точкой фобии. Хорошая страшная история ведет вас в танце к самим основам вашего существования и находит тайную дверь, которая, как вам кажется, никому не известна, но вы-то о ней знаете. Как заметили Альбер Камю и Билли Джоэл, Чужак заставляет нас нервничать… но в глубине души нам нравится примерять его маску.
Пауки приводят вас в ужас? Отлично. Вот вам пауки в «Тарантуле» [Tarantula], в «Невероятно уменьшающемся человеке» [The Incredible Shrinking Man] и в «Королевстве пауков» [Kingdom of the Spiders]. Как насчет крыс? В романе Джеймса Герберта, который так и называется, «Крысы» [The Rats], вы чувствуете, как они ползают по вашему телу… и пожирают вас заживо. Змеи? Боязнь замкнутого пространства? Боязнь высоты? Или… Да все что угодно.
Поскольку книги и фильмы являются средствами массовой информации, за последние тридцать лет поле ужасов расширилось и теперь включает не только личные страхи. В это время (а в несколько меньшей степени и в течение семидесяти лет до того) жанр ужаса отыскивал критические точки фобии национального масштаба, и те книги и фильмы, которые пользовались наибольшим успехом, почти всегда выражали страхи очень широких кругов населения и играли на них. Такие страхи – обычно политические, экономические и психологические, а отнюдь не страх перед сверхъестественным – придают лучшим произведениям этого жанра приятный аллегорический оттенок, и это именно те аллегории, среди которых вольготнее всего чувствуют себя создатели кинофильмов. Может быть, потому, что знают: если дело не задалось, всегда можно снова вызвать из тьмы чудовище.
Вскоре мы вернемся в Стратфорд 1957 года, но вначале позвольте упомянуть один из фильмов последних тридцати лет, очень точно нащупавший критическую точку. Это картина Дона Сигела «Вторжение похитителей тел» [Invasion of the Body Snatchers]. Ниже мы обсудим и сам роман – у Джека Финнея, его автора, тоже найдется что сказать, – а пока давайте коротко коснемся фильма.
Ничего ужасного в физическом смысле в сигеловской версии «Вторжения похитителей тел» нет[6]: никаких сморщенных злобных межзвездных путешественников, никаких уродов-мутантов в облике нормальных людей. Существа-стручки лишь слегка отличаются от обычных землян, вот и все. Немного рассеянны. Чуть-чуть неряшливы. Хотя Финней нигде не говорит об этом прямо, он явно считает, что самое ужасное в «них» – отсутствие наиболее распространенного и легче всего приобретаемого эстетического чувства. Не важно, утверждает Финней, что эти вторгшиеся из космоса чужаки не способны оценить «Травиату», «Моби Дика» или даже хорошую обложку «Сатердей ивнинг пост» работы Нормана Рокуэлла. Это не очень хорошо, но – боже! – они даже не подстригают газоны, не меняют стекло в гараже, которое разбил мячом соседский мальчишка. Не красят облупившиеся стены домов. Дороги, ведущие в Санта-Миру, вскоре покрываются таким количеством выбоин и трещин, что торговцы, обслуживающие город – и, можно сказать, снабжающие муниципальные легкие животворным воздухом капитализма, – отказываются приезжать.
Отвратительный уровень – это одно дело, но лишь второй уровень ужаса обычно вызывает у нас то неприятное ощущение, которое называют «мурашками». Много лет от «Вторжения похитителей тел» у людей мурашки бежали по коже, и потому в сигеловском фильме видели множество самых разных идей. Сначала его считали антимаккартистским, пока кто-то не заметил, что самого Сигела вряд ли можно назвать левым. Тогда картину отнесли к разряду «лучше мертвый, чем красный». Из этих двух вариантов второй представляется мне более правдоподобным. Картина кончается сценой, когда Кевин Маккарти стоит посреди шоссе и кричит проносящимся мимо машинам: «Они уже здесь! Вы следующие!» Но в глубине души я считаю, что Сигел вообще не думал о политике, когда снимал фильм (ниже вы увидите, что и Джек Финней никогда о ней не задумывался); мне кажется, что он просто развлекался, а подтекст… Подтекст возник сам по себе.
Это не значит, что во «Вторжении похитителей тел» нет аллегорических элементов; просто эти пункты давления, эти источники страха так глубоко погребены в нас и в то же время настолько активны, что мы черпаем из них, как из артезианских колодцев: говорим вслух одно, но шепотом выражаем совсем другое. Версия романа Финнея, сделанная Филипом Кауфманом, интересна (хотя, говоря откровенно, в меньшей степени, чем картина Сигела), но в ней этот шепот сменился чем-то совсем иным: фильм Кауфмана словно бы высмеивает общее мироощущение эгоцентрических 70-х: «со-мной-все-в-порядке-с-тобой-все-в-порядке-так-что-примем-горячую-ванну-и-помассируем-наше-драгоценное-самосознание». А это предполагает, что хотя тревожные сны массового подсознания могут от десятилетия к десятилетию меняться, шланг, опущенный в этот колодец, остается неизменным.
На мой взгляд, это и есть истинный танец смерти: те замечательные мгновения, когда создатель ужасной истории оказывается способен объединить сознание и подсознание одной мощной идеей. Я считаю, что в большей степени это удалось Сигелу, но, конечно, и Сигел, и Кауфман должны быть благодарны Джеку Финнею, который первым зачерпнул из колодца.
Итак, вернемся в стратфордский кинотеатр теплым осенним днем 1957 года.
Мы сидели на стульях, как манекены, и смотрели на управляющего. Вид у него был встревоженный и болезненный – а может, всему виной было освещение. Мы гадали, что за катастрофа заставила его остановить фильм в самый напряженный момент, но тут управляющий заговорил, и дрожь в его голосе еще больше смутила нас.
– Я хочу сообщить вам, – произнес он, – что русские вывели на орбиту вокруг Земли космический сателлит. Они назвали его… «Спутник».
Сообщение было встречено гробовым молчанием. Кинотеатр, переполненный детишками с модными тогда стрижками под «ежик», хвостиками, в чиносах с отворотами и кринолинах, с кольцами Капитана Полночь[7], детишек, которые только что узнали Чака Берри и Литтла Ричардса и слушали по вечерам нью-йоркские радиостанции с таким замиранием сердца, словно это были сигналы с другой планеты. Мы выросли на Капитане Видео[8] и «Терри и пиратах»[9]. Мы любовались бойцом Кейси, который в комиксах разбрасывал азиатов, словно кегли. Мы видели, как Ричард Карлсон тысячами ловит грязных коммунистических шпионов в «Я вел тройную жизнь» [I Led Three Lives]. Каждый из нас заплатил четверть доллара за право увидеть Хью Марлоу в «Земле против летающих тарелок» – и в качестве бесплатного приложения получил эту убийственную новость.
Помню очень отчетливо: страшное мертвое молчание кинозала вдруг было нарушено одиноким выкриком, не знаю, мальчишечьим или девчачьим. Голос был полон слез и испуганной злости:
– Давай показывай кино, врун!
Управляющий даже не посмотрел в ту сторону, откуда донесся голос, и почему-то это было хуже всего. Это было доказательство. Русские опередили нас в космосе. Где-то над нашими головами, триумфально попискивая, несется электронный мяч, сконструированный и запущенный за железным занавесом. Ни Капитан Полночь, ни Ричард Карлсон (который играл в «Звездных всадниках» [Riders to the Stars]; боже, какая горькая ирония) не смогли его остановить. Он летел там, наверху… и они назвали его «Спутником». Управляющий еще немного постоял, глядя на нас; казалось, он ищет, что добавить, но не находит. Потом он ушел, и вскоре фильм возобновился.
И вот вопрос. Каждый помнит, где был, когда убили президента Кеннеди. Каждый помнит, где услышал, что благодаря очередному безумцу в кухне какого-то отеля погиб Роберт Кеннеди. Возможно, кто-то даже помнит, где его застал Карибский кризис.
А кто помнит, где он был, когда русские запустили «Спутник-1»?
Ужас – то, что Хантер Томпсон назвал «страхом и отвращением» – часто рождается из ощущения неких перемен: что-то рушится. Если это ощущение разрушения, уничтожения возникает внезапно и затрагивает лично вас, если поражает вас в самое сердце, то в таком случае оно остается в памяти как нечто цельное. Тот факт, что многие помнят, где находились в тот момент, когда разнеслась весть об убийстве Кеннеди, кажется мне не менее интересным, чем то, что один болван с заказанной по почте винтовкой сумел за четырнадцать секунд изменить ход истории. Мгновение, когда об этом узнали миллионы людей, и последовавшие трое суток растерянности и горя были в истории человечества, вероятно, самым близким к массовому сознанию, массовой эмпатии и – ретроспективно – массовой памяти: двести миллионов человек застыли одновременно. Очевидно, любовь не способна на такой перехлестывающий все границы эмоциональный удар. Жалость способна.
Я не хочу сказать, что известие о запуске «Спутника» оказало такое же воздействие на души американцев (хотя без воздействия, конечно, не обошлось; вспомните, например, забавное описание событий, последовавших за успешным русским запуском, в превосходной книге Тома Вулфа о нашей космической программе «Битва за космос» [The Right Staff]); но, полагаю, очень многие дети – дети войны, как нас называли – помнят это событие так же хорошо, как я.
Мы, дети войны, оказались плодородной почвой для семян ужаса; мы выросли в странной цирковой атмосфере паранойи, патриотизма и национальной гордости. Нам говорили, что мы величайшая нация на Земле и что любой разбойник из-за железного занавеса, который попытается напасть на нас в огромном салуне внешней политики, узнает, у кого самый быстрый револьвер на Западе (как в поучительном романе Пэта Фрэнка этого периода «Увы, Вавилон» [Alas, Babylon]). Но при этом нам также постоянно напоминали, какие припасы нужно держать в атомных убежищах и сколько времени сидеть там после того, как мы выиграем войну. У нас было больше еды, чем у любого народа в истории, но в молоке, на котором мы выросли, присутствовал стронций-90 – от ядерных испытаний.
Мы были детьми тех, кто выиграл войну, которую Дьюк Уэйн называл «большой», и когда пыль осела, Америка оказалась на самом верху. Мы сменили Англию в роли колосса, шагающего по всему миру. Когда наши родители, воссоединившись, зачинали меня и миллионы других детей, Лондон лежал в развалинах, солнце в Британской империи заходило каждые двенадцать часов, а Россия была совершенно обескровлена в войне с нацистами; во время осады Сталинграда русские солдаты были вынуждены есть своих погибших товарищей. Но ни одна бомба не упала на Нью-Йорк, и американцы потеряли в войне гораздо меньше людей, чем остальные ее участники.
К тому же у нас за спиной была великая история (у всех народов с краткой историей она великая), особенно по части изобретательства и новаций. Каждый школьный учитель, к вящей радости учеников, то и дело произносил два слова – два волшебных слова, сверкающих, как неоновая вывеска, два слова почти невероятной силы и красоты; и эти два слова были «ДУХ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ». И я, и прочие мои сверстники – мы все росли, движимые ДУХОМ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ, который можно выразить литанией имен, выученных в классе. Эли Уитни. Сэмюэл Морзе. Александр Грэм Белл. Генри Форд. Роберт Годдард. Уилбур и Орвилл Райт. Роберт Оппенгеймер. У всех этих людей, леди и джентльмены, было нечто общее. Все они были американцами, буквально пропитанными этим самым ДУХОМ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ. Мои соотечественники всегда были самыми быстрыми, самыми лучшими и самыми великими.
А какой мир ждал нас впереди! Он был очерчен в произведениях Роберта Хайнлайна, Лестера дель Рея, Альфреда Бестера, Стэнли Вейнбаума и десятках других! Грезы о нем появились в последних дешевых научно-фантастических журналах, которые к октябрю 1957 года уже умирали, но сам жанр фантастики был в отличной форме. Космос будет не просто завоеван, говорили нам эти писатели. Он будет… он будет… конечно, он будет ОТКРЫТ ЗАНОВО! Серебряные иглы пронзают пустоту, изрыгающие пламя реактивные двигатели опускают огромные корабли на чужие планеты, мужчины и женщины (необходимо добавить, американские мужчины и женщины) создают колонии с истинным ДУХОМ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ. Марс превратится в наш задний двор, новая золотая (а может, новая родиевая) лихорадка возникнет в поясе астероидов… В конечном счете, разумеется, звезды будут нашими – нас ждет великолепное будущее с туристами, щелкающими «Кодаком» шесть лун Проциона IV, или конвейером по сборке космических «шевроле» на Сириусе III. Сама Земля превратится в утопию, и ее будущее можно увидеть на обложке любого номера «Фэнтези и научной фантастики», «Удивительных историй», «Галактики» или «Поразительных историй» 50-х годов.
Будущее, пропитанное ДУХОМ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ; больше того, будущее, пропитанное АМЕРИКАНСКИМ ДУХОМ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ. Взгляните на оригинальное издание в бумажной обложке «Марсианских хроник» Рэя Брэдбери от «Бэнтэм». Рэй тут ни при чем, это произведение художника, порождение его воображения; но нет ничего этноцентрического или откровенно глупого в этом классическом синтезе научной фантастики и фэнтези: космонавты сильно смахивают на солдат морской пехоты, высаживающихся на берег Сайпана[10] или Таравы[11]. На заднем фоне – не корабль, способный двигаться быстрее света, а ракета, но командир с крепкой челюстью вполне мог бы быть взят из фильма Джона Уэйна: «Вперед, молокососы, неужели вы не хотите жить вечно? Где ваш ДУХ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ?»
Такова была колыбель основной политической теории и технологических снов, в которой я и множество других детей войны качались до того дня в октябре 1957 года, когда колыбель внезапно опрокинули и мы вывалились. Для меня это был конец сладкого сна… и начало кошмара.
Дети поняли последствия того, что совершили русские, так же быстро и полно, как и все остальные, – во всяком случае, так же быстро, как политики, которые изо всех сил старались извлечь из этой катастрофы хоть что-то хорошее. Огромные бомбардировщики, в конце Второй мировой войны уничтожившие Берлин и Гамбург, к тому времени уже устарели. В словаре ужасов появилось новое мрачное сокращение – МБР (межконтинентальная баллистическая ракета). Как мы поняли, эти МБР представляли собой всего лишь увеличенные немецкие «Фау-2». Они могли нести внушительный запас ядерной смерти и разрушения, и если бы русские попытались что-нибудь выкинуть, мы бы просто смели их с лица земли. Берегись, Москва! Тебя ждет большая горячая доза ДУХА ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ!
Но, как ни странно, по части МБР русские от нас не отстали. Ведь МБР – всего лишь большие ракеты, а русские не смогли бы запустить свой «Спутник» при помощи ручной гранаты.
И вот в таком контексте в стратфордском кинотеатре продолжился показ, и зловещие щебечущие голоса чужаков повторяли: «Смотрите на небо… предупреждение придет с неба… следите за небом…»
Эта книга задумана как достаточно вольный обзор жанра ужасов за последние тридцать лет, а вовсе не как автобиография вашего покорного слуги. Автобиография бывшего преподавателя средней школы, ставшего отцом и писателем, – скучное чтение. Я профессиональный писатель, а это значит, что все самое интересное со мной происходит в мечтах.
Но поскольку я пишу в жанре ужасов, а кроме того, я – дитя своего времени и считаю, что никакой ужас не потрясет читателя или зрителя, если не затронет его лично, вы найдете в книге постоянные вкрапления автобиографического материала. Ужас – это эмоция, с которой приходится бороться в реальной жизни, как я боролся с мыслью о том, что русские побили нас в космосе. Эта битва ведется в тайных глубинах сердца.
Я считаю, что в конечном счете мы одиноки, и любой контакт между людьми, каким бы длительным и глубоким он ни был, всего лишь иллюзия, но по крайней мере чувства, которые мы называем «позитивными» и «конструктивными», есть попытка поиска, попытка вступить в контакт, установить какое-то взаимопонимание. Любовь и доброта, способность сопереживать и сочувствовать – это то, что мы знаем о светлом. Это усилие связать и объединить; это чувства, которые сближают нас, хотя, возможно, и они тоже не более чем иллюзия, помогающая нам легче переносить бремя смертного человека.
Ужас, страх, паника – эти эмоции вбивают клинья между людьми, отрывают нас от общей массы и делают одинокими. Поразительно, что именно эти чувства обычно ассоциируются с «инстинктом толпы». Но, говорят, толпа – самое одинокое место, сообщество людей, лишенных любви. Мелодия ужаса проста и однообразна, это мелодия разъединения и распада… однако другой парадокс заключается в том, что ритуальное выражение этих эмоций как будто возвращает нас к более стабильному и конструктивному состоянию. Спросите любого психиатра, чем занимается его пациент, когда лежит на кушетке и рассказывает о том, что видит во сне и что мешает ему уснуть. «Что ты видишь, когда выключаешь свет?» – вопрошают «Битлз». И сами же отвечают: «Не могу сказать, но знаю, что это мое».
Жанр, о котором мы говорим, воплощается ли он в книгах, фильмах или телепередачах, в сущности, представляет собой одно: вымышленные страхи. И один из самых частых вопросов, которые задают люди, уловившие сей парадокс (хотя, быть может, и не вполне его осознавшие), звучит так: «Зачем вы сочиняете ужасы, когда в мире и так хватает ужасов настоящих?»
Ответ, вероятно, таков: мы описываем выдуманные ужасы, чтобы помочь людям справиться с реальными. С бесконечной человеческой изобретательностью мы берем разделяющие и разрушающие элементы и пытаемся превратить их в орудия собственного разрушения. Термин «катарсис» – ровесник греческой драмы, и хотя кое-кто из пишущих в моем жанре с излишней бойкостью оправдывал им свои деяния, некоторая правда в этом есть. Кошмарный сон сам по себе способен принести разрядку… и, возможно, хорошо, что некоторые кошмары СМИ иногда становятся психоаналитической кушеткой в размере страны.
Еще одно отступление, прежде чем мы вернемся в октябрь 1957 года. Как ни глупо это звучит, «Земля против летающих тарелок» превратилась в символическую политическую декларацию. Под нехитрым сюжетом о пришельцах из космоса таилось предвидение грядущей последней войны. Жадные сморщенные чудовища, пилотирующие тарелки, – это на самом деле русские; разрушение мемориала Джорджа Вашингтона, Капитолия и Верховного суда – показанное необыкновенно красочно и правдоподобно благодаря покадровой съемке Харрихаузена – это именно то, чего следует ожидать после взрыва атомных бомб.
И вот конец фильма. Хью Марлоу своим тайным оружием – сверхзвуковой винтовкой, выводящей из строя электромагнитные двигатели летающих блюдец, или какой-то подобной ерундой – сбил последнюю тарелку. Громкоговорители на всех вашингтонских углах ревут: «Опасность миновала. Опасность миновала. Опасность миновала». Камера показывает нам чистое небо. Древние злобные чудища с застывшим оскалом и лицами, похожими на переплетенные корни, уничтожены. Мы переносимся на калифорнийский пляж, чудесным образом пустой, если не считать Хью Марлоу и его новую жену (которая, разумеется, оказывается дочерью Сурового Старика, Погибшего За Родину); у них медовый месяц.
– Расс, – спрашивает она его, – они вернутся?
Марлоу мудрым взглядом смотрит на небо, потом снова глядит на жену.
– Не в такой замечательный день, – успокаивающе говорит он. – И не в такой замечательный мир.
Рука об руку они вбегают в прибой. Финальные титры.
На мгновение, всего лишь на мгновение, парадоксальный трюк сработал. Мы овладели ужасом и заставили его уничтожить самого себя. Все равно что поднять себя в воздух за шнурки ботинок. На краткий миг глубокий страх – русский «Спутник» со всеми вытекающими последствиями – был изгнан. Он вернется, но позже. А пока мы посмотрели в лицо самому худшему, и оказалось, что оно не так уж кошмарно. В конце мы испытали то самое волшебное чувство возрождения уверенности и безопасности, какое бывает, когда американские горки наконец останавливаются и вы со своей девушкой целыми и невредимыми ступаете на асфальт.
Я считаю, что именно это чувство возрождения, возникающее как раз оттого, что жанр специализируется на гибели, страхе и чудовищности, делает танец смерти таким притягательным и плодотворным… и еще – безграничная способность человеческого воображения создавать бесчисленные миры и заставлять их жить своей жизнью. Это мир, в котором Энн Секстон, отличная поэтесса, смогла «воссоздать себя нормальной». Ее стихотворения описывают низвержение в водоворот безумия и возвращение способности хотя бы на время справиться с этим миром… И быть может, ее стихи помогли другим сделать то же самое. Это не означает, что творчество можно оправдать только его полезностью; ведь достаточно просто порадовать читателя, не правда ли?
Таков мир, в который я добровольно ушел еще в детстве, задолго до кинотеатра в Стратфорде и «Спутника-1». Я вовсе не хочу сказать, что русские нанесли мне травму, которая толкнула меня к жанру ужаса; я лишь указываю момент, когда начал осознавать пользу связи между миром фантазии и тем, что «Май уикли ридер» обычно называл Текущими событиями. Эта книга – всего лишь моя прогулка по этому миру, по мирам фантазии и ужаса, которые меня радовали и пугали. В ней почти нет порядка и строгого плана, и если временами вы будете вспоминать о сверхчуткой охотничьей собаке, которая бросается туда-сюда вслед за интересными запахами, меня это вполне устроит.
Однако это не охота. Это танец. И иногда в бальном зале свет внезапно гаснет.
Но мы с вами все равно будем танцевать. Даже во тьме. Особенно во тьме.
Позвольте вас пригласить?
Глава вторая
Истории о Крюке
В первом купленном мной выпуске отвратительно-забавного журнала Форреста Акермана «Знаменитые монстры страны кино» была длинная, почти научная статья Роберта Блоха о различии между научно-фантастическими фильмами и фильмами ужасов. Статья оказалась интересной, и хотя восемнадцать лет спустя я многое подзабыл, но помню, как Блох говорил, что совместная работа Ховарда Хоукса и Кристиана Найби «Нечто из иного мира» [The Thing from Another World] (по мотивам классического научно-фантастического рассказа Джона Кэмпбелла «Кто ты?» [Who Goes There?]) была научной фантастикой до мозга костей, несмотря на элементы ужасов, и что более поздний фильм «Они!» [Them!], о гигантских муравьях, которые вывелись в пустыне Нью-Мексико (само собой, в результате испытаний атомной бомбы), представлял собой фильм ужасов, хотя и с научно-фантастическими приманками.
Граница между фэнтези и научной фантастикой (ведь, строго говоря, то, что мы рассматриваем, это фэнтези: ужасы – поджанр этого большего жанра) – тема, рано или поздно возникающая на любой научно-фантастической конференции (для тех, кто не знает о существовании этой субкультуры, скажу, что ежегодно проходят сотни таких конференций). Если бы за каждое печатное слово, посвященное дихотомии «фэнтези – научная фантастика», мне дали бы по пять центов, я смог бы купить один из Бермудских островов.
Вопрос определений – это ловушка, и я не знаю более сухого и скучного академического предмета. Подобно бесконечным рассуждениям о влиянии дыхания на ритмы современной поэзии или о роли пунктуации в прозе, разговор о фэнтези и фантастике, в сущности, ничем не отличается от спора о том, сколько ангелов уместится на кончике булавки; это совершенно не интересно никому, кроме подвыпивших болтунов и аспирантов (двух категорий людей, равных в своем невежестве). Я удовлетворюсь тем, что повторю очевидные и неоспоримые положения: и фэнтези, и научная фантастика – результат деятельности воображения; они создают миры, которых не существует – не может существовать или пока не существует. Конечно, между ними есть различие, но границу, если хотите, попробуйте провести сами; с первой же попытки вы убедитесь, что линия получается очень размытой. Например, «Чужой» [Alien] – это фильм ужасов, хотя он гораздо теснее связан с наукой, чем «Звездные войны» [Star Wars]. А «Звездные войны» – это научно-фантастический фильм, именно научная фантастика, хотя и относящаяся к школе «бей/руби» Э.Э. «Дока» Смита – Мюррея Лейнстера. Космический вестерн, исполненный ДУХОМ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ.
Между этими двумя разновидностями, в буферной зоне, непопулярной у кинематографа, лежат произведения, которые словно весьма безобидно объединяют фэнтези и научную фантастику. Пример – «Близкие контакты третьей степени» [Close Encounters of the Third Kind].
Учитывая такое количество рубрикаций (а любой истинный любитель фэнтези и научной фантастики может предложить десятки иных – утопию, антиутопию, «меч и магию», героическую фэнтези, футурологию и так до бесконечности), нетрудно понять, почему я не хочу раскрывать эту дверь шире.
Прежде чем двигаться дальше, позвольте мне вместо определения предложить ряд примеров. А что может служить лучшим примером, чем «Мозг Донована» [Donovan’s Brain]?
Произведения жанра ужасов совсем не обязательно должны быть ненаучными. Роман Курта Сиодмака «Мозг Донована» движется от научной основы к чистому ужасу (как и «Чужой»). Роман был трижды экранизирован, и все три версии пользовались большим успехом. В центре и романа, и фильмов – фигура ученого, если не безумного, то действующего на грани безумия. То есть мы можем проследить его родословную непосредственно до хозяина Безумной лаборатории Виктора Франкенштейна[12]. Ученый экспериментирует с техникой, предназначенной для того, чтобы поддерживать жизнь мозга после смерти тела – в баке, наполненном солевым раствором, через который течет электрический ток.
По сюжету романа частный самолет миллионера У. Д. Донована, человека жесткого и властного, разбивается в аризонской пустыне, недалеко от лаборатории ученого. Воспользовавшись случаем, ученый вскрывает череп умирающего миллионера и помещает его мозг в бак.
Пока ничего экстраординарного. В сюжете есть элементы и ужаса, и научной фантастики; с этой точки зрения он может развиваться в обоих направлениях, в зависимости от выбора Сиодмака. В одной из ранних киноверсий направление определяется сразу: мозг извлекается под рев бури, а аризонская лаборатория больше смахивает на Баскервиль-Холл. Впрочем, ни один из фильмов не передает той атмосферы нарастающего ужаса, какой добивается Сиодмак своей тщательно продуманной, рациональной прозой. Операция проходит успешно. Мозг жив и, вероятно, даже мыслит в своем баке, заполненном солевым раствором. Возникает проблема общения. Ученый пытается связаться с мозгом с помощью телепатии… и в конце концов ему это удается. Войдя в транс, он несколько раз расписывается «У.Д. Донован» на листке бумаги, и сравнение показывает, что эта подпись неотличима от подписи миллионера.
А мозг Донована в баке тем временем начинает меняться и мутировать. Он становится все сильнее, он все больше подчиняет себе молодого героя. Покорный его воле, ученый делает так, чтобы состояние миллионера досталось нужному человеку. Он начинает испытывать болезни тела Донована, которое гниет в безымянной могиле: у него болит поясница, он прихрамывает. Сюжет достигает кульминации: Донован пытается с помощью ученого избавиться от маленькой девочки, которая стоит на пути его неумолимой, чудовищной воли.
В одном из фильмов Прекрасная Молодая Жена (в романе Сиодмака ее нет) повышает напряжение и убивает мозг в баке. В книге ученый рубит бак топором, сопротивляясь воле Донована с помощью повторения простенькой, но навязчивой мнемонической фразы: «Через сумрак столб белеет, в полночь призрак столбенеет». Стекло разбивается, раствор выливается, и отвратительный пульсирующий мозг, похожий на слизняка, умирает на полу лаборатории.
Сиодмак – настоящий мыслитель и отличный писатель. Поток идей в «Мозге Донована» не менее увлекателен, чем в романах Айзека Азимова, Артура Кларка или покойного Джона Уиндема – на мой взгляд, лучшего в этой области. Но ни один из этих глубокоуважаемых джентльменов не написал ничего, что можно сравнить с «Мозгом Донована»… по правде говоря, никто не написал ничего подобного.
Финальное предупреждение дается в самом конце книги, когда племянника Донована (или его незаконнорожденного сына – будь я проклят, если помню) вешают за убийство[13]. Люк виселицы трижды отказывается распахиваться, и рассказчик предполагает, что дух Донована до сих пор жив, неукротимый, неумолимый… и ненасытный.
Несмотря на весь научный антураж, «Мозг Донована» – фэнтези в не меньшей степени, чем «Заклятие рунами» [Casting the Runes] М. Р. Джеймса или номинально научно-фантастический рассказ Лавкрафта «Сияние извне» [Colour Out of Space].
Ну а теперь возьмем другой пример – историю, которая передается устно и никогда не была записана. Ее рассказывают обычно возле бойскаутских костров, когда солнце село и над огнем жарится на палочках маршмэллоу. Не сомневаюсь, что вы ее знаете, но я хочу передать ее в том виде, в котором услышал впервые сам, замирая от ужаса, когда солнце садилось за пустырем на окраине Стратфорда, где мы обычно играли в бейсбол, если удавалось набрать две команды. Это самый фундаментальный страшный рассказ, какой я знаю.
В общем, парень с девушкой отправились на свидание. Они поехали на машине на Аллею любовников. И вот пока они туда ехали, по радио передали сообщение. Опасный маньяк-убийца по прозвищу Крюк сбежал из тюремной психушки под названием «Саннидейл». Его прозвали Крюком, потому что у него нет правой руки, а вместо нее – острый как бритва крюк. Он подстерегает влюбленных и этим крюком отрезает им головы. Он делает это в два счета, потому что крюк у него очень острый, и когда его поймали, у него в холодильнике было пятнадцать или двадцать голов. Диктор по радио советовал обращать внимание на тех, у кого вместо руки крюк, и избегать безлюдных темных мест.
Девушка сказала: «Давай вернемся?» Но парень – он был рослый, сплошные мускулы – ответил: «Я этого психа не боюсь, да и он, наверно, уже за много миль отсюда». А девушка возразила: «Послушай, Лу, зато я боюсь. Больница «Саннидейл» совсем рядом. Давай поедем ко мне. Я сделаю попкорн, и будем смотреть телевизор».
Но парень ее не слушает, и вот они уже на смотровой площадке в конце дороги, целуются как безумные. А девушка все твердит, что хочет домой, потому что на стоянке больше нет машин. Эти разговоры о Крюке всех распугали. А парень говорит: «Перестань дрожать, бояться нечего, а если что, я тебя защищу», – и все такое.
И вот они развлекаются в машине, и вдруг она слышит какой-то шум – ветка треснула или что-то еще. Словно по лесу кто-то к ним подбирается. Тут ей становится по-настоящему страшно, она плачет, впадает в истерику и все прочее, как бывает с девушками. И умоляет парня отвезти ее домой. А парень все твердит, что ничего не слышит, но ей кажется, что она видит в зеркале заднего обзора, будто кто-то спрятался за машиной, смотрит на них и улыбается. Тогда девушка говорит, что если он сейчас же не отвезет ее домой, она больше никогда с ним не поедет. И наконец парень заводит двигатель и резко газует, потому что она его достала. И чуть не разбивает машину.
Вот они возвращаются домой, парень выходит, чтобы открыть ей дверцу, и вдруг замирает. Лицо у него белое-белое, а глаза такие огромные, что, кажется, вот-вот выскочат. Она спрашивает: «Лу, что случилось?» А он вдруг падает в обморок, прямо на тротуаре.
Тогда она выходит посмотреть, в чем дело, и когда захлопывает дверцу, слышит какое-то странное хихиканье. Она поворачивается… И видит висящий на дверной ручке острый как бритва крюк.
История о Крюке – классический пример жестокого ужаса. В ней нет характеров, нет темы, нет никаких остроумных ходов; она не возвышается до символической красоты и не стремится ни к каким обобщениям – событий, сознания или человеческой души. Чтобы найти все это, следует обращаться к «литературе» – например, к рассказу Фланнери О’Коннор «Хорошего человека найти нелегко» [A Good Man Is Hard To Find], который по сюжету и композиции очень похож на историю Крюка. Но рассказ о Крюке существует с одной-единственной целью: до полусмерти пугать детишек в темное время суток.
Эту историю можно переделать – превратить Крюка в пришельца из космоса и дать ему корабль с фотонным или подпространственным двигателем или сделать его существом из параллельного мира в духе Клиффорда Саймака. Но ни одна из этих уловок не превратит историю Крюка в научную фантастику. Это очевидное, несомненное произведение жанра ужасов, и весь его сюжет, вся его лаконичность, все особенности направлены лишь на достижение эффекта последней фразы, удивительно похожей на «Хэллоуин» [Halloween] Джона Карпентера («Это было чудовище», – говорит Джейми Ли Кертис в конце фильма. «Да, – негромко соглашается Дональд Плезенс. – Чудовище».) или на «Туман» [The Fog]. Оба фильма очень страшные – и оба берут начало в истории о Крюке.
Складывается впечатление, что ужас просто существует – вне всяких дефиниций и здравого смысла. В статье «Голливудское лето ужасов» из «Ньюсуик» (имеется в виду лето 1979 года – лето «Фантазма» [Phantasm], «Пророчества» [Prophecy], «Рассвета мертвецов» [Dawn of the Dead], «Ночного крыла» [Nightwing] и «Чужого» [Alien]) автор пишет, что в самых пугающих сценах из «Чужого» зрители скорее склонны стонать от отвращения, нежели кричать от ужаса. Это неоспоримо: достаточно неприятно на миг смутно увидеть желеобразное крабоподобное существо у кого-нибудь на лице, но идущая вслед за этим печально известная сцена «разрывания груди» вызывает дрожь омерзения… и происходит это за обеденным столом. Вполне хватит, чтобы извлечь из вас весь попкорн, который вы только что съели.
О рациональном осмыслении жанра ужасов могу сказать лишь следующее: он существует на трех относительно независимых уровнях, причем каждый последующий уровень менее «чист», чем предыдущий. Самая чистая эмоция – страх, что рождает в человеке история о Крюке или старинная классическая «Обезьянья лапка» [The Monkey’s Paw]. В этих историях нет ничего внешне отвратительного: в одной – крюк, в другой – высушенная обезьянья лапка, которая с виду ничуть не страшнее любой пластмассовой безделушки для розыгрышей, что во множестве продаются в магазинах. В квинтэссенцию страха их превращает то, что способно увидеть сознание. В «Обезьяньей лапке» раздается стук в дверь, и убитая горем женщина идет открывать. Когда дверь распахивается, за ней нет ничего, кроме ветра… Но наше сознание начинает гадать, что было бы за дверью, если бы муж женщины не слишком торопился с третьим желанием?
Ребенком я десятками глотал комиксы-страшилки Уильяма М. Гейнса – «Страшное место» [The Haunt of Fear], «Байки из склепа» [Tales from the Crypt], «Склеп ужаса» [The Vault of Horror] – и всех его подражателей (как и в случае с записями Элвиса, Гейнсу часто подражали, но никто не создал ничего равного оригиналу). Эти комиксы 50-х до сих пор остаются для меня вершиной страха, вернее, ужаса – эмоции, которая чуть менее чиста, нежели страх, потому что порождается не только сознанием. Ужас включает в себя и физическую реакцию при виде какого-либо уродства.
Вот, например, типичный рассказ. Жена героя и ее любовник хотят избавиться от самого героя, а потом сбежать и пожениться. Почти во всех комиксах 50-х годов женщины изображаются слегка перезрелыми, соблазнительными и сексуальными, но беспредельно злыми: убийственные суки, которые, подобно паучихе-ктенизиде, испытывают после полового сношения непреодолимую потребность сожрать партнера. Эти двое, которые вполне могли бы сойти со страниц романа Джеймса М. Кейна, приглашают беднягу мужа на прогулку, и дружок жены всаживает ему пулю в лоб. К ноге трупа привязывают бетонный блок и бросают с моста в реку.
Две или три недели спустя наш герой, живой труп, разлагающийся и изъеденный рыбами, выходит из реки. Он бредет к жене и ее приятелю… как можно догадаться, не затем, чтобы угостить их стаканчиком. Никогда не забуду часть диалога из этого рассказа: «Я иду, Мэри, но мне приходится идти медленно… потому что от меня отваливаются кусочки…»
В «Обезьяньей лапке» упор делается на воображение читателя. Он все додумывает сам. В комиксах-страшилках (как и в дешевых журналах 1930–1955 годов) важную роль играют внутренности. Как было замечено выше, старик в «Обезьяньей лапке» успевает пожелать, чтобы страшное привидение исчезло. В «Байках из склепа» Существо из Могилы стоит за дверью во всей своей красе.
Ужас – это непрекращающееся биение сердца старика в «Сердце-обличителе» [The Tell-Tale Heart], торопливый стрекот, «будто тикают часы, завернутые в вату». Ужас – аморфная, но весьма осязаемая «вещь» в удивительном романе Джозефа Пейна Бреннана «Слизь» [Slime], поглощающая жалобно скулящего пса[14].
Но есть и третий уровень – отвращение. Именно к нему относится та самая «разорванная грудь» в «Чужом». Однако лучше взять другой пример Омерзительной истории, и мне кажется, что рассказ Джека Дэвиса «Грязная игра» [Foul Play] из «Склепа ужаса» как раз подойдет. И если в эту минуту вы сидите в гостиной и жуете чипсы или крекеры, вам лучше их отложить, потому что по сравнению с тем, о чем пойдет речь, «разорванная грудь» в «Чужом» покажется сценой из «Звуков музыки». Вы заметите, что в рассказе нет подлинной логики, мотивации, развития образов, но, подобно истории Крюка, этот рассказ – скорее средство для достижения некой цели, способ подобраться к этим трем уровням…
«Грязная игра» – это история Херби Саттена, питчера из бейсбольной команды Бейвильской младшей лиги. Саттен – абсолютно отрицательный образ, без малейших просветов, настоящее чудовище. Он коварен, лжив, эгоистичен и готов использовать любые средства, чтобы добиться своего. Он способен в любом из нас пробудить «человека толпы»: читатели с радостью вздернули бы Херби на ближайшей яблоне, и к черту Союз защиты гражданских свобод.
Его команда ведет на одно очко в девятом иннинге. Херби добирается до первой базы и при этом сознательно подставляется под внутренний питч. Хотя Саттен – человек крупный и не очень ловкий, во время следующего питча он все же добирается до второй базы. Вторую базу прикрывает сильный отбивающий команды «Сентрал сити», безгрешный Джерри Диган. Без сомнения, «благодаря ему команда хозяев непременно выиграет в конце девятого иннинга». Коварный Херби Саттен скользит по полю и бьет безгрешного Джерри шипами своих спортивных туфель, но тот держит удар и обезвреживает Саттена.
Шипы нанесли Джерри несколько ран, на первый взгляд – не очень серьезных. Но на самом деле Херби перед игрой смазал шипы быстродействующим ядом. В середине девятого иннинга Джерри подходит к «пластине» с двумя игроками в ауте и одним на позиции, способной принести очко. Для команды хозяев все идет замечательно. К несчастью, Джерри неожиданно падает замертво на основной базе, в тот самый момент, когда судья объявляет аут. А злобный Херби Саттен с ухмылкой уходит.
Врач команды «Сентрал сити» узнает, что Джерри был отравлен. Один из игроков команды мрачно говорит: «Это дело полиции!» Другой зловеще отвечает: «Нет! Погоди! Мы сами с ним разберемся… по-своему».
И вот Херби получает от всей команды письмо, в котором его приглашают вечером на игровое поле: там, дескать, ему должны вручить медаль за выдающиеся достижения в игре. Херби, как видно, столь же туп, сколь и злобен; он поддается на эту уловку, и в следующей сцене мы видим команду «Сентрал сити» на поле. Врач команды одет судьей. Он покидает основную базу… которая при ближайшем рассмотрении оказывается человеческим сердцем. Дорожки между базами представляют собой кишки, а сами базы – куски тела несчастного Херби Саттена. У бэттера в руках вместо биты – отрезанная нога Херби. Питчер держит изуродованную человеческую голову и готовится бросить ее. Голова, из которой свисает глазное яблоко, выглядит так, словно ее уже не раз бросали во время пробежек, хотя, как выразился Дэвис (Веселый Джек Дэвис, как называли его фэны того времени; сейчас он иногда рисует обложки для «Тиви гайд»), «никто не ожидал, что мяч пронесут так далеко». На жаргоне бейсболистов это «мертвый мяч».
Старая Ведьма сопровождает описание этой мясорубки собственным комментарием, который начинается с бессмертного хихиканья: «Хе-хе! Вот такой у меня рассказ для этого выпуска. Херби, питчер, в тот вечер разлетелся на куски и был выдворен… из жизни… Вот так-то».
Как видите, и «Обезьянья лапка», и «Грязная игра» – страшные рассказы, но способ их воздействия и производимое ими впечатление очень сильно разнятся. Неудивительно, что американские издатели комиксов прикрыли свои конторы в начале 50-х… не дожидаясь, пока сенат США сделает это за них.
Итак, на высшем уровне – страх, под ним – ужас, а в самом низу – тошнота отвращения. Моя философия человека, пишущего в жанре ужасов, заключается в том, чтобы учитывать эту иногда полезную иерархию, но избегать отдавать предпочтение какому-то одному уровню на основании того, что он лучше и выразительнее остальных. Четкие определения опасны тем, что способны превратиться в орудия критики, причем того типа, который я бы назвал механическим и поверхностным, а это, в свою очередь, ведет к ограниченности. Я считаю страх наиболее утонченной эмоцией (превосходно использованной в фильме Роберта Уайза «Призрак дома на холме» [The Haunting], где, как и в «Обезьяньей лапке», нам так и не позволяют увидеть, что там, за дверью), поэтому и стараюсь пробудить ее у читателей. Но если напугать читателя не удастся, я попытаюсь повергнуть его в ужас; а если пойму, что и это не получается, могу прибегнуть к мерзости. Я человек не гордый.
Создавая свой вампирский роман, получивший название «Жребий Салема», я решил отдать дань литературного уважения (как сделал Питер Страуб в «Истории с привидениями» [Ghost Story], работая в традиции таких «классических» авторов рассказов о призраках, как Генри Джеймс, М. Р. Джеймс и Натаниэль Готорн). Поэтому я придал своему роману намеренное сходство с «Дракулой» Брэма Стокера, и потом мне начало казаться, что я играю в интересную – по крайней мере, для меня – игру: в литературный ракетбол[15]. «Жребий Салема» – мяч, а «Дракула» – стена, и я бью о стену, чтобы посмотреть, куда отскочит мяч, и ударить снова. Кстати, некоторые траектории были крайне интересными, и я объясняю этот факт тем, что хотя мой мяч существовал в двадцатом веке, стена была продуктом века девятнадцатого. В то же время, поскольку сюжет с вампирами являлся одним из основных в комиксах моего детства, я решил использовать и эту традицию[16].
Вот несколько сцен из «Жребия Салема», параллельных сценам из «Дракулы»: кол, вбитый в Сьюзен Нортон (у Стокера – в Люси Вестенра); священник, отец Каллахэн, пьет кровь вампира (в «Дракуле» Мина Мюррей Харкер вынуждена принять столь же извращенное причастие у графа под его памятные, вселяющие ужас слова: «Мой изобильный, хотя и временный источник…»); когда Каллахэн пытается войти в церковь, чтобы получить отпущение грехов, у него загорается рука (в «Дракуле» Ван Хельсинг касается лба Мины облаткой, чтобы очистить ее от гнусного прикосновения графа, но облатка вспыхивает, и у Мины на лбу остается ужасный шрам). Ну и, разумеется, толпа бесстрашных охотников на вампиров, которая есть в обеих книгах.
Естественно, из «Дракулы» я решил использовать те сцены, которые произвели на меня наибольшее впечатление; кажется, что Стокер писал их словно в лихорадке. На примете у меня были и другие, но в окончательный вариант они не попали – как не попал, например, эпизод с крысами. В романе Стокера отряд бесстрашных охотников на вампиров – Ван Хельсинг, Джонатан Харкер, доктор Сьюард, лорд Годалминг и Квинси Моррис – входит в подвал Карфакса, английской резиденции графа. Сам граф давно покинул сцену, но оставил несколько своих гробов для путешествий (ящиков, наполненных землей его страны) и уготовил другие неприятные сюрпризы. И вот вскоре после появления бесстрашных охотников за вампирами подвал заполняют крысы. В соответствии с легендами (а Стокер в своем романе использует поразительное количество связанных с вампирами легенд и преданий), вампиры обладают властью над мелкими животными: кошками, крысами, ласками (и, возможно, республиканцами, хе-хе). Дракула послал этих крыс, чтобы пощекотать нервы нашим героям.
Однако лорд Годалминг это предусмотрел. Он выпускает из сумки пару терьеров, и они быстро справляются с крысами Дракулы. Я решил: пусть Барлоу – мой эквивалент графа Дракулы – тоже использует крыс, и создал для этого в городе из «Жребия Салема» открытую свалку, где крыс видимо-невидимо. На первой сотне страниц я несколько раз упомянул об этих крысах – и до сих пор получаю письма: читателей интересует, может, я просто забыл о собственных крысах, или использовал их для того, чтобы создать атмосферу, или в них есть какой-то другой, потаенный смысл?
На самом деле, в черновом варианте крысы фигурировали у меня в сцене настолько отталкивающей, что мой редактор в «Даблдэй» (тот самый Билл Томпсон, которого я упомянул в предисловии) настоятельно посоветовал исключить ее из романа и заменить чем-нибудь другим. Я поворчал, но послушался его совета. В издании «Жребия Салема» издательства «Даблдэй» (в серии «Новая американская библиотека») врач Джимми Коуди и мальчишка Марк Питри, который повсюду его сопровождает, выясняют, что «король вампиров», как ярко выражается Ван Хельсинг, почти наверняка живет в подвале местного доходного дома. Джимми спускается туда, но лестница обрушивается. А из досок пола под ней торчат ножи. Джимми падает прямо на лезвия и умирает: сцена, полная того, что я называю «ужасом» – в противоположность «страху» и «отвращению». Это как бы середина пути.
Однако в первом варианте романа лестница была крепкой. Джимми спокойно спускался и обнаруживал – с роковым опозданием, – что Барлоу призвал всех крыс со свалки в подвал доходного дома Евы Миллер. Подвал стал для крыс настоящим «ХоДжо»[17], а Джимми Коуди – главным блюдом. Крысы сотнями набрасываются на него, и нас угощают (если это верное слово) созерцанием доброго доктора, который, преодолевая их тяжесть, пытается подняться по лестнице. Крысы у него под рубашкой, в волосах, они кусают его руки и шею. А когда он хочет выкрикнуть предупреждение Марку, крыса забирается ему в рот и, пища, устраивается там.
Мне нравилась эта сцена, потому что, как я полагал, она дает возможность объединить предания о вампирах с другими ужасами. Но мой редактор настаивал, что это чересчур, и постепенно я с ним согласился. Может быть, он и прав[18].
На предыдущих страницах я сделал попытку уловить некоторые различия между научной фантастикой и жанром ужасов, между научной фантастикой и фэнтези, между ужасом и страхом, между ужасом и отвращением – скорее на примерах, чем при помощи определений. Все это неплохо – но, вероятно, стоит внимательнее присмотреться к ощущению ужаса, опять-таки, стараясь не дать какое-то определение, а увидеть его воздействие. Что делает ужас? Что заставляет людей стремиться к нему… почему они готовы платить за то, чтобы их напугали? Почему появляется на свет «Изгоняющий дьявола»? И «Челюсти» [Jaws]? И «Чужой»?
Но прежде чем говорить об этом, стоит подумать о компонентах: если мы не хотим определять ужас в целом, возможно, анализ его составляющих позволит нам прийти к каким-нибудь выводам.
Фильмы и романы ужасов всегда были в моде, но раз в десять – двадцать лет мы наблюдаем всплеск их популярности, и эти всплески, кажется, всегда совпадают с периодами серьезной экономической и/или политической напряженности. Книги и фильмы словно отражают ту блуждающую тревогу (за неимением лучшего термина), которой сопровождаются серьезные, но не смертельные кризисы. Зато когда американцы сталкивались с реальным ужасом в собственной жизни, интерес к страшным книгам и фильмам падал.
Расцвет жанра пришелся на 30-е годы. Когда преследуемые жестокой депрессией люди не могли позволить себе заплатить за радость поглазеть на девушек Басби Беркли[19], танцующих под мелодию «У нас есть деньги», они избавлялись от тревог другим способом: смотрели, как бродит по болотам Борис Карлофф в «Франкенштейне» или как ползет в темноте Бела Лугоши в «Дракуле». На 30-е годы пришелся и расцвет так называемых журналов дрожи, куда входит все, от «Странных рассказов» до «Черной маски».
В 40-е годы мы уже не находим большого количества достойных упоминания фильмов или романов, а единственный журнал, посвященный фэнтези, который начал выходить в это десятилетие, «Неизвестное», продержался недолго. Великие чудовища студии «Юниверсал» времен депрессии – монстр Франкенштейна, человек-волк, мумия и граф – умирали той особенно неприятной и неловкой смертью, какая обычно уготована безнадежно больным; вместо того чтобы с почестями и достойно похоронить их на замшелых европейских кладбищах, Голливуд решил подвергнуть несчастных стариков насмешкам и, прежде чем освободить, высосать из них последние центы. И вот мы видим чудовищ в компании Эббота и Костелло[20], а также парней из Бауэри[21] и, разумеется, Трех бездельников[22]. Впрочем, в эти годы чудовища сами стали бездельниками. Много лет спустя, в другой послевоенный период, Мел Брукс предъявит нам свою версию «Эббот и Костелло встречают Франкенштейна» [Abbott and Costello Meet Frankenstein] – «Молодой Франкенштейн» [Young Frankenstein], где вместо Бада Эббота и Лу Костелло играют Джин Уайлдер и Марти Фельдман.
Закат жанра ужасов, начавшийся в 1940 году, продолжался двадцать пять лет. О, конечно, время от времени появлялись такие романы, как «Невероятно уменьшающийся человек» [Shrinking Man] Ричарда Матесона или «У кромки бегущей воды» [The Edge of Running Water] Уильяма Слоана, напоминая нам, что жанр все еще жив (хотя даже мрачное повествование Матесона о схватке человека с гигантским пауком – прекрасный образец жанра ужасов – в то время рекламировалось как научная фантастика), но мысль о том, чтобы выпустить бестселлер в этом жанре, высмеяло бы любое издательство.
Как и в кинематографе, золотой век литературы о странном миновал в 30-е годы, а до того влияние и качество (не говоря уже о тираже) «Странных рассказов», которые печатали Кларка Эштона Смита, молодого Роберта Блоха, доктора Дэвида Келлера и, конечно же, короля ужасов XX века, мрачного и причудливого Г. Ф. Лавкрафта, достигли небывалого уровня. Не стану оскорблять тех, кто на протяжении пятидесяти лет следил за развитием жанра, утверждением, что ужасы в 40-е годы исчезли совсем; на самом деле это не так. Покойный Август Дерлет основал в то время издательство «Аркхэм-Хаус», и оно, это издательство, с 1939 по 1960 год публиковало произведения, которые я считаю важнейшими для развития жанра: «Изгой» [The Outsider] и «За стеной сна» [Beyond the Wall of Sleep] Г. Ф. Лавкрафта, «Джамби» [Jumbee] Генри С. Уайтхеда, «Открывающий пути» [The Opener of the Way] и «Приятных снов» [Pleasant Dreams] Роберта Блоха… и «Темный карнавал» [Dark Carnival] Рэя Брэдбери, сборник удивительных и вселяющих ужас рассказов о мраке, который таится сразу за порогом нашего привычного мира.
Но Лавкрафт умер до Перл-Харбора; Брэдбери начал все чаще и чаще обращаться к лирической стороне своего таланта (и только после этого его произведения стали принимать такие журналы мейнстрима, как «Коллиерз» и «Сатердей ивнинг пост»); Роберт Блох принялся писать рассказы в жанре саспенс и, используя все, чему научился за первые два десятилетия своей писательской карьеры, создал превосходные романы, уступающие только романам Корнелла Вулрича.
Во время войны и сразу после нее жанр ужасов переживал упадок. Время не было к нему благосклонно. Это был период стремительного развития науки и рационализации – и то и другое быстро растет в атмосфере войны, – а кроме того, это время стало тем, что фанаты и писатели называют «золотым веком научной фантастики». Пока «Странные рассказы» угрюмо продолжали держать прежний курс, хотя вряд ли собирали миллионы читателей (пытаясь остановить падение тиража, в середине 50-х журнал перейдет от прежнего большого формата к среднему формату – формату дайджеста), рынок научной фантастики расцвел, произвел на свет десяток запомнившихся всем любителям фантастики журналов и создал почву для появления таких имен, как Хайнлайн, Азимов, Кэмпбелл и дель Рей; а эти имена, хотя и не стали нарицательными, хорошо знакомы постоянно растущему сообществу фэнов, безраздельно преданных ракетным кораблям, космическим станциям и непременным лучам смерти.
Итак, жанр ужасов томился в темнице примерно до 1955 года. Время от времени он гремел цепями, но особого волнения не вызывал. И вот два человека, Сэмюэл З. Аркофф и Джеймс Николсон, с трудом спустились в эту темницу и обнаружили в ней ржавеющую денежную машину. До того Аркофф с Николсоном занимались распространением фильмов; поскольку в те времена кино снимали все, кому не лень, они тоже решили попробовать.
Люди осведомленные предсказывали скорый крах этого предприятия. Смельчакам говорили, что они пускаются в открытое море в свинцовой лодке: ведь наступает век телевидения. Осведомленные люди видели будущее, и это будущее принадлежало Дагмар[23] и Ричарду Даймонду, частному детективу[24]. Заинтересованные лица (а таковых было очень немного) единогласно пришли к выводу, что Аркофф и Николсон быстро лишатся последней рубашки.
Однако на протяжении следующих двадцати пяти лет компания, которую они основали – «Американ интернешнл пикчерз», АИП (сейчас она принадлежит одному Аркоффу: Джеймс Николсон умер несколько лет назад), – была единственной крупной американской кинокомпанией, которая устойчиво получала прибыли. АИП выпустила немало фильмов, но все они были ориентированы на молодежную аудиторию; среди них есть такие сомнительные шедевры, как «Берта по прозвищу “Товарный вагон”» [Boxcar Bertha], «Кровавая мама» [Bloody Mama], «Гонщица» [Dragstrip Girl], «Трип» [Trip], «Диллинжер» [Dillinger] и бессмертное «Бинго на пляже» [Beach Blanket Bingo]. Но наибольшего успеха компания достигла в фильмах ужасов.
Почему эти картины АИП стали классикой жанра? Да потому, что они были очень просты, сняты наспех и так по-любительски, что иногда кажется, будто видишь тень от микрофона в кадре или замечаешь баллоны акваланга под чешуей подводного чудища (как в «Нападении гигантских пиявок» [Attack of the Giant Leeches]). Сам Аркофф вспоминает, что к началу съемок у них редко бывал готовый сценарий; часто деньги вкладывались в проект исключительно на основании названия, которое показалось удачным в коммерческом смысле, как, например, «Ужас из пятитысячного года» [Terror from the Year 5000] или «Пожиратели мозга» [The Brain Eaters], – то есть чего-то такого, что будет хорошо выглядеть на рекламных плакатах.
Но каковы бы ни были причины, результат получился отличным.
Ну, давайте на время оставим эту тему. Поговорим о чудовищах.
Что такое чудовище?
Начнем с того, что любая история ужасов, какой бы примитивной она ни была, по своей природе аллегорична. Автор, подобно пациенту на кушетке психоаналитика, рассказывает нам что-то одно, в то время как означает это совсем другое. Я не утверждаю, что жанр ужаса сознательно аллегоричен или символичен: это подразумевало бы артистичность, которой достигают очень немногие. Недавно в Нью-Йорке прошла ретроспектива фильмов АИП (1979); ретроспективный показ предполагает достаточно высокий уровень искусства, однако фильмы эти по преимуществу – дешевка. Они будят сладкую ностальгию, но тому, кто ищет подлинную культуру, следует выбрать для поисков другое место. Абсурдно полагать, что Роджер Корман неосознанно создавал искусство, снимая за четыре дня фильм с бюджетом 10 тысяч долларов.
Аллегория присутствует здесь лишь потому, что она задана заранее, ее невозможно избежать. Ужас притягивает нас, поскольку позволяет символически выразить то, что мы боимся сказать прямо; он дает нам возможность проявить эмоции, которые в обществе принято сдерживать. Фильм ужасов – это приглашение порадовать себя нестандартным, антиобщественным поведением – беспричинным насилием, осуществлением тайных мечтаний о власти – и получить возможность выразить свои самые глубинные страхи. Кроме того – и это, возможно, самое важное, – роман или фильм ужасов позволяет человеку слиться с толпой, стать полностью общественным существом, уничтожить чужака. Это было проделано в буквальном смысле в непревзойденном рассказе Ширли Джексон «Лотерея» [The Lottery], где концепция чужака – символ, созданный черным кружочком на клочке бумаги. Зато в граде камней, которым заканчивается рассказ, нет ничего символического; ребенок жертвы тоже их швыряет, а мать умирает, крича: «Это несправедливо! Несправедливо!»
И не случайно рассказы ужасов обычно кончаются поворотом сюжета в стиле О’Генри – поворотом, который ведет прямиком в ствол шахты. Берясь за страшную книгу или смотря фильм ужасов, мы снимаем привычную шляпу под названием «хеппи-энд». И ждем, когда нам скажут то, о чем мы и сами подозреваем: что все кончается плохо. В большинстве случаев рассказы ужасов не обманывают этого ожидания, и не думаю, что, когда Кэтрин Росс в финале «Степфордских жен» [The Stepford Wives] становится жертвой Степфордской мужской ассоциации или когда в заключительной сцене «Ночи живых мертвецов» [Night of the Living Dead] чернокожий герой погибает от пули тупого копа, кто-нибудь по-настоящему удивляется. Как говорится, таковы правила игры.
А чудовищность? Как быть с этим правилом? Что мы можем извлечь из него? Если мы не дадим определения, то сможем ли хотя бы привести примеры? Это, друзья мои, взрывоопасная штука.
Что насчет уродов в цирке? Что вы скажете об этой жуткой ярмарке отклонений от нормы, которую показывают нам в ярких лучах прожекторов? О Ченге и Енге, знаменитых сиамских близнецах? Многие люди считали их чудовищами своего времени, но тех, кто полагал еще более чудовищным тот факт, что у каждого из них собственная интимная жизнь, было гораздо больше. Самый язвительный – а порой и самый забавный – американский карикатурист, парень, которого звали Родригес, развил тему сиамских близнецов в своей серии «Братья Эзоп» в «Нэйшнл лэмпун»; нас тыкали носом во все, что касается людей, на всю жизнь соединенных друг с другом: сексуальная жизнь, туалет, любовные отношения, болезни. Родригес использовал все, что только можно подумать о сиамских близнецах… и это были иллюстрации к вашим мрачнейшим предположениям. Конечно, это дурной вкус, но подобная критика бессильна и напрасна: прежде чем вернуться в спокойные воды американского мейнстрима, старый «Нэйшнл инкуайрер» печатал снимки разорванных на куски жертв автокатастроф и собак, грызущих оторванные человеческие головы, обеспечивая добрую дозу мерзости[25].
А настоящие ярмарочные уродцы? Можно их отнести к чудовищам? Карликов? Лилипутов? Бородатую женщину? Толстую женщину? Человека-скелета? В жизни каждого был момент, когда он стоял с хот-догом или пачкой попкорна в руке на утоптанной тысячами ног и усыпанной соломой площадке, а зазывала тем временем соблазнял зрителей; обычно при этом присутствовал в качестве образца один из уродцев: толстая женщина в детской розовой юбочке; мужчина, с головы до ног покрытый татуировками, вокруг шеи которого обернулся, как виселичная петля, хвост дракона; или другой, без остановки глотающий гвозди, куски металла и электрические лампочки. Быть может, немногие из нас поддались искушению выложить двадцать пять, или пятьдесят, или семьдесят пять центов, чтобы зайти внутрь и увидеть их всех, а также обязательного двухголового теленка или эмбрион в бутылке (я пишу рассказы ужасов с восьми лет, однако ни разу не был на ярмарке уродов), но почти все его испытали. Бывают ярмарки, где самого страшного урода не показывают, держат в темноте, словно какое-то проклятое существо из девятого круга Дантова ада, потому что демонстрировать его запрещено с 1910 года; его держат в яме, одетым в лохмотья. Это дикий человек, и, доплатив один-два доллара, вы можете постоять на краю ямы и посмотреть, как он откусывает голову живому цыпленку и глотает ее. А обезглавленный цыпленок продолжает биться в его руках.
В уродах есть нечто притягательное, но в то же время пугающее и запретное, и потому единственная серьезная попытка сделать их главным сюжетным элементом фильма кончилась тем, что фильм быстро сошел с экранов. Речь идет о фильме «Уродцы» [Freaks], снятом Тодом Браунингом в 1932 году на «Эм-Джи-Эм».
«Уродцы» – это история о Клеопатре, красавице акробатке, которая вышла замуж за карлика. Сердце у нее черное, как полночь в угольной шахте. И не карлик интересует ее, а его деньги. Подобно паукам-людоедам из будущих комиксов, Клео вскоре заманивает в свои сети другого мужчину – Геркулеса, ярмарочного силача. Как и Клеопатра, Геркулес красив, но наши симпатии – на стороне уродцев. Эти двое красавцев начинают потихоньку травить маленького мужа Клео. Узнав об этом, остальные уроды мстят, и месть их ужасна. Геркулеса убивают (говорят, что по первоначальному замыслу его должны были кастрировать), а прекрасная Клеопатра превращается в женщину-птицу, покрытую перьями и безногую.
Браунинг сделал ошибку, сняв в фильме настоящих уродов. В обществе ужаса мы чувствуем себя относительно спокойно, лишь пока видим молнию на спине чудовища и понимаем, что все это понарошку. Кульминационный момент «Уродцев» – когда Живой Торс, Безрукое Чудо и сестры Хилтон (сиамские близнецы) вместе с прочими скользят и хлюпают по грязи вслед за кричащей Клеопатрой – это для зрителя уже чересчур. Даже безропотные кинотеатры «Эм-Джи-Эм», получившие право проката этого фильма, отказывались его демонстрировать, и Карлос Кларенс в «Иллюстрированной истории фильмов ужасов» [Illustrated History of the Horror Film] («Кэприкорн букс», 1968) говорит, что во время единственного сеанса в Сан-Диего «женщина с криком побежала по проходу». Фильм настолько урезали, что один критик даже пожаловался: он не понимает, что смотрит. Далее Кларенс сообщает, что в течение тридцати лет фильм был запрещен в Соединенном Королевстве, стране, которая, наряду с прочим, дала миру Джонни Роттена[26], Сида Вишеса[27], «Хнычущее дерьмо»[28] и замечательный обычай «паки-бэшинг»[29].
Сейчас «Уродцев» иногда показывают по кабельному телевидению, и, возможно, после выхода этой книги они появятся на видеокассетах. Но вплоть до настоящего времени фильм вызывает жаркие споры среди любителей жанра ужасов – и хотя многие о нем слышали, своими глазами его мало кто видел.
Оставив на время уродцев, подумаем, что еще мы считаем настолько ужасным, чтобы обозвать древнейшим на земле бранным словом? Причудливые злодеи Дика Трейси[30], из которых самым ярким примером может послужить Флайфейс, и главный враг Дона Уинслоу Скорпион, у которого настолько жуткое лицо, что он прячет его под маской (хотя иногда снимает ее, чтобы поразить разочаровавших его служителей зла; говорят, они тут же падают замертво от сердечного приступа, испуганные буквально до смерти). Насколько мне известно, ужасная тайна закрытого лица Скорпиона так и не была раскрыта (прошу прощения за каламбур, хе-хе), но неустрашимому капитану Уинслоу однажды удалось открыть лицо дочери Скорпиона – у нее оказалось застывшее, мертвое лицо трупа. Эта информация доводится до затаивших дыхание читателей курсивом – застывшее, мертвое лицо трупа! – чтобы усилить впечатление.
«Новое поколение» чудовищ из комиксов, пожалуй, лучше всего иллюстрируют творения Стена Ли из «Марвел комикс», где на каждого супергероя, такого как Человек-паук или Капитан Америка, приходятся десятки уродливых существ: доктор Осьминог (известный детям всего читающего комиксы мира как Док Ок), чьи руки усилены чем-то похожим на движущийся лес убийственных шлангов от пылесоса; Песочный человек, похожий на шагающую песчаную дюну; Стервятник; Стергон; Ящер; и самый страшный из всех – доктор Дум, который был так изуродован в процессе поиска запретных знаний, что теперь напоминает большого звякающего киборга в зеленом плаще с капюшоном; он смотрит на мир сквозь разрезы глазниц, похожие на бойницы средневекового замка, и в буквальном смысле слова обливается потом. Супергерои с элементами чудовищности во внешности выглядят менее выносливыми. Правда, мой любимец Пластиковый Человек (которого всюду сопровождает его удивительный чокнутый приятель Вузи Уинкс) никогда не теряет сил, Рид Ричардс из Фантастической Четверки похож на него, а ближайший помощник Ричардса Бен Гримм (по прозвищу Существо) смахивает на застывший поток лавы – но это скорее исключения, нежели правило.
До сих пор мы говорили о ярмарочных уродах и о карикатурах, которые можно иногда встретить в юмористических разделах. Теперь давайте немного приблизимся к сути. Спросите себя, что вы считаете чудовищным или ужасным в повседневной жизни? Только не делайте этого, если вы врач или медсестра: этим людям часто приходится сталкиваться с отклонениями от нормы, и они привыкли их не замечать; почти то же самое можно сказать о полицейских и барменах.
Ну а все остальные?
Возьмем полноту. Насколько толстым должен стать человек, чтобы перейти черту и превратиться в чудовище? Уж конечно, это не женщина, посещающая «Лейн Брайант»[31], или мужчина, покупающий себе костюмы в отделах для «крупных людей». Или я ошибаюсь? А если он уже не может ходить в кино или на концерт, потому что его ягодицы не умещаются на одном кресле?
Понимаете, я не говорю о полноте в медицинском или эстетическом смысле и не покушаюсь на «право быть толстым»; я говорю не о женщине, которую вы встретили на деревенской дороге, когда она в летний день ходила за почтой: ее гигантские ягодицы втиснуты в черные слаксы, щеки отвисли и раскачиваются, живот выпирает из-под незаправленной белой блузы, как тесто; я говорю о той точке, где излишек веса переходит границы нормы и превращается в нечто такое, что, независимо от того, прилично это или нет, притягивает ваш взгляд, покоряет его. Я рассуждаю о вашей – или моей – реакции на тех огромных людей, глядя на которых мы начинаем гадать, как они совершают обычные действия: проходят в дверь, садятся в машину, звонят домой из телефонной будки, наклоняются, чтобы завязать шнурок, принимают душ и так далее.
Вы можете возразить: Стив, ты опять говоришь о ярмарке – о толстой женщине в девчоночьей розовой юбке, о гигантских близнецах, ставших бессмертными благодаря «Книге рекордов Гиннесса» (они уезжают от камеры на крошечных моторных скутерах, и их ягодицы торчат по обе стороны, словно оживший сон о невесомости). Но на самом деле я веду речь не об этих людях, которые живут в своем особом мире, где совсем иные представления о норме: насколько уродливым вы будете себя чувствовать, даже если весите пятьсот фунтов, в обществе лилипутов, живых скелетов и сиамских близнецов? Норма – это социологическая концепция. Есть старый анекдот о двух африканских лидерах, которые встречаются с Кеннеди, а потом возвращаются домой на одном самолете. Один из них говорит другому: «Кеннеди! Что за нелепое имя!» Аналогичный эпизод есть в «Сумеречной зоне» (в «Глазах наблюдателя»); в нем рассказывается об ужасающе уродливой женщине, которой в очередной раз не удалась пластическая операция… и только в самом конце выясняется, что она живет в будущем и люди там выглядят как гротескные гуманоидные свиньи. «Уродливая» женщина по нашим стандартам необыкновенно красива.
Я веду речь о толстяках в нашем обществе. Например, о бизнесмене, который весит четыреста фунтов и обычно покупает два места в туристическом классе и убирает поручень между креслами. Я веду речь о женщине, которая готовит себе на ленч четыре гамбургера и съедает их с восемью ломтями хлеба и большим количеством картофельного салата со сметаной, за которым следует еще десерт: полгаллона мороженого поверх сладкого пирога.
В 1976 году во время деловой поездки в Нью-Йорк я видел очень толстого человека, который застрял во вращающейся двери книжного магазина «Даблдэй» на Пятой авеню. Огромный, потный, в полосатом костюме, он просто заклинил собой дверь. К охраннику на помощь прибежал городской полицейский; вдвоем они толкали и нажимали, пока мало-помалу дверь не начала рывками двигаться. Наконец она повернулась настолько, что джентльмену удалось выйти. И тогда я задал себе вопрос, который задаю до сих пор: многим ли отличается толпа, собравшаяся, чтобы поглазеть на эту спасательную операцию, от той, что слушает болтовню ярмарочного зазывалы… или от зрителей первого фильма студии «Юниверсал», не сводящих глаз с экрана, когда чудовище Франкенштейна встает с лабораторного стола и идет?
Чудовищны ли толстяки? А люди с заячьей губой или большими родимыми пятнами на лице? В ярмарочную труппу с этим не попадешь – слишком обычное уродство, к сожалению. А те, у кого по шесть пальцев на руках или ногах? Таких тоже немало. И если перейти поближе к повседневности, что вы скажете о человеке, у которого очень много угрей?
Конечно, обычные прыщи – это пустяк: даже у чирлидера может время от времени выскочить прыщик в уголке чудесного ротика. Но я и не говорю об обычных прыщах – я говорю о тех ужасных случаях, когда они покрывают все лицо, словно в японском фильме ужасов, нарыв на нарыве, и почти все пылают и гноятся.
Подобно той сцене в «Чужом» с разрывающейся грудью: этого вполне достаточно, чтобы заставить вас расстаться со съеденным попкорном… только видим мы это не в кино, а в реальности.
Может быть, я еще не затронул ваших представлений о чудовищном в обычной жизни – и, возможно, так их и не затрону, но задумайтесь ненадолго о таком банальном явлении, как леворукость. Разумеется, дискриминация по отношению к левшам очевидна. Если вы учились в колледже или средней школе с современными партами или столами, то знаете, что все они спроектированы исключительно для правшей. В самых передовых учебных заведениях могут в качестве символического жеста заказать несколько парт для левшей, но не больше. А во время тестов или экзаменов левши сбиваются в группку на какой-нибудь одной стороне зала, чтобы не толкать локтями своих нормальных соперников.
Но проблема шире, чем просто дискриминация. Дискриминация расползлась всюду, однако корни чудовищности уходят и в глубину, и в ширину. Левши-бейсболисты всегда считаются посредственными игроками, хотя на самом деле могут играть очень хорошо[32]. Французы называют левшей la sinistre; это слово происходит из латинского языка, и предок у него тот же самый, что у нашего sinister – «зловещий». В соответствии со старинным поверьем, правая сторона принадлежит Богу, а левая – тому, другому парню. К боксерам-левшам всегда относились подозрительно. Моя мать была левшой; она рассказывала нам с братом, что в школе учитель бил ее линейкой по левой руке, чтобы она взяла ручку в правую. Когда учитель отходил, она, конечно, тут же снова брала ручку левой рукой, потому что правой могла изобразить только большие детские каракули; такова судьба многих, кто пытается писать, как говорят жители Новой Англии, «тупой рукой». Мало кто умеет одинаково хорошо владеть обеими руками, подобно Бренуэллу Бронте, талантливому брату Шарлотты и Эмилии. Бренуэлл настолько хорошо владел обеими руками, что мог писать два письма двум разным людям одновременно. Можно задуматься, является ли такая способность чудовищной… или гениальной.
В сущности, любое отклонение от интеллектуальной или физической нормы рассматривалось в истории – и рассматривается сейчас – как проявление чудовищности; полный список включал бы в себя вдовьи мыски (когда-то они считались доказательством колдовских способностей человека), родимые пятна на теле женщины (доказательство того, что она ведьма) и крайние проявления шизофрении, благодаря которым церковь время от времени канонизировала умственно нездоровых людей.
Прежде всего чудовищность привлекает консервативного республиканца в костюме-тройке, который сидит в каждом из нас. Концепция чудовищности нравится и нужна нам потому, что она подтверждает существование порядка, к которому мы, люди, стремимся ежеминутно… и позвольте предположить, что в ужас нас приводят не физические и умственные отклонения, а то отсутствие порядка, которое они символизируют.
Покойный Джон Уиндем, возможно, лучший английский писатель-фантаст, хорошо выразил эту мысль в своем романе «Куколки» [The Chrysalids], выпущенном в Америке под названием «Возрождение» [Rebirth]. На мой взгляд, в этой книге проблема мутации и отклонения от нормы рассматривается полнее и глубже, чем в любой другой книге на английском языке со времен Второй мировой войны. В гостиной дома молодого героя книги висят таблички-поучения: «ТОЛЬКО ОБРАЗ БОЖИЙ И ЕГО ПОДОБИЕ ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК»; «НЕ ОСКВЕРНЯЙ НЕЧИСТОТАМИ РОД, УГОДНЫЙ БОГУ»; «В ОЧИЩЕНИИ НАШЕ СПАСЕНИЕ»; «НОРМА – ЖЕЛАНИЕ ГОСПОДА»; и самое красноречивое: «ИЩИ И НАЙДИ МУТАНТА!» В конечном счете, даже просто обсуждая чудовищность, мы выражаем свою веру в норму и страх перед мутантами. И тот, кто пишет романы ужасов, есть простой представитель этого статус-кво, не больше, но и не меньше.
Теперь, после всего сказанного, давайте вернемся к фильмам «Американ интернешнл пикчерз» 50-х годов. Чуть позже мы поговорим об аллегорических свойствах этих картин (эй вы, в заднем ряду, перестаньте смеяться или покиньте помещение), но пока давайте еще немного порассуждаем о чудовищности… и если коснемся аллегории, то лишь поверхностно, полагая, что в фильмах ее нет.
Хотя эти фильмы появились в то время, когда рок-н-ролл прорвал расовый барьер, хотя они обращены к тем же самым молодым людям, увлеченным современной музыкой, интересно отметить некую вещь, которая в них отсутствует совершенно… по крайней мере, если говорить в терминах «подлинной» чудовищности.
Мы уже отмечали, что фильмы АИП и других компаний, начавших ей подражать, дали киноиндустрии 50-х годов столь необходимый толчок. Они предложили миллионам молодых зрителей то, что те не могли увидеть дома по телевизору, а также место, куда можно пойти и сравнительно комфортабельно провести время. Именно эти «инди»[33], как назвал их журнал «Вэрайети», вызвали у всего поколения детей войны ненасытную жажду кино и, возможно, обеспечили успех таким несопоставимым друг с другом фильмам, как «Беспечный ездок» [Easy Rider], «Челюсти», «Рокки» [Rocky], «Крестный отец» [The Godfather] и «Изгоняющий дьявола».
Но где же чудовища?
О, поддельных чудовищ полно: пришельцы на летающих тарелках, гигантские пиявки, оборотни, люди-кроты (в фильме студии «Юниверсал») и десятки других. Но чего АИП не показала нам, испытывая эти многообещающие новые виды, так это нечто такое, что отдает настоящим ужасом… по крайней мере, в эмоциональном понимании детей войны. Это важное утверждение, и я надеюсь, вы согласитесь, что оно заслуживает курсива.
Они – то есть мы – знали психологический дискомфорт, появившийся с Бомбой, но никогда не знали физических лишений или голода. Дети, которые шли смотреть эти фильмы, были сытыми и ухоженными. У некоторых на войне погиб отец или дядька. Но таких было немного.
И в фильмах тоже не было толстых детей, не было детей с бородавками или страдающих нервным тиком; прыщавых детей; детей, ковыряющих в носу; детей с сексуальными проблемами; детей с заметными физическими недостатками (даже такими ничтожными, как плохое зрение, которое приходится исправлять с помощью очков, – у всех детей из фильмов ужасов и пляжных картин АИП стопроцентное зрение). Конечно, иногда на экране мог появиться эксцентричный подросток (таких, как правило, играл Ник Адамс), ребенок чуть ниже ростом или чуть более смелый, чем остальные, склонный к небольшим странностям, например, носить кепку козырьком назад, как бейсбольный кетчер (обычно у такого парня было прозвище Псих или Чокнутый), но дальше этого дело не заходило.
Почти во всех фильмах действие разворачивается в небольшом американском городе – с этой сценой аудитория знакома лучше всего… но города эти выглядят странно, будто здесь накануне съемок поработала специальная команда, удалив всех хромых, заик, толстопузых или веснушчатых, – короче, убрав всех, кто не похож на Фрэнки Авалона, Аннет Фуничелло, Роберта Янга или Джейн Уайатт. Конечно, Элиша Кук-младший, который играл в большинстве таких фильмов, выглядит странновато, но его обычно убивают в самом начале, так что, мне кажется, он не в счет.
Хотя и рок-н-ролл, и молодежные фильмы (от «Я был подростком-оборотнем» [I Was a Teenage Werewolf] до «Бунтаря без причины» [Rebel Without a Cause]) потрепали нервы старшему поколению, которое едва успело начать расслабляться настолько, чтобы превратить «их войну» в миф – неприятный сюрприз, словно выскакивающий из-за живой изгороди крокодил, – и музыка, и кино были лишь предвестием того юнотрясения, которое произойдет позже. Смущал Литтл Ричард, смущал и Майкл Лэндон, который даже не снимал форменный школьный пиджак, превращаясь в волка, но оставались еще годы и мили до Рыбьего веселья в «Вудстоке» [Woodstock] или до Дубленого Старика, проделывающего импровизированную хирургическую операцию в «Техасской резне бензопилой» [The Texas Chainsaw Massacre].
Это было десятилетие, когда каждый родитель трепетал перед призраком подростковой преступности: мифическим хулиганом-подростком, стоящим в дверях кондитерской Нашего Городка; волосы его смазаны бриолином, под эполет мотоциклетной куртки заткнута пачка «Лаки», сигарета в углу рта, в заднем кармане – новенький нож с выкидным лезвием, и он ждет ребенка. Ребенка, которого можно избить, или его родителя, чтобы запугивать и оскорблять, или девушку, чтобы изнасиловать, а может, собаку, чтобы прикончить – или съесть. Этот пугающий образ, некогда созданный Джеймсом Дином и/или Виком Морроу, внушал ужас любому – и вдруг появляется Артур Фонзарелли[34]. Впрочем, в те времена популярные газеты и журналы видели молодежную преступность повсюду, точно так же как за несколько лет до того им повсюду мерещились коммунисты. Сапоги с цепочками и потрепанные джинсы можно было увидеть или вообразить на улицах Оукдейла, Пайнвью и Сетервиля; в Мандамиане, Айова, и в Льюистоне, Мэн. Далеко протянулась тень этой страшной подростковой преступности. Марлон Брандо первым дал пустоголовому нигилисту дар речи – в картине под названием «Дикарь» [The Wild One]. «Против чего ты восстаешь?» – спрашивает у него хорошенькая девушка. «А что у тебя есть?» – отвечает Марлон.
Для какого-нибудь парня в городке Эшер-Хейтс, Айова, который чудом остался жив, совершив на своем бомбардировщике сорок один вылет над Германией, а теперь хочет лишь продать побольше «бьюиков» с новой трансмиссией, это очень плохая новость; этого парня молодежь нисколько не привлекает.
Но коммунистов и шпионов оказалось гораздо меньше, чем предполагалось; точно так же опасность молодежной преступности была сильно преувеличена. В конечном счете дети войны хотели того же, что и их родители. Им нужны были водительские права; работа в городе и дом в пригороде; жены и мужья; страховка; сознание безопасности; дети; платежи в рассрочку, которые они в состоянии выплатить; чистые рубашки; чистая совесть. Они хотели быть хорошими. Годы и мили между «Гли-клаб»[35] и Симбионистской армией освобождения[36]; годы и мили между Нашим Городом и дельтой Меконга; а единственным фуззом, который они знали, была техническая ошибка в кантри Марти Роббинса. Школьная форма была им не в тягость. Длинные бакенбарды вызывали у них насмешку, а парня на каблуках или в шортах безжалостно преследовали как педераста. Эдди Кокран мог петь об «умопомрачительных закатанных розовых брюках», и подростки раскупали его записи… но не сами брюки. Для детей войны норма была благословением. Они хотели быть хорошими. И они искали мутантов.
В ранних фильмах ужасов 50-х годов, ориентированных на молодежь, допускалось только одно отклонение на картину, только одна мутация. Родители в нее не верили. Именно дети – жаждущие быть хорошими – стояли на страже (чаще всего на одиноком холме, нависающем над Нашим Городом за аллейками влюбленных); именно дети искали, находили и уничтожали мутанта, снова делая мир безопасным и пригодным для сельского клуба танцев и для блендеров «Хамильтон-Бич».
В 50-е годы для детей войны ужас по большей части – за исключением психического напряжения от ожидания Бомбы – был вполне мирским ужасом. Возможно, концепция подлинного ужаса недоступна людям с набитым желудком. Ужас, доступный детям войны, был небольшого масштаба, и в этом свете фильмы, которые принесли АИП подлинный успех – «Я был подростком-оборотнем» и «Я был подростком-Франкенштейном» [I Was a Teenage Frankenstein], – заслуживают особого внимания.
В «Оборотне» Майкл Лэндон играет привлекательного, но замкнутого школьника со вспыльчивым характером. В целом он хороший парень, только любит подраться (как Дэвид Беннер, альтер-эго Халка в телевизионном сериале, герой Лэндона никогда не начинает первым), и в конце концов дело доходит до того, что его могут исключить из школы. Он отправляется к психоаналитику (Уит Бисселл, который играл безумного потомка Виктора Франкенштейна в «Подростке-Франкенштейне»), но тот оказывается воплощением зла. Считая психику Лэндона рудиментом ранних стадий развития человека, Бисселл с помощью гипноза добивается полного регресса, сознательно ухудшая положение, вместо того чтобы помочь мальчишке.
Эксперимент Бисселла удается и превосходит все его ожидания – или худшие кошмары: Лэндон превращается в свирепого оборотня. Для школьников 1957 года, впервые наблюдающих такое превращение, это было великое зрелище. Лэндон стал воплощением всего того, что нельзя делать, если хочешь быть хорошим… если хочешь окончить школу, вступить в Национальное общество почета, получить рекомендации и учиться в хорошем колледже, где можно иногда подраться и выпить, как делал в свое время твой старик. У Лэндона лицо покрывается шерстью, вырастают длинные клыки, из пасти течет жидкость, подозрительно похожая на крем для бритья. Он набрасывается на девушку, которая одна в гимнастическом зале упражняется на бревне, и можно представить, что от него несет, как от бродячего хорька, вывалявшегося в свежем помете койота. На нем нет застегнутой на все пуговицы рубашки Лиги плюща[37]; этот парень ни в грош не ставит отборочные тесты средней школы. Это полное дерьмо, только не собачье, а волчье.
Несомненно, невероятный успех фильма отчасти объяснялся освобождающим, искупительным ощущением, которое испытывали дети войны, желавшие быть хорошими. Когда Лэндон нападает на хорошенькую гимнастку в спортивном трико, он как бы делает заявление от лица всех зрителей. Но одновременно этих зрителей охватывает ужас, потому что на психологическом уровне картина есть цикл наглядных уроков поведения – от «брейся перед уходом в школу» до «никогда не тренируйся одна в пустом зале».
Одним словом, чудовища есть повсюду.
Если «Я был подростком-оборотнем» психологически представляет собой известный кошмар, в котором у вас падают брюки, когда вы отдаете честь флагу – только доведенный до крайности и принявший вид косматого чужака, угрожающего вашим сверстникам в Школе Нашего Города, – то «Я был подростком-Франкенштейном» – болезненная притча о свихнувшихся железах. Это фильм для всякого пятнадцатилетнего подростка, который утром стоял у зеркала и нервно разглядывал свежий прыщ, выскочивший за ночь, мрачно осознавая, что даже патентованные медицинские диски не разрешат эту проблему, что бы там ни говорил Дик Кларк[38].
Вы можете упрекнуть меня в излишнем внимании к угрям. Вы правы. Во многих отношениях произведения ужасов 50-х и начала 60-х годов – скажем, до появления «Психо» [Psycho] – это торжественные гимны засоренным порам. Я уже говорил, что сытый человек не может испытать подлинный ужас. Так и американцам пришлось строго ограничить свою концепцию физического уродства – вот почему угри играют такую важную роль в психическом развитии американского подростка.
Конечно, где-то есть парень с врожденным дефектом, который бормочет себе под нос: только мне не говори об уродстве, осел… и, безусловно, существуют косолапые американцы, американцы безносые, безрукие и безногие, слепые американцы (мне всегда было любопытно, чувствуют ли слепые американцы себя дискриминированными, слыша рекламную песенку «Макдоналдс»: «Не отрывай глаз от картофеля фри…»). Рядом со столь катастрофическими неудачами Бога, человека и природы несколько угрей кажутся таким же серьезным несчастьем, как заусеница. Но необходимо напомнить, что в Америке серьезные физические недостатки (по крайней мере, пока) являются скорее исключением, чем правилом. Пройдите по любой среднестатистической американской улице и подсчитайте, сколько вам встретится серьезных физических дефектов. Если пройдете три мили и насчитаете больше пяти, намного превзойдете средний показатель. Если станете искать сорокалетних со сгнившими до десен зубами, детей с распухшими от голода животами, людей со следами оспы на лице – ваши поиски будут обречены на провал. Болезни, уродующие человека, чаще встречаются в деревнях и бедных городских кварталах, но в большинстве городов и пригородов Америки люди выглядят здоровыми. Обилие курсов первой помощи, поголовное увлечение культом развития личности («Я буду более уверенной в себе, если не возражаете», – как говорит Эрма Бомбек[39]) и распространяющийся со скоростью степного пожара обычай созерцать собственный пупок – все это доказательства того, что американцы в большинстве своем позаботились о низменных сторонах жизни, которая для значительной части остального мира есть борьба за выживание.
Не могу представить себе, чтобы человек, страдающий от недоедания, разделял лозунг «У меня все хорошо – у вас все хорошо»[40] или чтобы кто-нибудь, с трудом добывающий средства для существования себя самого, жены и восьмерых детей, много думал об оздоровительном тренинге Вернера Эрхарда или о рольфинге[41]. Это все для богатых. Недавно Джоан Дидион[42] написала книгу о своем собственном пути в 60-е годы – «Белый альбом» [The White Album]. Наверное, для богатых эта книга весьма интересна: история обеспеченной белой женщины, которая может себе позволить лечить нервный срыв на Гавайях; в 70-е годы нервный срыв – эквивалент угрей 60-х.
Когда горизонт человеческого опыта сужается до размеров квартиры, меняется перспектива. Для детей войны, живущих в безопасном (если не считать Бомбы) мире регулярных (два раза в год) медицинских осмотров, пенициллина и всеобщей заботы о зубах, угри стали единственным физическим дефектом, который можно увидеть на улице или в школьном коридоре: об остальных дефектах уже позаботились. Кстати, раз уж я упомянул заботу о зубах, добавлю, что дети, которые под почти удушающим давлением родителей носят зубные скобки, считают их чем-то вроде физического дефекта, и время от времени в школе можно услышать оклик: «Эй ты, железная пасть!» Но все же в глазах большинства эти скобки – просто средство лечения, не более бросающееся в глаза, чем повязка на поврежденной руке или наколенник у игрока в американский футбол.
А вот от угрей лекарства не существует.
Но вернемся к «Подростку-Франкенштейну». В этом фильме Уит Бисселл собирает из частей трупов погибших гонщиков существо, которое играет Гэри Конвей. Лишние части скармливаются крокодилам, живущим под домом, – конечно, у зрителя довольно рано возникает предчувствие, что самого Бисселла тоже в конце концов сжуют аллигаторы, и оно его не подводит. В фильме Бисселл является воплощением зла, его злодейство достигает экзистенциальных масштабов: «Он плачет, даже слезные железы действуют!.. Отвечай, ведь у тебя во рту вежливый язык. Я знаю, потому что сам его пришил»[43]. Но именно несчастный Конвей представляет собой главную изюминку фильма. Как и злодейство Бисселла, физическое уродство Конвея столь велико, что становится почти нелепым… и он очень похож на старшеклассника, у которого угри по всей физиономии. Лицо его представляет собой бесформенный макет горной местности, из которой безумно торчит один подбитый глаз.
И все-таки… все-таки… каким-то образом это спотыкающееся существо способно танцевать рок-н-ролл, а значит, оно не может быть таким уж плохим, верно? Мы встретились с чудовищем, и, как говорит Питер Страуб в своей «Истории с привидениями», оказалось, что оно – это мы сами.
Ниже мы еще вернемся к чудовищности, и, надеюсь, это будут более глубокие умозаключения, чем те, что можно добыть из руды «Подростка-оборотня» и «Подростка-Франкенштейна», но сейчас для меня было важно показать, что даже на простейшем уровне истории о Крюке способны добиться многого, причем неосознанно. В них присутствует аллегория, и они позволяют пережить катарсис, но лишь потому, что создатель этих произведений – прежде всего агент нормы. Это справедливо в отношении физического ужаса, но кроме того, как мы еще убедимся, справедливо и в отношении произведений более художественного характера, хотя, обратившись к мистическим свойствам ужаса и страха, мы, разумеется, найдем куда более тревожные и поразительные ассоциации. Но чтобы достичь этой точки, мы должны, по крайней мере на время, отложить фильмы и перейти к обсуждению трех романов, которые составляют основу большинства современных произведений жанра ужасов.
Глава третья
Истории Таро
Одна из самых распространенных тем в фантастике – бессмертие. «Бессмертное существо» – основной герой произведений, от «Беовульфа» до рассказов По о Вальдемаре и искусственном сердце и далее до книг Лавкрафта (таких, например, как «Прохладный воздух» [Cool Air]), Блэтти и даже, спаси нас Господь, Джона Соула[44].
Три романа, о которых пойдет речь в этой главе, по-видимому, действительно постигли бессмертие, и без них невозможно достаточно полно и глубоко проанализировать произведения ужасов 1950–1980 годов. Все три как бы выходят за круг признанной английской «классики», и, возможно, не без причины. «История доктора Джекила и мистера Хайда» была написана в лихорадочной спешке за три дня. Повесть привела жену Стивенсона в такой ужас, что тот бросил рукопись в камин… а потом написал снова, и опять за три дня. «Дракула» – откровенная мелодрама, втиснутая в рамки эпистолярного романа, – форма, испускавшая предсмертные вздохи еще за двадцать лет до того, как Уилки Коллинз сочинял свои последние, полные тайн и напряжения романы. «Франкенштейн», самый известный из трех, написан девятнадцатилетней девушкой, и хотя в художественном смысле он сильнее остальных двух, читают его меньше, да и автору уже никогда потом не удавалось писать так быстро, так хорошо, так успешно… и так дерзко.
С точки зрения нелюбезного критика все три романа выглядят как обычные популярные книжки своего времени, мало чем отличающиеся от других – например, «Монаха» М. Г. Льюиса или «Армадейла» Коллинза, книг, забытых всеми, кроме исследователей готического романа. Время от времени они рекомендуют их своим студентам; те берутся за них с большой осторожностью… а затем проглатывают залпом.
И все же эти три романа – нечто особенное. Они образуют фундамент того небоскреба книг и фильмов, готики двадцатого столетия, которая известна как «современный жанр ужасов». Больше того, в центре каждого из них находится (или таится) чудовище, принадлежащее к той структуре, которую Берт Хетлен[45] назвал «бассейном мифов»; в этот бассейн художественной литературы погружены мы все, даже те, кто не читает книг и не ходит в кино. Словно в колоде карт Таро, там есть яркие представители зла, его символы: Вампир, Оборотень и Безымянная Тварь.
Один из величайших романов о сверхъестественном, а именно «Поворот винта» [The Turn of the Screw] Генри Джеймса, исключен из колоды Таро, хотя он сделал бы этот ряд полным, добавив в него наиболее известную сверхъестественную фигуру – Призрака. Я исключил этот роман по двум причинам: во-первых, потому, что «Поворот винта», несмотря на элегантную стилистику и выверенный психологизм, оказал очень слабое влияние на мейнстрим американской массовой культуры. В качестве архетипа скорее можно было бы взять Каспера, дружелюбное привидение. Во-вторых, Призрак – архетип, чья область бытования (в отличие от чудовища Франкенштейна, графа Дракулы и Эдварда Хайда) слишком обширна, чтобы быть представленной одним-единственным романом, каким бы великим этот роман ни был. Архетип Призрака – в конечном счете океан литературы о сверхъестественном, и хотя в свое время мы заведем о нем разговор, эта беседа не будет ограничиваться одной книгой.
Все эти книги (включая «Поворот винта») объединяет одно: каждая из них имеет дело с самыми глубинными основами ужаса, с тайнами, которые лучше не раскрывать, и словами, которых лучше не произносить. И все же Стивенсон, Шелли и Стокер (а также Джеймс) обещают нам раскрыть эти тайны. Они достигают этого с разной степенью воздействия и успеха… но ни о ком нельзя сказать, что он потерпел неудачу. Может быть, оттого эти романы и кажутся полными жизни. Во всяком случае, они существуют, и, по-моему, нельзя написать такую книгу, как эта, не обратившись к ним. Это корни. Вы можете знать, а можете и не знать, что ваш дед любил вечером после ужина посидеть на веранде и выкурить трубку, но знать, что он эмигрировал из Польши в 1888 году, приехал в Нью-Йорк и участвовал в строительстве подземки, вы просто обязаны. Кроме всего прочего, вы с другим чувством будете заходить в метро. Точно так же трудно понять Кристофера Ли в образе Дракулы, не зная, что написал о Дракуле рыжеволосый ирландец Абрахам Стокер.
Итак… немного о корнях.
Даже по Библии не снято столько фильмов, сколько снято по «Франкенштейну». Для примера можно назвать хотя бы «Франкенштейн» [Frankenstein], «Невеста Франкенштейна» [The Bride of Frankenstein], «Франкенштейн встречает Человека-волка» [Frankenstein Meets the Wolf-Man], «Месть Франкенштейна» [The Revenge of Frankenstein], «Блэкенштейн» [Blackenstein] и «Франкенштейн 1970» [Frankenstein 1970]. В свете этого пересказывать сюжет представляется излишним, но, как я уже говорил, «Франкенштейн» сейчас читают нечасто. Миллионам американцев известно это имя (хотя, конечно, не так хорошо, как имя Рональда Макдоналда; вот уж поистине культовая фигура), но большинству даже невдомек, что Франкенштейн – это имя создателя чудовища, а не самого чудовища; и этот факт служит еще одним доказательством, что книга стала частью американского бассейна мифов. Это все равно что сказать, будто Билли Кид (знаменитый главарь банды из Калифорнии, о котором созданы десятки вестернов) на самом деле был неженкой из Нью-Йорка, носил котелок, болел сифилисом и, вероятно, большинство своих жертв убил выстрелом в спину. Людей интересуют такие факты, но они инстинктивно чувствуют, что сейчас это не важно – если вообще было когда-то важно. Есть одна особенность, делающая искусство силой, с которой приходится считаться даже тем, кто об искусстве не думает, – это та систематичность, с какой миф поглощает правду… и при этом не страдает ни отрыжкой, ни несварением желудка.
Роман Мэри Шелли – это медлительная, многословная мелодрама; тема проложена крупными, продуманными, но грубыми мазками. Повествование разворачивается так, как приводил бы свои аргументы в споре умный, но наивный студент. В отличие от основанных на нем фильмов, в романе почти нет сцен насилия, и, в отличие от бессловесного чудовища времен «Юниверсал» («Карлофф-фильмы», как очаровательно называет их Форри Экерман), существо Шелли изъясняется высокопарными и правильными фразами пэра в палате лордов или Уильяма Ф. Бакли, вежливо спорящего с Диком Кэвиттом[46] в телевизионном ток-шоу. Это разумное существо, в отличие от подавляющего даже физически чудовища Карлоффа, со скошенным лбом и маленькими, глубоко посаженными глуповато-хитрыми глазками; и во всей книге нет ничего столь же страшного, как слова, которые Карлофф произносит тусклым, безжизненным, медлительным тенором в «Невесте Франкенштейна»: «Да… мертвая… я люблю… мертвых».
Роман Мэри Шелли имеет подзаголовок «Современный Прометей», и Прометеем тут является Виктор Франкенштейн. Он оставил родной дом ради университета в Ингольштадте (мы уже слышим скрип оселка – Мэри Шелли точит один из излюбленных топоров этого жанра: Есть Вещи, Которых Людям Знать Не Следует), где и помешался – весьма опасно – на идеях гальванизма и алхимии. Неизбежным результатом, естественно, становится создание чудовища; для этой цели используется больше частей, чем можно насчитать в автомобильном каталоге Уитни. Франкенштейн создает своего монстра в едином порыве лихорадочной деятельности, и в этой сцене проза Шелли достигает наибольших высот.
О вскрытии могил, необходимом для достижения цели:
Как рассказать об ужасах этих ночных бдений, когда я рылся в могильной плесени или терзал живых тварей ради оживления мертвой материи? Сейчас при воспоминании об этом я дрожу всем телом… Я собирал кости в склепах; я кощунственной рукой вторгался в сокровеннейшие уголки человеческого тела… иные подробности этой работы внушали мне такой ужас, что глаза мои едва не вылезали из орбит[47].
О сне, который приснился создателю после завершения эксперимента:
Я увидел во сне кошмар: прекрасная и цветущая Элизабет шла по улице Ингольштадта. Я в восхищении обнял ее, но едва успел запечатлеть поцелуй на ее устах, как они помертвели, черты ее изменились, и вот я держу в объятиях труп моей матери; тело ее окутано саваном, и в его складках копошатся могильные черви. Я в ужасе проснулся; на лбу у меня выступил холодный пот, зубы стучали, а все тело свела судорога; и тут в мутном желтом свете луны, пробивавшемся сквозь ставни, я увидел гнусного урода, сотворенного мной. Он приподнял полог кровати; глаза его, если можно назвать их глазами, были устремлены на меня. Челюсти его двигались, и он издавал непонятные звуки, растягивая рот в улыбку.
На этот кошмар Виктор реагирует как любой нормальный человек: с криком убегает в ночь. С этой минуты повествование превращается в шекспировскую трагедию, и ее классическая цельность нарушается лишь сомнением миссис Шелли, в чем же роковая ошибка: в дерзости Виктора (возомнившего себя Творцом) или в его отказе принять на себя ответственность за свое создание, после того как вдохнул в него искру жизни?
Чудовище начинает мстить своему создателю и убивает его младшего брата Уильяма. Кстати, читателю не слишком жалко Уильяма: когда чудовище пытается с ним подружиться, мальчик отвечает: «Отвратительное чудовище! Пусти меня! Мой папа – судья! Его зовут Франкенштейн. Он тебя накажет. Ты не смеешь меня держать». Эта обычная реакция ребенка из богатой семьи, и именно она оказывается для него роковой: услышав из уст мальчика имя своего создателя, чудовище ломает ему хрупкую шею.
В убийстве обвиняют ни в чем не повинную служанку Франкенштейнов Жюстину Мориц и приговаривают ее к повешению – и бремя вины несчастного Франкенштейна удваивается. Не выдержав, чудовище приходит к своему создателю и рассказывает свою историю[48]. В заключение оно говорит, что хочет подругу. Оно обещает Франкенштейну, что если его желание будет исполнено, оно заберет свою женщину и они вдвоем будут жить в какой-нибудь далекой пустыне (предполагается Южная Америка, поскольку Нью-Джерси в те времена еще не изобрели), вдали от людей. А в качестве альтернативы чудовище грозит царством ужаса. Оно подтверждает вечную истину «лучше творить зло, чем ничего не делать», говоря: «Я отомщу за свои обиды. Раз мне не дано вселять любовь, я буду вызывать страх; и прежде всего на тебя – моего заклятого врага, моего создателя, я клянусь обрушить неугасимую ненависть. Берегись: я сделаю все, чтобы тебя уничтожить, и не успокоюсь, пока не опустошу твое сердце и ты не проклянешь час своего рождения».
Наконец Виктор соглашается и действительно создает женщину. Акт своего второго творения он совершает на одном из пустынных Оркнейских островов, и на этих страницах Мэри Шелли вновь добивается первоначальной интенсивности настроения и атмосферы. За мгновение до того как наделить существо жизнью, Франкенштейн начинает сомневаться. Он представляет себе, как эта парочка опустошает мир. Хуже того, они видятся ему Адамом и Евой отвратительной расы чудовищ. Дитя своего времени, Мэри Шелли и не подумала, что человек, способный вдохнуть жизнь в разлагающиеся части трупов, сочтет детской забавой создать бесплодную женщину.
Разумеется, после того как Франкенштейн уничтожает подругу созданного им монстра, тот немедленно появляется; у него подготовлено для Виктора Франкенштейна несколько слов, и ни одно из них не звучит как пожелание счастья. Обещанное им царство ужаса разворачивается, как цепь взрывающихся хлопушек (хотя в размеренной прозе миссис Шелли это больше напоминает разрывы капсюлей). Для начала чудовище душит Анри Клерваля, друга детства Франкенштейна. Вслед за этим оно делает самый ужасный намек: «Я буду с тобой в твою брачную ночь». Для современников Мэри Шелли, как и для наших с вами современников, в этой фразе содержится нечто большее, чем просто клятва убить.
В ответ на угрозу Франкенштейн почти сразу женится на своей Элизабет, которую любит с самого детства, – не самый правдоподобный момент книги, но все равно с чемоданом в канаве или беглой благородной арабкой его не сравнить. В брачную ночь Виктор выходит навстречу монстру, наивно полагая, что тот угрожал смертью ему. Не тут-то было: чудовище тем временем врывается в маленький домик, который Виктор и Элизабет сняли на ночь. Элизабет гибнет. За ней умирает отец Франкенштейна – от сердечного приступа.
Франкенштейн безжалостно преследует свое создание в арктических водах, но сам умирает на борту идущего к полюсу корабля Роберта Уолтона, очередного ученого, решившего разгадать загадки Бога и природы… и круг аккуратненько замыкается.
И вот вам вопрос: как получилось, что эта скромная готическая история, которая в первоначальном варианте едва занимала сто страниц (Перси уговорил свою супругу добавить подробностей), превратилась в своеобразную эхокамеру культуры? Теперь, спустя сто шестьдесят четыре года, мы имеем овсянку «Франкенберри» (близкую родственницу двух других отменных завтраков – «Графа Чокулы» и «Буберри»[49]); старый телесериал «Мюнстеры»[50] [The Munsters]; конструктор «Аврора Франкенштейн» (в собранном виде глаз юного моделиста порадует фосфоресцирующее создание, бредущее по фосфоресцирующему кладбищу); и выражения вроде «вылитый Франкенштейн»[51] для обозначения чего-то предельно уродливого.
Наиболее очевидный ответ на сей вопрос – фильмы. Это заслуга кино. И это будет верный ответ. Как указывалось в литературе о кинематографе ad infinitum[52] (и, вероятно, ad nauseam[53]), фильмы великолепно справились с ролью культурной эхокамеры… возможно, потому, что в мире идей, как и в акустике, эхо удобнее всего создать в большом пустом пространстве. Вместо мыслей, которые дают нам книги, фильмы снабжают человечество большими порциями инстинктивных эмоций. Американское кино добавило к этому яркое ощущение символичности, и получилось ослепительное шоу. Возьмем в качестве примера Клинта Иствуда в фильме Дона Сигела «Грязный Гарри» [Dirty Harry]. В интеллектуальном плане этот фильм представляет собой идиотскую мешанину. Но по части символов и эмоций – юная жертва похищения, которую на рассвете вытаскивают из цистерны, плохой парень, захватывающий автобус с детьми, каменное лицо самого Грязного Гарри Каллахена – фильм великолепен. Даже самые отъявленные либералы после фильмов типа «Грязного Гарри» или «Соломенных псов» [Straw Dogs] выглядят так, словно их стукнули по голове… или переехали поездом.
Есть, конечно, фильмы, в основе которых лежит идея, и они бывают очень разные – от «Рождения нации» [Birth of a Nation] до «Энни Холл» [Annie Hall]. Однако до недавнего времени они оставались прерогативой иностранных режиссеров («новая волна» в кино, прокатившаяся по Европе в 1946–1965 гг.), а в Америке прокат этих фильмов всегда был сопряжен с финансовым риском; их показывали в «арт-хаузах», если показывали вообще. В этом отношении, как мне представляется, можно неверно истолковать успех фильмов Вуди Аллена в более поздние годы. В городских районах Америки во время показов его фильмов – и таких фильмов, как «Кузен, кузина» [Cousin, Cousine] – в кассах выстраиваются очереди. Как говорил Джордж Ромеро («Ночь живых мертвецов» [Night of the Living Dead], «Рассвет мертвецов» [Dawn of the Dead]), «сценарий весьма неплох», но в глуши – в кинотеатрах-мультиплексах в Давенпорте, Айова, или Портсмуте, Нью-Хэмпшир, – эти фильмы демонстрировались неделю-другую, а потом исчезали. Американцы предпочитают Берта Рейнолдса в «Смоки и Бандите» [Smokey and the Bandit]: когда американцы отправляются в кино, они хотят видеть действие, а не шевелить извилинами; им нужны автокатастрофы, заварной крем и бродячие чудовища.
Как ни смешно, потребовался иностранец – итальянец Серджо Леоне, – чтобы сформировать архетип американского кинематографа, определить и типизировать то, что хотят увидеть в кино американцы. То, что сделал Леоне в фильмах «За пригоршню долларов» [A Fistful of Dollars], «На несколько долларов больше» [For a Few Dollars More] и «Хороший, плохой, злой» [The Good, the Bad, and the Ugly], нельзя даже назвать сатирой. В особенности «Хороший, плохой, злой» – грандиозное и удивительно вульгарное утрирование и без того утрированных архетипов американских киновестернов. В этом фильме пистолетные выстрелы звучат с оглушительностью атомных взрывов; крупные планы тянутся минутами, перестрелки – часами, а улицы маленьких западных городков кажутся широкими, как современные шоссе.
Так что если кто-то ищет причину, которая превратила красноречивого монстра Мэри Шелли, с его образованием, полученным из «Страданий юного Вертера» и «Потерянного рая», в популярный архетип, наилучшим ответом будет – фильмы. Бог свидетель: кино превращает в архетипы самых неподходящих субъектов: жители гор в засаленных лохмотьях, покрытые грязью и вшами, становятся гордым и прекрасным символом фронтира (Роберт Редфорд в «Иеремии Джонсоне» [Jeremiah Johnson] или любая картина «Санн интернешнл»); полоумные убийцы – представителями умирающего американского духа свободы (Битти и Данауэй в «Бонни и Клайде» [Bonnie and Clyde]); и даже некомпетентность становится архетипом, как в фильмах Блейка Эдвардса / Питера Селлерса, где покойный Питер Селлерс играет инспектора Клузо. Из таких архетипов американское кино создало свою собственную колоду Таро, и большинство из нас знакомы с ее картами, такими как Герой Войны (Оди Мерфи, Джон Уэйн), Сильный и Немногословный Блюститель Порядка (Гэри Купер, Клинт Иствуд), Шлюха с Золотым Сердцем, Спятивший Хулиган («Лучше всего в мире, мама!»), Неумелый, но Забавный Папуля, Мама на Все Руки, Ребенок из Канавы на Пути Вверх и десятки других. Очевидно, все эти стереотипы созданы с различной степенью мастерства, но даже в самых неудачных образчиках присутствует отражение архетипа, этакое культурное эхо.
Впрочем, здесь мы не рассматриваем ни Героя Войны, ни Сильного и Немногословного Блюстителя Порядка; мы обсуждаем другой чрезвычайно популярный архетип – Безымянную Тварь. Ибо если какой-нибудь роман и сумел пройти дистанцию книга – фильм – миф, так это «Франкенштейн». Он стал сюжетом для одного из первых «сюжетных» фильмов, когда-либо созданных, – короткометражной картины, в которой в роли чудовища снялся Чарльз Огл. Руководствуясь своим представлением о монстре, Огл рвал на себе волосы и, очевидно, вымазал лицо полузасохшим «Бисквиком»[54]. Продюсером фильма был Томас Эдисон. Сегодня тот же самый архетип выступает в телевизионном сериале Си-би-эс «Невероятный Халк» [The Incredible Hulk], который умудрился объединить два обсуждаемых здесь архетипа… причем успешно («Невероятного Халка» можно рассматривать как произведение об оборотне и о безымянной твари одновременно). Хотя каждое превращение Дэвида Беннера в Невероятного Халка заставляет меня гадать, куда девались его ботинки и как он их себе возвращает[55].
Итак, вначале было кино – но какая сила превращает «Франкенштейна» в фильм, и не один раз, а снова, снова и снова? Один из возможных ответов таков: сюжет, хотя и постоянно изменяемый (хочется сказать, извращаемый) кинематографистами, содержит удивительную дихотомию, которую вложила в него Мэри Шелли. С одной стороны, писатель ужасов есть агент нормы, желающий, чтобы мы искали и уничтожали мутантов, и мы чувствуем ужас и отвращение, испытываемое Франкенштейном по отношению к созданному им безжалостному, страшному существу. Но с другой стороны, мы понимаем, что чудовище не виновато, и разделяем страстное увлечение автора идеей tabula rasa.
Чудовище душит Анри Клерваля и обещает Франкенштейну «быть с ним в брачную ночь», но это же чудовище способно испытывать ребяческое удовольствие и удивление, глядя, как сверкающая луна поднимается над деревьями; оно, подобно доброму духу, приносит по ночам дрова крестьянской семье; оно хватает за руку слепого старика, падает на колени и умоляет: «Настало время! Спаси и защити меня!.. Не бросай меня в час испытаний!» Монстр, который задушил высокомерного Уильяма, в то же время вытащил маленькую девочку из воды… и был вознагражден зарядом дроби в зад.
Мэри Шелли – давайте стиснем зубы и скажем правду – не очень хорошо справлялась с эмоциональной прозой (именно поэтому студенты, что приступают к чтению книги в ожидании захватывающего кровавого сюжета – эти ожидания сформированы кинофильмами, – удивляются и разочаровываются). Лучше всего ей удались страницы, на которых Виктор и его создание, словно на дискуссии в Гарварде, обсуждают «за» и «против» просьбы монстра сотворить ему подругу; иными словами, она чувствует себя лучше всего в мире чистых идей. Так что есть определенная ирония в том, что свойство книги, обеспечивающее ей такую привлекательность для кино, заключается в способности Шелли пробудить в читателе двух человек: одного, который хочет закидать камнями чудовище, и другого, который на себе испытывает удары этих камней и чувствует всю несправедливость происходящего.
И все же ни один режиссер не воплотил обе эти идеи полностью; вероятно, ближе всего к этому подошел Джеймс Уэйл в своем стильном фильме «Невеста Франкенштейна», в котором экзистенциальные горести чудовища (юный Вертер с болтами в шее) сводятся к более земным, но эмоционально куда более сильным: Виктор Франкенштейн соглашается и создает женщину… но той не нравится монстр. Эльза Ланчестер, которая выглядит как королева диско поздних лет, орет дурным голосом, когда он пытается к ней прикоснуться, и мы вполне сочувствуем монстру, громящему проклятую лабораторию.
Грим для Бориса Карлоффа в оригинальной звуковой версии «Франкенштейна» создавал Джек Пирс; это он сотворил лицо, так же знакомое нам всем (хотя и менее благообразное), как лица дядюшек и двоюродных братьев в семейном фотоальбоме: квадратная голова, мертвенно-бледный, слегка вогнутый лоб, шрамы, винты, тяжелые веки. «Юниверсал пикчерз» скопировала грим Пирса, но когда английская студия «Хаммер филмз» в конце 50-х – начале 60-х годов снимала свою серию фильмов о Франкенштейне, была использована другая концепция. Возможно, получилось не столь вдохновенно, как оригинальный грим Пирса (в большинстве случаев Франкенштейн «Хаммера» очень похож на несчастного Гэри Конвея в «Я был подростком-Франкенштейном»), но у обоих вариантов есть нечто общее: хотя и в том и другом случае на чудовище страшно смотреть, в нем есть что-то такое печальное, такое жалкое, что наши сердца устремляются к нему, и в то же время мы отшатываемся в страхе и отвращении[56].
Как я уже отмечал, большинство режиссеров, обращавшихся к Франкенштейну (за исключением тех, кто снимал исключительно юмористические картины), осознавали эту дихотомию и пытались ее использовать. Найдется ли режиссер с душой настолько остывшей, что ему никогда не хотелось, чтобы монстр спрыгнул с горящей ветряной мельницы и затолкал факелы в глотки невежественных тупиц, которые из кожи вон лезут, чтобы его прикончить? Сомневаюсь. Если такой и существует, то это поистине жестокосердый человек. Но не думаю, чтобы хоть один режиссер сумел передать весь пафос ситуации, и нет такого фильма о Франкенштейне, который вызывал бы у зрителя слезы с той же легкостью, как заключительная сцена «Кинг-Конга», где гигантская обезьяна сидит на вершине Эмпайр-стейт-билдинг и отбивается от самолетов, словно от доисторических птиц родного острова. Подобно Иствуду в спагетти-вестерне Леоне, Конг – архетип архетипа. В глазах Бориса Карлоффа, а позже Кристофера Ли мы видим ужас от осознания собственной чудовищности; у Кинг-Конга, благодаря удивительным спецэффектам Уиллиса О’Брайена, он написан на морде гигантской обезьяны. В результате получается почти живописное полотно одинокого умирающего чужака. Это один из лучших образцов величайшего слияния любви и ужаса, невинности и страха – слияния, эмоциональную реальность которого лишь наметила, лишь предположила в своем романе Мэри Шелли. Я думаю, она бы поняла точнейшее замечание Дино де Лаурентиса о великой привлекательности подобной дихотомии и согласилась бы с ним. Де Лаурентис говорил о собственном незабываемом римейке «Кинг-Конга», но мог бы сказать то же самое и о несчастном монстре: «Никто не плачет, когда гибнут Челюсти». Что ж, мы действительно не плачем, когда умирает чудовище Франкенштейна – но аудитория рыдает, когда Конг, этот заложник из более примитивного и романтического мира, падает с Эмпайр-стейт, – и при этом, возможно, мы испытываем отвращение к самим себе за чувство облегчения.
Хотя разговор, который в конечном счете привел Мэри Шелли к решению написать «Франкенштейна», происходил на берегу Женевского озера, за много миль от британской земли, его все же следует признать одним из безумнейших английских чаепитий всех времен. И как ни забавно, это собрание несет ответственность не только за появление «Франкенштейна», опубликованного в том же году, но и за «Дракулу» – роман, написанный человеком, который родится только через тридцать один год.
Был июнь 1816 года, и группа путешественников – Мэри и Перси Шелли, лорд Байрон и доктор Джон Полидори – вынуждена была провести взаперти две недели из-за сильного ливня. Путники начали читать вслух немецкие готические рассказы о призраках из книги «Фантасмагория», и вынужденное заточение постепенно стало принимать определенно странный характер. Кульминация произошла, когда с Перси Шелли случилось что-то вроде приступа. Доктор Полидори записал в своем дневнике: «За чаем в 12 часов начались разговоры о привидениях. Лорд Байрон прочел несколько строк из «Кристабель» Кольриджа; когда наступила тишина, Шелли неожиданно закричал, сжал руками голову и со свечой в руке выбежал из комнаты. Я побрызгал ему в лицо водой и дал эфир. Оказалось, он смотрел на миссис Шелли и неожиданно подумал о женщине, у которой вместо сосков глаза; это привело его в ужас».
Пусть с этим разбираются англичане.
Итак, путешественники договорились, что каждый попытается написать новую историю о сверхъестественном. Именно у Мэри Шелли, чье произведение единственное выдержит испытание временем, были наибольшие трудности с его созданием. У нее вообще не было никаких замыслов, и прошло несколько ночей, прежде чем воображение нарисовало ей кошмар, в котором «бледный подмастерье святотатственных искусств создал ужасный призрак человека». Эта сцена сотворения представлена в четвертой и пятой главах ее романа (из которого выше приводились цитаты).
Перси Биши Шелли написал фрагмент, озаглавленный «Убийцы». Джордж Гордон Байрон – любопытную страшную историю «Погребение». Но именно Джона Полидори, доброго доктора, иногда упоминают как возможный мостик к Брэму Стокеру и «Дракуле». Его рассказ впоследствии был расширен до романа и пользовался большим успехом. А назывался он «Вампир».
На самом деле роман Полидори достаточно плох… и отличается подозрительным сходством с «Погребением», рассказом о призраках, написанным его несравненно более талантливым пациентом лордом Байроном. Возможно, здесь пахнет и плагиатом. Известно, что вскоре после короткой интерлюдии на берегах Женевского озера Байрон и Полидори жестоко повздорили, и дружба их закончилась. Можно предположить, что причиной разрыва послужило сходство между двумя произведениями. Полидори, которому в то время был двадцать один год, кончил плохо. Успех романа, в который он превратил свой рассказ, заставил его бросить врачебную практику и стать профессиональным писателем. Но его произведения успехом больше не пользовались; зато он преуспел в карточных долгах. Поняв, что его репутация безвозвратно загублена, он, как истый английский джентльмен того времени, пустил себе пулю в лоб.
Появившийся на стыке веков роман Стокера «Дракула» лишь отдаленно напоминает «Вампира» Полидори; тема узкая, и даже если исключить преднамеренные аллюзии, семейное сходство всегда будет присутствовать – но можно не сомневаться, что Стокер знал о Полидори. Прочитав «Дракулу», невольно думаешь, что Стокер перевернул все камни в этой области. Таким ли уж сомнительным покажется предположение, что он прочел книгу Полидори, заинтересовался темой и решил написать лучше? Я считаю, что так оно и произошло, точно так же, как мне нравится думать, что Полидори заимствовал основную идею у Байрона. В таком случае Байрон стал бы литературным дедом легендарного графа, который как-то похвастал Джонатану Харкеру, что прогнал турок из Трансильвании… а ведь Байрон погиб, сражаясь вместе с греками в восстании против турок, восемь лет спустя после встречи с Шелли и Полидори на берегу Женевского озера. Сам граф аплодировал бы такой смерти.
Все рассказы ужасов можно разделить на две группы: те, в которых ужас возникает в результате действия свободной и осознанной воли (сознательного решения творить зло), и те, в которых ужас предопределен и приходит извне, подобно удару молнии. Наиболее классический пример рассказа второго типа – история Иова, который становится кем-то вроде болельщика на космическом духовном суперкубке команд Бога и Сатаны.
Психологические истории ужасов – те, что исследуют территорию человеческого сердца – почти всегда вращаются вокруг концепции свободной воли, «врожденного зла»; одним словом, чего-то такого, ответственность за что мы вправе возложить на Бога-Отца. Таков Виктор Франкенштейн, который создает живое существо из отдельных частей, чтобы удовлетворить собственное высокомерие и гордость, а затем усугубляет свой грех, отказываясь взять на себя ответственность за содеянное. Таков доктор Джекил, создавший мистера Хайда исключительно из викторианского лицемерия – он хочет пьянствовать и развлекаться, но при этом ни одна самая грязная уайтчепелская проститутка не должна подозревать, что это благонравный доктор Джекил. Возможно, лучший из всех рассказов о внутреннем зле – это «Сердце-обличитель» Эдгара По, в котором убийство совершается из чистого зла и нет никаких смягчающих обстоятельств. По предполагает, что его героя назовут безумцем, потому что мы всегда считаем немотивированное зло безумием – ради собственного здравомыслия.
Литературу ужасов, имеющую дело с внешним злом, часто бывает трудно воспринимать серьезно; слишком уж она смахивает на замаскированные приключенческие романы для подростков, в конце которых отвратительные чужаки из космоса непременно бывают побеждены, или в самый последний момент Красивый Молодой Ученый находит решение… как в «Начале конца» [Beginning of the End], когда Питер Грейвз изобретает акустическое ружье и с его помощью загоняет всех гигантских кузнечиков в озеро Мичиган.
И все же концепция внешнего зла обширнее и страшнее. Лавкрафт это понял, и оттого его рассказы о грандиозном, циклопическом зле столь впечатляют – когда они хорошо написаны. Многие написаны неважно, но когда Лавкрафт в ударе, как в «Ужасе Данвича» [The Dunwich Horror], «Крысах в стенах» [The Rats in the Walls] и прежде всего – в «Цвет из иных миров» [The Colour Out of Space], его рассказы производят неизгладимое впечатление, а самые лучшие заставляют почувствовать бесконечность вселенной и существование тайных сил, которые способны уничтожить все человечество, стоит им просто хмыкнуть во сне. В конце концов, что такое мелкое внутреннее зло вроде атомной бомбы по сравнению с Ньярлахотепом, Ползучим Хаосом или Шаб-Ниггуратом, Козлом с Тысячью Младых?
«Дракула» Брэма Стокера представляется мне значительным произведением потому, что гуманизирует концепцию внешнего зла; Лавкрафт никогда не позволял нам уловить ее таким знакомым способом и ощутить ее текстуру. Это приключенческое произведение, но оно ни на миг не опускается до уровня Эдгара Райса Берроуза или «Варни-Вампира» [Varney the Vampire].
Этого эффекта Стокер достигает в основном благодаря тому, что почти на всем протяжении длинного романа держит зло вне повествования. В первых четырех главах граф почти всегда на сцене, он вступает в дуэль с Джонатаном Харкером, медленно теснит его к стене («Потом будут поцелуи вам всем», – слышит, теряя сознание, Харкер его слова, обращенные к трем странным сестрам)… а затем исчезает и больше не появляется на трех сотнях оставшихся страниц[57]. Этот один из наиболее замечательных и увлекательных приемов – обман зрения – в английской литературе редко кому удавался. Стокер создает своего страшного бессмертного монстра примерно так же, как ребенок – тень гигантского кролика на стене, шевеля пальцами перед огнем.
Зло, что несет граф, кажется полностью предопределенным; его приезд в Лондон, где «кишат миллионы», не есть результат злой воли смертного существа. Испытание Харкера в замке Дракулы – не следствие внутренней слабости или греха: он, Харкер, пришел сюда потому, что ему было это поручено. Смерть Люси Вестенра тоже отнюдь не закономерна. Ее встреча с Дракулой на кладбище Уитби – моральный эквивалент случайного удара молнии во время игры в гольф, и она ничем не заслужила того, чтобы Ван Хельсинг и ее жених Артур Холмвуд вбили ей в грудь осиновый кол, отрубили голову и наполнили рот чесноком.
Стокер не то чтобы игнорирует внутреннее зло или библейскую концепцию свободы воли; в «Дракуле» эта концепция воплощена в обаятельнейшем из всех маньяков мистере Ренфилде, который символизирует также истоки вампиризма – каннибализм. Ренфилд, который трудным путем пробирается в высшую лигу (начинает с мух, продолжает пауками и потом переходит к птицам), приглашает графа в сумасшедший дом доктора Сьюарда, прекрасно сознавая, что делает; но предположить, что это достаточно крупный образ, способный нести ответственность за все последующее зло, значит предположить нелепость. Образу Ренфилда, пусть и обаятельному, недостает силы, чтобы взвалить на него это бремя. Можно не сомневаться, что если бы Дракула не мог воспользоваться Ренфилдом, он нашел бы другой способ.
В определенном смысле решение о том, что зло приходит извне, диктовали Стокеру нравы его времени, потому что зло, воплощенное в графе, в большой степени есть извращенное сексуальное зло. Стокер дал жизнь легенде о вампире главным образом потому, что его роман буквально перенасыщен сексуальной энергией. Граф даже не нападает на Джонатана Харкера; на самом деле Харкер обещан странным сестрам, которые живут в замке вместе с хозяином. Единственное столкновение Харкера с этими развратными, но смертоносными гарпиями – сексуальное столкновение, и оно представлено в его дневнике весьма живописными строчками:
Блондинка придвинулась ко мне и так низко наклонилась, что я почувствовал ее дыхание на своей щеке… Лицо ее выражало сладострастие, которое меня и притягивало, и отталкивало. Женщина облизывала губы, как животное, чуя добычу. В лунном свете я увидел влажные полураскрытые губы и белые зубы… Она наклонялась все ниже и ниже, вот ее губы уже совсем близко от моих… Я ощутил легкое прикосновение, дрожащие мягкие губы прижались к коже на шее, и вот уже острые зубы впиваются мне в горло… С замирающим сердцем я ждал, что будет дальше[58].
В Англии 1897 года девушка, которая «придвинулась и низко наклонилась», – не из тех, кого стоит приглашать домой, чтобы познакомить с мамой; Харкеру предстоит оральное изнасилование, да он и не возражает. Не возражает, потому что не несет ответственности за происходящее. В обществе со строгой моралью можно найти клапан психологического спасения в концепции внешнего зла: это сильнее нас обоих, детка. Когда появляется граф и прерывает этот тет-а-тет, Харкер даже разочарован. Вероятно, большинство шокированных и затаивших дыхание читателей – тоже.
Кроме того, граф в романе охотится только на женщин: вначале Люси, затем Мина. Реакция Люси на укус графа почти такая же, как отношение Джонатана к странным сестрам. Еще вульгарнее то, что Стокер в чисто классической манере утверждает, будто Люси свихнулась. Днем бледная, но спокойная Люси, принимая ухаживания своего будущего мужа Артура Холмвуда, ведет себя в соответствии с приличиями. Однако по ночам она распутно забывается со своим мрачным кровавым соблазнителем.
В реальной жизни Англию в это время охватила эпидемия увлечения месмеризмом, хотя Франц Месмер, отец того, что мы называем гипнозом, уже восемьдесят лет как скончался. Подобно графу, последователи Месмера в основном предпочитали молоденьких девушек; эти Свенгали[59] XIX века вводили девушек в транс, поглаживая по телу… по всему телу. Объекты этих экспериментов испытывали «удивительное чувство, заканчивавшееся высшей вспышкой наслаждения». Очень вероятно, что эта «высшая вспышка наслаждения» была оргазмом, но лишь немногие незамужние женщины того времени узнали бы оргазм, случись он у них, и потому эффект считался просто побочным результатом научных опытов. Многие девушки возвращались и просили снова принять их для участия в экспериментах; «Мужчины не знают, но маленькие девочки понимают», – как поется в песне Бо Диддли[60]. Во всяком случае, то, что было сказано о вампиризме, вполне применимо и к месмеризму: высшая вспышка наслаждения допускалась, потому что приходила извне; девушка испытывала наслаждение, за которое не несла ответственности.
Этот сильный сексуальный подтекст, несомненно, послужил одной из причин столь долгой жизни Вампира в кино; жизнь эта началась с Макса Шрека в «Носферату» [Nosferatu], продолжилась интерпретацией Лугоши (1931), потом интерпретацией Кристофера Ли и далее вплоть до «Салемских вампиров» (1979), в котором Реджи Нелдер своей трактовкой замыкает круг, возвращаясь к Максу Шреку.
При прочих равных условиях этот подтекст дает возможность показать женщину, едва прикрытую ночной рубашкой, и парней, которые снова и снова проделывают со спящей леди то, что публику никогда не утомляет, а именно – примитивное насилие.
Но возможно, в сюжете сексуальный подтекст еще сильнее, только с первого взгляда этого не заметно. Я уже упоминал, что, по моему мнению, привлекательность произведений ужаса заключается в том, что они позволяют нам испытывать антиобщественные эмоции, которые в большинстве случаев нам приходится сдерживать – для блага общества и нас самих. Во всяком случае, «Дракула» – не книга о нормальном сексе. Граф Дракула, а также странные сестры, по-видимому, ниже пояса мертвы: любовью они занимаются только с помощью рта. Сексуальной основой «Дракулы» является инфантильный орализм плюс сильный интерес к некрофилии (и педофилии, добавят некоторые, учитывая роль Люси, женщины-девочки). К тому же это секс, лишенный ответственности, и, используя уникальный и забавный термин, придуманный Эрикой Йонг, его можно назвать «сексом без расстегивания ширинки». Столь инфантильное отношение к сексу может являться одной из причин того, что миф о вампире (который в книге Стокера говорит: «Я изнасилую тебя ртом, и тебе это понравится; вместо того чтобы вводить ценную жидкость в твое тело, я ее извлеку») всегда был так популярен у подростков, старающихся привыкнуть к своей сексуальности. Вампир словно нашел кратчайший путь сквозь все племенные сексуальные обычаи… и не забудьте про бессмертие.
В книге Стокера есть и другие любопытные элементы, очень разные, но, по-видимому, концепция внешнего зла и сексуальный подтекст – наиболее мощные стороны романа. Потомков странных сестер Стокера мы видим в удивительно роскошных и сладострастных вампирах из хаммеровской «Невесты Дракулы» [Brides of Dracula] 1960 года (которая заверяет нас, что, в самых лучших моралистических традициях фильмов ужасов, расплатой за извращенный секс служит кол в сердце), да и не только в ней, а еще в десятках фильмов до и после нее.
Задумав собственный роман о вампирах, «Жребий Салема», я решил практически исключить из него сексуальный аспект, чувствуя, что в обществе, где гомосексуализм, групповой секс, оральный секс и даже, боже упаси, «золотой дождь» стали предметом публичного обсуждения (не говоря уже о сексе с различными фруктами и овощами, если верить колонке «Форум» в «Пентхаусе»), сексуальный двигатель, придававший энергию книге Стокера, вероятно, останется без горючего.
До некоторой степени это соответствует действительности. Хэйзел Корт, с которой постоянно спадает платье (ну, почти спадает) в фильме АИП «Ворон» [The Raven] (1963), сегодня выглядит почти комично, не говоря уже о сентиментальном Валентино, подражающем Беле Лугоши в фильме «Дракула» студии «Юниверсал»; никакое нагнетание ужаса и никакие кинематографические трюки не спасают от желания рассмеяться посреди фильма. Но секс – и в этом практически не может быть сомнений – всегда останется движущей силой жанра ужасов: секс, который порой принимает замаскированные, фрейдистские формы, вроде вагинального создания Лавкрафта Великого Ктулху. Взглянув глазами автора на это скользкое, желеобразное существо со множеством щупалец, стоит ли удивляться, что Лавкрафт проявлял «слабый интерес» к сексу?
В жанре ужасов секс неизменно связан с проявлением силы; это секс, основанный на таких взаимоотношениях, когда один партнер находится во власти другого; секс, который почти неизбежно ведет к плохому финалу. Вспомним, например, «Чужого». Две женщины, входящие в состав экипажа, выглядят абсолютно асексуально вплоть до кульминации, когда Сигурни Уивер сражается с ужасным межзвездным «зайцем», который умудрился проникнуть даже в спасательную шлюпку. Во время этой последней схватки Уивер одета в трусики-бикини и тонкую кофточку, здесь она – воплощение женственности и вполне может поменяться местами с любой жертвой вампирских фильмов хаммеровского цикла 60-х годов. Нам словно бы говорят: «С ней все было в порядке, пока она не разделась»[61].
Вызвать ужас – все равно что парализовать противника в рукопашном бою: надо найти уязвимое место и ударить туда. В психологическом смысле наиболее очевидное уязвимое место – это сознание того, что человек смертен. Конечно, это известно всем без исключения. Но в обществе, которое такое внимание уделяет физической красоте (что несколько угрей становятся причиной сильнейшего психического расстройства) и сексуальной потенции, глубоко заложенная тревога и двойственность по отношению ко всему, что связано с сексом, становятся еще одной уязвимой точкой, ее-то и находит автор книги ужасов или сценарист фильма. В эпических произведениях Роберта Говарда жанра «меч и магия», где обязателен могучий герой с обнаженным торсом, злодейки-женщины все как одна до мозга костей испорчены, все как одна садистки и эксгибиционистки. Самый распространенный сюжет киноафиш: чудовище – то ли глазастый монстр из «Этот остров Земля» [This Island Earth], то ли мумия из хаммеровского римейка 1959 года фильма студии «Юниверсал», – которое шагает во тьме среди дымящихся руин какого-то города и несет на руках бесчувственную красавицу. Красавица и чудовище. Ты в моей власти. Хе-хе-хе. Снова сцена примитивного насилия. А примитивный, извращенный насильник и есть вампир, который похищает не только сексуальное наслаждение, но и жизнь. И, наверное, для миллионов подростков, которые наблюдают, как вампир взмывает в воздух и приземляется в спальне какой-нибудь спящей молодой женщины, самое лучшее заключается в том, что вампиру даже не требуется эрекция. Что может быть лучше для тех, кто стоит на пороге сексуальной жизни, тех, кого учили (в том числе и фильмы), что успешные сексуальные отношения основаны на господстве мужчины и подчинении женщины? А вот и джокер этой колоды: большинство четырнадцатилетних мальчишек, которые только что обнаружили свой сексуальный потенциал, способны господствовать разве что над разворотом «Плейбоя». Секс многое дает подросткам, но в первую очередь он их пугает. Фильм ужасов в целом и фильм о вампирах в частности еще больше укрепляет этот страх. Да, говорит он, секс страшен. Секс опасен. И я могу доказать это тебе прямо здесь и прямо сейчас. Садись, парень. Хватай свой попкорн. Я расскажу тебе одну историю…
Но хватит рассуждений о сексе, по крайней мере, пока. Посмотрим третью карту в этой беспокойной колоде Таро. Забудем на время Майкла Лэндона и АИП. Взгляните, если осмелитесь, в лицо настоящему оборотню. Его зовут, любезный читатель, Эдвард Хайд.
«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» задумывалась Стивенсоном как произведение шокирующее, предельно простое – и, как он надеялся, прибыльное. Повесть привела жену писателя в такой ужас, что Стивенсон сжег черновик и переписал ее заново, добавив назидательности, чтобы угодить жене. Из трех рассматриваемых здесь книг «Джекил и Хайд» – самая короткая (убористым шрифтом около семидесяти страниц), но, несомненно, самая стильная. Если Брэм Стокер оглушает нас ужасом, как колотушкой, то короткая и поучительная повесть Стивенсона производит впечатление быстрого смертельного укола пестиком для льда.
Словно в зале суда (с судебным разбирательством сравнил это произведение Г. К. Честертон) мы слышим свидетельства нескольких человек, дающих показания по мере того, как развивается рассказ о несчастьях доктора Джекила. Повесть начинается с того, что нотариус Джекила мистер Аттерсон и некий Ричард Энфилд, его дальний родственник, однажды утром прогуливаются по Лондону. Когда они проходят мимо «зловещего массивного здания» со «слепым лбом грязной стены» и с дверью «облупившейся, в темных разводах», мистер Энфилд рассказывает Аттерсону историю, связанную с этой дверью. Он говорит, что был здесь однажды ранним утром и заметил двух человек, шедших навстречу друг другу: мужчину и маленькую девочку. Они столкнулись. Девочка упала, а мужчина – Эдвард Хайд – просто пошел дальше, наступив на плачущую девочку. Собралась толпа (что делали здесь эти люди в три часа холодным зимним утром, так и остается невыясненным; возможно, они обсуждали, что использовал Робинзон Крузо в качестве карманов, когда приплыл к севшему на мель кораблю), и Энфилд схватил мистера Хайда за воротник. Хайд оказался человеком с такой отвратительной наружностью, что Энфилду и впрямь пришлось защищать его от гнева толпы. «Мы с трудом удерживали женщин, которые готовы были растерзать его, точно фурии», – говорит Энфилд Аттерсону. Более того, к девочке вызвали врача; «стоило ему взглянуть на моего пленника, как он побледнел от желания убить его на месте». И опять мы видим здесь автора ужасов как агента нормы; собравшаяся толпа ищет мутанта и, судя по всему, находит его в отвратительном мистере Хайде, хотя Стивенсон торопится сообщить нам через Энфилда, что внешне в Хайде как будто ничего неправильного нет. Он, конечно, не Джон Траволта, но и не Майкл Лэндон, у которого из-под форменного школьного пиджака вырастает шерсть.
Энфилд признается Аттерсону, что Хайд «держался хладнокровно, будто сам Сатана». Когда Энфилд потребовал для девочки компенсации, Хайд исчез в той самой двери и вскоре принес сотню фунтов: десять золотых гиней и чек. Хотя Энфилд этого не говорит, мы в должное время узнаем, что чек был подписан Генри Джекилом.
Энфилд заканчивает свой рассказ одним из самых ярких описаний оборотня во всей литературе ужаса. Хотя в обычном смысле в этом описании почти ничего нет, оно говорит о многом; мы знаем, что имеет в виду Стивенсон, и он знал, что мы это знаем, потому что, вероятно, понимал: все мы ищем мутантов:
Его наружность трудно описать. Что-то в ней есть странное… что-то неприятное… попросту отвратительное. Ни один человек еще не вызывал у меня подобной гадливости, хотя я сам не понимаю, чем она объясняется. Наверное, в нем есть какое-то уродство, такое впечатление создается с первого же взгляда, хотя я не могу определить отчего. У него необычная внешность, но необычность эта какая-то неуловимая… И не потому, что забыл: он так и стоит у меня перед глазами[62].
Несколько лет спустя в одном из своих рассказов Редьярд Киплинг дал название тому, что так встревожило Энфилда в мистере Хайде. Если забыть о волчьем проклятии и различных снадобьях (сам Стивенсон называет дымящийся напиток «чепухой»), в мистере Хайде Энфилд почувствовал то, что Киплинг называл Знаком Зверя.
Аттерсон располагает собственной информацией, и она совпадает с тем, что видел Энфилд (боже, как великолепно построен рассказ Стивенсона: он движется гладко, будто стрелка швейцарских часов). Он составлял завещание Джекила и знает, что его наследником является Эдвард Хайд. Кроме того, он знает, что указанная Энфилдом дверь – это задняя дверь дома Джекила.
Сделаем небольшое отступление. «Доктор Джекил и мистер Хайд» опубликован за три десятилетия до того, как идеи Зигмунда Фрейда начали свое победное шествие, но в первых двух частях повести Стивенсон дает поразительно точную метафору идеи Фрейда о сознании и подсознании, или, если говорить точнее, о контрасте между суперэго и ид. Вот большое здание. Со стороны Джекила, то есть с той стороны, которая предстает взорам общества, здание кажется красивым и изящным; в нем живет один из самых известных лондонских врачей. С другой стороны – это все то же здание – мы видим грязь и запустение, людей, которые по сомнительным причинам в три часа утра толкутся на улице, и «слепой лоб грязной стены», и «облупившуюся, в темных разводах, дверь». Со стороны Джекила все в порядке, и жизнь идет по наезженной колее. Но с другой стороны, властвует Дионис. Здесь входит Джекил, там выходит Хайд. Даже если вы не сторонник фрейдизма и не оцените глубокое проникновение Стивенсона в человеческую психику, вам придется признать, что здание – отличный символ дуализма человеческой природы.
Вернемся к делу. Следующим важным свидетелем является девушка, очевидец убийства, после которого Хайд становится беглецом, скрывающимся от правосудия. Читая, как Стивенсон описывает убийство сэра Дэнверса Кэрью, мы слышим, как эхо этого описания отдается во всех таблоидах нашего времени: Ричард Спек и студентки-медсестры, Хуан Корона и даже несчастный доктор Герман Тарновер. Зверь, застигнутый во время расправы со слабой и ничего не подозревающей жертвой, действующий не с умом или хитростью, а лишь с тупой, разрушительной яростью. Можно ли представить себе что-то худшее? Да, можно: его лицо не слишком отличается от того, что мы с вами видим в зеркале ванной каждое утро.
Внезапно он пришел в дикую ярость – затопал ногами, взмахнул тростью и вообще повел себя… как буйнопомешанный. Почтенный старец попятился с недоумевающим и несколько обиженным видом, а мистер Хайд, словно сорвавшись с цепи, свалил его на землю ударом трости. В следующий миг он с обезьяньей злобой принялся топтать свою жертву и осыпать ее градом ударов – служанка слышала, как хрустели кости, видела, как тело подпрыгивало на мостовой, и от ужаса лишилась чувств.
Для полного сходства с картинкой в таблоиде не хватает только какой-нибудь надписи на стене, сделанной кровью жертвы. Далее Стивенсон сообщает нам, что «трость, служившая орудием преступления, хотя и была сделана из какого-то редкостного, твердого и тяжелого дерева, переломилась пополам – с такой свирепой и неутолимой жестокостью наносились удары. Один расщепившийся конец скатился в сточную канаву…»
Здесь и в других местах Стивенсон применяет к мистеру Хайду определение «обезьяний». Он предполагает, что Хайд, подобно Майклу Лэндону из «Я был подростком-оборотнем», – это ступень назад по эволюционной шкале, жестокость, идущая из глубины веков, которая еще не исчезла… и разве не это на самом деле пугает нас в мифе об оборотне? Это внутреннее зло в сочетании с местью, и неудивительно, что церковники времен Стивенсона осыпали проклятиями его историю. Они, очевидно, поняли иносказание и увидели в Хайде нашего прародителя Адама. Если принять предположение Стивенсона, что лицо оборотня – это и наше лицо, то знаменитая реплика Лу Костелло Лону Чейни-младшему в «Эббот и Костелло встречают Франкенштейна» становится не такой уж смешной. Чейни, играющий тощего Ларри Тэлбота, жалуется Костелло: «Ты не понимаешь. Когда взойдет луна, я превращусь в волка». Костелло отвечает: «Ну да… ты и еще пять миллионов парней».
Во всяком случае, убийство Кэрью приводит полицию в квартиру Хайда в Сохо. Птичка упорхнула, но инспектор Скотленд-Ярда, ведущий расследование, уверен, что его скоро возьмут, потому что Хайд сжег свою чековую книжку: «Ведь деньги для него – сама жизнь. Нам достаточно будет дежурить в банке и выпустить объявление с описанием его примет».
Но у Хайда, разумеется, есть другая личина, и он обращается к ней. Джекил, которого испуг заставляет вернуться к разумному поведению, решает никогда больше не пользоваться средством. И тут, к своему ужасу, обнаруживает, что теперь превращение происходит спонтанно. Он создал Хайда, чтобы освободиться от уз приличий и норм, но у зла тоже есть свои узы: в конце концов Джекил становится пленником Хайда. Церковники обрушились на «Джекила и Хайда», сочтя книгу иллюстрацией того, что случается, когда «звериную сущность» человека спускают с поводка; современные читатели более склонны сочувствовать Джекилу как человеку, попытавшемуся – пусть на короткое время – вырваться из смирительной рубашки ханжеской викторианской морали. И вот когда Аттерсон и дворецкий Джекила Пул врываются в лабораторию Джекила, доктор мертв… но находят они тело Хайда. Произошло самое ужасное: герой умер, мысля как Джекил, но внешне оставшись Хайдом; тайный грех, или Знак Зверя, который он пытался скрыть, неизгладимо запечатлен на его лице. Он завершает свое признание словами: «Сейчас, отложив перо, я запечатаю мою исповедь, и этим завершит свою жизнь злополучный Генри Джекил».
Легко – даже слишком легко – увидеть в истории Джекила и его свирепого альтер-эго религиозную притчу, изложенную в приключенческой форме. Разумеется, эта история снабжена некой моралью, но мне кажется, что вместе с тем Стивенсон сделал попытку изучить ханжество – причины его возникновения и тот вред, который оно причиняет душе.
Джекил – лицемер, предающийся тайному греху; Аттерсон, подлинный герой повести, – полная противоположность Джекилу. Поскольку это кажется мне очень важным по отношению не только к повести Стивенсона, но и ко всем произведениям об оборотнях, позвольте отнять у вас еще немного времени и привести еще одну цитату из книги. Вот как Стивенсон представляет Аттерсона на первой странице «Джекила и Хайда»:
Мистер Аттерсон, нотариус, чье суровое лицо никогда не освещала улыбка, был замкнутым человеком, немногословным и неловким в обществе, сухопарым, пыльным, скучным – и все-таки очень симпатичным…[63] Он был строг с собой: когда обедал в одиночестве, то, укрощая вожделение к тонким винам, пил джин и, горячо любя драматическое искусство, более двадцати лет не переступал порога театра.
О «Рамонах», любопытной панк-рок-группе, появившейся около четырех лет назад, Линда Ронстадт сказала: «Эта музыка сжата до геморроидальности». То же самое можно сказать об Аттерсоне, который, выполняя в книге функцию стенографиста в суде, в то же время умудряется стать самым привлекательным образом. Разумеется, это чистейшей воды викторианский педант, и можно всерьез опасаться за судьбу его сына или дочери, но мысль Стивенсона заключается в том, что ханжества в Аттерсоне не больше, чем в любом другом человеке. («Можно грешить в мыслях, словах и деяниях», – гласит старое методистское высказывание, и я полагаю, что, когда Аттерсон думает об изысканных винах, а пьет джин с водой, его можно назвать грешником в мыслях… но здесь мы вступаем в обширную и весьма смутную область, в которой трудно уловить концепцию свободной воли: «Мозг – это обезьяна», – говорит герой в «Псах войны» [Dog Soldiers] Роберта Стоуна, и он прав.)
Разница между Аттерсоном и Джекилом в том, что Джекил пьет только джин, чтобы подавить любовь к вину на публике. В одиночестве своей библиотеки он способен выпить целую бутылку доброго портвейна (и, вероятно, поздравляет себя с тем, что не должен ни с кем делить ни ее, ни отличные ямайские сигары). Возможно, он не хотел бы, чтобы его видели на легкомысленном представлении в Вест-Энде, но с удовольствием идет туда в облике Хайда. Джекил не хочет ограничивать себя ни в каких своих желаниях. Он хочет лишь удовлетворять их тайно.
Все это очень интересно, можете сказать вы, но факт остается фактом: за последние десять-пятнадцать лет не было ни одного хорошего фильма про оборотней (телевизионные катастрофы вроде «Волчьей луны» [Moon of the Wolf] не в счет). И хотя вышло немало фильмов про Джекила и Хайда[64], сомневаюсь, чтобы появился хоть один полноценный римейк (или имитация) истории Стивенсона со времен «Дочери доктора Джекила» [Daughter of Dr. Jekyll] «Американ интернешнл» конца 50-х (печальный упадок для одного из первых Безумных Докторов, персонажей, к которым фанаты ужасов относятся с большой нежностью).
Но не забывайте: то, о чем мы здесь говорим, в основе своей является старым конфликтом между ид и суперэго, это свобода творить зло или нет… или, как сказал бы сам Стивенсон, конфликт между подавлением и удовлетворением. На этом древнем противостоянии зиждется христианство, но если воспользоваться терминами мифологии, единство Джекила и Хайда предполагает иную дуалистичность: уже упоминавшееся разделение на Аполлона (создание разума, морали и благородства, «всегда стремящееся ввысь») и Диониса (бог пирушек и плотских наслаждений, низменная сторона человеческой природы). Если попытаться углубиться еще дальше, придешь к разделению на разум и тело… именно такое впечатление хочет Джекил произвести на своих друзей: дескать, он – создание чистого разума, не имеющее никаких человеческих вкусов и потребностей. Такого парня трудно представить себе сидящим на унитазе с газетой в руках.
Если мы взглянем на историю Джекила и Хайда как на языческий конфликт между Аполлоном и Дионисом в человеке, то увидим, что миф об оборотне – в различных обличьях – присутствует в огромном количестве современных романов и кинофильмов.
Лучшим примером, возможно, служит фильм Альфреда Хичкока «Психо», хотя, при всем моем уважении к мастеру, эта идея заложена в романе Роберта Блоха. В сущности, Блох разрабатывает этот своеобразный взгляд на человеческую природу в нескольких своих предыдущих книгах, включая «Шарф» [The Scarf] (который начинается удивительными, причудливыми строками: «Фетиш? Это по-вашему. А я скажу одно: я ни на минуту не мог с ним расстаться. С самых юных лет…») и «До смерти уставшего» [The Dead Beat]. Эти книги, по крайней мере формально, не относятся к жанру ужасов; в них нет ни одного чудовища или сверхъестественного события. Критика относит их к «романам в жанре саспенс». Но, посмотрев с точки зрения конфликта Аполлона/Диониса, мы увидим, что это романы ужасов; в каждом из них говорится о дионисовом психопате, таящемся за аполлоновым фасадом нормальности… и медленно, пугающе медленно проявляющемся. Блох написал несколько романов об оборотне, но обошелся без нелепых снадобий или проклятий. Даже перестав сочинять «лавкрафтские» рассказы о сверхъестественном (хотя, по существу, он никогда не переставал их писать: возьмите его недавние «Странные эоны» [Strange Eons]), он не перестал быть писателем ужасов; он просто переместил перспективу с внешнего (среди звезд, на морском дне, на плато Ленг или в колокольне заброшенной церкви в Провиденсе, Лонг-Айленд) на внутреннее – туда, где и живет оборотень. Возможно, когда-нибудь эти три романа – «Шарф», «До смерти уставший» и «Психо» – будут изданы в виде трилогии, как «Почтальон всегда звонит дважды» [The Postman Always Rings Twice], «Двойная страховка» [Double Idemnity] и «Милдред Пирс» [Mildred Pierce] Джеймса М. Кейна, потому что романы Блоха 50-х годов оказали такое же влияние на американскую литературу, как романы Кейна 30-х о «подлеце с добрым сердцем». И хотя метод изображения в них различен, и те и другие – великие книги о преступлениях; в них предлагается натуралистичный взгляд на американскую жизнь; в них исследуются возможности главного героя, взятого в качестве антигероя; в их центре – конфликт Аполлона и Диониса, а значит, все они – романы об оборотне.
Наиболее известный из трех романов – «Психо», с главным героем Норманом Бейтсом; в фильме Хичкока Энтони Перкинс играет его крайне зажатым и «геморроидальным». Для внешнего мира (вернее, для той его небольшой части, которая каждый день видит владельца захолустного, приходящего в упадок мотеля) Норман абсолютно нормален. Вспоминается Чарльз Уитмен, аполлонов скаут-орел[65], который в дионисовом приступе расстреливает людей с башни Техасского университета; Норман кажется таким же приятным парнем. И Джанет Ли не видит никаких причин опасаться его в заключительные мгновения своей жизни.
Однако Норман – оборотень. Только он не обрастает шерстью; вместо этого он меняется, надевая белье, платье и туфли покойной матери, и не кусает гостей, а рубит их на куски. Как доктор Джекил снимал тайную квартиру в Сохо и имел особую «дверь Хайда», так и у Нормана есть тайное место, где две его личности встречаются; в данном случае это глазок за картиной, через который он подсматривает за раздетыми женщинами.
Эффект «Психо» объясняется тем, что в нем миф об оборотне переносится в нашу с вами жизнь. Это не внешнее, предопределенное зло; виноваты не звезды, а мы сами. Мы знаем, что Норман оборотень только внешне, когда надевает мамину одежду и говорит ее голосом; но к концу фильма у нас возникает тревожное предположение, что в душе он всегда оборотень.
«Психо» вызвал массу подражаний, большинство которых легко распознать по названиям, предполагающим наличие на чердаке чего-то большего, чем старые игрушки: «Смирительная рубашка» [Strait-Jacket] (Джоан Кроуфорд достается топор в этом смелом, хотя и слегка переусложненном фильме, снятом по сценарию Блоха), «Безумие 13» [Dementia 13] (первый художественный фильм Фрэнсиса Копполы), «Кошмар» [Nightmare] («хаммеровский» фильм), «Отвращение» [Repulsion]. Это далеко не полный перечень потомков фильма Хичкока, сценарий для которого написал Джозеф Стефано. Впоследствии Стефано работал над телевизионным сериалом «За гранью возможного», о котором у нас в свое время еще пойдет речь.
Нелепо было бы с моей стороны полагать, что весь современный жанр ужаса – и на бумаге, и на кинопленке – можно свести к указанным трем архетипам. Это упростило бы ситуацию, но такое упрощение было бы ложным, даже если добавить к колоде Таро карту Призрака. Колода не ограничивается Безымянной Тварью, Вампиром и Оборотнем; в тени таятся другие страшные существа. Но именно эта троица определяет основную массу современных произведений ужаса. Мы видим смутные очертания Безымянной Твари в фильме Ховарда Хоукса «Нечто из иного мира»[66] [The Thing] (я был ужасно разочарован, что тварь оказывается рослым Джимом Арнессом, наряженным космическим овощем); оборотень поднимает свою косматую голову в обличье Оливии де Хэвилленд в «Женщине в клетке» [Lady in a Cage] или Бетт Дэйвис в «Что случилось с Бэби Джейн?» [What Ever Happend to Baby Jane?]; мы видим тень Вампира в таких разных фильмах, как «Они!» и картинах Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов» и «Рассвет мертвецов»… хотя в последних двух символический акт питья крови заменен каннибализмом: мертвецы вгрызаются в плоть своих живых жертв[67].
Нельзя отрицать, что кинематографисты постоянно возвращаются к этим трем великим чудовищам, и я считаю основной причиной следующее: эти архетипы – истинные, иными словами – глина в руках умных детишек; а судя по всему, большинство режиссеров, работающих в этом жанре, и есть дети.
Прежде чем закончить разговор об этих трех произведениях, а вместе с ним и анализ литературы XIX века о сверхъестественном (если хотите полнее познакомиться с темой, могу порекомендовать вам эссе Лавкрафта «Сверхъестественный ужас в литературе» [Supernatural Horror in Literature]; книга выходила в дешевом, но красивом и прочном издании «Довер пэйпербэк»), разумно вернуться к началу и просто снять шляпу перед всеми тремя произведениями за те достоинства, которыми они обладают именно как романы.
Всегда существовала тенденция рассматривать популярные произведения вчерашнего дня в качестве социальных документов, моральных трактатов, исторических свидетельств или просто предшественников более интересных книг (как «Вампир» Полидори предшествует «Дракуле» Стокера, а «Монах» Льюиса готовит сцену для «Франкенштейна» Мэри Шелли) – рассматривать как угодно, только не как романы, крепко стоящие на собственных ногах и рассказывающие свои истории.
Когда преподаватели и студенты начинают обсуждать «Франкенштейна», «Доктора Джекила и мистера Хайда» или «Дракулу» как произведения искусства и воображения, разговор частенько бывает очень коротким. Преподаватели склонны сосредоточиваться на недостатках, а студенты больше обращают внимание на такие забавные штучки, как фонографический дневник доктора Сьюарда, отвратительный акцент Квинси П. Морриса или чемодан с высокой литературой, найденный в придорожной канаве.
Безусловно, ни одна из этих книг не может равняться с великими романами своего времени, и я не стану это утверждать; достаточно сопоставить всего два произведения примерно одного периода – скажем, «Дракулу» и «Джуда Незаметного», – и все станет ясно. Но жизнь книги не определяется только идеей… или литературным мастерством, как, судя по всему, считает большинство современных писателей и критиков… этих продавцов прекрасных машин без моторов. Разумеется, «Дракула» – это не «Джуд», но роман Стокера о графе продолжает отзываться в сознании людей гораздо дольше, чем более громкий и битком набитый привидениями «Варни-Вампир»; то же самое касается книги Мэри Шелли о Безымянной Твари и повести Роберта Луиса Стивенсона, использующей миф об Оборотне.
Будущий автор «серьезной» литературы (ставящий сюжет в конец длинного ряда, возглавляемого творческим методом и гладкостью слога, которые большинство преподавателей ошибочно принимают за стиль), кажется, забывает, что «роллс-ройс» без двигателя – просто самый роскошный в мире горшок для бегонии, а роман без сюжета – не более чем диковинка, нечто вроде головоломки. Сердце романа – двигатель, и что бы мы ни говорили об этих трех книгах, их создатели наделили свои творения способностью работать быстро, четко и бесперебойно.
Как ни странно, только Стивенсон сумел успешно наладить производство двигателей. Его приключенческие романы продолжают читать, а вот последующие романы Стокера, такие как «Сокровище семи звезд» [The Jewel of Seven Stars] и «Логово белого червя» [The Lair of the White Worm], известны только самым отъявленным любителям фантастики[68]. А готические произведения Мэри Шелли, написанные после «Франкенштейна», ныне уже совершенно забыты.
Каждое из трех произведений, которые мы обсудили, замечательно не только тем, что это роман ужасов или произведение саспенса, но и тем, что представляет гораздо более широкий жанр – романа вообще.
Когда Мэри Шелли оставляет вымученные философские рассуждения о том, что натворил Франкенштейн, она дарит нам поистине мощные сцены опустошения и мрачного ужаса – наиболее впечатляющие, наверное, в конце книги, когда в молчаливых полярных водах близится к завершению взаимный мрачный танец мести.
Из всех трех произведений роман Стокера, вероятно, обладает наиболее сильной энергетикой. Книга, быть может, покажется несколько затянутой современным читателям и критикам, которые полагают, что художественному произведению следует уделять не больше времени, чем телефильму (считается, что эти два вида искусства взаимозаменяемы), но, прочитав его, мы будем вознаграждены – я верно подобрал слово? – сценами и картинами, достойными Доре: Ренфилд, рассыпающий свой сахар с бесконечным терпением обреченного; сцена, в которой Люси пробивают сердце осиновым колом; обезглавливание странных сестер Ван Хельсингом; смерть графа в ружейных залпах, после гонки во тьме.
«Доктор Джекил и мистер Хайд» – шедевр краткости; это вывод не мой, а Генри Джеймса. В незаменимом учебнике по композиции Уилфреда Странка и Э. Б. Уайта «Элементы стиля» [The Elements of Style] тринадцатое правило звучит так: «Опустите ненужные слова». Наряду с «Алым знаком доблести» [The Red Badge of Courage] Стивена Крейна, «Поворотом винта» Генри Джеймса, романом Джеймса М. Кейна «Почтальон всегда звонит дважды» и «Стреляй!» [Shoot] Дугласа Фэйрбейрна небольшая повесть Стивенсона может послужить учебным пособием для молодых писателей по тринадцатому правилу Странка – трем наиболее важным словам во всем учебнике композиции. Характеристики сжаты, но точны; портреты героев набросаны кратко, но не карикатурно. Настроение не высказывается в лоб, а предполагается. Повествование сжато до предела.
На этом мы их и оставим, с теми же чувствами удивления и ужаса, которые эти великие монстры по-прежнему вызывают в сознании читателей. Может быть, самое недооцененное свойство всех трех заключается в том, что они сумели выйти за пределы реальности и создать собственный, полностью фантастический мир. Но мы оставим не все, мы прихватим с собой взгляд на архетипы Оборотня, Вампира и Безымянной Твари не как на мифологические фигуры, а как на персонажи близкой реальности – иными словами, включим их в свою жизнь.
Дружище… Это великолепно!
Глава четвертая
Раздражающее автобиографическое отступление
Я уже говорил, что разговор о произведениях страха и ужасов как о культурном феномене последних тридцати лет невозможен без автобиографических отступлений. Мне кажется, что сейчас как раз подходящее для этого время. Что за обуза! Но вам придется это вытерпеть, потому что я не могу уйти с поля, с которым связан навсегда.
Читатели, любящие какой-то из основных жанров – вестерны, детективы, научную фантастику или приключения, – не стремятся анализировать интерес авторов (и свой собственный), как это делают любители жанра ужасов. Тем, кто интересуется им, присуще тайное или открытое ощущение (его могут скрывать, а могут и не скрывать), что интерес к ужасам есть нечто ненормальное. В качестве предисловия к одной из своих книг («Ночная смена») я написал довольно длинное эссе, в котором попытался проанализировать, почему некоторые любят произведения ужасов и почему я их пишу. Повторять его здесь мне не хочется; если вам интересно, рекомендую прочесть это предисловие; оно понравилось всем моим родственникам.
Поставим вопрос более эзотерически: почему люди так интересуются моими интересами – и своими собственными? Мне кажется, это происходит прежде всего потому, что в нашем сознании прочно закреплен постулат: интерес к ужасам нездоров и ненормален. Так что когда мне задают вопрос: «Почему вы об этом пишете?» – меня на самом деле приглашают лечь на кушетку и рассказать, как в детстве меня на три недели заперли в погребе, или как я учился пользоваться туалетом, или как не ладил со сверстниками. Никто не интересуется тем, сколько времени потребовалось Артуру Хейли или Гарольду Роббинсу, чтобы привыкнуть к горшку, потому что банки, аэропорты и «Как я заработал свой первый миллион» – темы, которые кажутся всем совершенно нормальными. Есть что-то исключительно американское в стремлении понять, как все устроено (не этим ли объясняется феноменальный успех «Пентхаус форум»? все эти письма и обсуждение различных случаев половых сношений, траекторий орального секса, многочисленных экзотических позиций – это сугубо американское, как яблочный пирог; «Форум» – просто сексуальный самоучитель из серии «Сделай сам»), но в интересе к монстрам, домам с привидениями и Существам, Что в Полночь Выползают из Склепа, есть что-то неизбывно чуждое. Спрашивающие неизбежно превращаются в подобие забавного психиатра Виктора де Грута, героя комиксов, и при этом упускают из виду, что вообще создавать произведения ради денег – а именно этим и занимаются писатели – довольно странный способ зарабатывать на жизнь.
В марте 1979 года меня среди прочих пригласили выступить на обсуждении произведений ужасов на так называемых Мохонкских идах (ежегодная встреча писателей и фанатов, спонсором которой выступал «Мердер инк», книжный магазин на Манхэттене). За круглым столом я рассказал историю о себе самом, которую слышал от матери, – дело было, когда мне едва исполнилось четыре года, так что меня можно простить за то, что я помню это происшествие только со слов матери.
Семейное предание гласит, что однажды я отправился поиграть в соседний дом, расположенный вблизи железной дороги. Примерно через час я вернулся, бледный (сказала мать) как привидение. Весь остаток дня я отказывался объяснить, почему не подождал, пока за мной придут или позвонят по телефону, и почему мама моего приятеля не проводила меня, а позволила возвращаться одному.
Оказалось, что мальчик, с которым я играл, попал под поезд (мой приятель играл на путях; а может, просто перебегал рельсы; только много лет спустя мама рассказала мне, что части трупа собрали в плетеную корзину). Мать так никогда и не узнала, был ли я с ним рядом, когда это случилось, произошло ли несчастье до моего ухода или уже после. Возможно, у нее имелись свои догадки на этот счет. Но, как я уже говорил, я этого случая не помню совсем; мне рассказали о нем через несколько лет.
Эту историю я поведал в ответ на вопрос из зала. Нас спросили: «Можете ли вы вспомнить что-нибудь особенно ужасное из вашего детства?» Иными словами – входите, мистер Кинг, доктор сейчас вас примет. Роберт Мараско, автор «Сожженных приношений» [Burnt Offerings] и «Гостиных игр» [Parlor Games], сказал, что ничего такого припомнить не может. Я рассказал свою историю о поезде главным образом для того, чтобы спрашивающий не был разочарован, и закончил так же, как здесь, – добавил, что сам я этот случай не помню. На что третий участник круглого стола, Дженет Джеппсон (она не только романист, но и психиатр), возразила: «Да вы с тех пор только об этом и пишете».
Аудитория одобрительно зашумела. Нашлась ячейка, куда можно меня поместить… а заодно и мотив. Я написал «Жребий Салема», «Сияние» и уничтожил мир чумой в «Противостоянии» потому, что в нежном возрасте видел, как моего приятеля переехал медленный товарный состав. На мой взгляд, полная нелепица; такая психоаналитическая «стрельба с бедра» ничем не лучше астрологии.
Дело не в том, что прошлое вообще не попадает в писательскую мельницу; совсем наоборот. Один пример: самый яркий сон, какой я только могу вспомнить, приснился мне в восьмилетнем возрасте. Во сне я увидел труп повешенного, болтающийся на виселице на холме. На плече трупа сидели птицы, а за ним было ядовитое зеленое небо с кипящими облаками. На трупе была табличка – «Роберт Бернс». Но когда ветер повернул тело, я увидел, что у трупа мое лицо – разложившееся, поклеванное птицами, но, несомненно, мое. И тут труп открыл глаза и посмотрел на меня. Я проснулся с криком, уверенный, что увижу в темноте склонившееся ко мне мертвое лицо. Шестнадцать лет спустя я использовал этот сон как один из центральных образов в романе «Жребий Салема». Табличку на трупе я сменил на «Хьюби Марстен». В другом сне – этот сон повторялся на протяжении десяти лет, если я уставал или испытывал стресс, – я пишу роман в старом доме, в котором, по слухам, бродит обезумевшая женщина. Я работаю в комнате на третьем этаже, и в ней очень жарко. Дверь в дальнем углу комнаты выходит на чердак, я знаю – знаю, – она там, и рано или поздно стрекот моей машинки привлечет ее ко мне (возможно, она критик из «Таймс бук ревью»). В любом случае, она наконец появляется в дверях, как страшный чертик из табакерки, – седая, с безумным взглядом и с топором в руках. И, убегая от нее, я обнаруживаю, что дом каким-то образом невероятно разросся, стал гораздо больше, и я в нем заблудился. Проснувшись после этого сна, я проворно перебирался поближе к жене.
У всех бывают дурные сны, и мы, писатели, стараемся использовать их повыгоднее. Но одно дело – использовать сон, и совсем другое – считать его первопричиной своей личности и всей своей последующей жизни. Это нелепое предположение не имеет ничего – или очень мало – общего с реальным миром. Сны – это мысленное кино, обрывки и остатки впечатлений бодрствующей жизни, сшитые в подсознательные лоскутные одеяла бережливым человеческим умом, который ничего не любит выбрасывать. Одни из этих мысленных кинофильмов могут быть непристойного характера, другие – комедии, а третьи – фильмы ужаса.
Я считаю, что писателями не рождаются, писателя не делают сны или детские травмы; писателями становятся. Стать писателем (художником, актером, режиссером, танцором и т. д.) можно только в результате сознательных усилий. Конечно, должен быть и талант, но талант – чрезвычайно дешевый товар, дешевле столовой соли. Преуспевшего человека отделяет от просто талантливого тяжелая работа и долгая кропотливая учеба, постоянный процесс совершенствования. Талант – тупой нож, и он ничего не разрежет, если не приложишь к нему большую силу – настолько большую, что лезвие не режет, а рвет и проламывает (и после двух-трех таких великанских взмахов вполне может сломаться… что, должно быть, и случилось с такими несопоставимыми писателями, как Росс Локридж и Роберт Говард). Дисциплина и постоянная работа – вот оселки, на которых тупой нож таланта затачивается, пока не станет достаточно острым, чтобы прорезать самое жесткое мясо и хрящ. Ни один писатель, живописец или актер не владел с рождения абсолютно острым ножом (хотя некоторые обладали очень большими ножами; художника с большим ножом мы называем «гением»), и каждый точит свой нож с разной степенью усердия и желания.
Я полагаю, что дабы преуспеть в любой области, художник должен оказаться в нужное время в нужном месте. Нужное время в руках богов, но любой ребенок своей матери может проложить себе путь в нужное место и ждать[69].
Но где оно, это нужное место? В этом одна из величайших и привлекательнейших тайн человеческого существования.
Я помню, как ходил искать воду с лозой вместе со своим дядей Клейтоном, типичнейшим представителем жителей Мэна. Мы были вдвоем, дядя Клейтон и я; он в своей клетчатой красно-черной фланелевой рубашке и старой зеленой шляпе, а я – в синей парке. Мне было тогда лет двенадцать; ему могло быть и сорок, и шестьдесят. В руке он держал лозу – раздвоенную ветку яблони. Яблоня для этого дела лучше всего, сказал он, хотя в крайнем случае может сойти и береза. Есть еще клен, но приговор дяди Клейта был таков: клен для поисков воды не годится, потому что в нем лживое зерно, и он солжет, если сможет.
В двенадцать лет я был уже достаточно большой, чтобы не верить в Санта-Клауса, фей или лозоискательство. Одна из странных особенностей нашей культуры состоит в том, что родители при первой же возможности стараются заставить детей не верить в красивые сказки; у папы с мамой может не найтись времени, чтобы помочь детям с уроками или почитать им вечером (пусть смотрят телевизор, телик – клевая нянька, пусть смотрят телевизор), зато они прилагают колоссальные усилия, чтобы вызвать у ребенка недоверие к бедному старине Клаусу и чудесам вроде лозоискательства и водяного колдовства. На это время всегда находится. Почему-то эти люди считают, что волшебные сказки, рассказанные в «Острове Гиллигана» [Gilligan’s Island], «Странной паре» [The Odd Couple] или «Лодке любви» [The Love Boat], более приемлемы. Бог знает, почему многие взрослые связывают эмоциональное просвещение с грабежом банков, но это так; они не успокоятся, пока свет удивления не погаснет в глазах их детей. (Это не про меня, шепчете вы своему соседу; нет, дамы и господа, именно про вас.) Родители, как правило, осознают тот факт, что дети безумны – в классическом смысле этого слова. Но я не вполне уверен, что убийство Санта-Клауса или Зубной феи – аналог «рациональности». Для детей рациональность безумия вполне эффективна. А главное, она держит страшилищ под строгим контролем.
Дядя Клейт почти не утратил этого детского умения удивляться. Среди прочих его поразительных талантов (по крайней мере, поразительных для меня) была способность выслеживать пчел (заметив на цветке медоносную пчелу, он шел за ней до самого улья – шел по лесу, брел по болоту, карабкался по склонам, но из виду не терял); способность сворачивать сигарету одной рукой (он всегда эксцентрично дергал локтем, прежде чем сунуть сигарету в рот и зажечь спичками «Даймонд», которые носил в водонепроницаемом пакетике) и бесконечный запас преданий и сказаний… историй об индейцах, о привидениях, фамильных историй, легенд – чего угодно.
В тот день за обедом моя мама пожаловалась дяде Клейту и его жене Элле, что вода из крана плохо течет и бачок в туалете наполняется медленно. Она боялась, что колодец опять пересохнет. В то время, в 1959 и 1960 годах, наш колодец мелел и летом даже совсем пересыхал примерно на месяц. Тогда мы с братом возили воду в большом старом баке, который мой другой дядя (дядя Орен; в течение многих лет он был лучшим плотником во всем южном Мэне) соорудил у себя в мастерской. Бак втаскивали через заднюю дверь в дряхлый универсал, а потом наполняли его из колодца, используя большие молочные бидоны. В сухой месяц питьевую воду набирали из городской колонки.
И вот пока женщины мыли посуду, дядя Клейт позвал меня и сказал, что мы должны отыскать моей матери новый колодец. В двенадцать лет это интересный способ провести время, но я был настроен скептически: дядя Клейт с таким же успехом мог бы сказать, что покажет, где за старой методистской церковью приземлилась летающая тарелка.
Он начал бродить вокруг, в заломленной набок старой зеленой шляпе, с сигаретой в уголке рта. Прут он держал за раздвоенный конец обеими руками, вывернув запястья вверх. Мы бесцельно походили по заднему двору, по подъездной дороге, по холму, где росла яблоня (она и сейчас там растет, хотя в маленьком фермерском доме живут совсем другие люди). И Клейт болтал… Он рассказывал о бейсболе, о попытках некогда создать в Киттери меднорудный концерн, о Поле Баньяне[70], который, согласно легенде, когда-то повернул вспять ручей Престил, чтобы снабдить лагерь питьевой водой.
Время от времени яблоневый прут начинал слегка подрагивать. Тогда дядя замолкал, останавливался и ждал. Иногда подрагивание усиливалось, но потом все-таки прекращалось.
– Кое-что здесь есть, Стив, – говорил дядя. – Кое-что. Но немного.
И я с понимающим видом кивал, уверенный, что он сам это делает. Знаете, как родители, когда они – а вовсе не Санта-Клаус – кладут подарок под елку или достают зуб из-под подушки, когда вы уже уснули, и заменяют его монеткой. Я был уверен, что все это просто спектакль, но продолжал ходить с дядей. Не забывайте, я был в том возрасте, когда ребенок хочет «быть хорошим»; меня учили отвечать, когда ко мне обращаются, и слушаться старших, какую бы нелепость они ни говорили. Кстати, это не самый плохой способ ввести ребенка в экзотический мир человеческого поведения; послушные дети (а я был послушным) частенько совершают длительные прогулки по закоулкам и необычным местам человеческой психики. Я не верил, что можно отыскать воду с помощью яблоневого прута, но мне было интересно посмотреть, как проделывается этот трюк.
Мы шли по лужайке перед домом, и прут снова задрожал. Дядя Клейт повеселел.
– Вот здесь настоящая находка, – сказал он. – Смотри, Стив! Она опустится, будь я проклят, если не опустится!
Еще три шага, и прут не просто опустился – он повернулся в руках дяди Клейта и указал прямо вниз. Отличный фокус; я почти слышал, как хрустнули сухожилия. Морщась от усилия, дядя с трудом поднял прут. Но как только ослабил давление, тот снова указал вниз.
– Здесь много воды, – сказал дядя. – Пей хоть до Судного дня, и колодец не пересохнет. И вода близко.
– Дай мне попробовать, – попросил я.
– Ну, надо немного отойти, – ответил он.
Мы так и сделали. Отошли к краю подъездной дороги.
Он дал мне прут, показал, как его держать (запястья развернуты вверх, большими пальцами прижимаешь развилку – «Иначе этот сукин сын сломает тебе руки, когда пойдет за водой», – сказал Клейт), и слегка подтолкнул меня в спину.
– Сейчас просто кусок дерева, верно? – спросил он. Я согласился. – Но когда начнешь приближаться к воде, почувствуешь, как она оживет, – ухмыльнулся дядя. – Я хочу сказать, по-настоящему оживет, словно все еще на дереве. Ничего нет лучше яблони, когда хочешь найти воду.
То, что произошло потом, вполне могло быть внушением, и я даже не стану пытаться убедить вас в обратном, хотя с тех пор прочел немало на эту тему и теперь убежден, что лозоискательство – не миф; по крайней мере, в определенное время определенные люди по каким-то непонятным причинам умеют им пользоваться[71]. Скажу только, что дядя Клейт привел меня в то состояние, в которое я стараюсь привести читателей, – в состояние веры, когда окаменевший щит «рациональности» временно откладывается, недоверчивость сидит себе смирно, и вы вновь обретаете способность удивляться. И капля внушения, на мой взгляд, отнюдь не повредит – это лучше для мозга, чем кокаин.
Я пошел к тому месту, где стоял дядя Клейт, когда прут «нырнул», и будь я проклят, если яблоневая ветка не ожила у меня в руках. Она потеплела и начала двигаться. Вначале это была легкая дрожь, которую я ощущал, но не мог увидеть, а потом конец прута начал поворачиваться.
– Получилось! – крикнул я дяде Клейту. – Я ее чувствую!
Клейт рассмеялся. Я тоже – и это был не истерический смех, а радостный. Когда я дошел до нужного места, прут «нырнул» в моих руках; только что он держался горизонтально, а в следующий миг уже указывал прямо вниз. Я очень отчетливо помню два обстоятельства, связанных с этим моментом. Первое – ощущение тяжести; ветка стала тяжелой. Как будто вода была не под землей, а в самом пруте. После «нырка» Клейт вернул прут в первоначальное положение – у меня не хватило сил. Он взял у меня прут, и тут же ощущение тяжести и магнетизма прекратилось. Оно не перешло от меня к нему – просто кончилось. Только что было, а в следующее мгновение – уже нет.
А второе, что мне запомнилось, это ощущение одновременно уверенности и тайны. Вода здесь была. Дядя Клейт это знал, и я тоже. Она здесь, под землей, река, заключенная в скалу. Чувство того, что ты в нужном месте. Знаете, в мире есть линии силы – невидимые, но трепещущие от страшной, пугающе огромной энергии. Время от времени кто-нибудь натыкается на них и гибнет или – если он в нужном месте – заставляет их работать. Но сначала надо найти это место.
Клейт воткнул палку там, где мы почувствовали притяжение воды. Наш колодец действительно пересох – в августе, а не в июле, – но в том году у нас не было денег на новый, поэтому пришлось снова взяться за бак и бидоны. И на следующее лето тоже. Зато в 1963 или 1964 году мы сделали новый колодец.
К тому времени палка, которую воткнул дядя Клейт, давно исчезла, но я хорошо помнил место. Бурильщик установил свое оборудование – большую красную машину, очень похожую на молящегося богомола, собранного из детского конструктора, – в трех футах от того места, где когда-то торчала палка (я и сейчас слышу, как мама жалуется, что весь ее прекрасный газон засыпали мокрой глиной). Вода оказалась меньше чем в ста футах, и, как и обещал дядя Клейтон в то воскресенье, когда мы с ним шли с яблоневым прутом, ее было много. Мы могли пить ее хоть до Судного дня, и колодец бы не пересох.
Однако пора вернуться к отправной точке, а она такова: бессмысленно спрашивать у писателя, о чем он пишет. С таким же успехом можно спросить у розы, почему она красная. Талант, подобно воде, которую дядя Клейт отыскал под газоном в то воскресенье, даст о себе знать – только в отличие от воды он больше похож на большой кусок необработанной руды. Его можно очистить – или отточить, если вернуться к прежней метафоре – и заставить работать бесконечным количеством способов. Заточка и использование – достаточно простые операции, вполне доступные начинающему писателю. Очистка таланта – это всего лишь вопрос опыта. Если по пятнадцать минут ежедневно в течение десяти лет упражняться с гантелями, станешь силачом. Если в течение десяти лет ежедневно писать по полтора часа, станешь хорошим писателем[72].
Но что там, на дне? Это самая загадочная и изменчивая карта в колоде. Не думаю, чтобы писатель каким-то образом мог этим управлять. Вырыв колодец, вы делаете пробу, отправляете ее в ближайшую лабораторию Агентства по анализу воды и, получив результат, убеждаетесь: содержание солей и примесей в воде может колебаться в поразительно широких пределах. Даже H2O не создана одинаковой. Точно так же Джойс Кэрол Оутс и Гарольд Роббинс пишут по-английски – но, в сущности, на разных языках.
Есть некое очарование в открытии таланта (хотя описать это трудно, и кое-что я даже не стану пытаться выразить на бумаге. «Предоставьте это поэтам! – воскликнул он. – Поэты знают, как об этом сказать, или по крайней мере воображают, что знают; впрочем, это одно и то же. Так что предоставьте это поэтам!»), в том волшебном мгновении, когда лоза в ваших руках устремляется вниз, и вы знаете, что он здесь, прямо вот тут. Есть определенное очарование и в рытье колодца, в очистке руды, заточке ножа (и об этом тоже трудно писать; меня всегда поражала сага о героических усилиях молодого плодовитого писателя – «Янгблад Хоук» [Youngblood Hawke] Германа Вука), но на самом деле я хочу потратить еще несколько минут на разговор о другом типе лозоискательства – не подлинном открытии таланта, а ударе молнии, которая бьет, когда вы находите не сам талант, но точное направление его развития. Если хотите, это минута, когда юный бейсболист осознает не то, что может стать неплохим питчером (это было известно и раньше), а то, что обладает способностью пускать мяч по особенной траектории. Этого не передать словами. Надеюсь, все сказанное послужит оправданием дальнейшему автобиографическому отступлению. Я не пытаюсь объяснить собственный интерес к танцу смерти, оправдать его или подвергнуть психоанализу; просто хочу показать декорации, среди которых этот интерес проявил себя стойким, прибыльным и приятным… конечно, за исключением тех моментов, когда сумасшедшая женщина выскакивает с чердака в том страшном доме сна, куда подсознание переносит меня примерно раз в четыре месяца.
Фамилия предков моей матери – Пиллсбери, и происходят они (так она говорила) от тех самых Пиллсбери, которые делают муку и смеси для выпечки. Разница между двумя ветвями семейства, говорила мама, в том, что мучные Пиллсбери в поисках богатства переселились на запад, а наши предки, бедные, но честные, остались на побережье Мэна. Моя бабушка, Нелли Пиллсбери (в девичестве – Фогг), была одной из первых женщин, окончивших Горэмскую среднюю школу – выпуск 1902 года, кажется. Она умерла в возрасте восьмидесяти пяти лет; уже слепая и прикованная к постели, она по-прежнему могла просклонять латинские глаголы и перечислить имена всех президентов до Трумэна включительно. Мой дед по материнской линии, плотник, короткое время был помощником Уинслоу Хомера[73].
Предки моего отца родом из города Перу, штат Индиана, а если еще углубиться в прошлое – из Ирландии. Пиллсбери, уравновешенные и практичные, были добропорядочными англосаксами; зато отец, как и все его родственники, отличался большой эксцентричностью. У его сестры, моей тетки Бетти, случались «заскоки» (моя мать считала, что у нее маниакально-депрессивный психоз; впрочем, она никогда не баллотировалась в президенты Клуба любителей тети Бетти), моя бабушка по отцовской линии любила съесть на завтрак ломоть хлеба со свиным салом, а дед, ростом шесть футов и весом триста пятьдесят фунтов, умер в тридцать два года, пытаясь догнать поезд. По крайней мере, так рассказывают.
Я уже говорил, что невозможно объяснить, почему в человеке внезапно вспыхивает одержимость чем-то, но уловить момент, когда вы обнаруживаете этот всепоглощающий интерес – то мгновение, если хотите, когда лоза водоискателя неожиданно и уверенно поворачивает вниз, к скрытой воде, – вполне возможно. Можно сказать и по-другому: талант – это компас, и нам нет дела, как он работает, почему он указывает на магнитный полюс; но момент, когда стрелка поворачивается к этому великому центру притяжения, для нас важен.
Мне всегда казалось странным, что этим особым моментом в своей жизни я обязан отцу, который бросил мою мать, когда мне было два года, а моему брату Дэвиду – четыре. Отца я не помню совсем, но на снимках, которые видел, передо мной предстает человек среднего роста, в очках, слегка полноватый – одним словом, симпатичный американец сороковых годов. Во время Второй мировой войны он служил в торговом флоте, пересекал Атлантический океан и играл в рулетку с немецкими подводными лодками. Мама рассказывала, что больше всего он боялся не торпед, а того, что у него из-за плохого зрения отнимут капитанское свидетельство: на суше он то и дело съезжал на обочину и ездил на красный свет. Я страдаю тем же; иногда мне кажется, что у меня вместо глаз пара донышек от бутылок колы.
Дон Кинг был непоседой. Мой брат родился в 1945 году, я – в 1947-м, а с 1949 года от отца не было ни слуху ни духу… хотя мать уверяла, что в 1964 году, во время беспорядков в Конго, она видела его в новостях среди белых наемников одной из сторон. Но я думаю, что она ошиблась. К тому времени ему было уже около пятидесяти. Однако если это все же правда, надеюсь, он решил проблемы со зрением.
После исчезновения отца мать осталась одна и справлялась с трудом. Следующие девять лет мы ее почти не видели. Она нанималась на множество низкооплачиваемых работ: гладила в прачечной, готовила тесто в ночную смену в пекарне, была кладовщицей и экономкой. Она была способной пианисткой и обладала хорошим, хотя и своеобразным чувством юмора, и каким-то образом ей удавалось поддерживать нас на плаву. У нас не было машины (а до 1956 года – и телевизора), но мы никогда не голодали.
Эти девять лет мы много ездили по стране, но всегда возвращались в Новую Англию. А в 1958 году вернулись в Мэн уже окончательно. Моим дедушке и бабушке было за семьдесят, и семья наняла мою мать, чтобы заботиться о стариках последние годы их жизни.
Мы жили в Дареме, и хотя может показаться, что эта семейная история увела нас далеко от темы, на самом деле мы к ней как раз приближаемся. Примерно в четверти мили от маленького дома, где росли мы с братом, стояло красивое кирпичное здание. Там жила сестра моей мамы, Этелин Пиллсбери Флоус, со своим мужем Ореном. Над их гаражом был просторный чердак, со скрипучими половицами и замечательным чердачным запахом.
В то время чердак соединялся с целой серией пристроек, и заканчивалась эта анфилада старинным амбаром. Все эти сооружения опьяняюще пахли старым, давно убранным сеном, но кое-что напоминало о тех днях, когда здесь держали скотину. Если забраться на сеновал, можно было увидеть скелеты кур, очевидно, сдохших там от какой-то болезни. Я часто совершал к ним паломничество; меня что-то зачаровывало в этих куриных останках, лежавших под грудами перьев, хрупких, как лунный свет, и в темных глазницах, где когда-то были глаза, скрывалась какая-то тайна…
Чердак над гаражом представлял собой нечто вроде семейного музея. Здесь Пиллсбери годами складывали старые вещи, от мебели до фотографий, и места оставалось ровно столько, чтобы маленький мальчик мог проползти узкими проходами, ныряя под старинную лампу или перебираясь через ящик с древними обоями, которые кто-то зачем-то захотел сохранить.
Нам с братом не запрещали туда лазить, но тетя Этелин была недовольна, потому что половицы там не были приколочены, а кое-где их вообще не хватало. Очень легко было споткнуться и упасть на бетонный пол внизу – или прямо в кузов старого пикапа «шевроле» дяди Орена.
Именно там, на старом чердаке, в холодный осенний день 1959 или 1960 года моя внутренняя лоза уверенно нырнула, и стрелка компаса безошибочно указала на какой-то истинный мысленный полюс. В тот день я наткнулся на ящик с отцовскими книгами… в бумажных обложках, середины 40-х годов.
На чердаке было много отцовских вещей, и я хорошо понимаю, почему после его внезапного исчезновения мать постаралась спрятать их там. Именно здесь за год или два до этого брат нашел пленку, снятую отцом на корабле. Мы с Дэви позаимствовали немного из отложенных денег (без ведома матери), взяли напрокат кинопроектор и снова и снова смотрели пленку в зачарованном молчании. В одном месте отец передал камеру кому-то другому, и вот он, Дональд Кинг из Перу, штат Индиана, стоит у поручня. Он поднимает руку, улыбается; сам не зная об этом, он машет рукой сыновьям, которые тогда еще даже не были зачаты. Мы перематывали пленку, смотрели, снова перематывали и снова смотрели. И опять. Привет, папа; интересно, где ты сейчас.
В другой коробке оказались его торговые лоции; еще в одной – альбомы со статьями о разных странах. Мама говорила, что хотя он всегда ходил с вестерном в кармане, по-настоящему его интересовали научная фантастика и ужасы. Он сам не раз делал попытки написать рассказы такого типа и предлагал их популярным журналам того времени, например, «Блюбуку» и «Аргоси», но так ничего и не опубликовал («У твоего отца в характере не было постоянства», – как-то раз сухо сказала мне мать, и это был самый большой упрек по отношению к нему, какой я от нее когда-либо слышал), зато получил несколько писем с отказами. «Это-не-подойдет-но-присылайте-еще» – так я их называл в двадцатилетнем возрасте, когда собрал немало собственных (в минуты депрессии я подумывал, не использовать ли их в качестве носовых платков).
Ящик, который я отыскал в тот день, оказался настоящей сокровищницей, полной старых изданий «Эйвон» в мягких обложках. В те дни только издательство «Эйвон» печатало фэнтези и книги о сверхъестественном в мягких обложках. Я с большой нежностью вспоминаю их – особенно сверкающие обложки, покрытые неким гибридом желатина и пищевой пленки. Если рассказ становился скучным, можно было длинными полосами срывать эту блестящую пленку. При этом раздавался восхитительный звук. И хотя это снова уводит нас от темы, я с любовью вспоминаю и издания 40-х годов издательства «Делл»; тогда это были сплошные детективы, и на задней стороне обложки каждой книги была изображена великолепная карта места преступления.
Одна из книг «Эйвона» была «образцом»: очевидно, составители решили, что слово «антология» любители подобной литературы не поймут. Там были рассказы Фрэнка Белнэпа Лонга («Псы Тиндала» [The Hounds of Tindalos]), Зелии Бишоп («Проклятие Йига» [The Curse of Yig]) и множество других, выбранных из предыдущих номеров «Странных историй». Еще в сундучке были две книги Меррита – «Гори, ведьма, гори» [Burn, Witch, Burn] (не путайте с более поздним романом Фрица Лейбера «Ведьма» [Conjure Wife]) и «Металлическое чудовище» [The Metal Monster].
Но самым ценным в этой сокровищнице был сборник Лавкрафта 1947 года под названием «Притаившийся ужас и другие рассказы» [The Lurking Fear and Other Stories]. Очень хорошо помню рисунок на обложке: ночное кладбище (где-то вблизи Провиденса, судя по всему!), а из-под могильного камня выбирается отвратительная зеленая тварь с длинными клыками и горящими красными глазами. За ней маячит туннель, ведущий в недра земли. С тех пор я видел буквально сотни изданий Лавкрафта, но этот рисунок для меня лучше всего выражает дух творчества Г.Ф.Л[74]. … и я до сих пор понятия не имею, кто был художником.
Конечно, это было не первое мое знакомство с литературой ужасов. В Америке нужно быть слепым и глухим, чтобы в возрасте десяти-двенадцати лет не столкнуться хотя бы с одним чудищем. Но тут я впервые повстречался с серьезной литературой этого жанра. Лавкрафта называли литературным поденщиком – я категорически с этим не согласен, – но так ли это или нет, сочинял ли он популярное чтиво или писал «художественную литературу» (в зависимости от вашего критического настроя), в данном контексте значения не имеет, потому что сам он относился к своему творчеству серьезно. И это чувствуется. И потому эта книга, подарок моего исчезнувшего отца, стала моей первой встречей с миром гораздо более объемным, чем фильмы категории B, которые по субботам крутили в кинотеатрах, или книги для мальчиков Карла Кармера и Роя Рокуэлла. Когда Лавкрафт писал «Крыс в стенах» или «Модель Пикмана» [Pickman’s Model], он не просто забавлялся или пытался заработать несколько лишних баксов; он писал всерьез, и именно на эту серьезность отозвалась моя внутренняя лоза.
Я забрал книги с чердака. Тетя, которая была школьной учительницей, практичной до мозга костей, не одобряла их, но я не сдавался. На следующий день я впервые посетил плато Ленг, познакомился с причудливым арабом Абдулом Альхазредом из эпохи до ОПЕК (автором «Некрономикона», который, насколько мне известно, никогда не предлагался для обсуждения членам клуба «Книга-в-месяц» или Литературной гильдии, но экземпляр которого, как говорят, хранился под замком в особом собрании Мискатоникского университета); побывал в городах Данвич и Аркхэм, штат Массачусетс; и главное – встретился с мрачным ужасом «Сияния извне».
Через пару недель эти книги исчезли, и с тех пор я их не видел. Я всегда подозревал, что тут не обошлось без моей тетушки Этелин… но в конечном счете это не важно. Я уже ступил на свой путь. Лавкрафт – благодаря отцу – открыл его мне, как и моим предшественникам, среди которых Роберт Блох, Кларк Эштон Смит, Фрэнк Белнэп Лонг, Фриц Лейбер и Рэй Брэдбери. И хотя Лавкрафт, который умер еще до того, как Вторая мировая война оживила многие из его ужасных видений, нечасто упоминается в этой книге, читателю не стоит забывать о его тени, длинной и тощей, с темными пуританскими глазами, – тени, которая лежит почти на всех последующих произведениях ужасов. Эти глаза мне запомнились по первой увиденной мною его фотографии… такие глаза можно встретить на старинных портретах, что до сих пор висят в домах Новой Англии, черные глаза, которые, кажется, смотрят не только вовне, но и внутрь.
Эти глаза словно преследуют вас.
Первый фильм, который я посмотрел еще ребенком, назывался «Тварь из Черной лагуны» [Creature from the Black Lagoon]. Кинотеатр был «драйв-ин»; мне тогда, вероятно, было около семи лет, потому что картина, в которой снимались Ричард Карлсон и Ричард Деннинг, вышла в 1954 году. Она демонстрировалась в стереоварианте, но я не помню, чтобы надевал очки, так что, возможно, это был вторичный прокат.
Из этого фильма я ясно помню только одну сцену, но она произвела на меня неизгладимое впечатление. Герой (Карлсон) и героиня (Джулия Адамс, которая выглядела совершенно сногсшибательно в слитном купальнике) участвуют в экспедиции где-то в дебрях Амазонки. Они пробираются по узкому болотистому ручью и оказываются в широком бассейне, который выглядит идиллической южноамериканской версией райского сада.
Но в этом раю таится чудовище – естественно. Это чешуйчатая земноводная тварь, очень похожая на дегенератов-полукровок Лавкрафта – безумное и святотатственное отродье богов и земных женщин (я вас предупреждал, что трудно уйти от Лавкрафта). Чудовище медленно и терпеливо перегораживает ручей дамбой из веток и стволов, потихоньку запирая антропологов в ловушку.
Я тогда едва научился читать, а до ящика с отцовскими книгами было еще несколько лет. Смутно помню маминых приятелей в это время – примерно с 1952 по 1958 год; воспоминаний достаточно, чтобы понять: она общалась с мужчинами, – но недостаточно, чтобы представить ее интимную жизнь. Одного звали Норвилл; от него пахло сигаретами «Лаки», и летом он включал в своей двухкомнатной квартире три вентилятора; другой был Милт, он водил «бьюик» и летом носил гигантские синие шорты; был еще третий, очень маленького роста; кажется, он работал поваром во французском ресторане. Насколько мне известно, ни с кем из них о браке речь даже не заходила. Матери, видно, хватило одного раза. К тому же в то время было принято, чтобы замужняя женщина утрачивала способность принимать решения и зарабатывать на жизнь. А я помню маму упрямой, неподдающейся, мрачно упорной; ее почти невозможно было переубедить; она приобрела вкус к самостоятельности и хотела сама определять, как ей жить. У нее были приятели, но никто из них не задерживался надолго.
В тот вечер у нас был Милт, тот самый, с «бьюиком» и в больших синих шортах. Казалось, мы с братом ему нравились, и он не возражал, если время от времени мы оказывались на заднем сиденье его «бьюика» (когда входишь в спокойные воды сорокалетнего возраста, идея о поцелуях в машине за просмотром фильма уже не кажется такой привлекательной… даже если у вас «бьюик» размером с крейсер). К тому времени как появилась Тварь, мой брат сполз на пол и уснул. Мама с Милтом курили одну на двоих сигарету с ментолом и о чем-то разговаривали. Впрочем, они не имели значения – по крайней мере, в этом контексте; ничто не имело значения, кроме больших черно-белых фигур на экране, когда отвратительная Тварь загоняла героя и сексапильную героиню в… в… в Черную лагуну!
Глядя на экран, я вдруг понял, что Тварь стала моей Тварью; я ее приобрел. Даже для семилетнего мальчика Тварь выглядела не очень убедительно. Я тогда не знал, что это добрый старый Рику Браунинг, знаменитый подводный каскадер в костюме из латекса, но догадывался, что это какой-то парень в костюме чудовища… и точно так же догадывался: он еще навестит меня в черной лагуне моих снов – и будет выглядеть гораздо правдоподобнее. Он может ждать в шкафу, когда мы вернемся домой; может затаиться в темной уборной в конце коридора, от него будет нести водорослями и болотной гнилью, и он будет готов закусить маленьким мальчиком. Семь лет – возраст небольшой, но вполне достаточный, чтобы понять: ты получаешь то, за что платишь. Ты владеешь этим, ты это купил, оно твое. Ты уже достаточно взрослый, чтобы ощутить, как внезапно оживает в твоих руках лоза, наливается тяжестью и поворачивается, указывая на скрытую воду.
Моя реакция на Тварь в тот вечер, вероятно, была идеальной, именно той, на которую надеется всякий писатель или режиссер, когда снимает колпачок с ручки или крышку с объектива камеры: полная эмоциональная вовлеченность, не ослабленная никаким мыслительным процессом, – а ведь вы понимаете, что для того чтобы разрушить очарование, достаточно заданного шепотом вопроса приятеля: «Видишь молнию у него на спине?»
На мой взгляд, только люди, работающие в этой области, понимают, насколько хрупко это впечатление и какое удивительное воздействие оно способно оказать на взрослого читателя или зрителя. Когда Кольридж писал о «приостановке неверия», мне кажется, он понимал, что неверие – не воздушный шарик, который можно запустить в воздух с минимальными усилиями; оно обладает свинцовой тяжестью, и его нужно поднимать рывком. Неверие – тяжелая штука. Возможно, произведения Лавкрафта и Артура Хейли пользуются различной популярностью потому, что в существование машин и банков верят все, но требуется значительное усилие, чтобы хоть на время поверить в Ньярлатотепа, Слепого Безлицего, Воющего в Ночи. И когда я встречаю человека, который говорит что-нибудь вроде: «Я никогда не читаю таких книг и не смотрю таких фильмов, потому что этого не существует в действительности», – я этому человеку сочувствую. Он просто не выдерживает веса фантазии. Мышцы его воображения слишком ослабли.
В этом смысле дети – идеальная аудитория для произведений ужасов. Парадокс заключается в следующем: слабые физически, дети с необыкновенной легкостью справляются с тяжестью воображения. Они жонглируют невидимыми мирами – феномен вполне понятный, если вспомнить о том, с какой перспективы они смотрят на вещи. Дети искусно манипулируют логикой прихода Санта-Клауса в канун Рождества (он может спускаться по узким каминным трубам, а если камина нет, то есть прорезь для писем, а если нет и ее, то всегда есть щель под дверью), с пасхальным зайцем, Богом (рослый старец, седая борода, трон), Иисусом («Как, по-твоему, он превратил воду в вино?» – спросил я своего сына Джо, когда ему – Джо, а не Иисусу – было пять лет; по мнению Джо, у Иисуса имелось нечто «вроде волшебного «Кулэйда»[75], понимаешь»?), с Рональдом Макдоналдом, с Бургером Кингом, эльфами «Кибблера», Дороти и Тотошкой, Одиноким Рейнджером и Тонто[76] и тысячью других аналогичных персонажей.
В большинстве случаев родители переоценивают свою способность понимать эту открытость и стараются держать детей подальше от всего, что связано со страхом и ужасом, – «рекомендовано к просмотру с родителями (или «без возрастных ограничений», как в случае «Штамма “Андромеда”» [The Andromeda Strain]), но действие может оказаться слишком напряженным для детей младшего возраста», как гласит реклама «Челюстей»; по-видимому, такие родители считают, что позволить детям пойти на настоящий фильм ужасов – все равно что принести гранату в детский сад.
Тут имеет место один из странных доплеровских эффектов: люди забывают, что процесс взросления заключается в том, что дети младше восьми лет способны испугаться чего угодно. В подходящем месте и в подходящее время дети боятся собственной тени. Рассказывают о четырехлетнем мальчике, который отказывался ложиться в постель без включенной лампы. Родители в конце концов поняли, что он боится существа, о котором часто говорил отец; существом оказался вечерний бейсбольный матч с искусственным освещением[77].
В свете этого кажется, что даже фильмы Диснея представляют собой минные поля ужаса, и хуже всего те из них, что, по-видимому, будут демонстрироваться до конца времен[78]. По сей день встречаются взрослые, которые на вопрос о том, что в детстве показалось им самым страшным, ответят: сцены, когда мать Бемби убивает охотник или когда Бемби с отцом убегают от лесного пожара. Другие кадры диснеевских фильмов, которые сравнимы с ужасом обитателя Черной лагуны, это марширующие метлы, вышедшие из-под контроля в «Фантазии» [Fantasia] (на самом деле для маленького ребенка истинный ужас ситуации – подразумеваемые отношения отец – сын между Микки-Маусом и старым колдуном; метлы все приводят в полный беспорядок, а когда колдун/отец вернется, последует НАКАЗАНИЕ… Такая сцена вполне может вызвать у ребенка строгих родителей приступ ужаса); ночь на Лысой горе из того же фильма; колдуньи из «Белоснежки» [Snow White] и «Спящей красавицы» [Sleeping Beauty], одна с соблазнительно красным отравленным яблоком (а какого ребенка не приучают с самого младшего возраста бояться яда?), другая – со смертоносным веретеном; так можно продолжать до относительно безвредных «Ста одного далматинца» [One Hundred and One Dalmatians], в котором выступает внучка диснеевских ведьм 30–40-х годов – злобная Стервелла де Виль, с отвратительным костлявым лицом, громким голосом (взрослые иногда забывают, как пугаются дети громкого голоса даже своих родителей) и зверским планом убить всех щенят-далматинцев (настоящих «детей», если вы сами ребенок) и пошить из них шубы.
И все же именно родители гарантируют выпуски и перевыпуски диснеевских фильмов; при этом у них самих бегут по спине мурашки, когда они вспоминают, как дрожали от ужаса в детстве… потому что хороший фильм ужасов (или жуткие эпизоды в «комедии» либо «мультфильме»), помимо всего прочего, сбивает нас со взрослых подпорок и возвращает в детство. И тут наша собственная тень снова может превратиться в злобного пса, зияющую пасть или манящую темную фигуру.
Возможно, наиболее четко осознание этого возвращения к детству приходит в удивительном фильме ужасов Дэвида Кроненберга «Выводок» [The Brood], в котором обеспокоенная женщина буквально рожает «детей гнева», одного за другим убивающих членов ее семьи. В середине фильма отец сидит в отчаянии в комнате на верхнем этаже, пьет и оплакивает жену, которая первой испытала на себе гнев этого выводка. Мы видим саму кровать… и неожиданно из-под нее показываются когтистые руки и впиваются в пол рядом с туфлями обреченного отца. Так Кроненберг возвращает нас в прошлое: нам снова четыре года, и оправдались наши самые мрачные догадки о том, что может прятаться под кроватью.
Ирония заключается в том, что дети гораздо лучше взрослых приспособлены к тому, чтобы иметь дело с фантазией и ужасом на собственных условиях. Слова «на собственных условиях» я выделил курсивом не просто так. Взрослый способен справиться с катастрофическим ужасом – вроде «Техасской резни бензопилой», – потому что понимает: все это не по-настоящему; когда съемки кончатся, мертвецы встанут и пойдут смывать сценическую кровь. Дети не способны провести такое различие, и «Резня» вполне справедливо отнесена к категории R[79]. Детям действительно такие сцены ни к чему, как ни к чему им и заключительные кадры «Ярости» [The Fury], где Джона Кассеветиса буквально разрывает на куски. Но если вы посадите в первый ряд смотреть «Резню» шестилетнего ребенка и взрослого, который временно теряет способность различать вымышленные и «реальные» вещи (как выражается Дэнни Торранс, маленький герой «Сияния» [The Shining]) – допустим, вы дали взрослому за два часа до сеанса дозу ЛСД, – я полагаю, ребенку неделю будут сниться кошмары. Взрослый же проведет не меньше года в комнате с обитыми резиной стенами, откуда будет писать домой письма цветными мелками.
Определенная доля фантазии и ужаса в жизни ребенка присутствовать должна. Воображение помогает справиться с ними, а благодаря своему уникальному положению в жизни дети способны заставить такие чувства работать. К тому же они сами хорошо понимают уникальность своего положения. Даже в таком относительно упорядоченном обществе, как наше, им ясно, что их выживание практически не зависит от них самих. Дети до восьми лет «зависимы» во всех смыслах этого слова; от отца и матери (или какого-нибудь их подобия) зависит не только наличие пищи, одежды и жилища, но и то, что машина не попадет в аварию, что они вовремя сядут на школьный автобус, что их приведут домой из «Каб-скаутс»[80]











