Читать онлайн Воспоминания о России. Страницы жизни морганатической супруги Павла Александровича. 1916—1919
- Автор: Ольга Палей
- Жанр: Биографии и мемуары, Зарубежная публицистика
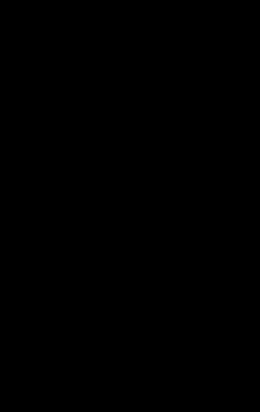
Princesse Paley
Souvenirs de Russie
1916–1919
© Перевод, «Центрполиграф», 2023
© Художественное оформление «Центрполиграф», 2023
I
Прежде чем обратиться к печальным и ужасным событиям 1917, 1918 и 1919 годов, я хочу начать со светлого момента, с воспоминания о невыразимом счастье, каким стало наше пребывание в Крыму в октябре 1916 года. Война была в самом разгаре. Великий князь[1] с июня командовал 1-м гвардейским корпусом[2], а мой любимый сын, мой дорогой Владимир[3], после двадцати месяцев в окопах, был только что определен к своему отцу адъютантом. В течение лета два эти самых любимых мною существа ежедневно подвергались величайшим опасностям.
Германцы, которые были в курсе всего, прекрасно знали, в каком месте находится великий князь, и непрерывно с ожесточением обстреливали дом, в котором он укрывался. Чтобы дать представление об интенсивности их бомбардировок, скажу, что за два часа они выпустили семьдесят снарядов по деревне Сокуль, где великий князь и его штаб вынуждены были провести много дней в подземном убежище.
Я тем временем вместе с дочками[4] находилась в Царском Селе, во дворце, который мы только достроили и в котором поселились в мае 1914 года, за два месяца до войны. В бальной зале, которую мы – увы! – мечтали использовать по-другому, разместилась благотворительная мастерская, патронессой которого была императрица, а основательницей и председателем я…
В сентябре 1916 года, после двух лет напряженной работы и усилий по добыванию средств и материалов, я была очень утомлена, и врач великого князя, верный Обнисский, ухаживавший за ним с преданностью, которая выше любых похвал, нашел, что отдых в хорошем климате пойдет мне на пользу. О поездке за границу не могло быть и речи, поэтому мы решили отправиться в Крым, где я никогда не бывала, но часто слышала о нем, как о чудесном крае.
10/23 октября[5] я выехала с дочерьми и довольно многочисленной прислугой в Симеиз, расположенный в полусотне километров от Севастополя. Дорога от Байдарских Ворот, несомненно, являла прекраснейшее зрелище из всех, что я видела в жизни, кроме, однако, греческого театра Таормины. Дорога из Севастополя в Симеиз напоминает дорогу по Большому Карнизу, только на ней еще больше изгибов, с одной стороны – сапфирово-синее море, с другой над дорогой нависают скалы, готовые, кажется, в любой момент сорваться. В Симеизе мы сняли этаж в доме у друзей и очень удобно там расположились, ожидая со дня на день приезда великого князя и моего сына. День, когда они приехали, за которым так быстро наступили мрачные и зловещие дни, кажется мне мгновением моего величайшего счастья.
Мы провели в Крыму три недели, из которых десять дней с нашими дорогими героями войны. Великого князя сопровождали его верный адъютант и друг на протяжении двадцати одного года, генерал Ефимович, и доктор Обнисский. Мы совершали продолжительные прогулки на автомобиле. Обычно конечным пунктом наших поездок становилась Ялта, потому что моя дочь Наталья, несмотря на летнюю погоду, заболела гриппом, и я опасалась слишком удаляться от Симеиза.
К этому времени относится случай, доказывающий, что телепатия не пустой звук. В 1914 году мы оставили в Париже многих дорогих нам друзей, и в их числе маркиза де Бретея. В феврале 1916 года я получила от него письмо, на которое не нашла времени ответить немедленно и о котором, признаюсь, забыла. Однажды вечером в Крыму, когда Наталье стало хуже и я сидела возле ее постели, я решила написать несколько писем, чтобы справиться с накатывавшей на меня сонливостью. И вдруг ощутила настоятельную потребность написать Анри де Бретею. Я рассказывала ему о тысяче разных вещей, сообщала подробности о войне, о деятельности великого князя, о себе самой… Через три недели я получила письмо в конверте с черной каймой. Маркиза де Бретей извещала меня о кончине мужа и добавляла, что мое письмо было датировано днем его смерти.
Однажды утром я гуляла по парку Симеиза, когда неожиданно какая-то женщина бросилась к моим ногам и, рыдая, обхватила их. Когда прошло первое изумление, я подняла ее и спросила причину столь внезапного порыва. Она рассказала мне печальную историю. Женщина принадлежала к еврейской семье и проживала в Туркестане. У ее брата, врача в Ташкенте, была молодая красивая жена, которую он обожал, и четырнадцатилетняя дочь, которую он боготворил. Курды ворвались в его дом, связали обеих женщин, заткнули им рот кляпами и силой увезли. Прошло четыре месяца, а о пленницах не было никаких известий, но активные поиски доктора убеждали его в том, что их где-то прятали, чтобы затем продать в какой-нибудь гарем в Турции. Я, как могла, утешила несчастную женщину и в тот же день написала в Царское Село императрице, которая ответила мне три дня спустя телеграммой, что отдала официальный приказ генералу Куропаткину, генерал-губернатору Туркестана, найти жертв и покарать виновных. Через несколько дней Куропаткин прислал мне длинную телеграмму, обещая сделать все, что в человеческих силах. Та дама написала мне в декабре, что розыски активизировались и что удалось выйти на след двух несчастных. Она добавила, что ее семья никогда не забудет этого благодеяния. Из-за последовавших затем печальных событий я больше не слышала о ней, а рассказала об этом незначительном происшествии лишь для того, чтобы еще раз доказать, что преследования евреев по распоряжениям правительства и государя – чистейшая выдумка. Когда речь шла о защите слабых, императрица без колебаний вступала в дело, не обращая внимания на религию и национальность.
Во время нашего пребывания в Крыму мы неоднократно посещали Ливадийский дворец, который император и императрица построили по своему вкусу. Вид на море оттуда открывался великолепный, парк был засажен вековыми деревьями, но само здание было уродливым. Внутри, в декоре псевдомавританского стиля, стояла английская мебель в стиле мейпл или массивные кресла в стиле Людовика XIV. Огромная столовая зала, трапезная, была декорирована тяжеловесными и малохудожественными элементами. Только выложенный черно-белой плиткой маленький итальянский дворик, ведущий в домовую церковь, был бы симпатичным, если бы его не поместили в эту смесь стилей, эпох и цветов.
Недалеко от этого современного дворца стоял старый дом, в котором великий князь жил в молодости с родителями и который был для него полон воспоминаний. Именно в нем 20 октября/2 ноября 1894 года умер император Александр III. Великий князь, я и трое детей с большим волнением вошли в комнату, где скончался этот великий монарх. Там царила величайшая простота. Кресло, в котором Александр III испустил дух, стояло на прежнем месте, а черный крестик, инкрустированный в паркет, был призван увековечить это воспоминание. Все там было спокойно, величественно, благородно и просто: как сам государь, который, будь он жив, сумел бы избежать революции и, возможно, даже войны. В стране его любили и боялись; его любили французы, чьим первым другом и союзником он был и кого вывел из затянувшейся изоляции. Его боялись все страны, даже Англия, что не могло не быть лестным для него и русской дипломатии его времени.
Владимир и девочки развлекались, фотографируя чудесные виды Тавриды, увы, слишком мало известной иностранным путешественникам. Погода стояла великолепная, дни были по-настоящему летними, а ночи теплыми. Нигде больше я не видела такой блестящей серебряной луны, отражающейся в темно-синем море. Шорох волн был как ласковый шепот. По вечерам мы часто покидали свои надушенные, хорошо освещенные, комфортабельные комнаты, где царило счастье, чтобы восхититься тем чарующим зрелищем, которые являет собой крымская ночь.
Однако время летело быстро, и предстояло покинуть этот прелестный уголок. Великому князю надо было вернуться в Ставку, где он только что получил назначение на пост инспектора гвардии, и мы решили сделать остановку на пути в Царское, чтобы осмотреть город Могилев; но главным было желание провести еще несколько дней с нашими дорогими и любимыми.
Накануне дня, намеченного для нашего отъезда, мы получили телеграмму от ее величества императрицы-матери с приглашением заехать в Киев, расположенный у нас по пути, и пообедать с ней 14/27 ноября, в день ее рождения. Мы очень удобно устроились в вагоне, специально предоставленном в распоряжение великого князя и бывшем в высшей степени комфортабельным. По приезде в Киев мы решили не покидать этого вагона и не селиться в гостиницу. За нами, великим князем и мной, заехал автомобиль придворного ведомства. Императрица-мать приняла нас со свойственной ей любезностью и шармом, которые она передала своему августейшему сыну: не было человека, более умеющего очаровывать людей, чем император Николай II. В тот день у императрицы обедало не менее восьмидесяти гостей. Справа от императрицы сидел великий князь, а слева – великий князь Александр Михайлович[6]; я сидела слева от последнего. Мой сосед пригласил нас назавтра пообедать у него, «потому, – как он мне сказал, – хотел поговорить с нами о важных вещах». За тем же столом сидела и супруга князя Георгия Радзивилла (Бишетт)[7], приехавшая из Белой Церкви с фруктами и великолепными цветами, чтобы поздравить ее величество.
На следующий день великий князь, я и Владимир отправились к великому князю Александру, жившему в Киеве в качестве главного начальника авиации. У него имелась настоящая свита и штаб (в который входил принц Мишель Мюрат[8]). Обед прошел очень весело, а потом великий князь Александр пожелал остаться наедине с моим мужем и со мной. Он долго говорил с красноречием убежденного в своей правоте человека об огромной опасности, угрожающей монархии и, следовательно, всей России. Он поделился с нами своими претензиями к императору и особенно к императрице. По мнению великого князя Александра, главной причиной всех бед являлся Распутин, который в тот момент (за месяц до своей гибели) был всемогущим. Он поделился с нами слухами о непристойном поведении старца, о немилости генерала Джунковского, осведомленного о том в силу своего положения (Джунковский был шефом жандармов) и пытавшегося открыть глаза государю. Назначение по протекции Распутина Штюрмера на место Сазонова[9] еще больше возбудило умы. Само имя Штюрмера было ненавистным, поскольку он был немецкого происхождения, а национальный шовинизм в то время достиг наивысшей точки. Великий князь Павел, которому великий князь Александр не сообщил ничего нового, выслушал его очень внимательно и спросил, с какой целью он начал этот разговор. Великий князь Александр ответил ему, что вся фамилия рассчитывает на него как на ближайшего и самого любимого родственника, а также единственного живого дядю императора.
– По приезде в Петроград, – сказал он, – ты должен немедленно увидеть их величества и поговорить с ними со всей откровенностью и от всего сердца. Мой брат Николай Николаевич переговорит с тобой сразу после твоего возвращения в город. Вы должны собрать семейный совет с моими братьями и Владимировичами (тремя сыновьями покойного великого князя Владимира[10]), поскольку в самое ближайшее время события резко ускорятся и увлекут всех нас в пропасть.
Мы, великий князь и я, были крайне взволнованы этим разговором с великим князем Александром, содержание которого я передаю в самом сжатом виде. Мы, не решаясь признаться в том самим себе, давно уже чувствовали, как опасность возрастает с каждым днем. Слишком много пугающих примет подтверждали наши страхи. Война породила слишком много недовольных и несчастных. Слишком большие потери разбивали сердца и лишали дома кормильцев. Стоимость жизни росла ежедневно. В армии лучшие, наиболее подготовленные, наиболее преданные императору войска были выбиты в 1914-м в Восточной Пруссии, в 1915-м в Карпатах и в 1916-м в Волыни. Новые контингенты оказались заражены революционными идеями, которые распространяла в то время партия кадетов (конституционных демократов). Гг. Милюков, Керенский, Гучков и Кº не упускали ни единого случая, чтобы подкопаться под основы трона. Разве не сказал Гучков: «Пусть лучше Россия проиграет войну, лишь бы больше не было самодержавия»?.. Присутствие при дворе Распутина являлось для них превосходным предлогом. Не было таких ужасов и такой клеветы, которые не высказывались бы о нашей несчастной государыне. Она не хотела верить в то, что такая подлость возможна. Для нее до самого конца Распутин оставался святым, мучеником, оклеветанным, преследуемым, подобно святым первых веков христианства.
16/29 ноября мы выехали из Киева в Могилев, где великий князь со свитой вновь поселился в доме, снятом им после назначения командиром гвардейского корпуса. Я и девочки остались в вагоне, служившем нам домом. Мы прожили в нем неделю. Императрица с детьми приехала навестить императора. Нас предупредили, что 22 ноября (по старому стилю) император, императрица, четыре великие княжны и наследник цесаревич придут к нам в четыре часа пить чай. Какое волнение! Наш замечательный шеф-повар принялся готовить тысячу разных видов сэндвичей, печений и пирожных, в которых он был великим мастером, а я и Владимир отправились на поиски конфет и редких фруктов. Был установлен огромный стол, поскольку нас было много. В назначенный час приехала вся императорская семья. Император был немного бледен и выглядел усталым, императрица, красивая, улыбающаяся, очень яркая. Наследник цесаревич, с его очаровательным тонким лицом, поразил меня своей хрупкостью. Мое внимание привлекла его тонкая шея. Казалось, ее можно обхватить двумя пальцами. Четыре юные великие княжны, немного робея, сели в конце стола вместе с великим князем Дмитрием, сыном великого князя Павла от его первого брака с греческой принцессой Александрой, Владимиром, нашими девочками и свитой великого князя. В качестве хозяйки дома я сидела во главе стола, передо мной были расставлены чашки и самовар, справа от меня села императрица, слева – император. Великий князь сел рядом с императрицей. Чаепитие прошло весело. Императрица пожелала узнать мое впечатление о Ливадийском дворце, и я разрывалась между желанием сказать правду и боязнью обидеть ее. Император пришел мне на помощь и со смехом сказал:
– У княгини в Царском самый красивый в мире дом, настоящий музей. И что ты хочешь, чтобы она сказала о нашем доме, где мы смешали понемножку все, что нам нравится, и в котором нет никакого стиля.
Тем временем молодежь перешла в гостиную, и Владимир, всегдашний заводила, организовал игры. Не было никакого стеснения, никакого смущения. Слышались их смех и крики, и маленький цесаревич, казалось, веселится от всей души. Родители с большим трудом сумели увести его в семь часов вечера.
В тот день я видела моих любимых государей в последний раз, потому что позже, в марте 1917 года, видала их лишь издали, через решетку парка, когда они стали узниками отвратительного Временного правительства.
Могла ли я в тот счастливый день подумать, что не только сама пострадаю за священную особу императора и за его семью, за принцип, попранный ногами негодяев, но и два года спустя сердце мое разорвет самая страшная боль, боль любящей женщины и боль матери, от которой отрывают, чтобы отправить на мученическую смерть, ее обожаемого ребенка?..
II
Во время нашего пребывания в Могилеве великий князь Дмитрий, состоявший при императоре, часто приходил к нам обедать и ужинать. Будучи полностью в курсе всех военных дел и всех дел Ставки, наделенный замечательным умом, способностью схватывать факты и делать из них необходимые выводы, он в свои двадцать пять лет был зрелым наблюдательным человеком. Он тоже видел прямую угрозу Отечеству и много раз беседовал на эту тему с императором и со своим отцом. Помню, в Могилеве он однажды сказал мне за чаем:
– Ах, мамочка, если бы вы знали, что скоро произойдет.
Сколько бы я ни настаивала, он отказался сказать больше. Мы это узнали через три недели.
Мы вернулись в Царское 25 ноября (по старому стилю) и, едва вошли в свой прекрасный дом, как великому князю была дарована великая и – увы! – последняя почесть. Он был награжден орденом Святого Георгия с подробным описанием в рескрипте его заслуг, что было для него большой честью. Меня всегда удивляло, почему император, видевший великого князя за сорок восемь часов до того, не объявил ему эту новость лично. Эта награда была мечтой каждого русского офицера.
Великий князь не забыл обещания, данного великому князю Александру. Семейный совет состоялся у великого князя Андрея, в его дворце на Английской набережной, и там было решено, что великий князь, как старший в семье и любимец их величеств, должен принять на себя тяжкую задачу выступить от имени всех. Я видела, что великий князь сильно озабочен. Он полностью отдавал себе отчет в сложности и неблагодарности возложенной на него задачи и в том, сколь мало у него шансов добиться успеха. Тем не менее, как только 3/16 декабря императорская семья вернулась в Царское, он попросил аудиенции и был принят в тот же день, во время чаепития.
С сильно бьющимся от волнения сердцем я ждала его два долгих часа. Наконец, около семи вечера, он приехал, бледный, с искаженным лицом и влажными руками.
– На мне нет ни одной сухой нитки, – с трудом произнес он, – и я совершенно потерял голос.
Он говорил тихо. Несмотря на мое желание узнать, как все прошло, я упросила его отдохнуть и отложить на более позднее время отчет о его беседе. Только после ужина, на котором присутствовали дети и гувернантка, великий князь поведал нам, мне и Владимиру, что было сказано во дворце: едва допив чай, великий князь начал рисовать императору мрачную картину текущей ситуации; он говорил о германской пропаганде, становившейся с каждым днем все более дерзкой и наглой, о ее разлагающем воздействии на войска, в рядах которых постоянно арестовывают подстрекателей к беспорядкам, порой даже офицеров. Он рассказал о возбуждении петроградского и московского общества, где голоса звучали все громче, а критика все язвительнее. Говорил о недовольстве народа, вынужденном выстаивать очереди за хлебом, цена которого выросла втрое. Наконец, он подошел к самому деликатному, самому трудному пункту, тем более трудному, что великий князь, как истинный патриот, желал лишь блага России и, в данном случае, жертвовал ради него традициями и своими личными убеждениями. Он сказал, что собравшийся семейный совет поручил ему почтительно попросить его величество даровать конституцию, «пока еще не поздно»! Это стало бы доказательством того, что государь идет навстречу желанию народа.
– Вот, – сказал великий князь, возбуждаясь, – вот прекрасный случай. Через три дня – 6 декабря, Николин день. Объяви в этот день о даровании конституции, отставке Штюрмера и Протопопова[11], и ты увидишь, с каким восторгом, с какой любовью будет тебя приветствовать твой народ.
Император задумался. Потом, стряхнув пепел с папиросы, пока императрица отрицательно качала головой, произнес следующие слова:
– Ты требуешь от меня невозможного. В день коронования я присягнул охранять самодержавие. Я должен сохранить его в целости для моего сына.
Видя, что его миссия провалилась и любая новая попытка будет бесполезной, великий князь перешел к другой теме:
– Ладно! Если ты не можешь даровать Конституцию, дай хотя бы министерство общественного доверия, потому что, повторяю тебе, Протопопов и Штюрмер ненавистны всем.
В этот момент, собравшись с мужеством, великий князь объяснил, что назначение этих двоих министрами критикуют тем больше, что знают, что оно устроено Распутиным. Потом великий князь заговорил с императором и императрицей о том негативном влиянии, которое обоснованно приписывали старцу. Император замолчал и курил, не произнося ни слова. Тогда заговорила императрица. Она говорила долго, эмоционально, часто поднося руку к сердцу, как будто оно у нее болело. Для нее Распутин был не кем иным, как оклеветанной жертвой тех, кто ему завидовал и желал бы занять его место. Он был другом, молившимся Богу за них и их детей. Что же касается принесения в жертву министров, которыми они довольны, ради того, чтобы понравиться нескольким индивидуумам, об этом не могло быть и речи. В общем, великий князь потерпел поражение по всему фронту, потому что на все свои просьбы получил полный отказ. Я искренне желала, чтобы подобных разговоров не было вовсе, потому что опасалась за нервы и хрупкое здоровье великого князя.
6 декабря, в день тезоименитства императора, великий князь был принят во дворце как ни в чем не бывало, как будто не состоялось никакого разговора. В этот памятный и печальный день 6/19 декабря было разбито много надежд, потому что прошел слух, что император выступит в Думе если не с объявлением конституции, то с провозглашением создания правительства доверия. Ничего подобного не произошло, и 7/20 декабря император и великий князь выехали в Ставку.
III
После отъезда великого князя я с новым пылом вернулась к работе в благотворительной мастерской. Вокруг меня собирались офицерские жены, жившие в Царском и даже в Петрограде дамы. Разговоры за вечерним чаем зачастую вращались вокруг событий дня и внутренней политики страны. Рассказывали, будто у Протопопова, страдающего от неприличной болезни, случаются настоящие приступы безумия. Прежний лидер левых совершил резкий поворот, сочтя более выгодным стать на сторону правительства. Его презирали и ненавидели все. Его подозревали в том, что он вел в Стокгольме предварительные переговоры о сепаратном мире с Люциусом[12] и германскими банкирами. Общественное мнение в тот момент было абсолютно солидарно с государем в желании вести войну до победного конца. Своим быстрым возвышением Протопопов был обязан Распутину, отчего уверенность в том, что последний является платным агентом Германии, только укрепилась. Именно данная убежденность привела к драме в Юсуповском дворце в ночь с 16/29 декабря, драме, о которой я расскажу то, что узнала в то время и которую считаю началом революции.
Я уже рассказывала, что настроение возбужденных умов было очень левым. Имена Распутина, председателя Совета министров Штюрмера, министра внутренних дел Протопопова, дворцового коменданта генерала Воейкова и ближайшей подруги императрицы г-жи Вырубовой произносились не иначе как с зубовным скрежетом. Некоторые сочувствовали государю и государыне из-за того, что у них такое дурное окружение, другие объявляли их виновными в том, что приблизили к себе лиц, недостойных их доверия. Однако Богу известно, как искренни были император и императрица в своем желании сделать свой народ счастливым! Как они, не жалея сил и времени, посещали госпитали и делали все, что было в их силах, чтобы облегчить страдания несчастных! Я сотню раз видела императрицу и четырех ее дочерей за работой в госпитале. Ни у кого не было большей доброты, большей самоотверженности! Она присутствовала при самых тяжелых операциях, делала вызывающие самое сильное отвращение перевязки. И ни один из тех, за кем она ухаживала, кого лечила, не пришел ей на помощь. Никто не пролил за нее свою кровь, которая переставала течь после ее перевязок.
Вечером в субботу 17/30 декабря в городской управе Царского давали концерт. Великий князь с 7/20 декабря находился в Могилеве, а Владимир, у которого болело горло, не мог его сопровождать. В тот вечер он почувствовал себя лучше и попросился сходить со мной на концерт. Около восьми часов вечера раздался телефонный звонок, и через несколько мгновений Владимир ворвался в мою туалетную комнату.
– Старец мертв, – сказал он. – Мне только что сказали об этом по телефону; господи, теперь можно вздохнуть свободнее! Подробности пока не известны. Во всяком случае, он исчез из своего дома двадцать четыре часа назад; возможно, что-нибудь узнаем на концерте.
Я никогда не забуду этот вечер. Никто не слушал ни оркестр, ни артистов. Новость распространилась с быстротой пламени по пороховой дорожке. В антракте я заметила, что взгляды собравшихся устремлены на нас, но была слишком далека от истины, чтобы понять причину этого. Наконец, ко мне подошел Яков Ратьков-Рожнов[13] и, явно имея в виду главное событие дня, сказал:
– Говорят, дело сделали представители самой высшей аристократии; называют имена Феликса Юсупова, Пуришкевича и… великого князя…
У меня сжалось сердце. Я знала о давней дружбе, связывавшей великого князя Дмитрия и князя Юсупова, женатого на красавице княжне Ирине, кузине Дмитрия[14].
– Господи, только бы не он! – прошептала я.
Владимир подошел ко мне сообщить те же детали, и к концу вечера имя великого князя Дмитрия было у всех на устах.
Мы вернулись домой в половине первого ночи; ожидавший нас дежурный лакей сообщил мне, что из Петрограда телефонировала княгиня Кочубей, супруга князя Виктора[15], умолявшая меня перезвонить ей, невзирая на время. Как только княгиня Кочубей ответила на звонок, она сразу же спросила меня:
– Где твой сын Владимир?
– Здесь, рядом со мной, – удивленно ответила я.
– Слава богу! Прошел слух, будто это он убил Распутина, будто он арестован, и я дрожала от страха за тебя. Всего хорошего, спокойной ночи.
Видимо, слухи спутали двух единокровных братьев.
На следующий день доктор Варавка, лечивший Владимира, зашел к нам и, смеясь, рассказал, что на вопрос: «Арестован ли Владимир?» – он ответил:
– Да, по моему приказу, поскольку у него сильная ангина, и он уже неделю не выходил из своей комнаты.
На следующий день, в воскресенье, вся Россия и весь мир узнали об исчезновении Распутина. Его семья, встревоженная тем, что он не возвращается домой, и, зная, что он уехал с князем Феликсом Юсуповым, известила полицию. Выстрелы во дворце на Мойке привлекли внимание прохожих и вызвали подозрения одного городового. Императрица, охваченная страшным предчувствием, отдала самые суровые распоряжения, чтобы отыскать тело Распутина. Все его почитательницы пребывали в состоянии неописуемой ярости[16]. Я несколько раз телефонировала Дмитрию и, не говоря ему, что было названо его имя, держала его в курсе всего, что говорилось. Мой муж должен был вернуться на следующий день, в понедельник. К одиннадцати часам я приехала на царскосельский вокзал на автомобиле, чтобы встретить его и привезти домой. Едва мы остались вдвоем в машине, он сказал мне:
– Что это за слухи об убийстве старца? Кто его убил? Вчера в Могилеве называли имя графа Стенбока.
Заметив мой растерянный вид, мое волнение, он взял меня за руку и спросил:
– Ну, в чем дело? Скажи, что с тобой? Да говори же…
Я, едва дыша, пробормотала:
– Говорят, что это были Феликс Юсупов, Пуришкевич и… Дмитрий.
Великий князь так побледнел, что я решила, что он лишится чувств.
– Это невозможно! Я хочу вернуться в поезд, увидеть Дмитрия и поговорить с ним. Мне, своему отцу, он скажет все.
Мне стоило огромного труда убедить его отдохнуть, привести себя в порядок и переговорить с великим князем Дмитрием по телефону или же вызвать его в Царское Село. Едва войдя в дом, он позвал своего сына к аппарату и сказал, чтобы тот немедленно приехал. Дмитрий ответил, что по приказу императрицы генерал Максимович[17] посадил его под домашний арест в его собственном дворце и что он просит отца приехать к нему в Петербург[18].
В этот момент я узнала, что тело Распутина найдено в проруби на Неве, возле Елагина моста, на островах, и сообщила эту новость великому князю Дмитрию, которого она, похоже, огорчила. Думаю, никогда еще телефон не работал так много, как в тот день!
Было решено, что великий князь и я завтра отправимся к Дмитрию обедать, но его отец поедет первым, чтобы поговорить с сыном тет-а-тет.
У дверей были выставлены часовые, но они пропустили великого князя, как и меня час спустя. Первыми словами великого князю Дмитрию были:
– Я знаю, что ты связан данным словом, и не задам тебе ни единого вопроса. Скажи мне только, что ты его не убивал.
– Папа, – ответил Дмитрий, – клянусь тебе могилой моей матери, что на моих руках нет крови.
Великий князь вздохнул с облегчением, потому что на сердце у него была большая тяжесть. Дмитрий был тронут до слез благородным поведением отца, который, не задавая ему ни единого вопроса, верил данному слову. Я, как и было условлено, приехала в половине первого дня, и во время обеда не было ни единого намека на драму. Однако все трое мы оставались серьезными и собранными.
Думаю, все еще помнят подробности этого ужасного дела, и мне бы хотелось говорить о нем как можно меньше. Молодой князь Феликс Юсупов заехал за Распутиным и пригласил на ужин, на котором присутствовали великий князь Дмитрий, Пуришкевич, доктор последнего[19] и офицер по фамилии Сухотин. В портвейн и пирожные положили яд, но отрава не подействовала, и Распутин остался жив. Сотрапезники поднялись на верхний этаж, и Распутин остался наедине с Юсуповым… Распутин был убит выстрелами из револьвера, его тело вывезено на автомобиле и сброшено в прорубь на Неве возле Елагина моста. Подобный акт необъясним, особенно если знаешь законы гостеприимства, широко распространенные и священные в России, но в этом конкретном акте следует видеть высокую цель, поставленную организаторами: спасти государей вопреки им самим.
Очевидно, что, вернувшись в Царское, мы не говорили ни о чем другом. Мой муж сказал мне, что, не выспрашивая у сына имен участников акта, он спросил, какая цель побудила его принять в нем участие. Дмитрий признался, что главной целью было открыть императору глаза на истинное положение вещей.
– Я надеялся, – ответил он, – что мое имя в этом деле освободит императора от трудной задачи удаления Распутина от двора; император сам не верил в божественное влияние Распутина ни на своего сына, ни на политические события; он понимал, что удалить его самостоятельно означало бы вызвать конфликт с императрицей. Я надеялся, что, избавившись от влияния Распутина, император станет на сторону тех, кто видел в старце первопричину многих бед, например назначение бездарных министров, влияние при дворе темных сил и т. д.
Затем муж поделился со мной тем ощущением, изумившим его и подтверждавшим мысли его сына. Как я уже говорила ранее, он покинул Могилев в воскресенье, около семи часов вечера. В тот день он в пять часов пил чай с государем и был поражен, не понимая причины того, выражением спокойствия и безмятежности на лице императора, который был весел и в отличном настроении, в каком не бывал уже давно. Очевидно, что императрица постоянно держала его в курсе событий, о которых он знал все, вплоть до того, что подозрения падали на Юсупова и Дмитрия. Император ни слова не сказал об этом великому князю Павлу, который позднее объяснил улыбчивость императора внутренней радостью, испытанной им от того, что он, наконец, избавился от присутствия Распутина. Слишком любя жену, чтобы идти наперекор ее желаниям, император был счастлив тем, что судьба избавила его от этого сильно тяготившего его кошмара.
Когда тело Распутина было найдено, императрица приказала доставить его в Чесменскую богадельню, на пятой версте между Петроградом и Царским, где тело было забальзамировано и помещено в часовню. Г-жа Вырубова и другие почитательницы Распутина дежурили возле тела. Императрица с дочерьми приезжала помолиться и долго плакала. Она положила на грудь Распутина икону, на обратной стороне каждая из них расписалась: Александра, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Анна (г-жа Вырубова). Позднее, после революции, когда тело Распутина было извлечено из могилы и сожжено, а пепел развеян по ветру, один американский коллекционер купил эту икону за очень большие деньги. Любопытно отметить, что этот странный и загадочный человек прошел через четыре элемента: воду, землю, огонь и ветер.
Три дня спустя, в три часа ночи, в парке Царского, возле арсенала, неподалеку от станции Александровская, состоялись похороны Распутина. Император, министр Протопопов, генерал Воейков и офицер по фамилии Мальцев несли гроб. Императрица пребывала в сильной скорби. Так закончилась драма, на которую многие смотрели как на избавление для страны, но которая стала прелюдией к величайшей трагедии.
IV
Императрица заставила императора сурово наказать виновных; однако наиболее виноватый Феликс Юсупов отделался ссылкой в одно из своих имений, тогда как великий князь Дмитрий получил приказ отправиться в Персию в сопровождении адъютанта императора графа Кутайсова, генерала Лайминга, приставленного к его особе, и своего лакея. Вплоть до самого отъезда великий князь Дмитрий находился под арестом в своем петроградском дворце, ему было запрещено принимать посетителей и выходить. В ночь с 23 декабря/5 января он уехал, и никто, даже отец, не смог его обнять и попрощаться с ним.
В императорской фамилии и в городе царило сильное возбуждение. Семья решила подать императору петицию, в которой умоляла его не проявлять суровости к Дмитрию и не ссылать его в Персию по причине его слабого здоровья.
Текст прошения составила я. Это изгнание казалось в тот момент верхом жестокости, а Богу было угодно, чтобы оно спасло драгоценную жизнь Дмитрия, ибо те, кто остался в России, пали от рук монстров-большевиков в 1918 и 1919 годах.
Петиция была подписана греческой королевой Ольгой, бабушкой Дмитрия[20], великим князем Павлом и всеми членами императорской фамилии. Ознакомившись с этой бумагой, император начертал на полях: «Никому не дано право заниматься убийством, и я удивлен, что семья обращается ко мне с подобными просьбами. Подписано: НИКОЛАИ». И вернул петицию великому князю Павлу. Этот исторический документ хранился в моем доме в Царском Селе, где им завладели бандиты. Не знаю, что с ним стало.
Приближались рождественские праздники. У нас, в Царском, посреди бальной залы, была поставлена огромная елка, увешанная конфетами, фруктами и подарками. В благотворительной мастерской наступили несколько дней отдыха, и швейные машинки со столами исчезли. Великая княжна Мария, дочь великого князя Павла от его первого брака, которая после своего развода со шведским принцем Вильгельмом жила в России и держала в Пскове свой госпиталь, где трудилась с восхитительным рвением, приехала 22 декабря проститься с братом, которого обожала, и провести с нами Рождество.
Я и сейчас вижу эту красавицу елку, веселые лица детей, радующихся такому количеству подарков, и печальные лица, полные слез глаза великой княжны Марии, Владимира, моих дочерей: графини Ольги Крейц и Марианны Дерфельден.
Около половины двенадцатого вечера вся семья: моя мать, моя сестра, мои племянницы и мой сын Александр – сели в поезд на город, а я, ложась в постель, даже не догадывалась, какую новость получу по пробуждении. В восемь часов утра в день Рождества горничная вошла ко мне с запиской с пометой «срочно» от моей дочери Марианны. Она признавалась мне, что в день отъезда Дмитрия не сумела устоять перед желанием в последний раз проститься с ним и в час ночи, то есть за час до его отъезда, нарушила приказ и проникла в апартаменты молодого великого князя[21]. Она оставалась с ним, проводила до двери его дома, который он покидал навсегда, и вернулась к себе. На следующий день, 24 декабря, по возвращении из Царского, по приказу министра внутренних дел Протопопова моя дочь была арестована, а ее корреспонденция была крайне грубо осмотрена. Она писала мне через доверенное лицо, чтобы я не волновалась, что она ни в чем не испытывает недостатка и собирается воспользоваться этими несколькими днями вынужденного отдыха, чтобы заняться своим здоровьем. Я немедленно поставила в известность великого князя, и мы, великая княжна Мария и я, решили отправиться на автомобиле в Петроград повидать Марианну и остаться с ней. Приехав на Театральную площадь, 8, где жила моя дочь, мы наткнулись на двух часовых, которые пропустили нас, записав наши имена. Мы нашли у Марианны весь Петербург! Едва знакомые с нею дамы приходили выразить ей свою симпатию. Находившиеся в отпуске офицеры целовали ей руку. Никто не понимал суровой меры против нее, чья вина заключалась лишь в том, что она пожала руку отправляющемуся в изгнание другу. Моя дочь приняла, очевидно, человек шестьдесят, пришедших к ней в знак протеста! Уверена, что приказ пропускать входящих был отдан только для того, чтобы записывать имена визитеров, которые тем самым становились подозрительными. Два дня спустя, по настояниям моего старшего сына и других лиц, Протопопов вернул ей свободу, что доказывает, что этот бессмысленный арест исходил не от государя и государыни, а был личной инициативой министра.
А ведь подобные мелочи вырывали пропасть между монархами и обществом… Сегодня каждый из нас отдал бы оставшиеся дни жизни, чтобы ничего этого не было, чтобы император и императрица были живы и царствовали для нашего всеобщего блага, чтобы красный кошмар, сдавивший и душащий умирающую Россию, превратился в дурной сон…
После отъезда Дмитрия отношения великого князя с императором и императрицей стали напряженными. Его больше не приглашали на чай, а визиты великого князя были посвящены исключительно служебным вопросам. Их величества, похоже, сердились на него за просьбу о помиловании для сына, а великий князь был обижен ответом на полях прошения.
Так прошел январь, и можно сказать, что дела ухудшались с каждым днем. Даже в газетах, несмотря на цензуру, чувствовалось глухое недовольство. Революционная пропаганда в резервных полках ширилась день ото дня. Английское посольство по приказу Ллойд Джорджа[22]стало очагом пропаганды. Либералы – князь Львов, Милюков, Родзянко, Маклаков, Гучков и другие – постоянно бывали там. Именно в английском посольстве было принято решение оставить легальные способы действий и свернуть на революционный путь. Следует сказать, что при этом сэр Джордж Бьюкенен, английский посол в Петрограде, утолял свои личные обиды. Император не любил его и держался с ним все более и более холодно, особенно с тех пор, как английский посол сблизился с его личными врагами. Когда сэр Джордж в последний раз испросил аудиенцию, император оставил его стоять, не предложив сесть. Бьюкенен поклялся отомстить, а так как он был очень тесно связан с одной молодой великокняжеской четой, ему пришла в голову мысль устроить дворцовый переворот… Но события зашли дальше его предположений, и он, вместе с леди Джорджиной[23]











