Читать онлайн Как проиграть в войне времен
- Автор: Амаль Эль-Мохтар, Макс Гладстон
- Жанр: Героическая фантастика, Зарубежная фантастика
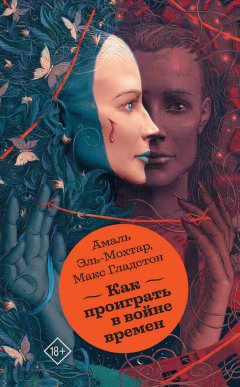
Тебе.
PS. Да, тебе.
Когда Рэд побеждает, она остается одна.
Ее волосы – слипшиеся от крови. Она выдыхает пар в последнюю ночь этого умирающего мира.
«Было весело», – думает она, но формулировка искажает мысль. Во всяком случае, было чисто. Поднимаешься по волокнам времени в прошлое и делаешь так, чтобы никто не выжил в сражении и не спутал карты будущего, подготовленного ее Агентством, – будущего, в котором правит ее Агентство, в котором возможна сама Рэд. Она здесь, чтобы завязать эту прядь истории узелком и запаять концы.
Она держит труп, прежде бывший человеком, погрузив руки в перчатках в его кишки, стиснув пальцы на литом позвоночнике. Она разжимает кулаки, и экзоскелет с лязгом валится на камни. Примитивная технология. Допотопная. Бронза против обедненного урана. У человека не было ни единого шанса. В этом – предназначение Рэд.
После миссии наступает великое и окончательное безмолвие. Оружие и доспехи складываются вокруг Рэд, как бутон розы на склоне дня. И когда лоскуты псевдокожи ложатся на место и срастаются, а программируемая ткань одежды на Рэд залатывается, она снова начинает сходить за женщину.
Она шагает по полю боя, выглядывает, перепроверяет.
Она победила, точно победила. Она даже не сомневается. Ведь не сомневается?
Оба войска повержены. Две великие империи налетели друг на друга, как корабли на рифы, и здесь же были разбиты. С этой целью она сюда и пришла. Из их пепла восстанут новые, более пригодные для целей ее Агентства. И все же.
На поле был кто-то еще – не абориген, как заякоренные временем трупы, устилающие путь Рэд, а настоящий игрок. Кто-то с другой стороны.
Мало кто из ее коллег-оперативников распознал бы это враждебное присутствие. Рэд чувствует его только потому, что она – одиночка, терпеливая, осторожная. Она готовилась к этому заданию. Мысленно моделировала все вдоль и поперек. Когда корабли оказывались не там, где должны были оказаться, когда не появлялись спасательные капсулы, которые должны были появиться, когда залпы раздавались на тридцать секунд позднее положенного, она замечала.
Дважды – еще совпадение. Трижды – действия противника.
Но почему? Рэд сделала все, что от нее требовалось, – так она думает. Но войны насыщены причинами и следствиями, вычислениями и притягивающими множествами – и в особенности войны во времени. Одна спасенная жизнь может обладать для противника большей ценностью, чем вся кровь, запачкавшая сегодня руки Рэд. Беглянка может стать королевой, или ученой, или, хуже того, поэтессой. Или дочь беглянки, или контрабандист, с которым она обменяется верхней одеждой в каком-нибудь далеком космопорте. Столько крови будет пролито впустую.
С опытом убивать становится проще, оттачивается механика и приемы. Но совершенные убийства остаются с Рэд навсегда. С другими агентами такого не происходит – или они лучше это скрывают.
Встречаться с Рэд в одно время на одном поле – это не похоже на игроков Сада. Им ближе покров темноты и беспроигрышные миссии. Но есть кое-кто, кто на это способен. Рэд знает ее, хотя они никогда не встречались. У каждого игрока – свой неповторимый стиль. И Рэд знаком этот алгоритм дерзости и риска.
Она может ошибаться. Но Рэд редко ошибается.
Обратить себе во благо всю колоссальную кровавую работу, проделанную Рэд, – ее противнику такой фокус пришелся бы по вкусу. Но одних подозрений мало. Рэд нужно найти доказательства.
И потому она бродит по мертвому полю победы и ищет семена своего поражения.
Дрожь сотрясает почву – поздно называть это землей. Планета умирает. Стрекочут сверчки – они пока еще живы на этой разлагающейся равнине среди поломанных кораблей и изувеченных тел. Серебристый мох пожирает сталь, а лиловые цветы оплетают мертвые ружья. Если бы планета протянула чуть дольше, то на вьюнках, проросших из трупных ртов, выросли бы ягоды.
Она не протянет, и ягоды не вырастут.
На островке выжженной земли она находит письмо.
Ему здесь не место. Здесь должны лежать груды тел, сваленных среди останков кораблей, когда-то бороздивших звездное небо. Здесь должны быть смерть, грязь и кровь успешно проведенной операции. Над головой должны рассыпаться на осколки луны, а на орбите – полыхать корабли.
Здесь не должно быть листа бумаги кремового цвета, практически чистого, не считая одной строки размашистым, беглым почерком: «Перед прочтением сжечь».
Рэд любит ощущения. Это ее фетиш. Сейчас она ощущает страх. И нетерпение.
Она была права.
Она всматривается в темноту в поисках своей охотницы, своей добычи. Она слышит инфразвуки, ультразвуки. Она жаждет контакта, жаждет новой, более достойной битвы, но она одна среди трупов и разгрома, наедине с письмом, которое оставил ей враг.
Конечно, это ловушка.
Стебли вьюнков ползут из глазниц, проникают в разбитые иллюминаторы. Как снег, падают хлопья ржавчины. Металл скрипит от натуги и лопается.
Это ловушка. Отравление кажется ей слишком топорным ходом, но она и не чувствует запаха яда. Возможно, в сообщении заложен ноовирус, который саботирует ее мысли, посеет импульс или просто запятнает Рэд подозрением в глазах ее коменданта. Возможно, когда она прочтет это письмо, Рэд возьмут с поличным и, прибегнув к шантажу, завербуют в качестве двойного агента. Ее враг коварен. Даже если это письмо – не более чем дебют в начале долгой шахматной партии, прочтя его, Рэд рискует навлечь на себя гнев коменданта, рискует показаться предательницей, если попадется на таком отступничестве.
Самым разумным и осмотрительным шагом было бы уйти. Но письмо – брошенная перчатка, и Рэд необходимо дознаться.
Она находит зажигалку в кармане мертвого солдата. Пламя отражается в глубине ее глаз. Поднимаются искры, падает пепел, и на бумаге проступают буквы, написанные все тем же размашистым, беглым почерком.
Губы Рэд кривятся: оскал, маска, улыбка охотницы.
Письмо обжигает пальцы, когда подпись обретает форму. Она позволяет бумаге пеплом опасть на землю.
Потом Рэд уходит, справившись и не справившись с заданием, спускается по косе времени домой, в заплетенное будущее, которое творит и сторожит ее Агентство. Она не оставляет после себя и следа, кроме пепла, руин и миллионов погибших.
Планета ждет своего конца. Да, растут вьюнки и стрекочут сверчки, но видят это только черепа – больше никого не осталось.
Сгущаются тучи. Вспыхивает молния, и поле битвы становится монохромным. Гремит гром. Если планета протянет до ночи, то ночью пройдет дождь, омоет стекло, еще недавно бывшее почвой.
Пепел, оставшийся от письма, догорает.
Тень подбитого боевого корабля искажается. Пустота заполняется.
Из тени выходит ищейка, ведет за собой другие тени.
Ищейка молча обводит взглядом последствия битвы. Ее глаза остаются сухими, но этого никто не видит. Она шагает мимо обломков, деловито переступая через тела: она перемещается по витой спирали, удостоверяясь с помощью мастерски отточенных техник, что никто не преследовал ее, пока она добиралась сюда безмолвными тропами.
Земля дрожит и раскалывается.
Она подходит к тому, что осталось от письма. Опустившись на колени, она ворошит пепел. Вверх летит искра, и ищейка ловит ее рукой.
Она достает тонкую белую пластину из кисета на поясе и подсовывает ее под пепел, после чего размазывает пепел тонким слоем по белому материалу. Снимает перчатку и делает надрез на пальце. Радужная кровь набухает, срывается и капает в серый цвет.
Она втирает свою кровь в пепел, замешивая тесто, мнет его в руке, тонко раскатывает. Вокруг нее все продолжает разлагаться. Боевые корабли превращаются в мшистые курганы. Ломаются гигантские пушки.
Она использует жемчужные огни и странные звуки. Она преломляет время.
Мир раскалывается посередине.
Пепел становится листом бумаги с витиеватой надписью сапфировыми чернилами наверху.
Это письмо должно было быть прочитано однажды, а затем уничтожено.
В последние мгновения перед тем, как мир распадается на части, она перечитывает его снова.
Взгляните на мои великие деянья,
владыки всех времен, всех стран и всех морей! [1]
Просто шучу. Поверь, я учла все вероятные иронические прочтения. Впрочем, не менее иронично будет, если окажется, что ты не знакома с гиперхрестоматийными сочинениями Шестой Пряди начала девятнадцатого века.
Я надеялась, что ты придешь.
Ты не понимаешь, что происходит, но, думаю, прекрасно понимаешь, кто я. Ты ведь знаешь – так же, как знаю и я, с тех пор как наши взгляды встретились во время той неприятной истории на Аброгасте-882, – что у нас с тобой есть незаконченное дело.
Здесь я могу признаться тебе в том, что я стала слишком самонадеянной. Война к тому времени успела мне наскучить: напускная бравада вашего Агентства, шныряющего вверх и вниз по волокнам, терпеливая высадка и прополка прядей, туго вплетенных Садом в косу времени. Ваша неукротимая сила против нашего недвижимого объекта; игра не то чтобы в го, скорее, в крестики-нолики, где результаты определены с первого хода, повторяющаяся бесконечно до тех пор, пока нас не расщепит на нестабильные, хаотичные вероятности – будущее, которое мы стремимся сохранить ценой друг друга.
Но потом появилась ты.
Мои границы стерлись. Каждое движение я совершала механически, через силу. А ты привнесла глубину в скоропалительность действий своей стороны, некую стабильность, и я обнаружила, что снова работаю на полную мощность. Ты вдохнула новую жизнь в военную стратегию вашей Смены и тем самым вдохнула новую жизнь в меня.
Ты можешь увидеть мою благодарность повсюду вокруг себя.
Должна признаться, мне доставляет огромное удовольствие представлять, как ты читаешь эти строки промеж языков и всполохов пламени, а твой взгляд не может вернуться назад, не может удержать буквы на странице; тебе приходится впитать их, впустить в свою память. И теперь, чтобы вспомнить их, тебе нужно будет отыскать меня в своих мыслях, застрявшую там, как солнечный луч в воде. Чтобы доложить о письме своему начальству, тебе придется признать, что враг уже проник в тебя, а ты – стала еще одной жертвой в сегодняшней трагедии.
Вот как мы победим.
Я вовсе не собиралась хвастаться. Знай, что я восхищаюсь твоей тактикой. Изящность твоих манипуляций делает эту войну не такой бессмысленной. К слову, гидравлика в сферическом фланговом гамбите была поистине превосходна. Надеюсь, тебя немного утешит мысль о том, что все это будет тщательно переработано нашими комбайнами, и в следующей победе нашей стороны над вашей будет присутствовать крошечная частичка тебя.
Что же, удачи в следующий раз.
С наилучшими пожеланиями,
Блу.
Стеклянный кувшин с водой закипает в аппарате МРТ. Вопреки пословице, прямо на глазах у Блу.
Когда Блу побеждает – а она всегда побеждает, – она переключается на следующее задание. Она смакует свои победы ретроспективно, между миссиями, вспоминая о них только во время путешествий (вверх по косе в стабильное прошлое и вниз – в излохмаченное будущее), так, как можно вспоминать строчки любимых стихотворений. Она расчесывает пряди времени или спутывает их, осторожно или бесцеремонно, в зависимости от того, что от нее требуется, и уходит.
Она не привыкла подолгу задерживаться на месте, потому что не привыкла терпеть неудачи.
Аппарат МРТ находится в больнице двадцать первого века, на удивление пустой – как будто после эвакуации, отмечает Блу – и довольно неприметной самой по себе, так как она располагалась в зеленом сердце леса, надвое рассеченного границей.
Больница должна была быть переполнена. Задание Блу носило деликатный характер и было связано с внедрением инфекции – а точнее, с конкретным доктором, которую нужно было заинтриговать новым штаммом бактерий и тем самым заложить основу для того, чтобы развернуть этот мир в сторону биологической войны или прочь от нее, в зависимости от того, как на действия Сада ответит противоборствующая сторона. Но возможность упущена, лазейка закрыта, и единственное, что находит здесь Блу, – это баночку с надписью «ВСКИПЯТИ МЕНЯ».
Поэтому она задерживается у аппарата МРТ, попутно размышляя об агонии симметрии, фиксирующей хаотичность воды – магнитных костях, сидящих как очки для чтения на термодинамическом лике вселенной, регистрирующих подъем и взрыв каждой молекулы перед ее трансформацией. Как только последние градусы воды преобразуются в числа, она берет распечатку в правую руку и подносит ключ к испещренному буквами листу в левой.
Она читает, и ее глаза округляются. Она читает, и извлечь данные из недр ее стиснутого кулака становится все труднее. Но еще она смеется, и ее смех эхом разносится по пустым коридорам больницы. Она не привыкла к палкам, вдетым в ее колеса. Что-то в сложившейся ситуации греет ей душу, даже тогда, когда она размышляет о том, как обратить эту неудачу в новую возможность.
Блу рвет лист с данными и зашифрованный текст на мелкие клочки, а затем берет в руки лом.
После ее ухода в руинах больничной палаты появляется ищейка, она находит аппарат МРТ и взламывает его. Кувшин с водой – холодный на ощупь. Она наклоняет его и вливает остывшую жидкость себе в горло.
Моя вероломная Блу,
Так ведь принято начинать? Мне давно не приходилось заводить новых разговоров. Мы не так изолированы, как вы, не так замкнуты в своих черепных коробках. Наши мысли публичны. Мы сообщаем друг другу свои воззрения, корректируем, расширяем, реформируем. Вот почему мы победим.
Даже во время обучения мы с другими курсантами знали друг друга – так, как можно знать свои детские сны. Я здоровалась с товарищами, которых как будто никогда не встречала раньше, чтобы потом обнаружить, что наши пути уже пересеклись в каком-то непонятном облачном уголке, когда мы еще не знали, кто мы такие.
Так что у меня нет опыта в ведении переписок. Но я просканировала достаточное количество книг и каталогизировала достаточное количество примеров, чтобы воспроизвести форму.
Большинство писем начинаются с прямого обращения к адресату. Это я уже сделала, на очереди – общие интересы: сожалею, что тебе не удалось встретиться с добрым доктором. Она слишком важна. Точнее, будут важны дети ее сестры, если она навестит их сегодня, и они обсудят алгоритмы птичьего пения – что уже должно быть сделано к тому времени, как ты расшифруешь это послание. Какими коварными методами я уберегла ее от твоих цепких лап? Проблемами с двигателем погожим весенним деньком, подозрительно эффективным и дешевым программным обеспечением удаленного доступа, приобретенным ее больницей два года назад, которое позволяет доброму доктору работать, не выходя из дома. Так мы переплетем Прядь 6 с Прядью 9, и наше славное хрустальное будущее сияет так ярко, что я надеваю солнечные очки, цитируя слова пророков[2].
Памятуя нашу последнюю встречу, я хотела удостовериться, что ты не станешь использовать в своих целях других аборигенов, – отсюда и сообщение о бомбе. Пусть грубовато, зато действенно.
Мне нравится твой подход. Не всякая битва эпична, не всякое оружие внушает страх. Даже мы, воюющие во времени, забываем ценность слова, сказанного в нужный момент, стука в двигателе нужного автомобиля, гвоздя в нужной подкове… Уничтожить планету так просто, что можно и упустить из виду роль шепота в сходе снежной лавины.
Обращение к адресату – сделано. Обсуждение общих интересов – еще немного.
Я представляю, как ты смеешься, читая мое письмо, не веря своим глазам. Мне кажется, я видела, как ты смеешься – ты стояла в рядах Бессменно Победоносной Армии, в то время как ваши простофили сжигали Летний дворец, а я только успевала спасать чудесные императорские часовые механизмы. Со строгим и грозным видом ты маршировала по коридорам дворца, выслеживая агента и не зная, что им была я.
Потому я и представляю отблески пламени на твоих зубах. Ты думаешь, что проникла мне под кожу, посеяла в моей голове свои семена или споры, смотря какую ботаническую метафору ты предпочитаешь. А сейчас я отплатила за твое письмо своим собственным. Теперь мы состоим в переписке. И если твое начальство узнает, это повлечет за собой ряд вопросов, на которые, думается мне, ты предпочла бы не отвечать. И кто же в кого проник? В свое время – все мы узнаем своих троянцев. Ответишь ли ты мне, подтверждая свое соучастие, прокладывая еще дальше нашу самоуничтожающуюся дорожку из бумажных крошек, лишь для того, чтобы оставить за собой последнее слово? Или оборвешь связь, сохранив внутри себя фрактальный вихрь моего послания?
Интересно, чего бы мне больше хотелось.
И наконец: заключение.
Было весело.
С приветом обломку изваянья,
Рэд.
Рэд задумчиво бредет по лабиринту костей.
Бредут и другие паломники, в шафрановых и блекло-коричневых одеждах. Подошвы их сандалий шаркают по камням, а по углам пещеры свистит крепкий ветер. Спросите их, как возник этот лабиринт, и они дадут ответы настолько же разнообразные, насколько и их грехи. Его сотворили великаны, утверждает один, еще до того, как боги их истребили, а затем бросили Землю на произвол судьбы, оставив ее на попечение смертным. (Да, это Земля – задолго до ледникового периода и мамонтов, задолго до того, как академики спустя много веков вниз дойдут до предположения, что на этой планете могли существовать паломники и лабиринты. Земля.) Лабиринт проложил первый змей, говорит другой, – он заполз в скалу, чтобы спрятаться от беспощадного солнца. Эрозия, говорит третий, и великое безмолвное движение тектонических плит – такое масштабное, что нам, букашкам, никогда не постичь, такое долгое, что нам, поденкам, никогда не наблюдать.
Они идут мимо мертвецов, под абажурами из человеческих лопаток и окнами в рамах из грудных клеток. Костяные руки поддерживают каскады цветов.
Рэд не задает вопросов другим паломникам. У нее здесь своя миссия. Она действует осторожно. Она не встретит сопротивления, если сделает небольшую петлю так высоко в прошлом. В глубине лабиринта есть пещера. Вскоре туда заглянет порыв ветра, и если этот ветер просвистит в желобках нужных костей, то один из пилигримов услышит в нем знамение, которое побудит его отринуть мирское и удалиться отшельником на далекие горные склоны, где он и построит обитель, которая просуществует двести лет, когда под его крышей найдет пристанище женщина с ребенком, спасаясь от бури, и так далее. Покатишь камушек и через три столетия увидишь сход породы. В таком задании мало лоска и минимум риска, главное, придерживаться сценария. Здесь некому ставить ей подножки.
Прочел ли противник – прочла ли Блу – ее письмо? Рэд понравилось его сочинять – победа всегда сладка, но торжествовать и поддразнивать еще слаще. Даже рискуя своей головой. С тех пор каждую миссию она держала ухо востро, действовала с удвоенной осторожностью, ожидая расправы или того, что комендант выявит ее незначительное нарушение дисциплины и назначит карательные меры. Все оправдания у Рэд наготове: с момента ослушания она стала профессиональнее, скрупулезнее.
Но ответа не было.
Возможно, она ошиблась. Возможно, она на самом деле не интересна своему врагу.
Паломники следуют за проводниками по пути мудрости. Рэд отделяется от них и блуждает в темноте по узким извилистым коридорам.
Темнота не помеха. Ее зрение не такое, как у обычных людей. Она принюхивается к воздуху, и в ее мозгу молнией вспыхивает обонятельная аналитика, прокладывает маршрут. В одной нише она достает из сумки небольшую трубку, которая проливает красный свет на расположенные внутри скелеты. Когда она делает это в первый раз, то ничего не находит. Во второй – лампа отбрасывает пульсирующую полосу света на нужную бедренную кость, нужную челюсть.
Закончив, она складывает кости бедра и челюсти в сумку, после чего гасит свет и углубляется еще дальше.
Представьте ее, незримую в кромешной темноте. Представьте, как она шагает, мерно переставляя ноги, которые не знают усталости и никогда не оступаются в пещерной пыли и гравии. Представьте, как четко вращается ее голова на толстой шее, описывая идеальную дугу слева направо, справа налево. Прислушайтесь (и почти услышите), как гироскопы жужжат в ее животе и щелкают линзы под камуфляжным желатином ее кромешно черных глаз.
Она движется быстро, как только умеет, не нарушая рабочих параметров.
Снова – свет красной лампы. Снова к ней в сумку отправляются кости. Ей не нужно смотреть на часы. На краешке поля зрения у нее тикает таймер.
Когда она решает, что нашла все необходимые ей кости, она идет на спуск.
Далеко внизу под тропой мудрости заканчиваются трупы – на большее хозяев этого мрачного места не хватило. Ниши остаются и чего-то ждут – возможно, Рэд.
В конце концов не остается даже ниш.
Вскоре на нее нападают стражники: безглазые великаны, выращенные острозубыми хозяйками этого места. Ногти у гигантов желтые, толстые и в трещинах, а изо рта пахнет лучше, чем можно было ожидать.
Рэд ломает их, быстро и тихо. Времени на менее жестокую расправу у нее нет.
Она больше не слышит их стонов, когда достигает пещеры.
Она понимает, что вышла на нужное место, по изменениям в эхе ее шагов. Когда она опускается на колени и тянет руку, то чувствует под собой оставшиеся десять сантиметров уступа, а дальше – пропасть. Налетает резкий порыв холодного ветра: дыхание самой Земли или гигантского чудища где-то внизу. Оно воет. Шум с лязгом отскакивает от костяных ловцов ветра, что развешивают здесь монахини в качестве напоминания самим себе о непостоянстве плоти. Кости поют и вращаются, свисая в темноту с жильной бечевки.
Рэд ощупью пробирается по самому краю, пока не упирается в ствол одного из громадных деревьев, на которых висят ловцы. Она юрко карабкается по стволу, пока не достигает костей древней монахини, повешенной сюда другой монахиней.
Обратный отсчет в уголке глаза напоминает о том, как мало остается времени.
Она срезает древние кости своими острыми, как алмаз, ногтями и вынимает из сумки новые. Одну за другой нанизывает их на бечевку, соединяя череп и малоберцовую кость, челюсть и грудину, копчик и мечевидный отросток.
Тикает таймер. Семь. Шесть.
Она затягивает узлы быстро, не глядя. Ее конечности, сжимающие ствол древнего дерева над бездонной пропастью, подают ей сигнал о боли.
Три. Два.
Она отпускает кости над бездной.
Ноль.
Порыв ветра раскалывает землю, ревет в темноте. Рэд обнимает омертвевший ствол крепко, как любовницу. Ветер усиливается, кричит, швыряет кости из стороны в сторону. Над костяным лязгом поднимается новая нота, разбуженная пересвистом ветра в рельефе тех самых костей, что подвесила Рэд. Нота бухнет, меняется и разрастается в голос.
Рэд слушает, оскалив зубы в выражении, которому не смогла бы дать имени, если бы увидела себя в отражении. В нем есть восторг и есть ярость. Но что еще?
Она сканирует кромешную тьму пещеры. Не обнаруживает ни тепловой сигнатуры, ни движения, ни писка радара, ни электромагнитной эмиссии, ни облачного следа – конечно, нет. Она чувствует себя восхитительно беззащитной. Она готова – то ли к выстрелу, то ли к моменту истины.
Слишком скоро ветер стихает и голос вместе с ним.
Рэд исторгает в тишину проклятие. Памятуя эру, она взывает к местным богам плодородия, в изобретательных формулировках описывая их совокупление. Исчерпав арсенал ругательств, она бессловесно рычит и плюет в бездну.
А после, как и было предсказано, она смеется. Ее смех пораженный, горький, но, вопреки всему, не лишенный веселья.
Перед уходом Рэд спиливает кости, которые сама и повесила. Паломник, чей путь надлежало проложить Рэд, ушел, и обитель теперь не будет построена. А Рэд придется расхлебывать эту кашу в меру своих возможностей.
Брошенные кости все падают и падают вниз.
Но не стоит отчаиваться. Ищейка успеет поймать их до того, как они приземлятся.
Дорогая кроваво-красная Рэд,
Ты права, я действительно посмеялась. Твое письмо оказалось очень кстати. Оно поведало мне о многом. Ты представляла отблески пламени на моих зубах; памятуя твое необыкновенное внимание к деталям, я решила подпустить в них немного дьявола.
Возможно, мне следует начать с извинений. Увы, это не то знамение, на которое ты рассчитывала; внимая моим словам, задумайся на мгновение о тех, чьи кости изъедены и сточены этим письмом. О бедный, неслучившийся паломник! Зачем оставлять за собой самоуничтожающийся бумажный след, когда эти же усилия можно посвятить уничтожающей улики резьбе по кости и позволить ветру порезвиться в узоре?
Не бойся – он прожил прекрасную жизнь. Возможно, не так, как тебе бы хотелось, – несчастливо, но с пользой для будущих поколений. Он не привечал обездоленных, каждой спасенной жизнью приближая ваше светлое будущее. Он не построил обитель – он встретил свою любовь! Он объездил весь мир вместе со своим спутником жизни, сочинял великолепную музыку, растрогал до слез императрицу, растопил ее черствое сердце, вытолкнул историю из одной колеи и втолкнул в другую. Прядь 22 ложится на Прядь 56, если не путаю, и где-то в низовьях времени из почки распускается цветок, источая сладкий аромат.
Твое внимание льстит мне. Не сомневайся: я смотрела на тебя долго и пристально, пока ты корпела над моей незатейливой поделкой. Замрешь ли ты неподвижно или резко обернешься, когда узнаешь, что я наблюдаю за тобой? Заметишь ли меня? Если не заметишь, представь, что я машу тебе рукой – я буду слишком далеко, чтобы видеть мои губы.
Шучу. К тому времени, когда ветер подует в нужную сторону, я буду уже далеко. Но ты оглянулась, я угадала?
Я представляю, что ты сейчас тоже смеешься.
С нетерпением жду твоего ответа,
Блу.
Блу приближается к храму в образе паломника: волосы острижены под корень, обнажая блеск микросхем, огибающих уши и расползающихся по всему скальпу, глаза навыкате, хромированный мазок вокруг рта, хромированные полуопущенные веки. На кончиках пальцев надеты старинные клавиши с клавиатуры в знак почитания великого бога Хака, а ее руки оплетены браслетами в виде золотых, серебряных и палладиевых спиралей, которые сверкают еще ярче на фоне ее темной кожи.
Поглядеть сверху, и ее можно принять за одну из тысяч, так она неотличима в медленном движении тел, плетущихся к храму: скважине в центре гигантского, выжженного солнцем павильона. Внутрь никто не ходит: эта благоговейная жара иссушила бы их божество на кремниевой лозе.
Но ей нужно внутрь.
Блу барабанит пальцами с клавишными набалдашниками с танцевальной выверенностью. A, C, G, T, на себя, от себя, вместе, врозь. Этот перкуссионный ритм запускает воздушно-капельный штамм вредоносного вируса, который она пестовала в течение многих поколений – организм, запускающий свои невидимые щупальца в нейронные сети общества, безвредный, пока не приведен в действие.
Она щелкает пальцами. В них вспыхивает искра.
Паломники – все десять тысяч, разом – абсолютно бесшумно валятся наземь, в одну сплошную узорчатую кучу.
Она прислушивается к шипению лопающихся, перегретых микросхем, коротящих в их филигранных мозгах, и безмятежно ступает через тела выведенных из строя паломников. Их конечности дергаются у ее стоп, напоминая плеск прибоя.
Блу бесконечно забавляет то, что, выводя храм из строя, проводя такую атаку, она собственноручно совершает акт поклонения их богу.
У нее есть десять минут, чтобы преодолеть храмовый лабиринт: на руках спуститься по служебной лестнице, затем приложить ладонь к сухой темной стене и, следуя за ее ломаными линиями, выйти к центру. Под землей холодно, холодно ее обнаженной коже, и тем холоднее, чем глубже она заходит, и уже дрожит от холода, но не замедляет шаг.
В центре лабиринта стоит ящик с экраном. Он вспыхивает, когда Блу приближается.
– Привет, я Макинт…
– Тсс, Сири. Я пришла разгадывать загадки.
Глаза и рот – это нельзя в полной мере назвать лицом – оживают на экране, смотрят на нее ровным взглядом.
– Хорошо. Как вычислить гипотенузу прямоугольного треугольника?
Блу склоняет голову, стоит неподвижно, только перебирает пальцами по бокам. Она прочищает горло.
– «Варкалось. Хливкие шорьки / Пырялись по наве…» [3]
Экран Сири мигает помехами, после чего спрашивает:
– Каково значение числа пи до шестидесяти двух знаков после запятой?
– «Осока в озере мертва, / Не слышно птиц»[4].
Пригоршня снега сыплется с лица Сири.
– Если поезд А отправляется из Торонто в шесть часов пополудни и движется на восток со скоростью сто километров в час, а поезд Б отправляется из Оттавы в семь часов пополудни и движется на запад со скоростью сто двадцать километров в час, сколько будет времени, когда они встретятся?
– «Заклинанье! – очарован / И беззвучной цепью скован, / Без конца томись, страдай / И в страданьях – увядай!»[5]
Вспышка света: Сири отключается.
– К тому же, – добавляет Блу, невесомо подступая к ящику, чтобы убрать его в тяжелую сумку, стоящую рядом, – в Онтарио – паршиво. Так сказано пророками[6].
Экран снова вспыхивает; она удивленно отступает назад. На экране начинают мелькать слова, и ее глаза округляются, а бело-голубой свет экрана отражается от хромированных губ, которые медленно растягиваются в хищном оскале.
Она в последний раз клацает клавишами, после чего стряхивает их с пальцев, блеск – с губ, железо – с рук. Когда она отступает и исчезает в косе, узорчатая груда скукоживается, ржавеет, осыпается хлопьями, неотличимыми от мелкого песка на полу пещеры. Ищейка, пришедшая по ее следу, различает каждую крупинку.
Дорогая Блу-да-буди,
Какое дерзновенное вмешательство! Снимаю шляпу. В жизни бы не поверила, что ваша сторона рискнет прочесывать Прядь 8827 в таких низовьях будущего, если бы не узнала твой фирменный стиль. Я содрогаюсь при мысли о равновеликом ответном вторжении – не дай причинность коменданту когда-либо послать меня в один из ваших молочно-кисельных, пышно цветущих эльфийских миров, изобилующих стройными деревьями бузины, нейронной пыльцой, пчелами, собирающими воспоминания с глаз и языков, медовыми библиотеками, сочащимися знаниями из сот. Я не питаю иллюзий, что преуспею. Ты найдешь меня мгновенно, раздавишь быстрее, чем я тебя, – в вашей растительности за мной протянется гниющий след, как бы я ни старалась ступать невесомо. Мой углеродный след – такой же зеленый, как черенковское излучение.
(Знаю, знаю: излучение Черенкова вовсе не зеленого, а… в общем… синего цвета. Но зачем же портить хорошую шутку фактами.)
Но ты хороша. Я едва услышала признаки твоего приближения – я не стану их тут называть, думаю, ты прекрасно понимаешь почему. Если хочешь, представь, как я сижу на этой лестнице на корточках, подтянув колени к подбородку, вне поля твоего зрения, и считаю шаги воровки, когда та поднимается по ступеням. У тебя неплохо получается. Тебя растили специально для этой цели? Как у вас в принципе все это устроено? Тебя создавали, заранее зная, кем ты станешь; репетировали с тобой каждый твой шаг; натаскивали в каком-нибудь особенном месте, которое представляется мне не иначе как жутковатой версией летнего лагеря, где с тебя не сводили бдительного взгляда участливые и вечно улыбающиеся вожатые?
Тебя направило сюда начальство? У тебя вообще есть начальство? Или королева? Не может ли кто-то из твоих коллег желать тебе зла?
Я спрашиваю, потому что мы могли бы загнать тебя здесь в ловушку. Эта прядь – крупный приток; комендант могла выставить в заграждение толпу агентов без особого казуального риска. Воображаю, как ты читаешь это, думая, что сумела бы от всех улизнуть. Может, и так.
Но агенты сейчас заняты другими делами, и было бы пустой тратой времени (ха!) отзывать их и командировать снова. Чтобы не беспокоить коменданта пустяками, с которыми мне было под силу справиться самостоятельно, я решила вмешаться напрямую. Так проще для нас обеих.
Не могла же я позволить тебе украсть божество этих несчастных созданий. Нам не нужно это конкретное место, но нам нужно что-нибудь вроде. Уверена, ты прекрасно представляешь, сколько работы необходимо проделать для восстановления подобного рая с нуля (или хотя бы для извлечения его былого блеска из-под обломков). Задумайся на секунду, что было бы, если бы ты преуспела, если бы ты похитила физический объект, от медленного квантового разложения которого зависят генераторы случайных чисел этой пряди; если бы это вызвало криптографический кризис; если бы этот кризис подорвал доверие людей к пищевым принтерам; если бы голодающие массы взбунтовались; если бы беспорядки разожгли эту искру в пламя войны: нам пришлось бы начинать заново, разоряя другие пряди – и, скорее всего, пряди из ваших кос. Тогда мы бы еще яростнее вцепились друг другу в глотки.
К тому же так я смогу отплатить за твою выходку в катакомбах – оставить собственное послание! Но у меня заканчивается место. Тебе нравится девятнадцатый век Шестой Пряди. Так вот, миссис Ливитт в своих «Правилах этикета и переписки» (Лондон, издательство «Gooseneck Press», Прядь 61) рекомендует в конце письма подытожить его основной посыл, что бы это ни значило, так вот: выкуси, лузер-Блузер. Предмет твоей миссии находится в другом замке.
Обнимаю, целую,
Рэд.
PS. Клавиатура покрыта медленнодействующим контактным ядом. Ты умрешь через час.
PPS. Шучу! Или… нет?
PPPS. Я просто валяю дурака. Но эти постскриптумы такие забавные!
Деревья в лесу падают и издают звуки.
Орда движется между них, оценивает, размахивает топорами, вытягивает пилами басовые ноты из сосновых стволов. Еще пять лет тому назад никто из воинов не видывал такого леса. «Зуунмод» назывались священные рощи у них на родине, что означает «сотня деревьев», потому что они и не мыслили, что в одном месте может быть более сотни.
Здесь деревьев растет гораздо, гораздо больше – количество их настолько велико, что никто не отважится сосчитать. Мокрый, холодный ветер стекает с гор, и ветви шумят, точно саранча трещит крыльями. Воины крадутся, укрытые игольчатыми тенями, и делают свое дело.
Сосульки тают и откалываются, когда падают могучие деревья и, упав, оставляют просветы в зеленом пологе, обнажая холодное белое небо. Воинам эти плоские облака по нраву больше, чем сумрак леса, но все же им далеко до голубого неба родины. Они обвязывают стволы веревками и волокут их по притоптанному подлеску в лагерь – там с них снимут кору и распилят на доски, а доски пустят на строительство боевых машин великого хана.
Некоторые дивятся такой метаморфозе: в молодости они одерживали свои первые победы, сидя в седле, вооруженные луками и стрелами, десятеро против двадцати, две сотни против трех. Потом они научились использовать против врагов течения рек, крушить их бастионы цепными крюками. А сейчас они странствуют по городам, собирая ученых, жрецов и инженеров, всех, кто обучен грамоте или ремеслу, и ставят перед ними задачи. У вас будут еда, вода, отдых, все блага, о которых можно только мечтать на службе в копытном войске. В обмен же – решите проблемы, которые создают нам наши враги.
Когда-то всадники обрушивались на вражеские крепости, как волны на скалы. (Большинство из них никогда не видало ни волн, ни скал, но путешественники привозили рассказы о них из далеких стран.) Теперь всадники истребляют врагов, загоняют их в крепости, требуют капитуляции, и если капитуляции не последует, заводят свои машины, чтобы уничтожить их города изнутри.
Но машинам нужны дрова, и воины отправляются в поход, воровать у привидений.
Рэд несколько дней не вылезала из седла и теперь спешивается в гуще леса. На ней – плотный серый халат, подпоясанный шелковым кушаком, ее волосы спрятаны под меховой шапкой, согревающей кожу головы. Она тяжело ступает. Широко расправляет плечи. Она играет эту роль не меньше десятилетия. Женщины тоже путешествуют с ордой, но сейчас Рэд – мужчина, во всяком случае, в глазах тех, кто отдает ей распоряжения, и тех, кто в свою очередь исполняет ее.
Она запечатлевает экспедицию в своей памяти, для отчета. Она выдыхает воздух клубами, те сверкают, когда в них кристаллизуются льдинки. Скучает ли она по паровому отоплению? По стенам и крышам? Скучает ли она по вшитым в руки и ноги, вмонтированным в грудную клетку «спящим» имплантатам, которые защитили бы ее от морозов, остановили чувства, наложили по всей коже силовое поле, чтобы уберечь ее от эпохи, в которой она очутилась?
Не особенно.
Она отмечает насыщенную зелень деревьев. Замеряет скорость их падения. Запечатлевает белое небо, кусачий ветер. Она запоминает имена людей, мимо которых проходит. (Большинство из них – мужчины.) Проведя десять лет под прикрытием, примкнув к орде, доказав свою нужность и добившись положения, к которому она стремилась, она чувствует, что готова к этой войне.
Она подготовила себя к ней.
Она осматривает сложенные бревна на предмет следов гнили, и люди перед ней расступаются из уважения и страха. Ее чалый фыркает, роет копытом землю. Рэд снимает перчатки и проводит по древесине кончиками пальцев, бревно за бревном, кольцо за кольцом, прощупывая возраст каждого.
Она замирает, когда натыкается на письмо.
Опускается на колени.
Остальные толпятся вокруг: что ее так встревожило? Дурное знамение? Проклятие? Какой-то изъян в лесозаготовках?
Письмо начинается из сердцевины дерева. Кольца – тут толще, там тоньше – складываются в символы алфавита, незнакомого никому из присутствующих, кроме Рэд. Слова мелкие и местами размытые, но все же: десять лет на строчку текста, а строчек – много. Проложить корни, год за годом подкладывать или убавлять удобрения – на написание этого послания должно было уйти не меньше века. Не исключено, что среди местных жителей ходят легенды о некой фее или ледяной богине, обитающей в этих лесах, которая мелькнет на мгновение, а затем исчезнет. Рэд гадает: что выражало лицо Блу, когда она оставила первую иголку.
Она запоминает послание. Она прощупывает его по ложбинке, по строчке и медленно ведет счет годам.
Ее глаза меняются. Мужчины, что стоят поблизости, знают ее уже десяток лет, но они никогда не видели ее такой.
Один из них спрашивает:
– Прикажете выбросить?
Она отрицательно качает головой. Дерево нужно использовать. Она не говорит, что иначе кто-то еще найдет его и прочитает то же, что прочитала она.
Они тащат бревна в лагерь. Они рубят их, пилят, строгают, превращают в боевые машины. Две недели спустя доски разбиты в труху под стенами павшего города, который до сих пор горит, до сих пор рыдает. Прогресс галопом скачет вперед, а кровь остается позади.
Кружат стервятники, но они здесь уже отужинали.
Ищейка шагает по мертвой земле, по разоренному городу. Она собирает щепки, оставшиеся от раскуроченных машин, и, пока солнце садится за горизонт, одну за другой вонзает их себе в пальцы.
Она открывает рот, но не произносит ни звука.
Моя безупречная Рэд,
На дворе – орда, у орды – дрова, рубит ли орда на дворе дрова? Может, ты сумеешь дать мне ответ, когда закончишь с этой прядью.
Сама мысль, что я едва не угодила в твои сети (или в твои волокна – прости, дорогая, но мне даже не стыдно), оказалась так сладка, что, признаюсь, меня буквально обуревают эмоции. Так что же, ты всегда играешь наверняка? Скрупулезно прогоняешь цифры, чтобы сразу отсечь любой сценарий, вероятность успеха которого не превышает 80 процентов? Мне грустно думать, что с тобой было бы скучно играть в покер.
Но тогда я представляю, как ты могла бы жульничать, и это меня утешает.
(Я бы не хотела, чтобы ты играла со мной в поддавки. Ни в коем случае!)
На мне были защитные очки, но только представь, как вылезли из орбит мои глаза, когда ты устроила мне этот прелестный допрос на Пряди 8827. Направило ли меня начальство! Есть ли у меня начальство! Намеки на интриги со стороны моих коллег! Это мило, что тебя так заботит мое благополучие! Но не пытаешься ли ты завербовать меня, моя дорогая Кошениль?
«Тогда мы бы еще яростнее вцепились друг другу в глотки». Ох, солнышко. Ты говоришь так, как будто это что-то плохое.
Только представь: мы с тобой образуем свой отдельный микрокосм во всей этой войне. Это заставляет меня задуматься о физике нас двоих. О действии и равном ему противодействии. О моем, как ты выразилась, кисельно-молочном эльфийском мире против твоей машинно-инженерной антиутопии. Мы обе знаем, что все намного сложнее, точно так же, как ответ на письмо не есть его противоположность. Но которое из яиц было раньше которого из утконосов? Цель зачастую не имеет ничего общего со средством.
Но хватит философствовать. Давай я скажу тебе то, что сказала мне ты, но без обиняков: ты могла убить меня, но не убила. Ты действовала без ведома и благословения своего Агентства. Твое представление о жизни в Саду кишит наивными стереотипами и может расцениваться как намеренная провокация, нацеленная на то, чтобы вытянуть из меня пылкий, неосторожный ответ (иронично, учитывая, сколько времени ушло у меня на то, чтобы вырастить эти слова), но оно изложено так поэтично, что не может не наводить на мысли об искренней пытливости и незнании.
(А мед у нас действительно превосходный – есть его лучше всего в толстых сотах, намазанным на теплый хлеб с мягким сыром в прохладное время дня. А вы, вы еще едите? Или этот процесс давно заменили трубки для внутривенного приема пищи и метаболизм, оптимизированный под питание на дальних прядях? Спишь ли ты, Рэд, видишь ли сны?)
Позволю себе сказать прямо еще кое-что, пока не истек век этого дерева и славные мужи под твоим началом не сделали осадные орудия из моих слов: зачем тебе все это нужно, Рэд? Чего ты хочешь добиться?
Ответь мне честно или не отвечай ничего.
С наилучшими пожеланиями,
Блу.
PS. Я тронута глубиной исследования, предпринятого ради моей персоны. Миссис Ливитт была хорошим выбором. Теперь, когда ты открыла для себя постскриптумы, я с нетерпением жду, что ты выдумаешь с ароматическими чернилами и печатями!
PPS. Здесь нет подвоха, нет ловушки. Передавай мои наилучшие пожелания Чингисхану этой пряди. В юности мы с ним часто лежали рядом и смотрели на проплывающие облака.
Блу видит синеву – свое избранное имя – повсюду в окружающих ее отражениях: в омытых луной айсбергах, в океане, густо усеянном дрейфующими льдинами, в жидкости, сгущенной до состояния стекла. Она грызет черствый сухарь, стоя на палубе, пока корабельные юнги спят, стряхивает с рукавиц крошки и смотрит, как те падают в непроглядную воду, присыпанную белыми крапинками.
Шхуна зовется «Королева Ферриленда», ее экипаж полностью укомплектован охотниками, которые рвутся в бой, складывать скальпы в трюмы, жадные до того, что смогут купить себе за мех, мясо и жир в межсезонье. Блу отчасти заинтересована в нефти, но главным образом ее привлекает внедрение новых паровых технологий: здесь можно достичь несметного количества исходов, здесь – точка опоры, с которой можно перевернуть отрасль; штурвал, с помощью которого можно провести эти корабли между Сциллой одного фатума и Харибдой другого, направив их по курсу, ведущему в Сад.
Семь прядей спутались вокруг провала или успеха этой охоты, для одних – рядовой, для других – решающей. В иные дни Блу задается вопросом, зачем кому-то понадобилось изобретать столь малые числа; в другие – думает, что и бесконечность должна с чего-то начинаться.
Такие мысли редко посещают ее во время миссий.
Кто может знать, о чем думает Блу тогда, когда миссии нередко занимают целые жизни, а легенда, которая позволяет ей однажды взяться за охотничью дубинку, плетется годами? Сколько ролей, платьев, балов, брюк, интимных связей замешивается для того, чтобы она смогла отхватить себе шконку и облачиться в бесформенную одежду, которая спасет от ньюфаундлендских морозов.
Горизонт моргает, и над ним разверзается утро. Охотники высыпают за борт шхуны, и Блу среди них: они мчатся по льду с орудиями в руках, смеются, поют, колют черепа и сдирают шкуры.
Блу уже затащила на борт три шкуры, когда ее внимание привлекает большой резвый тюлень: на каких-то полсекунды он угрожающе вскидывает голову, прежде чем броситься к воде. Но Блу оказывается быстрее. Череп животного трещит под ее дубинкой, как яичная скорлупа. Она приседает на корточки рядом с ним, чтобы осмотреть добычу.
Но то, что она видит, поражает ее, как хакапик[7]. Пятнышки и крапинки на обледеневшем меху, пестром и рябом, как бумага ручной работы, складываются в слово, которое она в состоянии прочесть: «Блу».
Ее рука не дрожит, когда она вспарывает шкуру. Дыхание остается ровным. До этого момента ей удавалось не замарать рукавиц, но теперь она пачкает их красным, как то имя.
В глубине лоснящихся кишок прячется кусок сушеной трески, непереваренный, исцарапанный и исщербленный письменностью. Она даже не замечает, как устраивается на льду, удобно скрестив ноги, как будто перед ней дымится чашка чая, а не горячие, едко смердящие тюленьи внутренности.
Шкуру она сохранит. Треску – истолчет в порошок, посыплет на печенье с прогорклым маслом и съест на ужин; от туши – избавится как обычно.
Когда на сцену врывается ищейка и проходит по следам Блу, она находит только темно-красное пятно на синем снегу. Опустившись на четвереньки, она лижет, обсасывает и жует, пока никакого цвета не остается.
Мое дорогое Настроение Индиго,
Я приношу свои извинения – за все, пожалуй. Мое молчание слишком затянулось – по моим подсчетам и, боюсь, по твоим тоже. Еще порядка десяти лет я провела с Чингисханом (тебе, кстати, от него привет – он поведал мне самые интересные истории о тебе, во всяком случае, я полагаю, что они были о тебе), после чего погрузилась в составление отчетов, а уж потом началась обычная свистопляска с переплетением прядей. В довершение всего пришлось проходить аттестацию. Я, конечно, прошла. Обычное дело. Полагаю, у вас тоже проводят нечто подобное: Агентство располагается в низовьях времени, откуда направляет агентов вверх по косе; затем, когда агенты возвращаются, комендант их допрашивает. Да, мы меняемся в наших путешествиях; да, мы приобретаем нюансы; мы формируемся; ведем себя асоциально. Адаптация – это цена победы. Казалось бы, они должны это понимать.
Я провела большую часть года, оправляясь от твоего так называемого чувства юмора. У орды дрова!
Следуя твоему совету, я покопалась в литературе, посвященной ароматической бумаге и восковым печатям. Все эти коммуникации посредством базовых материй – они как будто противоречат здравому смыслу. Запечатывать письмо – физический объект, не имеющий даже призрачной копии в облаке, когда вся информация хранится на одном тонком листе бумаги – еще более пластичным материалом, несущим ни много ни мало идеографическую подпись! Оповещающую любого держателя письма о личности отправительницы, о ее роли и, возможно, даже о ее целях! С точки зрения оперативной безопасности – сумасшествие чистой воды. Но, как говорят пророки, нет горы такой высокой[8] – и я излагаю свой ответ здесь. Надеюсь, тебе понравилось распечатывать эту посылку. Я не стала наносить дополнительных ароматов – у нашего посредника с этим и так все в порядке.
В письмах есть что-то от путешествий во времени, ты не находишь? Я представляю, как ты смеешься над моей маленькой шуткой; представляю, как ты ворчишь; представляю, как отбрасываешь мои слова в сторону. Ты все еще со мной? Или я обращаюсь в пустоту, к мухам, которые остались грызть эту тушу? Ты можешь оставить меня на пять лет, ты можешь никогда не вернуться – а мне приходится писать остаток письма, не зная об этом.
Одним словом, я предпочитаю иметь отчет о получении – например, мгновенное рукопожатие по нашей медленной телепатической связи. Это весьма увлекательная технология, хоть и имеющая свои пределы.
Ты спрашиваешь, едим ли мы.
На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ. Нет никакого моно-«мы»; есть много «нас». Они чередуются и взаимозаменяются. Ты когда-нибудь разглядывала часовой механизм? Я говорю о механизме по-настоящему хороших часов – если хочешь понять, что я имею в виду, спустись в Гану тридцать третьего века нашей эры. Компания «Limited Unlimited» в Аккре производит восхитительные часы с прозрачными наномерными шестеренками, каждая – размером не больше песчинки, а зубья такие маленькие, что не видны глазу, с действиями, противодействиями и препятствиями: они преломляют свет, как калейдоскоп. И точно показывают время. Ты – одна, а нас так много: детали, наслоенные поверх других деталей, каждая со своими индивидуальными особенностями, желаниями, целями. Один человек может менять лица, меняя местоположение. Сознания запросто перемещаются между телами. Каждый может являться всем, чем он хочет. Агентство привносит в это определенный порядок. Едим ли мы?
Я – да.
Мне это не нужно. Нас выращивают в капсулах, наши базовые знания копируются из кластера в кластер, баланс питательных веществ поддерживается гелевыми ваннами, где большинство из нас и проводят всю жизнь, пока наши развоплощенные умы порхают в пустоте среди звезд. Мы живем удаленно, мы изучаем с помощью дронов – я говорю о физическом мире, но он лишь один из многих и не самый интересный по сравнению с другими. Некоторые из нас выходят из ванн и сами отправляются в путешествия, но их жизнедеятельность может поддерживаться по нескольку месяцев без дозарядки, а когда та все-таки потребуется, наготове всегда есть пустая капсула.
Все это, конечно, касается по большей части гражданских. Агентам требуются независимые режимы работы. Мы отделены от массы и передвигаемся в своих собственных телах. Так проще для всех.
Питание – довольно мерзкая штука, согласись. Я имею в виду саму концепцию. Когда ты привыкаешь к гиперпространственным станциям дозарядки, к солнечному свету и космическим лучам, когда практически все твои представления о красоте сосредоточены в сердце великой машины, трудно польститься на такую концепцию: костями, торчащими из смазанных слюной десен, измельчать выросшие в грязи объекты в кашу, которая пройдет сквозь влажную трубку, соединяющую твой рот с мешком кислоты, плещущейся под сердцем. У новобранцев после сушки всегда уходит немало времени на то, чтобы к этому привыкнуть.
Но сейчас мне нравится еда. Многим из наших нравится, хотя и не все готовы признаваться в этом публично. От еды я получаю наслаждение, которое можно испытать только от ненужных тебе вещей. Спортсменка любит бег ровно до тех пор, пока ей не приходится удирать ото льва. Секс становится приятнее, когда обособлен – уж прости – от животного отчаяния, вызванного тягой к продолжению рода (и даже от отчаяния, вызванного долгим отсутствием секса, как я успела заметить за время минувшей двадцатилетней командировки и сопутствующего ей застоя).
Я надкусываю блинчик с голубикой, политый кленовым сиропом, с большим куском масла – облако теста разбухает на языке, ягоды лопаются на зубах, масло тает у меня во рту. Я изучаю эту сладость и текстуру. Я не бываю голодна, поэтому не спешу хватать следующий кусок. Я ем стекло, и когда оно режет мои десны, я смакую его минералы, металлы, примеси; я вижу пляж, с которого неизвестный мне бедолага взял этот песок. Маленькие камушки пахнут рекой, рыбьей чешуей, давно растаявшими ледниками. Они хрустят на зубах, звонкие, как сельдерей. Я делюсь своими ощущениями с другими такими же гурманами; они – делятся со мной своими, правда, с подвисанием, да и зернистость датчиков оставляет желать лучшего.
Такой вот витиеватый способ сказать: я люблю поесть.
Наверное, даже слишком. Я редко могу позволить себе это на публике, когда нахожусь в Агентстве. Не то комендант начнет задавать вопросы. Вылазки наверх, в места, где люди едят постоянно, кажутся роскошью.
Что насчет тебя? Нет, я не спрашиваю, как ты ешь, хотя, если пожелаешь ввести меня в курс дела, я не буду против. (Твои описания меда и хлеба – спасибо за них.) Я описала тебе вкратце наше перекрестное мироустройство: личные и публичные взаимодействия, общие интересы, общие чувства. Но каково это – быть одной из вас? У тебя есть друзья, Блу? Как это работает?
Ты просила меня отвечать честно. Я отвечу. Чего я хочу? Понимания. Диалога. Победы. Игры – в прятки и в разгадки. Ты интересный противник, Блу. Ты не боишься идти на риск. Ты контролируешь ход игры. И если нам суждено воевать, то почему бы заодно не скрасить друг другу досуг? Иначе зачем бы ты дразнила меня все это время?
Твоя,
Рэд.
PS. Кошениль! Теперь поняла.
Атлантида тонет.
И поделом. Рэд ненавидит это место. Хотя бы за то, что их слишком много, этих Атлантид, и они вечно тонут, на всех своих прядях: остров у берегов Греции, срединно-атлантический континент, развитая доминойская цивилизация на Крите, космический корабль, залетевший к северу от Египта, и так далее, и так далее. На большинстве прядей Атлантиды не существует вовсе – там о ней знают только понаслышке, из грез и безумных слов еще более безумных поэтов.
Из-за того, что их так много, Рэд не может навести порядок или потерпеть неудачу только с одной. Иногда кажется, что пряди порождают Атлантиды ей назло. Словно сговорившись. История заключает альянс с ее врагом. Тридцать, сорок раз за время своей службы она покидала тот или иной тонущий, горящий остров с мыслью: «Зато хотя бы с этим покончено». Тридцать, сорок раз поступал приказ: «Возвращайся».
У подножия вулкана темнокожие атланты ищут свои корабли. Мать одной рукой прижимает к себе ревущего сына, а другой – держит дочь. За ними идет отец. Он несет их домашних божков. Слезы чертят дорожки на его покрытом сажей лице. Жрица и жрец не покидают храма. Они сгорят там дотла. Они отдали свои жизни в качестве жертвоприношения – кому на сей раз? Рэд сбилась со счета. Ей стыдно за это.
Они отдали свои жизни в качестве жертвоприношения.
Атланты заполняют лодки, пропуская вперед божков и детей. Когда земля сотрясается, а небо вспыхивает огнем, даже самые храбрые и целеустремленные бросают свои труды. Записи, вычисления и новые механизмы оставлены позади. На лодки берут только людей и предметы искусства. Цифры сгорят, двигатели расплавятся, арки раскрошатся в пыль.
Эта Атлантида не входит в число самых странных. Здесь нет кристаллов, летающих машин, идеального правительства и экстрасенсорики. (Тем более двух последних и не существует в природе.) И все же: этот мужчина сконструировал паровой двигатель с пропеллером на шесть веков раньше обычного. Эта женщина, благодаря уму и экстатической медитации, осознала полезность нуля для своих вычислений. Этот пастух воздвиг в своем доме стены из свободностоящих арок. Незначительные штрихи, идеи настолько фундаментальные, что кажутся бесполезными. Никто здесь еще не знает себе цену. Но если они не сгинут вместе с этим островом, кто-то может осознать свою роль на несколько столетий раньше и все изменить.
И Рэд пытается дать им время.
Ее имплантаты, отводящие тепло, светятся алым. Жгут ее плоть. Она выделяет много пота. Рычит. Сверкает глазами. Выжимает себя до капли. Спасение острова – работа не для одной женщины, и она прилагает столько усилий, сколько ни одна женщина не в состоянии.
Она катит гигантские валуны, чтобы остановить потоки подступающей лавы. Руками роет русла искусственных рек. С помощью имеющихся в ее распоряжении орудий ломает камни и формирует из обломков другие, в других местах. Вулкан дрожит и раскалывается, выплевывая в воздух булыжники. Из его вершины вырастает каменная сосна из сажи. Она бежит в гору, превращаясь в смазанное пятно тела и света.
Лава мерцает, пузырится, расплескивается. Часть приземляется рядом с ней. Она отходит в сторону.
В пепельно-зеленом море отражается непроглядная муть неба. Разлетаются последние бакланы, черные на фоне черноты. Рэд ищет знак. Она упускает что-то, но не знает, что именно. Некоторое время она размышляет о небесах и океанах, думает.
Она смотрит в сторону, когда ей в лицо прилетает сгусток лавы. Не глядя, она ловит его в ладонь. Ее кожа должна была бы обуглиться, будь она той кожей, которая обтягивает скелеты паникующих на земле атлантов. Но это не та кожа, и она не обугливается.
Слишком засмотрелась. Она поворачивается обратно к кальдере, к кипящей лаве.
И замирает.
Разливающуюся красноту испещряют черно-золотые прожилки. Так выглядят поверхности некоторых солнц, на которые она заглядывает во время увольнения на берег. Не это приковывает ее внимание.
Переливающиеся цвета образуют слова, написанные уже знакомым почерком. Слова задерживаются на считаные мгновения и сменяют друг друга по мере течения лавы.
Она читает. Шевелит губами, беззвучно вторя каждому слогу. Она сохраняет слова под огнеупорными щитами в памяти старого типа. В ее глаза встроены камеры, но сейчас она их не использует. Записывающий механизм зафиксирован на волокнах в ее черепе, которые можно принять за зрительный нерв; она отключает его – Агентство не знает, что она это умеет. Лава переливается через край. Она хотела сломать высокий мыс, на котором стоит, чтобы соорудить из него что-то вроде желоба, по которому расплавленная порода выплеснулась бы в заранее отведенный канал. Но она лишь стоит и смотрит.











