Читать онлайн Граф Соколов – гений сыска
- Автор: Валентин Лавров
- Жанр: Исторические детективы
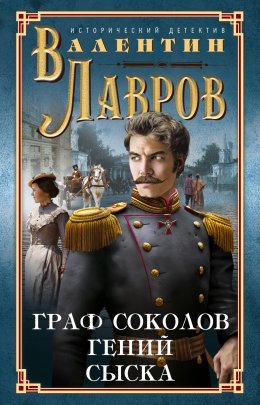
Охраняется законодательством РФ о защите интеллектуальных прав. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.
© В. В. Лавров, 2019
© «Центрполиграф», 2019
Граф Соколов гений сыска
Исторический детектив
Павлу Николаевичу Гусеву, выдающемуся журналисту и замечательному человеку, посвящаю.
Автор
Похождения графа Соколова потрясают. Его невероятные подвиги, чудачества и амурные приключения сделались легендой. По воспитанию, вкусам, размашистости натуры – это персонаж героических времен начала ХIХ века.
Весь Петербург умирал со смеху, когда после венчания в Исаакиевском соборе граф приказал всех поголовно поить шампанским: городовых, прохожих, кучеров и лошадей.
Высший свет ахнул: граф, выйдя из гвардии, сделался сыщиком! Для него распутать хитрое преступление – азартная игра. В борьбе с кознями злодеев гению сыска все средства хороши. Так, во имя справедливости он привязывает убийцу к спине пьяного медведя и пускает плавать в ледяной Москве-реке. Впрочем, многие из приемов Соколова, о которых узнает читатель, стали классикой сыскного дела, вошли в руководства по раскрытию преступлений.
Горячий след
Небывалое злодейство потрясло Москву. Малолетний сын интендантского генерала Лифарева был найден мертвым. Убийца, впрочем, вскоре объявился сам. Бывший комнатный лакей генерала Прохор Бурмин, размазывая пьяные слезы, хватал руками швейцара и дурным голосом орал: «Это я убил Сережу! Он там, в саду, возле ограды!» Соседний трактирщик показал, что вечно безденежный Прохор сегодня пил у него вино, накупил сахарных орешков и вдруг предъявил золотой червонец.
Полиция едва сдержала толпу, которая желала растерзать убийцу.
Но прошло совсем немного времени, и это дело, поначалу казавшееся нехитрым, вдруг приобрело невероятный характер, вошло в историю криминалистики.
Срочный вызов
Перебравшись в Москву, Соколов вначале жил в гостиницах «Париж» и «Лоскутная», а потом стал снимать удобную шестикомнатную квартиру в только что построенном самом высоком доме столицы – номер 19 на Садовой-Спасской. Чуть прежде приобрел в Мытищах барский дом с обширным запущенным парком, куда в летний период спешил каждый выходной.
Вот и теперь, со старинным томиком стихов Державина, которым горячо восхищался и многое помнил наизусть, в тихий августовский послеобеденный час, Соколов прогуливался по широкой, полной сухого желтого света аллее. Два ряда толстенных сосен, облитых янтарной смолой, стояли как гвардейцы на смотру. Среди птичьего гомона чуткое ухо неожиданно уловило тарахтение служебного «рено» – могучего авто в девяносто шесть лошадиных сил. Подумалось: «Вот и кончился отдых…»
В просвете деревьев мелькнул крахмальный передник Анюты – смазливой горничной. Она сложила бантиком губы:
– Что ж такое! Нам опять покоя нет. Вестовой Галкин прикатил…
И тут же, словно из-под земли, вырос парень: весь в кожаном, пыльный, на голове – шлем, на лбу – очки. Гаркнул:
– Происшествие! Николай Федорович сказал вас срочно доставить.
…Поднимая выше деревьев пыль, разгоняя кур и собак, вытрясая душу, спортивный «рено» запрыгал по грунтовой дороге. Отмахав шестнадцать верст, лихо подрулил к дому номер 5 по Большому Гнездниковскому.
Особое задание
– Ну, черти вас задери, чего дергаете? – гремел Соколов, вырастая в кабинете начальника сыска Гартье.
Тот, как и все сыскари того времени, был в штатском. Это же в глазах полковника Соколова если и не было уголовным преступлением, то уж, во всяком случае, являлось крупным мужским недостатком.
– Не сердись, – ворковал Гартье, с восторгом относившийся к Соколову. – У генерала Лифарева – знаешь такого? – сына утром убили. Генерал – лицо влиятельное. Лучше тебя никто с делом не справится. Фотограф Ирошников и медицинский эксперт Павловский уже на месте. Ждут тебя. Жеребцов тоже томится… С Богом!
Авто понеслось мимо зеркальных вывесок, богатых витрин, пестрой толпы прохожих в один из переулков Арбата.
Перламутровые пуговки
Коллеги радостно приветствовали Соколова. Великанообразный, с простодушным лицом младенца, Николай Жеребцов доложил:
– Убийца во всем повинился, протокол допроса подписал. Я его закрыл в подвале. Место происшествия охраняется. Вот госпожа Буц помогает, она экономка у Лифарева.
Чистенькая, тощая, как тарань, с удивительно тонкой талией, особа лет под сорок, одетая в синее муслиновое платье с перламутровыми пуговками, сделала книксен, с немецким акцентом затараторила:
– Мы все убиты горем! Генерал вынужден уехать к губернатору Сергею Константиновичу Гершельману. Я вам во всем помогу.
Они прошли в парадный подъезд мимо важного, в галунах швейцара и толпы ливрейных слуг. Узорчатый паркет, зеркала в толстых резных рамах, анфилады кабинетов и залов, потолки в росписи и лепнине – все дышало роскошью. Через заднюю дверь вышли в сад: клумбы с пышными цветами, мраморный фонтан, песчаные дорожки, обсаженные жасмином и сиренью, новенькие мачты – для электрического освещения.
Уловив взгляд Соколова, экономка объяснила:
– Завтра Сереже исполнилось бы восемь лет. Готовился бал. Вот мы с генералом пригласили из «Всеобщей компании электричества» специалиста. Нарочно торопились, к празднику. Двенадцать электрических люстр горят. Его мать три года назад сбежала с итальянским тенором. Но я старалась заменить… – Она ткнула пальцем: – Наш Серж тут, – и разрыдалась.
Загадка
Саженях в пяти от дома, невдалеке от узорчатой кованой ограды, освещенной красным, уже клонившимся к крышам домов солнцем, неестественно закинув в желтых кудряшках голову, в кустах сирени лежал мальчик. На нем была матроска, коротенькие, гораздо выше колен, штанишки и новые, светлого лака башмачки.
Началась работа. Соколов цепким взглядом осматривал место убийства. Вдруг он наклонился, что-то поднял, положил в карман. По его обычно бесстрастному мужественному лицу на сей раз скользнуло удивление. Отдал команду:
– Ирошников, фотографируй труп. Жеребцов, снимай гипсовые слепки следов тут и тут. И детские ботиночки положи в саквояж – очень любопытные ботиночки! – Повернулся к Павловскому: – Ну, дорогой профессор, осматривай труп, делай наблюдения.
Сколько Павловский ни искал, обнаружил лишь легкие ссадины да ровный синюшно-багровый след на правом предплечье.
– Странный след! Словно сильно розгой ударили. Но от таких повреждений еще никто не помер.
Соколов поманил пальцем Жеребцова:
– Дитя природы, каким способом Бурмин убил ребенка?
Жеребцов, словно крыльями мельницы, помахал руками:
– Аполлинарий Николаевич, так он нетрезвый! Но признался: «Я убил». Вот протокол допроса, сами посмотрите, подпись поставил… Проспится, вам все расскажет. Ей-богу!
– Хорошо, работайте! Пойду осмотрю комнаты.
Альбом
Окно детской выходило в сад. Комната была полна лошадок, плюшевых мишек, пирамидок. На стуле лежал в инкрустированном переплете альбом. Соколов раскрыл его и ахнул: полный набор российских марок с разновидностями, включая первую, 1857 года!
Экономка, увидав альбом, вся затряслась:
– Сегодня я была в саду, вдруг слышу крик электрика Михеева – он сидел на столбе и подтвердит справедливость моих слов: куда, дескать, лезешь? Прибежала, вижу: убийца Бурмин хочет альбом этот самый Сержу сунуть, а этаж хоть и первый, но – сами видите! – высокий, с земли не достать. Вот Бурмин и влез по пожарке, передал альбом. Спрыгнул на землю, дерзко мне отвечает: «Не ори, это мой подарок». И обратно через забор – шасть! Позже в том месте и нашли Сержа. Подлец Бурмин за золотой червонец его убил.
– Какой червонец?
– Да накануне была тетка Сержа, подарила. А нынче днем трактирщик Максимов пришел: «Ваш бывший лакей вечно без денег, а нынче накупил орешков сахарных, вина и расплатился золотом. Подозрительно дюже!» А тут, в стельку пьяный, сам Бурмин объявился. «Я, – говорит, – Сережу убил!» Признался, негодяй.
Уроки зоологии
– Мадам Буц, вы мне позволите по лестнице полазить? – Соколов с ловкостью спортсмена вспрыгнул на мраморный подоконник, перебрался на лестницу и оттуда на землю.
Экономка от удивления разинула рот. Но дальше и вовсе чуть в столбняк не впала.
Красавец-сыщик внимательно оглядел окружающее пространство, зачем-то подергал строительный гвоздь, вбитый на высоте плеча в росшую под окном березу. Затем присел и стал собирать с земли червей, поднял и дохлую лягушку с желтым брюшком. Всю эту мерзость завернул в платок и протянул медику, который как раз подошел с сыщиками:
– Убери эти штучки! И можно труп отправлять на вскрытие.
Далее, склонившись к уху медика, начал что-то говорить. Медик мотал курчавой головой:
– Невероятно!
Жертвы прогресса
На другой день в кабинете главы сыщиков Гартье собралось любопытное общество: печально поникший седовласый усач генерал Лифарев, важные свидетели – мадам Буц и электрик Михеев, и в полном составе сыщики. Как всегда свежий, красивый и веселый, Соколов произнес:
– Совершенно невероятное убийство раскрыто. Дело Сергея Лифарева завершено. Среди нас – двое, которые знали правду, но молчали, ибо были уверены, что убийство раскрыть невозможно.
Все переглянулись, а генерал даже побледнел. Соколов бодро продолжал, вынув из саквояжа детские лакированные ботиночки:
– Взгляните на подметки – на них нет ни миллиграмма земли! Мальчик накануне дня рождения слегка простудился, и мадам Буц справедливо запретила ему выходить во двор. Он и не выходил. Но ему хотелось сахарных орешков, которые мадам Буц, оберегая зубы ребенка, Сереже запрещала. Но появился Бурмин, любивший мальчика. Он передал ему альбом, который накануне выиграл в карты у спившегося чиновника. Кстати, эти марки стоят целое состояние. Сережа отдал червонец и попросил на полтинник купить ему орешков, остальные он подарил Бурмину. Тот, человек слабый, загулял, а когда стал перелезать через забор, чтобы отдать орешки, то, к своему ужасу, увидал мертвого ребенка.
– Кто же тогда убил моего сына? – вскрикнул генерал.
– Сейчас узнаете! Вообразив с нетрезвых глаз, что мальчик устал его ждать, пошел навстречу, свалился с забора и расшибся, Бурмин впал в самобичевание, истерично принялся кричать: «Я убил Сережу!»
– Что же произошло? – изумился генерал Лифарев.
– А произошло вот что, – продолжал Соколов. – Мадам Буц, как дружно утверждает прислуга, давно состоит в интимных отношениях с электриком Михеевым. По ее протекции именно Михеева направила компания для установки света. Вчера мадам Буц пригласила электрика в свои апартаменты «попить чаю» – благо вас, генерал, не было дома. Лакеи видели, как мадам затворяла за гостем свою дверь. Электрик так спешил в объятия возлюбленной, что, оголив от шелковой оболочки провод, не успел прикрепить его к фарфоровому изолятору. Это как раз над окном Сережи. Электрик поступил преступно-небрежно, нарушив все служебные инструкции. Именно эта халатность привела к гибели ребенка. Михеев просто вколотил гвоздь в дерево и завязал на нем провод: «На короткое время!» Но этого времени вполне хватило для трагичного финала.
Генерал поднял брови.
– Простите, граф! Никак не могу согласиться. Вы же сами только что утверждали, что Сережа не выходил из дома. Как же он мог в таком случае пострадать?
– Да, история, признаюсь, необычная! Томясь домашним заключением, мальчик вылез на пожарную лестницу и баловства ради стал мочиться на оголенный провод. Моча – электролит, обладающий хорошей электропроводностью. Ребенка поразил ток – это стало причиной его мгновенной смерти. Это подтверждает экспертное заключение профессора Павловского: «При исследовании трупа обнаружены отек и покраснение слизистой оболочки мочеиспускательного канала, отек и кровоизлияние в слизистой мочевого пузыря. Причина смерти: внезапная остановка сердца (фибрилляция желудочков, асистолия) плюс остановка дыхания (судороги дыхательных мышц)».
– Так сказать, горячий след! – с горечью воскликнул генерал. – Но как Сережа попал в кусты – это более десяти метров от места происшествия?
– Электрик Михеев, увидав труп, сразу понял причину смерти. Он решил спрятать концы в воду, с помощью мадам Буц оттащил мальчика. К их радости, первым обнаружил труп Бурмин. Признаюсь, поначалу я чувствовал себя в тупике. Но при исследовании места происшествия многое прояснилось. Падая замертво с лестницы, мальчик предплечьем свалился на висящий провод, сорвал его.
– Вот оно что. – Генерал Лифарев задумчиво потер лоб. – Теперь понятно, почему на предплечье бедного мальчика багровый след. – Он помолчал, затем вопросительно взглянул на Соколова: – Слуги мне сказали, что вы подобрали под окнами каких-то червей. Это так?
– Совершенно верно!
– Но с какой целью?
– Все просто. Оголенный провод, как вы, генерал, помните, упал на землю. Оказавшись на влажной почве, провод создал так называемое «шаговое напряжение». Под электрическим воздействием черви выползли наружу – уже полудохлые. Была убита и вот эта лягушка.
Соколов вытащил из саквояжа платок и высыпал на стол червей и лягушку.
Вдруг он посмотрел на электрика и экономку:
– Господа хорошие, снимите вашу обувь!
Те покорно исполнили приказание.
Жеребцов достал гипсовые слепки следов, снятых возле трупа. Обувь точно совпала с ними.
Соколов, словно фокусник перед коронным номером, поднял вверх перламутровую пуговку:
– А вот эту деталь вашего, мадам Буц, муслинового платья я нашел там, куда вы вчера положили мертвого ребенка. Для меня это было первым знаком: вы в убийстве замешаны. Вопросы есть?
Вопросов не было.
Экономка зашлась в истерике, электрик Михеев пнул ее под столом ногой:
– Молчи, дура! Мы жертвы технического прогресса.
Впереди их ждал суд: один обвинялся в преступной халатности, приведшей к человеческой жертве, другая – в пособничестве преступлению и сокрытии его.
Эпилог
После окончания совещания Гартье пожал руку Соколову:
– Поздравляю, поработал блестяще. Можешь ехать в свои Мытищи. Неделю отдыхай, беспокоить не буду.
Соколов хохотнул:
– Ведь врешь, Николай Федорович! Разве мне дадут отдохнуть неделю? Сомневаюсь.
– Верно говорю – неделю!
– Хочешь пари на ящик шампанского?
…Через два дня Соколов шампанское выиграл: прикатил на «рено» Галкин, смахнул со лба пот и пыль, доложил:
– Начальство требует! Убийца на свободе…
Началось новое приключение.
Звериный оскал
Этот чудом сохранившийся дом, согласно легенде, был построен еще при Иване Васильевиче Грозном. Толстые покосившиеся стены, изъеденные трещинами, глубоченный, из громадных белых камней подвал, фасад, вылезший далеко за линию новых построек, – все дышит глубокой стариной. И еще напоминает об ужасной истории, случившейся здесь на заре двадцатого века.
Связи случайные
Если читатель полагает, что похитители средств передвижения появились одновременно с развитием автомобильного транспорта, то он заблуждается. Во времена благословенные, патриархальные, были лихие людишки, похищавшие коляски, кареты, брички, ландо, фаэтоны, кабриолеты, телеги и даже похоронные дроги.
В Москве появилась целая шайка, которую долго не удавалось поймать. Наконец напали на след. Началась слежка, ибо важно было выявить всех: и кто угонял, и кто затем продавал скамейку (так на воровском жаргоне называли лошадь), и коляску, и рубашку (сбрую).
Вот с этой слежки и началось дело, о котором наш рассказ. Памятный читателям «Кровавой плахи» агент Гусаков-сын влетел, взмыленный, в кабинет начальника сыска Гартье и, облизывая пересохшие губы, взволнованно заговорил:
– Я вчера «вел» Маньку Губу, ну, эту, Марьям Гулямдину, по делу «экипажей». Взял я ее от булочной Филиппова на Мясницкой площади. Ну, значит, идет Манька по аллее Чистых прудов, вдруг – шасть! – к ней какой-то господин подваливает. Высокий, в костюме-тройке, на животе толстая золотая цепочка – богатый франт, одним словом. И усищи – ну, право, шире плеч! – нафабренные торчат. Начинает он Маньке что-то заливать, явно, что ухаживает…
– Да, Манька из себя аппетитная. Помнится, прежде на Тверском работала целкой, — кивнул одобрительно Гартье. (Заметим: на жаргоне «целка» – это незарегистрированная проститутка.)
Гусаков залпом осушил стакан воды и уже более спокойно продолжал:
– Господин веселый, да и Манька, дура, рада, что такого солидного кавалера завлекла. Зашли они в винный подвальчик у Покровских ворот. Минут через тридцать Манька выплыла явно навеселе. Ее спутник кликнул лихача, я тоже – держу их крепко. На Старой Басманной они вошли в небольшой дом, что напротив церкви Никиты Мученика. Господин своим ключом открыл входную дверь – это с торца, там, где Александровское коммерческое училище. Думаю: надо ждать! За час-другой господин успеет к Маньке под юбку слазить, буду дальше ее пасти.
Гартье начал раздражаться:
– Ты, Иван, сразу дело говори. Манька от тебя «соскочила»?
– Хуже! Она вообще куда-то испарилась. Вроде миражного видения. Как собака всю ночь дрожал от холода – во, рубашечка у меня тонкая, дневная. В девять утра господин вышел из дома. Глазам не верю – один!
Закрыл дверь на ключ, отправился к Межевому институту в Гороховском. Там трактир. К десяти вернулся домой – у него прием…
– Какой такой прием?
– Ах, Николай Федорович, забыл сказать: этот господин – дантист. И у него вывеска, медными буквами написано:
Дантист
Альфред Оттович ЛЕПИНЬШ
Безболевое лечение
Прием с 10 до 14 часов
Тут мой папаша нарисовался – я его извозчиком вызвал. Полтинник позвольте в счет включить. Покумекали, решили: пусть мой папаша, Матвей Иванович, идет под видом зуб выдернуть – вдруг Маньку обнаружит? Дантист дернул у папаши зуб, благо гнилой был. И зачем-то долго-долго эту вонючку нюхал, словно цветок какой. А папаша отдал ему целковый (я в счет включу?) и начал действовать: он у меня страсть какой бедовый! И в туалет сходил, и вроде по ошибке вместо выхода – извините, дескать, от боли мозги помутились – в спальню влез. Нигде Маньки не видно. Сейчас он пасет двери выхода. Замену просит.
Судьба-злодейка
Гартье приказал:
– Эй, Галкин! Гони в Мытищи… Привези Соколова.
…Граф появился, как всегда, веселый, красивый, шумный:
– Ну, начальство, где шампанское? Проспорил ты, Николай Федорович! Обещал неделю меня не беспокоить, а сам и трех дней выдержать не смог.
Гартье изложил всю эту странную историю. Соколов, знакомый с Гулямдиной, грустно заметил:
– У этой Маньки жизнь несчастная. Было ей шестнадцать, посватался к ней какой-то инженер-путеец, человек достойный, да под поезд попал, пополам его перерезало. Отец, правоверный мусульманин, когда узнал, что дочь, не дождавшись никях (свадьбы), носит ребенка, выгнал ее из дому. Манька родила, а кормить крошечную Розалию нечем. Вот и пошла тротуары шлифовать. Тяготилась она своей блядской профессией, да куда из порочного круга выбьешься? Пристала к «экипажникам»… Гусаков, иди сюда! Поезжай к дворнику, где Манька живет, – это дом семь по Ваганьковскому. Скажи: если появится Манька, пусть даст нам знать. Жеребцов, возьми в архиве все, что есть на этого дантиста. И вести за ним неусыпное наблюдение! Да, еще следует затребовать все дела о пропавших дамах, скажем, за последние два года. Выполняй приказ!
Страшное предположение
Закончился яркий, горячий, полный шума, движения, красок августовский день. Один из немногочисленных дней, составляющих человеческую жизнь. День, отпущенный Создателем для мира между людьми, для всеобщей радости, для наслаждения природой и прекраснейшей ее частью – женской прелестью, лучше которой нет ничего в Мироздании.
Но в этот праздник жизни врывались адовы создания, ненавидевшие Бога и все живое. Эти создания несли зло и распад.
Сидя за столом у окна, за которым все более стихала вечерняя Москва, Соколов изучал ворох документов, чтобы хоть немного уменьшить, ослабить это черное зло. Из глубокого кресла, стоявшего в дальнем углу, явственно доносилось похрапывание. Это не выдержал дневной маеты Жеребцов – сон сморил его.
Соколов любил этого парня, ценя его исполнительность, бесстрашие и вполне по-детски наивную цельность неиспорченной натуры. Со всей своей непосредственностью Жеребцов презирал законы, если они мешали ему ловить убийц и бандитов, и с легкой совестью эти законы нарушал. За это, как утверждали злые языки, порою бывал бит своим патроном, которого, впрочем, все равно горячо обожал.
– Эй, дрыхло, раскрой вежды! – крикнул Соколов. – Ты знаешь, сколько особ прекрасного пола без следа сгинуло за два года? Пять! Манька, если не найдется, станет шестой. И все эти исчезновения начались полтора года назад – с приездом в Москву дантиста.
– Вот это открытие! – расцвел Жеребцов. – Едем брать…
– На основании этого совпадения нам разрешения не дадут. Гусаков – свидетель неважный. Он задремал, а Манька выскользнула из дома.
Жеребцов фыркнул:
– А на кой нам ляд разрешение? Мы сами себе разрешим – проведем литерное мероприятие номер один.
– Обыскать жилище в отсутствие хозяина? Дешевый номер для бездарей. Нет, мы тщательно простучим каждый сантиметр стен, полы, если надо, подымем, но в присутствии дантиста. И ты будешь глядеть не отрываясь в его зрачки! Как только они превратятся в точку, заходит кадык, побледнеет – значит, там ищем! И сделаем это завтра.
Жеребцов полюбопытствовал:
– Аполлинарий Николаевич, что это? Какие фото на столе?
– Это Гартье в свое время забрал у родственников портреты пропавших женщин. Посмотри внимательней, что у них общего?
– Все молоды, хорошенькие.
– И еще заметь: они все, как наша Манька, брюнетки и с крупными, объемистыми бюстами. Красота, я сказал бы, одного порядка! Все они, по справкам, не отличались безупречной нравственностью. То есть можно было подойти на улице, пообещать деньги, и они пошли бы за незнакомым. Впрочем, утро вечера мудренее. Я пришлю горничную Глашу, она тебе здесь, в кабинете, на диване постелит.
…Всю ночь Жеребцову снились бандиты, захватывающие дух погони и округлые прелести Глаши.
Тщетные предосторожности
Ровно в девять утра в Большом Гнездниковском произошла встреча: Соколов, еще накануне соединившись по телефону 171-86 с владельцем загадочного дома по Старой Басманной неким Половинкиным, пригласил его к себе: «Для конфиденциального разговора!»
Этот Половинкин, оказавшийся зажиточным владельцем многих домов и желчным, нервным господином, никак не мог уразуметь, зачем господа сыщики желают осмотреть его дом.
– Городская управа хочет его купить под наши нужды, – соврал Жеребцов. – За о-очень большие деньги.
– Поехали, – сразу же согласился Половинкин.
Путники поймали какого-то ваньку – древнего деда, не спешившего погонять полудохлую кобыленку рыжей масти, и скромненько отправились на Басманную. Хотя Соколов был в штатском неброском костюме, но его величественный вид, строгий взгляд умных глаз создавали впечатление чего-то генерал-губернаторского. Он внушительно произнес:
– Господин Половинкин, ни в коем случае не говорите вашим жильцам, что мы из сыска. Не следует волновать умы.
Половинкин в ответ что-то буркнул.
…Сначала для проформы зашли в хозяйские апартаменты. Бегло огляделись и направились к дантисту. В кресле у того, открыв рот, сидела пациентка в пышном шелковом платье и с крупными бриллиантами в ушах.
– Это супруга городского головы Гучкова, – с придыханием шепнул Половинкин. – Важная дама!
Дантист зашевелил усищами.
– Что угодно, любезные?
– Простите за беспокойство, – самым душевным тоном изрек Соколов, – осматриваем здания города, чтобы предотвратить обвалы.
– Господа из городской управы, – выпалил глупый Половинкин.
Дама, продолжая держать рот открытым, удивленно вытаращила глаза: сотрудники ее мужа? Но она таких никогда не видела.
Дантист гневно раздул щеки, отчего палкообразные усы зашевелились.
– И что вы намерены в моем доме делать?
– Осмотрим состояние кладки и быстро уйдем, – миролюбиво ответил Соколов. И поклонился даме: – Извините, такая у нас работа. – Кивнул Жеребцову: – Николай Иванович, приступай.
Квартира дантиста ничего примечательного не представляла. Кроме обычных удобств и спальни, были крошечный зубоврачебный кабинет и обширная гостиная с мраморным камином, диваном, книжным шкафом, малиновой козеткой и прочим. Зато на стене, отделявшей от хозяйской половины, висел громадный персидский ковер, от пола до потолка увешанный старинным оружием: алебардами, пистолетами и ружьями, пищалью с золотой насечкой, булатной саблей, цепью гремячей, плеткой с серебряным набалдашником и еще чем-то.
После беглого осмотра Соколов приказал:
– Николай, займись жилыми помещениями, а я спущусь в подвал.
Жеребцов старательно осмотрел полы – не подымали ли паркет, простучал наружные стены – нет ли полого звука, побывал на чердаке и даже слазил в печь и камин – ничего интересного!
Дантист криво усмехнулся:
– Этот дом к вечеру не рухнет?
– Нет, еще долго простоит, – ответил Соколов, поднявшийся из подвала. Когда сыщики вышли на улицу, он добавил: – В подвале человеческая рука ни к чему лет двести не прикасалась!
…Как доложит наружная служба, дантист сразу же побежал к начальству – жаловаться на самоуправство.
Кошки-мышки
Гартье и Соколов были вызваны к градоначальнику Адрианову. Генерал-майор гневно размахивал руками:
– Как вы смеете врываться в частные дома? Почему беспокоите честных обывателей? У дантиста Лепиньша прекрасные характеристики, у него лечатся достойные люди!
Гартье дрожал как осиновый лист, а Соколов насмешливо проговорил:
– Александр Александрович, у дантиста Лепиньша уже два года никто не лечится: он тихо лежит на кладбище. Об этом – телеграмма начальника рижского сыска Кошко. И уважаемый вами лекарь должен ответить: куда делись пять женщин? Да и шестая, войдя к лже-Лепиньшу в дом, бесследно исчезла. Заодно неплохо бы узнать его подлинное имя.
Соколов не сказал, что успел отправить для опознания в Ригу фото дантиста, добытое «оперативным путем». И еще он приказал усилить наблюдение за дантистом: «Дышать ему в затылок, куда бы он ни пошел, демонстративно сидеть возле его дверей. Пусть видит, что он у нас на крючке, и пусть нервничает, авось и выдаст себя чем!»
Зато Жеребцов начал сомневаться:
– В доме трупов нет! Может, дантист не убийца? А то, что живет по чужому виду – мало ли таких! Я бы за фальшивый паспорт арестовал его, допросил, и дело сразу бы прояснилось.
– Если он убийца – то трупы не выдаст, за свою шкуру будет бороться. Давай дождемся ответа из Риги. Но пока кое-что предпримем. – И Соколов поделился своей задумкой.
Жеребцов был в восторге: он хохотал, хлопал в ладоши и с нетерпением стал ждать ночи – времени осуществления плана.
Загробные голоса
Ночью под окнами спальни дантиста раздался хор женских голосов, жалобно стенавших: «Душегуб, почто жизни нас лишил? Ах, горько нам!»
Дантист, чей сон прерван был столь жутким способом, подскакивал к окну, кричал в темноту: «Кто тут? Чего вам?» Ответа не было. Проходило полчаса, и вновь раздавались стенания: «Убийца, душегуб!»
С первыми лучами солнца, взлохмаченный, с торчащими усами, в ночной пижаме, дантист с шумом распахнул дверь. Увидав агента, сидевшего на пороге, обрадовался, заикаясь, спросил:
– Ночью вы, извините, тут были? Голоса слышали? Женские…
Иван Гусаков строго отвечал:
– Да, господин дантист, всю ночь, скажу прямо, дежурил. Но насчет голосов – это у вас мерещенье слуха.
– Нет, голоса явственные. Более того… – Дантист достал из кармана фото – шесть изображений женщин. Шепотом произнес: – На полу возле окна лежали. Неужели никого не заметили?
– У меня муха не пролетит! – гордо сказал Гусаков. – Эй, Новиков! Ты с торца стоял, голоса женского рода не слышал?
Из густых кустов сирени тут же вылез квадратный парень крестьянского вида, удивился:
– Никак нет, Иван Матвеевич, такого ничего не было. Всю ночь тишина, вот разве кузнечики…
Дантист поник головой, молча ушел в дом, оттуда целый день не появлялся и прием не вел. Ночью все повторилось заново: женские стенания, крики и проклятия дантиста, однажды пальнувшего в окно из антикварной пищали.
Последний вздох
На другое утро, спозаранку, в квартире Соколова зазвонил телефон.
– Господин полковник, Аполлинарий Николаевич, это Гусаков-папаша беспокоит. Скорей приезжайте, дантист яд принял, благим матом орет.
Менее чем через десять минут Соколов прибыл на место. Дантист в судорогах катался по полу. Дыхание было прерывистым, голова судорожно откидывалась назад, зрачки сходились к переносице.
– Челябуху при-ня-ял… – прохрипел он. – Скорее, в больницу… Хочу жить!
– Где трупы? – грозно крикнул Соколов. – Пока не скажешь, в больницу не отправлю.
Дантист страшно застонал, дернул головой:
– Под ковром!
Соколов сорвал со стены персидский ковер, тот тяжело грохнулся на паркет. На стене под потолком желто отсвечивала большого размера бронзовая крышка. Сыщик пододвинул к стене стол, поднял валявшийся на полу старинный кинжал и, вставив в зазор, нажал на рукоять. В образовавшуюся щель просунул ладонь, натужась, приподнял крышку. Тут же пахнуло смрадом.
– Ясно, крышка закрывает вентиляционный короб. Дантист сюда и сбрасывал трупы. В подвале наверняка в незапамятные времена хранились припасы. Но потом стену укрепили, вентиляционный вход замуровали. Ковер с оружием был повешен не случайно. Маскировка удалась. – Так говорил Соколов успевшему прибыть Ирошникову. – Юрий Павлович, отправь это исчадие ада в Лялин переулок, в полицейскую больницу.
Ирошников взглянул на звериный оскал застывшего лица:
– Поздно…
Эпилог
Из Риги пришел ответ: «Изображенный на фото дантист Густав Хинцельберг, половой маньяк, убийца, был задержан на месте преступления. Бежал из-под стражи. Отравил приютившего его коллегу Альфреда Лепиньша и завладел чужим паспортом. Находится в розыске».
Из вентиляционной скважины извлекли шесть женских трупов разной степени разложения. Они были умерщвлены одинаковым способом: сначала принимали большую дозу снотворного, затем маньяк руками душил свои жертвы и совершал некрофильский акт. При этом кусал у трупов груди. Отпечатки зубов преступника совпали с местами укусов.
Марьям Гулямдину хоронили со всеми почестями. Был венок от столичного сыска. Старый Гулямдин взял в свой дом сиротку Розалию, вздохнув: «Бэтэн якшэ эшьне аллага тапшэрамэн!», что означало: «Всякое доброе дело угодно Аллаху!»
И это верно.
Летающий труп
Мрачная тайна этого преступления, казалось, никогда разоблачена не будет. Злодеи проявили истинно дьявольскую изощренность. Аполлинарий Соколов признался газетчикам: «Когда я принялся за это дело, мне казалось, что стою перед высоченной глухой стеной, преодолеть которую – выше сил человеческих…»
Под звон гитары
Знаменитый трактир Егорова помещался в Охотном Ряду. По необъяснимой причине это заведение полюбили жандармские офицеры, сыщики, полицейские, секретные агенты. Бельэтаж заполнялся нижними чинами. Здесь было шумно и громко играл орган – «Коль славен» и «Боже, царя храни». В трактире не курили: Егоров был старообрядцем.
Более важный народ поднимался по мраморным ступеням на второй этаж. В просторном зале сияли громадные зеркала, звенел хрусталь, негромко разливалась струнная музыка.
Вот и теперь граф Соколов, кинув легкое пальто в руки почтительного швейцара, вытирая большим платком лицо, влажное от дождя, бодро вошел в зал. Суета лакеев, запах кушаний, приятное тепло нагретого воздуха, приветствия знакомых (а кто в Москве не знал Соколова!) не могли вывести его из задумчивого состояния.
За Соколовым на длинных ногах, обутых в невообразимого размера штиблеты, вышагивал Жеребцов. Именно он должен был сообщить подробности странного преступления, которое занимало знаменитого сыщика.
Лакей Семен, молодой услужливый парень из ярославцев, одетый в кумачовую рубаху навыпуск и в козловых сапожках, спешил с поклонами:
– Наше почтение-с! С удовольствием желаю знать о вашем аппектите. Нынче у нас упоительные омары с грибами – специального человека из «Яра» переманили. Свежие устрицы, копченый угорь под тонким соусом «прованс», цесарки фаршированные, кулебяка с визигой. Стерлядь прикажете кусками по-американски или целиком в шампанском?
Соколов нетерпеливо прервал:
– Мне нынче не до разносолов. Тащи селедку с картошкой, огурцы малосольные да борщ. Графинчик чтоб ледяной был. Беги! – И к Жеребцову: – Рассказывай, что выяснить удалось?
Тот, желая подчеркнуть собственную исключительность, с азартом заговорил:
– Ведь днем минуты спокойной не дают! Так я вчера вечером оставил на службе Ирошникова, стали мы дактилоскопическую картотеку в порядок приводить. Вдруг – телефон! Как вы, Аполлинарий Николаевич, приказываете, я сразу на часы посмотрел: без десяти минут двенадцать. Мужчина говорит, а сам страшно взволнован: «Я солист Большого театра Иван Арчевский. Живу в доме номер три – угол Малой Дмитровки и Настасьинского переулка. Сейчас открыл парадную дверь, а там, на площадке, человек лежит, стонет и вся спина в крови. Я даже руки измазал! Пригляделся, ба! Да это мой сосед, фельдшер Попов, в пятом нумере живет. Скорее приезжайте!»
Мы с Ирошниковым вскочили в коляску – десяти минут не прошло, как были на месте преступления. Попов лежал в луже крови. Его ударили под левую лопатку, но сердце не задели. Я спросил: «Кто на вас покушался?» Попов простонал: «Не знаю, врагов у меня нет…» У него даже кошелек из кармана не взяли. Мы отправили его в ближайшую больницу – Екатерининскую, это на Петровском бульваре. Но по дороге он скончался.
Подозрения
Соколов глубоко задумался, даже перестал борщ есть. Потом сказал:
– Но у этого преступления должны быть мотивы. На такое злодейство должна толкнуть острая необходимость.
– У меня есть подозрения, – заметил Жеребцов, пропустив рюмку водки. – Попов служил в Императорском Вдовьем доме на Садовой-Кудринской. Я утром был там. Все о покойном отзываются тепло: «Тихий, исполнительный человек, ни с кем не ссорился». Но… владелица дома, где жил убитый, мадам Тюляева мне сообщила, что у жены Попова роман. С кем, вы думаете? С тенором Арчевским, тем самым, что позвонил в сыск.
– Ты, дитя природы, желаешь сказать, что знаменитый тенор из-за страсти зарезал соперника?
Жеребцов азартно воскликнул:
– Конечно! Артисты – они все балухманные. Жена Попова – Маргарита – сообщила артисту о позднем дежурстве мужа. Тот выследил и… А потом нам позвонил: дескать, алиби! Старый трюк. Ведь больше некому.
Соколов вынул золотой хронометр, который недавно купил в магазине «Павел Буре» (Кузнецкий мост, 1) за четыреста пятьдесят рублей:
– Скорее закончим ужин и – в морг! Там, небось, Павловский экспертизу проводит.
В царстве мертвых
Уже через полчаса сыщики въезжали в старинные ворота Екатерининской больницы. Слева от церкви – приземистое сооружение о четырех изящных арочных окнах – морг. (Впрочем, он и ныне там.)
К сыщикам вышел невысокий человек в переднике, забрызганном кровью. Почесав бороду в мелких кудряшках, представился:
– Патологоанатом Марков! Вы, я вижу, из полиции? Павловский там…
Сыщики вошли в помещение. На секционном столе лежал труп. Большие руки вытянулись вдоль туловища, подбородок остро задран вверх. Сквозь желтую кожу резко проступали ребра. Павловский возле раковины мыл руки.
– Я зашил раневое отверстие – чтоб кровотечения не было. Коля, ну-ка, подхвати за плечи, перевернем на живот. Нож прошел в плевральную полость – вот тут, левее сердца. Убийца, думаю, неопытен, промахнулся, в сердце не попал. Однако повреждена нижняя доля легкого. Попов скончался от массового кровоизлияния в плевральную полость – до двух литров. Направление раны – сверху вниз.
– Ого! – удивился Соколов. – Убийца выше рослого Попова.
– Как Арчевский! – обрадовался Жеребцов.
– Тебе, дитя природы, хотелось бы, как во времена Тайной палаты, вздернуть тенора за ребро, – насмешливо сказал Соколов. – Тогда он принял бы на себя все убийства от сотворения мира. Негоже так! А если перед тобой невиновный? Что тогда? Я сам допрошу тенора. Привези его, но – смотри у меня! – вежливо.
Пустые хлопоты
Арчевский сразу же признался в амурных проказах:
– Вы, любезный граф, желаете регламентировать мою личную жизнь? Маргарита молода, красива и даже умна. Чувства у нас взаимные. Обманывали покойного мужа? Ах, можно подумать, что вы, граф, исповедуете монастырские нравы.
– Кто, на ваш взгляд, убил Попова? Кому помешал этот безобидный человек?
Арчевский окончательно вспылил:
– Это ваша работа – выявлять преступников. А у меня, простите, для этого нет больше времени. Если не найдете убийцу, то обязательно напишу своему земляку и другу, а вашему министру Столыпину: «Петр Аркадьевич, в Москве убийц перестали ловить». Адью!
…Жеребцов с извинениями отвез тенора к служебному входу в Большой театр – на репетицию. Сам же отправился опрашивать знакомых Попова.
Соколов до глубокой ночи встречался с осведомителями и разного рода бандюгами. Сыщик пошел на крайность:
– Сдайте того, кто Попова замочил, вот – две тысячи! – отдам, из своих денег.
– Аполлинарий Николаевич, век свободы не видать, не знаем!
Уже за полночь Соколов на сон грядущий, сидя за стаканом кефира, просматривал газеты. Вдруг глаз резануло сообщение в траурной рамке:
«Вдова и дочери коллежского советника Александра Порфирьевича Попова с глубоким прискорбием сообщают о безвременной кончине горячо любимого мужа и отца. Панихида и похороны 24 сентября в 12 часов утра на Ваганьковском кладбище».
«Надо съездить, – решил Соколов, – поддержать бедную женщину».
Дела кладбищенские
На другой день, не заезжая в сыск, Соколов из дома отправился на Ваганьковское кладбище. Было начало двенадцатого. К своему удивлению, уже возле ворот он увидал вдову Попова. Вся в трауре, который весьма шел к ее белокурым волосам, она нервно сказала:
– Почему-то задерживается катафалк! Я вчера была в Екатерининской больнице, сдала погребальную одежду доктору Маркову – такой милый человек с бородкой. Он сказал, что в восемь утра можно забрать Александра Порфирьевича. Катафалк любезно согласился проводить мой сосед Арчевский. Но их все нет…
Вдруг, срывая с узды пену, подкатил лихач. Из коляски выпрыгнул Арчевский. Увидав Соколова, он отвел его в сторону:
– Как хорошо, что вы тут! Прямо не знаю, как Марго сообщить, да и вам это знать интересно. Видите ли… из морга, кажется, исчез труп Попова. Я думал, что шутка какая-то дурацкая. Все палаты больницы обшарили, чердаки. Нету трупа! Вместе с гробом пропал. Улетел, что ли? Я уже сообщил по телефону господину Жеребцову. Он в больнице следствие ведет. Ах, тяжелая и неприятная миссия – сообщить Маргарите.
…Вдова, услыхав кошмарную новость, как и положено барыне, грохнулась без чувств.
О пользе некрологов
Соколов совсем сбился с ног – дело не шло.
На четвертую ночь, наконец, усталость одолела его богатырскую натуру. Он забылся сном – легким, поверхностным. Вдруг среди ночи его осенила счастливая мысль, сон моментально отлетел. Быстро-быстро оделся, выскочил на ночную улицу. Возле арки Красных ворот дремал какой-то ванька. Соколов засунул в рот два пальца, оглушительно, по-разбойничьи свистнул:
– Эй, олух царя небесного, гони к Публичной библиотеке!
Уже минут через десять были на месте.
Библиотечный сторож, чей покой нарушил сыщик, долго не желал открывать. Тогда Соколов заорал:
– Я сейчас тебя, старый пень, арестую за пособничество убийцам и сопротивление законной власти! – и надавил с такой страшной силой, что громадная дверь затрещала.
После этой атаки сторож сдался.
Влетев в зал периодики, Соколов стал лихорадочно листать последние номера газет. Вдруг радостно гикнул:
– Вот оно! Думали Соколова обхитрить – не вышло! На, дед, тебе за удачу – четвертной билет. Вспоминай наших! А газетку, извини, возьму – для служебной надобности.
Головешки
Положив перед Гартье «Московский листок», Соколов, словно во время пушечной пальбы, громко говорил:
– Меня как молния озарила: я всю подлость этих мерзавцев враз раскусил! Я не знал, кто конкретно пошел на такое, но понял суть негодяйства. Все это сделано ради страховки! И точно, стал листать газеты, вижу знакомое имя – Санька Темчук! Вдова, вишь, некролог опубликовала: «Безутешное семейство со скорбью сообщает о невозвратимой утрате…» А сам этот Санька, аферист знаменитый, сейчас где-нибудь лопает водку под семгу. Ах, хитрец! Пробу ставить некуда. Он давно в розыске. А тут сразу захотел двух зайцев подстрелить: и нас с толку своей «смертью» сбить, и деньги по страховке заграбастать. Надо проверить эту версию, всех наличных агентов по страховым компаниям разослать. Ты, Жеребцов, давай в «Россию» на Солянке, Гусаковы пусть гонят на Неглинку – в «Нью-Йорк», Новиков – в «Северное общество» на Никольской, а я направляю стопы в «Якорь».
На втором этаже дома номер 11 по Большой Лубянке управляющий Фейгин, чистенький, лысенький человечек, подтвердил:
– Да, Александр Борисович Темчук застрахован у нас на максимальную сумму – двести тысяч рублей. Две недели назад только застраховался – и вот вам, сюрприз! Но вчера была вдова, все документы у нее в порядке: и справка о смерти, и газетный некролог – это входит в правила страховки, давать некролог. Во избежание обманов.
В ту же ночь на Лазаревском кладбище, где, согласно газетному извещению, был похоронен Темчук, провели эксгумацию. Гроб подняли из могилы, откинули крышку: в нос шибануло гнилостным запахом. Арчевский, которого Соколов попросил присутствовать на этой печальной процедуре, проявил мужество. При свете фонарей он вгляделся в лицо покойника:
– Да, это Попов…
Труп положили на приготовленный загодя стол, обнажили спину: под левой лопаткой виднелся шов, который наложил в морге Павловский.
Арчевский, который вел теперь себя скромненько, с удивлением сказал:
– Но как покойный похож на того афериста, фото которого, граф, вы сейчас показали!
За домиком «покойного» Темчука велась постоянная слежка. Гусаков-сын утром ворвался в кабинет Соколова:
– «Вдова» сегодня ночью спалила свой дом в Марьиной Роще. Мы с отцом дежурили и слыхали, как она ведром гремела. Оказывается, керосином поливала. Там теперь одни головешки. А сама села на извозчика и отправилась на 2-ю линию в Сокольниках. Она сейчас в доме, на воротах которого табличка: «Доктор Георгий Иванович Марков».
– Марков?! Очень занимательно. Будем брать!
…Через час сыщики ворвались в дом прозектора Маркова. Вся троица сидела за столом и вкушала завтрак.
Положение во гроб
Темчук, двухметровый гориллообразный мужик, густо заросший волосом, нагло кипятился:
– Никого я не убивал! Труп, виноват, присвоил – хотел урвать по страховке. Мокруху мне не докажете. Свидетели есть? Так и на суде скажу присяжным: «Безвинно страдаю!»
Соколов добродушно засмеялся:
– А кто тебя, подлеца, суду предаст? Я своими руками сегодня же ночью тебя в твою же могилу положу.
Ведь ты все равно вроде покойника, только гораздо хуже: для людей опасный.
Санька презрительно сплюнул:
– На понт, начальник, берешь!
Около полуночи на Лазаревском кладбище показалась странная процессия. Несколько сыщиков, светя электрическими фонарями, двигались между могил, вели громадного мужика. Руки у него были связаны. Остановились возле разрытой могилы. Рядом валялась дощечка: «А. Б. Темчук, скончался в 30 лет».
Соколов подтолкнул вперед Темчука:
– Видишь, и гроб от убитого тобою Попова освободили. Ложись, не бойся. Тесно? Ничего, мы тебя утрамбуем. И хорошо закопаем. Ты живым в гробу часа четыре повертишься. Обдумай свою поганую жизнь. Раскайся. Ну, давай…
Темчук откинулся всем телом назад:
– Нет, не надо! Не буду! Караул! По-мо-ги-те!..
Два агента затолкали его в гроб, прихлопнули крышку. На веревках гроб пополз в яму. Комья земли глухо стукнулись о крышку. Из гроба раздался жуткий крик:
– Спа-си-те! Все, все расскажу! Задыхаюсь…
После некоторой паузы гроб вновь подняли. Смертельно побледневший и враз поседевший Темчук, захлебываясь и размазывая слезы, говорил:
– Доктор Марков этого самого Попова давно знал. Привязался ко мне: «Похож как две капли воды… Убей, никто в гробу не отличит, справку о смерти выдам, а страховку поделим». Ну, я и того… И совсем повезло: Попова прямо в Екатерининскую больницу привезли, где Марков в морге доктором. Он труп без всяких яких выдал моей Маньке. Народ хоронить собрался, все поверили, что это я в гробу. Слова приветные говорили, будто я на свете самый путевый человек. На поминках, волки алчные, водки три ведра вылакали. Смешно прямо!
– А если бы в другой морг поместили труп?
– Мы бы его выкрали. Это легко: через забор швырнул, на телегу и – хорони. Я про такие делишки еще у себя в Гомеле слыхал. А Манька в «Саламандре» и хату мою застраховала, и «красного петуха» пустила. Как это вы смекнули? Такое хитрое дело! Не закапывайте в могилу, век благодарен буду! – И он дурашливо завыл.
Эпилог
Обер-полицмейстер генерал-майор Яфимович вызвал к себе Соколова, кипятился:
– Из Бутырки от заключенного жалоба пришла, вы людей бесчеловечно в могилу опускаете! Что за самоуправство?!
– А вы, генерал, предлагаете мне с убийцами чай с конфетами пить? Случай нужный подойдет – и опять в гроб положу.
Дерзость осталась без последствий.
Всю преступную тройку на годы отправили на Сахалин.
Еще прежде Соколов с Жеребцовым пришли в трактир Егорова. Соколов сказал услужливому лакею Семену:
– Неси-ка, братец, и угрей копченых, и устрицы, и стерлядь в шампанском. Такое дело раскрутили, что трудней не бывает!
Сыщик ошибся. Вскоре его ждало еще более крутое преступление.
Поцелуй смерти
История эта – необычна и кровава. Она еще раз напомнила: как камень, брошенный в воду, вызывает круги, так и наши поступки увеличивают на земле добро или зло.
Третий труп
Теплым и тихим полднем тринадцатого августа в Нескучном саду, что за Калужской площадью, шел на службу в Александринский дворец камердинер с изящной фамилией Граф.
Миновав домик с ротондой, камердинер оказался возле Елизаветинского пруда. Вдруг краем глаза заметил: кто-то лежит в прибрежных кустах. Подойдя поближе и раздвинув ветви, увидал картину, от которой похолодела кровь. На подстилке в спокойной позе спящего человека лежал господин в белой сорочке, темном костюме и дорогих лакированных штиблетах. Брюки, однако, были спущены почти до колен, а сорочка приподнята. Со страхом и омерзением камердинер узнал в кровавом комочке, лежавшем на животе, половые органы. Там же, где они от природы должны находиться, зияла страшная кровавая рана.
– Караул! – завопил камердинер и, не разбирая пути, ринулся прочь.
Вскоре на авто, лихо ведомом Галкиным и взлетавшем на каждой кочке, прибыли сыщики во главе с Аполлинарием Соколовым, только что вернувшимся из заграничного путешествия.
Соколов в кругу приятелей-сыщиков с удовольствием вспоминал:
– Побывал я у знаменитого доктора Вейнгарта, бывшего судебного следователя, а ныне члена Судебной палаты в Дрездене. Он автор замечательной книги – «Уголовная тактика». Вейнгарт словно мысли мои прочитал, когда заявил: «После самого хитроумного преступления остается много следов. Но чтобы прочитать их, требуется грамотный сыщик». Прекрасно!
Начальник сыска Гартье (досиживавший последние денечки в своем кресле) с досадой произнес:
– Третий труп на этом же месте! Наверняка действует опытная банда убийц-садистов. Ловко, черти, работают – никаких зацепок после себя не оставляют. Ведь вновь портмоне не тронули, а вот и визитные карточки: «Евгений Петрович Малинин, действительный статский советник. Вице-директор Второго Департамента МИД». Важная птица! Зачем понесло его в эти кусты?
– Затем, зачем и двух предыдущих, убитых таким же диким способом на этом же месте! – ответил язвительный Ирошников, возившийся с фотоаппаратом. – Придется теперь здесь пост филеров установить – навечно.
– Да, помнится, один убитый был инженером фабрики «Вулкан», – вставил слово эксперт Павловский. – Причина смерти очевидна: от значительной потери крови – лужа натекла. Какая-то загадка!
Гартье получил письменное указание от самого директора Департамента полиции МВД генерала Трусевича: «Приказываю руководителем группы расследования назначить полковника А. Н. Соколова». Это было еще после второго убийства. По причине заграничного турне приказ этот выполнить тогда не удалось. Следствие было провалено. Гартье заявил:
– Убийства настолько бессмысленны и необъяснимы, а преступники такие изощренные, что никто не сумеет злодейства распутать!
Дама без адреса
Ревновавший к успехам Соколова, Гартье сказал с плохо скрытым сарказмом:
– Ну-с, Аполлинарий Николаевич, что твой друг Вейнгарт разглядел бы в нынешней ситуации? Приличный человек с ампутированным членом, лужа крови на подстилке, вот и все… Зацепить внимание не на чем.
Соколов, склонившись над убитым, долго что-то рассматривал. Наконец, поднявшись, обвел всех взглядом и с глубоким вздохом произнес:
– Мои бедные сотоварищи! Вы что, ослепли и не в состоянии замечать очевидных вещей? Я вот здесь поползал с полчасика и могу сказать: так много оставлено знаков, что нынче же можно арестовать убийцу! Во-первых, убивала не банда – единственная женщина, которая, уверен, молода и хороша собой. Она блондинка. Имеет профессиональное отношение к медицине, вероятнее всего хирург.
Гартье недоверчиво покачал головой:
– Сомнительно…
Соколов повернулся к Жеребцову:
– Коля! Кровь здесь вытри. Смотрите, какая умелая хирургическая работа: края раны четкие, разрезы ровные! Григорий Михайлович, – обратился Соколов к Павловскому, – у тебя нос не заложило? Тогда иди сюда, понюхай, чем пахнет лицо трупа? Да наклонись пониже, покойник не укусит! Неужто не чувствуешь острый запах эфира? Ты в обоих предыдущих случаях проводил химический анализ крови? Нет? Почему?
– Аполлинарий Николаевич, так причины смерти были очевидными – такие страшные раны! Потеря крови, я полагал.
– Посмотри, как спокойно, даже безмятежно лежит мертвец. На его теле полностью отсутствуют знаки самообороны. Ребенок догадается: тетя доктор резала мужику член, когда он или был уже отравлен эфиром, или находился под наркозом. Логично?
Неугомонный Ирошников, как и все с интересом слушавший Соколова, полюбопытствовал:
– Хорошо, что труп нашли часа через три-четыре после убийства. А если бы несколько дней прошло? Ведь запах эфира полностью бы выветрился…
– А ты, Юрий Павлович, взгляни, видишь, как кровь стекла – строго вертикально, каждая струйка видна. Это подтверждает: ампутацию произвели у неподвижно лежащего человека.
Гартье скептически возразил:
– Нет, слабая женщина не могла справиться с молодыми крепкими мужчинами. В одиночку насильно эфиром не усыпишь! Ведь сам способ убийства бессмыслен.
– Это, Николай Федорович, с твоей точки зрения бессмыслен! А ведь злодейка ритуал совершает! Убивает по тринадцатым числам и на этом месте. Хорошо, что не каждый день! Очевидно, что убийца умна и осторожна – сюда она долго не придет. И потом, почему, дорогой начальник, ты думаешь, что женщина не может в одиночку надеть на мужчину эфирную маску? Представь: сидят на этом коврике (который, по договоренности, мужчина принес), пьют вино, дело о близости – как бы решенное. Дама говорит: «Пардон, по женскому делу в кустики отлучусь, вы, сударь, не глядите в мою сторону!» Мужик от счастья весь расплавился, из ушей только дым не идет. Дама обильно смачивает эфиром губку, подходит сзади – раз, маска застегнута, она плотно держит свою жертву. Тот трепыхнулся раз-другой – и затих. Через минуту-другую отрезай все, что понравилось.
Гартье задумчиво почесал лысину:
– Красиво… но не верю.
Соколов азартно произнес:
– Давай пари, что сегодня же до шести утра приведу к тебе ту, что мужское достоинство резала с такой же легкостью, с какой другие яблоки режут! На пятьдесят золотых червонцев? Чего ты робеешь? Ведь ты с целым штатом три месяца не мог поймать эту очаровашку! Деньги жалко? Но ты можешь запросто выиграть, она мне визитной карточки почему-то не оставила.
Гартье этот разговор был неприятен, тем более что вокруг с любопытством слушали подчиненные. Он быстро сказал:
– Ты, граф, во все игры выигрываешь, у меня нет лишних денег! Ирошников, ты снял отпечатки обуви? Я, Аполлинарий Николаевич, с тобою согласен, что на земле четко видны следы от дамских каблуков.
– Ну, хвала Господу, хоть это заметил!
Ралле знает все
Соколов поманил к себе шофера:
– Эй, Галкин, хватит лясы точить! Прыгай в «рено» и гони на Кузнецкий Мост. В Пассаже Солодовникова на первом этаже парфюмерный магазин «А. Ралле и Ко». Спроси эксперта Третьякова, он мой приятель. Быстро доставь сюда! – И, повернувшись к сослуживцам, добавил: – Третьяков сейчас вам тоже скажет про блондинку. И дело не только в том, что я снял несколько вот этих волос с пиджака убитого – видите, длинные и светлые.
…Пока делали слепки следов обуви, откатывали с трупа отпечатки пальцев и фотографировали аппаратом Бертильона, фыркая вонючим дымом, подпрыгивая на кочках, подкатил «рено». Из кабины вылез с гвоздикой в петлице фрака, словно на свадьбу пришел, чистенький жизнерадостный старичок – парфюмерный эксперт Третьяков. Как с близким другом обнялся с Соколовым, кивнул остальным.
Соколов накинул на голову убитого полотенце:
– Чтоб эфир в нос не бил!
И пальцем ткнул в воротничок убитого:
– Тут внимательней будь!
Все оставили свои дела и взглядами вперились в Третьякова. Он опустился на колени перед трупом. Уткнувшись утиным носом, стал нюхать и разглядывать только ему ведомое. Вскоре, отряхивая узкие ладошки, поднялся:
– Я сорок лет служу фирме «Ралле». И смею утверждать: на сорочке есть пятно губной помады «В яблоках». Каталожный номер 983, стоимость пять рублей сорок копеек. По причине своеобразного светлого колера употребляется исключительно блондинками. Сюртук сохраняет запах дешевого мужского одеколона «Дорожный». Если не ошибаюсь – запах эфира заглушает! – наличествуют следы утонченных женских духов ландышевого оттенка «Душистый трефль» – двенадцать рублей маленький флакон. «Трефль» возбуждает интерес мужчин. Чаще всего используется молодыми дамами и незамужними девицами. – И Третьяков закончил экспертизу сентенцией: «Хорошая парфюмерия – источник вечного очарования!»
– Труп – в морг! – распорядился Соколов. – Коль скоро убийца возлюбила Нескучный сад и имеет отношение к медицине, делаю вывод: она здесь где-то обретается. Рядом две больницы – Первая городская (Калужская, шестнадцать) и Голицынская, в доме восемнадцать. Пойду в ближайшую, тем более что там директор моя старая и добрая знакомая – княгиня Голицына.
Дружеские связи
Едва Соколов вошел в кабинет княгини, как она радостно заговорила по-французски:
– Мой милый друг, граф Соколов! Какими судьбами? Ах, эти полицейские дела! Знайте, граф, что только я одна не осудила вас, когда узнала, что вы из гвардии в полицию служить пошли. Честные и толковые люди в полиции тем более нужны. – Добрые глаза княгини лукаво засветились. – Помню ваши проказы. Одна история с веером чего стоит!
Они оба улыбнулись. Соколов сказал:
– История совсем пустяшная, а меня из-за нее едва из Петербурга не выслали. Генерал-губернатор на меня донес самому государю…
Случилось же следующее. Как-то на балу Соколов нечаянно сломал веер Голицыной. Он простонал: «Ах, какая неловкость! Позвольте, Анна Александровна, эти обломки мне. Вам без веера нельзя, скоро новый доставлю».
На дворе стояла глухая ночь. Подбадривая кучера кулаком в спину, понесся на Невский, 14 – к магазину «Ф. Кноппе», где продавались самые дорогие веера. Долго долбил в дверь. Наконец послышался заспанный голос хозяина: «Что случилось?» – «Продай веер!» – «Приходите завтра». – «Надо сейчас!» – «Не беспокойте по ночам!» – «Последний раз говорю – отвори!» – «Шли бы спать…»
Не стерпел гвардеец такой грубости, отодрал скамейку, на которой кучер Прохор сидел, и шваркнул ею по зеркальной витрине. Забрался в магазин, засветил серники, взял веер и швырнул на пол кучу ассигнаций – не считал! Наружу вылез, а там городовой с шашкой дожидается. Говорит, а по голосу слышно – робеет: «Господин полковник, проследуйте в участок!» – «Пошел вон!» – И пальнул из револьвера в небо.
Прикатил на бал, как ни в чем не бывало расшаркался: «Вот, графиня, ваш веер!»
Посмеявшись давней истории, Соколов спросил:
– А что, девицы у вас толковые служат? Скажем, хирургами?
– Да, молодежь нынче прекрасная, альтруистичная! Девиц среди сестер милосердия и акушерок много. Но есть у соседей Эльза Бланк – замечательный анестезиолог. В трудных случаях даже мы ее приглашаем.
– А нельзя ли сейчас ее позвать?
– Это легко! Протелефоню их главному врачу Рейну… Попрошу бутылку эфира.
…Стоя за ширмой, Соколов увидал в щель пышнокудрую блондинку лет двадцати пяти, с сочными пухлыми губами. И лишь взгляд ее голубых глаз был как бы потухшим, как это бывает у тех, кто пережил страшное горе. Внутренний голос сказал Соколову: «Да, это она!»
Приятное знакомство
К часу, когда Эльза должна была уйти со службы, Соколов ждал ее шагах в сорока от ворот больницы. И вот она появилась, в элегантном английском платье, стройная, манящая.
Прогуливаясь, она направилась к Крымскому Валу. Здесь вошла в ресторанчик «Нега». Минут через пять Соколов проследовал за ней. Через час вышли они уже вместе. Было ясно – знакомство состоялось.
Соколов говорил:
– Сударыня, вы должны простить мою дерзость! Я в Москве проездом – из Тулы к себе в Варшаву. Никого здесь не знаю. Едва увидал вас, как страстно возжелал познакомиться…
– И как в старинных романах, готовы мне жизнь отдать? Согласна, приезжайте тринадцатого сентября. Только клянитесь, что ни одной душе не скажете о нашей встрече. Вы ведь не хотите компрометировать меня?
Соколов простонал:
– Не убивайте! Месяц без вас – невыносимо!
Она так близко потянулась к нему, что он ощутил тепло ее лица и тонкий запах «Душистого трефля».
– Вы этого жаждете? Хорошо, пусть это случится сегодня. Вы где остановились? Пока нигде? Чудесно! Едем в «Большую Московскую» на Воскресенской площади. Только я на минутку загляну домой – кое-чего взять следует.
Прозрение
Номер сняли на сутки, самый лучший и просторный – из четырех комнат: с большой ванной комнатой, роялем, множеством козеток, пуфиков, диванов, с толстенными коврами, заглушавшими шаги, с картинами в громадных золоченых рамах.
Лакей заставил стол закусками и бутылками. Соколов смотрел на Эльзу, попивая крошечными глоточками дорогое шампанское, и с грустью думал: «Господи, и это существо, полное молодой красоты, грации, женственности, – убийца? И она, конечно, приехала сюда только с одной целью – лишить меня жизни, меня, ничего плохого ей не сделавшего, убить самым диким способом! Разум отказывается верить…»
Она много пила шампанского и с непередаваемым чувством нежности и печали глядела на него. Соколов сказал:
– У вас глаза весенней лани. Если бы вы кого полюбили, то стали самым преданным существом, которое даже в мыслях не изменяет!
Она благодарно взглянула на него:
– Уж я так создана, может, в силу своего сиротского детства, что всегда видела смысл жизни в служении другим. Поэтому и пошла учиться на медицинский факультет. – Она глубоко задумалась, потом вздохнула: – Эх, все равно наша встреча первая и последняя. Не скрою, вы мне, Аполлинарий Николаевич, нравитесь сильно. Вы какой-то большой – в своих мыслях и чувствах. Словно Гулливер попал в страну лилипутов. Сегодня я принадлежу вам – до зари. А там простимся… навсегда.
Он не ответил. Эльза торопливо отпила из бокала и продолжала:
– Жизнь моя кончилась в мае нынешнего года. Я даже возненавидела число, когда все это произошло, – тринадцатое. У меня была первая любовь. Он намного старше, рассудительный, с величественной наружностью. Дамы почему-то всегда на него оборачивались. Он уверял, что закончит какие-то финансовые дела – и мы обвенчаемся. Так продолжалось целых пять лет. И вот, на обычном месте наших уединенных прогулок, на берегу пруда в Нескучном саду, он признался: «Я полюбил другую. Не хочу дальше обманывать!»
– И для вас, Эльза, перевернулся мир?
– От горя я перестала есть, пить, почти не спала. Мне опостылела жизнь. Если лучший из мужчин оказался предателем, то каковы другие? – так думала я.
Так пусть будут они все прокляты. Но, наверное, во мне зрел душевный переворот. Иначе как объяснить, что сегодня, встретив вас, я поняла, как мой бывший возлюбленный мелок, скучен.
И вдруг сказала:
– Я сейчас вернусь…
Она ушла в ванную комнату. Соколов слышал, как хлещет вода, и с ужасом сказал себе: «Ведь я не могу ее арестовать. Она… нравится мне».
Потом она вошла обнаженной, с капельками влаги на лице, еще более прекрасная, чем в одежде. На светло-розовом теле темнел лобок. Она протянула руки, и они задохнулись в исступленном поцелуе.
Эта ночь стала каким-то фантасмагорическим видением, где необыкновенное счастье перемешалось с неотвратимой трагедией.
Уже под утро, смертельно уставшего, Эльза поцеловала его в губы долгим влажным поцелуем и простым, почти обыденным голосом сказала:
– Прощай, милый! Как жаль, что мы прозреваем всегда поздно.
Она скрылась в ванной комнате. Соколов, сам себе удивляясь, ее возвращения ожидал без малейшей тени страха. Незаметно для себя он заснул.
Эпилог
Пробудился Соколов поздно – часов в девять, когда с улицы в открытое окно долетал звон колоколов соседней церкви, неслись крики торговцев-разносчиков, точильщиков и извозчиков. Эльзы рядом не было, хотя ее вещи лежали с вечера на стуле.
Он, утопая крепкими ногами в глубоких коврах, быстро прошел в ванную комнату. Она лежала в громадной, черного мрамора ванной, неестественно вытянувшаяся, с застегнутой на лице эфирной маской.
Рядом на мраморном столике сыщик увидел письмо: «Прости, милый, что я так ушла. Но таким, как я, нет места среди людей. Э.».
Соколов поцеловал записку.
Кровавая тьма
Эта история дважды заставила говорить о себе. Первый раз, когда было совершено хитроумное и жестокое преступление. Второй – когда стали известны подробности его разоблачения.
Прощальный ужин
Гартье прощался с сотрудниками. На его место был назначен начальник рижского сыска Аркадий Кошко.
По давней традиции собрались в трактире Егорова в Охотном Ряду. Столы были сдвинуты и накрыты камчатыми скатертями. Они ломились от изобилия закусок, запотевших графинчиков и винных бутылок.
На сцене с удивительными выкрутасами наяривал на балалайке мужичок в светлой косоворотке, расшитой по высокому вороту и подолу золотой ниткой.
Обстановка, как это обычно бывает при прощании, была немного грустной. Гартье, расчувствовавшись, склонился к сидевшему рядом Соколову:
– Славно мы с тобой поработали, Аполлинарий Николаевич! Хотя, признаюсь, методы твои порой слишком… своеобразные. Как же ты отважился лечь в постель с убийцей-маньячкой?
Изрядно разогревшийся шампанским Ирошников ядовито расхохотался:
– Это что, куда веселей было, когда подозреваемого живьем в могилу клал!
– Не подозреваемого, а убийцу Саньку Темчука, – добродушно заметил Соколов. – Ему там самое место.
Гартье налил водки Соколову и себе. Залпом выпил, мотнул головой и с аппетитом захрустел соленым крепким груздем. Жарко дыхнул в ухо:
– Я тебе прямо скажу: ты русский самородок. Ну, как Шаляпин на сцене. Таких любит публика, но начальство… терпеть не может. Знаешь почему? Потому что какой-то злой рок у нас на Руси в начальство выводит бездарей. А бездарь обязан ненавидеть талант… физиологически. Впрочем, про Кошко все хорошо говорят. Выпьем под анчоусы?
Соколов много пить не любил. И он никогда пьяным не бывал – алкоголь его не брал.
Срочный вызов
В этот момент в дверях появился шофер Галкин – как всегда, весь в коже, промасленный, прокопченный, на версту пахнущий бензином. Разглядев сослуживцев, на ходу делая извиняющие движения руками, он, оставляя мокрые следы на паркете и коврах, подошел к Соколову:
– Простите, Аполлинарий Николаевич! Господин Кошко очень просит вас отправиться в «Габай». Звонил по телефону городовой, там убийство. – Подняв голову, Галкин кивнул Ирошникову и Павловскому: – Вам тоже приказывают оставить закуски!
Так было прервано прощание сыщиков со своим уже бывшим начальником. Но когда сыщик располагал собой? Тревоги, облавы, трупы…
Вышли из теплого и светлого помещения на улицу. В лицо ударил мокрый колючий снег. Стоявшая последние дни сухая погода с час назад сменилась ураганным ветром и бешеным снегопадом вперемешку с крупными каплями дождя.
От Охотного Ряда до Петровки – рукой подать. Но пока открытый «рено» несся по заснеженной мостовой, веером разбрызгивая жидкую грязь, Соколов успел изрядно промокнуть. Автомобиль затормозил на углу Петровки и Кузнецкого переулка. Большой богатый дом, весь в лепнине, украшала, отражая свет уличного фонаря, громадная зеркальная вывеска:
Перепрыгнув через огромную лужу, Соколов вошел в ярко освещенный мраморный вестибюль. К нему тут же двинулся навстречу Кошко – с короткой профессорской бородкой, густыми, с проседью усами, умными, лукавыми глазами. Он дружески сказал:
– Тысячу извинений, Аполлинарий Николаевич! Я это дело хочу поручить вам. Один сторож убил другого и сбежал. Впрочем, бухгалтер «Габая» вам все расскажет. Господин Латышев!
Стоявший рядом с городовым худощавый человек лет тридцати с нервным, но довольно приятным лицом, на котором выделялись большие печальные глаза, двинулся к сыщикам. На Латышеве было надето легкое пальто спортивного покроя с небольшим шиншилловым воротником шалькой, мех которого серебристо блестел в свете электричества. Он вежливо поклонился и, заметно сдерживая естественное волнение, сказал:
– Я пятый год служу в «Товариществе Габай» бухгалтером. Я месячные отчеты готовлю, по обыкновению, дома, там никто не отвлекает. Сегодня сел за стол, разложил документы, и – на тебе! Забыл отчетность по нашему петербургскому филиалу. У нас большой магазин на Невском, шестьдесят шесть. Что делать? Живу я неподалеку, в Камергерском, пять, это владение Обуховой. Прибежал, а тут… – Латышев облизнул пересохшие губы.
После потрясения, которое он пережил, молодому человеку было трудно говорить. Однако он справился с волнением, продолжил:
– У нас два сторожа. Один – Сергей Морозов, уже года два служит, он ярославец. Другой – пятнадцатилетний Ванечка Семенов. Его папаша в оптовом отделе был, да на Троицын день помер. Вот сыночка и взяли. Сирота он. Чудесный такой, голубоглазый!
Латышев опять разволновался, высморкался в большой белый платок и с трудом произнес:
– Они вдвоем так и сторожили, чтоб надежней было. Значит, пришел я, кнопку электрического звонка нажимаю. Они обычно сидят на втором этаже возле лестницы – там удобная подсобка с топчанами. Звоню, звоню, никто не выходит. Что, думаю, за арифметика? А дверь потянул, она и открылась. Свет я не стал на всякий случай зажигать, поднялся на второй этаж, толкнулся в подсобку, а там… – Латышев разрыдался, – Ванечка мертвый лежит, вся голова проломлена.
– А где сторож Морозов? – спросил Кошко.
– В том-то и дело, что сбежал Морозов. Нигде его нет. Я бросился вниз, а там, прямо возле подъезда, городовой проходил. Такое счастье! Я его пригласил сюда, он вам и позвонил по нашему телефону.
В это время подъехал Галкин. Он привез Павловского и Ирошникова. Они ездили в сыск за инструментарием и фотоаппаратом.
– Подымемся, господа, осмотрим место происшествия, – предложил Кошко и ступил на мраморную лестницу.
Срок смерти
Комната сторожей представляла страшное зрелище. На полу лежал худощавый, небольшого роста мальчик. Голова его была проломлена так, что из раны вылезла желеобразная, окрашенная кровью масса – мозги.
Все невольно смолкли, даже перестали скрипеть ломким паркетом. Всех поразил странный звук, похожий на чавканье. Под столом, возле лужи натекшей крови, сидела с красной мордой кошка и жадно лизала.
Латышев топнул ногой:
– Тьфу, ведьма! Пошла прочь! Она у нас на чердаке живет. Недавно окотилась. Надо же, – он помотал головой, – человеческую кровь употребляет.
Кошка шарахнулась вверх на лестничный марш, да там и осталась у закрытых чердачных дверей, испуская жалобное мяуканье.
Медик Павловский констатировал причину смерти:
– Перелом костей свода черепа округло-продолговатым предметом.
Оголив ягодицы трупа, он вставил в прямую кишку градусник. Любезно пояснил заинтересовавшемуся этой процедурой Латышеву:
– Труп каждый час остывает примерно на два градуса. Вот сейчас мы узнаем температуру и очень точно установим время убийства.
Вскоре, взглянув на градусник, Павловский удивился:
– Температура 34,7. Получается, что убийство совершено менее часа назад. Поразительно!
Жеребцов тем временем звонил в полицию:
– Дежурный, посмотри, у нас есть что-нибудь на Морозова Сергея Ильича, двадцати пяти лет, уроженца Ярославской губернии?
Вскоре он докладывал Кошко и Соколову:
– Сторож Морозов проживает на Трубной площади в доме купчихи Кононовой. Два раза привлекался к суду за воровство. В позапрошлом году за кражу денег из посудной лавки Гольдмана отбыл трехмесячный срок в губернской уголовной тюрьме на Таганке.
Кошко задумчиво почесал ухо:
– Хорош фрукт! К чужому добру тянет молодца. Господин Латышев, Морозов что-нибудь мог похитить?
– В несгораемом шкафу – восемьдесят тысяч наличных, но вскрыть его практически невозможно. Сейф в кабинете председателя. Кстати, я уже звонил ему по телефону, хотел пригласить сюда, но горничная сказала, что он в отъезде. Пошли, господа полицейские, на всякий случай проверим сохранность ценностей. У меня есть ключи.
Огонь свечи
Громадная филенчатая дверь оказалась отпертой. Кошко достал увеличительное стекло, внимательно осмотрел замок. Весело произнес:
– А злоумышленник снимал отпечаток замочной скважины! Тут очевидные следы воска.
– Ну, стало быть, и сейф открыт! – уверенно сказал Жеребцов.
И оказался прав. Злоумышленник, видимо, подделал ключ, открыл несгораемый шкаф и даже поленился закрыть.
Кошко подозвал Латышева:
– Взгляните, что похищено?
Латышев едва взглянул, как ахнул:
– Это что творится! Похищены все наличные. И моих документов нет. Как же я сумею сделать отчетность?
Кошко ткнул перстом на капли стеарина возле сейфа:
– Вот, коллеги, указание на то, что преступник пользовался свечкой. Он побоялся включить электрическое освещение, чтобы не привлечь внимание с улицы.
Соколов все время хранил молчание. Он лишь цепким, острым взглядом следил за происходящим. Вдруг обратился к Латышеву:
– Где ночные сторожа оставляют верхнюю одежду?
– Гардероб общий – внизу, возле входа. Я, извините, пальто снять не успел. Едва вошел, вся кутерьма началась. А вы, господа полицейские, раздевайтесь, здесь тепло, протоплено.
Дорога наверх
Кошко во всем любил обстоятельность и передовую методику, что, отдадим должное, не мешало ему быть талантливым сыщиком. Вот и теперь он опустился в кресло и деловито произнес:
– Коллеги, присаживайтесь! Подведем первые итоги расследования. То, что убийца – Морозов, факт очевидный. Как человек свой, он, видимо, пронюхал о больших деньгах в сейфе. Оставаясь на ночное дежурство, Морозов тайком сделал восковые оттиски замков и по ним изготовил ключи.
– Единственная помеха – мальчик Семенов! – отметил Ирошников, успевший закончить фотосъемку.
– Правильно, Юрий Павлович! – блеснул стеклышками пенсне Кошко. – Морозов устраняет эту помеху – убивает ребенка. Забрав деньги, он бежит. И не появись господин Латышев, об этом преступлении никто бы не узнал до утра. Убийца был бы далеко.
Латышев печально улыбнулся:
– С таким богатством – хоть в Южную Америку!
– Чтобы не вылавливать Морозова в Южной Америке, надо отловить его здесь. – Кошко обратился к Соколову: – Аполлинарий Николаевич, я думаю, что следует незамедлительно послать агентов к убийце домой на Трубную, а также установить круг его родных и друзей – все эти адреса проверить. Ну и, конечно, слежка на вокзалах. Вы согласны с планом? Тогда быстро действуйте.
Кошко, разумеется, был немало наслышан о своеобразных подвигах Соколова. И он с самого начала пожелал поставить великого сыщика на его место – место подчиненного.
Соколов удивленно поднял бровь, как это делает мудрый учитель, услыхав глупость нерадивого ученика. Ткнув пальцем куда-то вверх, он произнес:
– Если вы хоть малость наблюдательны, то по впалым бокам и обвисшему животу должны догадаться, что кошка недавно окотилась. Прислушайтесь, как она жалобно мяукает. Это она тоскует о своих беспомощных котятах на чердаке, куда по какой-то причине не может попасть. Как, – на лице Соколова было почти непритворное изумление, – вы, господа сыщики, не знаете кошачьего языка? Ай-яй-яй! Не понимать столь простых вещей очень стыдно. – Он поманил пальцем Латышева: – Дай-ка ключ от этого кабинета.
Все удивленно округлили глаза, а Латышев суетливо протянул ключ.
– Всем сидеть в кабинете, пока я не вернусь! – с нарочитой строгостью произнес Соколов, кивнул Жеребцову: – За мной! И возьми фонарь! – И когда друзья-сыщики затворили за собой дверь, Аполлинарий Николаевич закрыл ее на замок – на два поворота.
За дверями послышался возмущенный крик Кошко:
– Что за безобразие? Прекратить хулиганские выходки! Сегодня же подам рапорт – или я, или Соколов!
Соколов позвал кошку:
– Кс-кс! – Повернулся к Жеребцову: – Коля, идем на чердак.
Поднявшись наверх, они увидали, что дверь на чердак заперта на замок.
– Позвольте мне! – Жеребцов дернул, и громадный замок вылетел вместе с петлями.
– Хорошо иметь медвежью силу! – хмыкнул Соколов.
Пепел и кровь
Едва дверь открылась, как кошка с ласковым мурлыканьем бросилась к своим беспомощным чадам, жалобно пищавшим в углу.
Жеребцов осветил ярким электрическим фонарем помещение. И тут же удивленно вскрикнул:
– Аполлинарий Николаевич, чердак весь покрыт лежалой пылью, а от дверей до слухового окна – словно дорожка проторена!
Сыщики подошли к слуховому окну. Соколов невесело усмехнулся:
– Один из шедших по чердаку продолжил свой путь дальше – по крыше и вниз – к смерти! Смотри, на свежевыпавшем снегу отчетливо видна скользящая полоса. Тот, кто падал, – а это был Морозов, – первым поднялся на крышу. Он еще не успел до конца выбраться из слухового окна, как получил мощный толчок сзади – и грохнулся во двор. Осмотрим чердак и пойдем на улицу, взглянем на то, что осталось от Морозова!
Жеребцов скользнул лучом фонаря по полу, и сыщики увидели, что следы одной пары ног ведут к стропилам. Как за путеводной нитью, Жеребцов шел по этим следам и снял с верхнего бревна молоток. Он был измазан свежей кровью.
Тут же лежала кучка пепла. Это тщательно жгли бумаги.
Второй труп
Сыщики спустились вниз. Здесь скучал городовой, звонивший в полицию и теперь поставленный охранять вход. Соколов перебросился с ним несколькими словами и приказал:
– Пошли с нами!
В глухом нежилом дворе, недалеко от стены, лежал мужчина с проломленной головой. Соколов взял его руку – пульса не было. Он распорядился:
– Несите в вестибюль!
Через минуту из карманов убитого извлекли какие-то счета «Товарищества С. Габай» и незначительные деньги – около трех рублей.
Соколов поднялся на второй этаж, открыл ключом кабинет. Разъяренный Кошко брызгал слюной:
– Как вы могли? Я уже позвонил в сыск, оттуда едет наряд. Он прекратит беспорядок, который вы, граф, устраиваете.
Соколов добродушно улыбнулся:
– Это хорошо – наряд. Пусть доставят два трупа в морг, а организатора этого злодейства и убийцу – в тюрьму.
Кошко задохнулся от гнева:
– Каких два трупа? Где вы видите убийцу? Я больше не намерен терпеть ваши шуточки! Вы, Аполлинарий Николаевич, из серьезнейшего дела устраиваете развлечение, какой-то балаган!
Соколов оставался невозмутимым:
– Как можно! Я просто не осмелился бы шутить с таким важным господином, как вы, Аркадий Францевич. Труп Морозова в вестибюле. Вот, – Соколов положил на стол предметы, – изъятое из его карманов. Да, бумаги «Габая», но, кажется, пустяковые и уж, во всяком случае, малограмотному сторожу вовсе не нужные. Ясно, что убийца положил их для отвода глаз.
– Как они попали к Морозову?
– Этот вопрос не ко мне, а к убийце сторожа – Латышеву.
Латышев смертельно побледнел и тяжело опустился в кресло.
Опешивший Кошко помотал головой:
– При чем здесь Латышев? Зачем очернять человека?
– Коля, – весело сказал Соколов, – освободи от казенных ценностей бухгалтера.
Жеребцов, к неописуемому удивлению Кошко, полез Латышеву за пазуху и выволок оттуда плотно набитый чем-то мешочек. Тряхнул – на стол вывалилась кипа ассигнаций. Улыбнулся:
– Ну, сокол ясный, на эти денежки ты весело погулял бы! Плевать, что по твоей милости – два трупа, главное – тебе сладко. А бумажки ты, Латышев, видать, не зря спешил сжечь. В них, поди, сраму для тебя с избытком?
Разоблачение
Кошко оторопел. Поворот событий ему пришелся не по душе, ибо его самого выставлял не в самом блестящем свете. Наконец, словно надеясь, что Латышев найдет себе оправдание, спросил:
– Вы и впрямь допустили растрату?
Соколов хохотнул:
– Нет, своих деньжат доложил в казенную кассу, только скромность не позволяет сказать об этом! – И, переходя на деловой тон, объяснил Кошко: – Латышев подбил Морозова с единственной целью – чтобы отвести от себя подозрения. Да и самому руки в крови мальчика пачкать не хотелось. Одно дело – с крыши столкнуть соучастника, иное – молотком из головы мозги вытряхивать. Или, Латышев, ты сам прикончил мальца? – Соколов хитро сощурил глаз.
Латышев мотнул головой, сквозь нервические слезы выдавил:
– Никак нет, это, верно, Морозов… А я к злодейству касательства не имею.
– Правильно, убил мальчика Морозов. На обшлагах его брюк есть свежие пятна крови. При падении с крыши он стукнулся о вымощенную булыжником землю, размозжил себе голову. Однако невероятно, чтобы из такой позиции кровь могла попасть на низ брючин.
Кошко все еще не хотел до конца сдаться. Он задал, как ему казалось, сложный вопрос:
– Но если перед нами убийца и грабитель, то зачем понадобилось снимать отпечаток с замочной скважины? Ведь у Латышева ключи по должности находились?..
– Да никто отпечатки и не снимал.
– Как же – не снимал! А воск в замке?
– Для видимости! Думал, что сыщиков перехитрит. Ведь преступник может обмануть расследователя только в трех случаях: если он окажется умнее и сведущей сыщика; если сыщик поведет дело спустя рукава; если на месте преступления злоумышленник не оставит никаких следов, по которым его найти можно. Признаюсь, мне еще ни разу подобный преступник не попадался. И главное: когда человек идет на смертный грех, от него всегда отворачивается Бог. Истина, в которую я верю непреложно: убийца никогда счастлив быть не может.
Кошко согласно кивнул головой:
– И чем выше по духовному развитию убийца, тем сильнее будут его душевные терзания. Вот почему в преступной среде водка и наркота – обязательные спутники. Им необходимо затуманивать свой разум, вот почему они не ставят ни в грош ни чужую, ни свою жизнь.
Соколов приказал:
– Латышев, приподыми свои полосатые брючки. Да повыше, не стесняйся. Видите? Ботинки закапаны стеарином, причем на левом ботинке пятен больше, чем на правом. Объяснять надо? Он свечку держал левой рукой, а сейф разгружал правой.
Кошко вперился взглядом в ботинки преступника, и по его лицу легко можно было прочесть досадливую мысль: «Ну как же я сам не заметил?»
Соколов неторопливо, словно профессор на лекции, продолжал:
– Когда сейф был очищен, Латышев пригласил Морозова в его последний путь – на чердак. – Он повернулся к бухгалтеру: – Ты под каким предлогом затащил Морозова на крышу?
Латышев было замялся, да Жеребцов, стараясь быть похожим на своего учителя, подбодрил его тычком под ребро:
– Говори, паразит, а то самого сейчас с крыши сброшу!
Кошко раздул было щеки, хотел возмутиться на такое беспардонное отношение к господину преступнику, да, видать, удрученный свежим опытом, осекся. Латышев, заикаясь, проговорил:
– Я с… сказал, что на… надо пос… смотреть, н… нет ли городового внизу, чтобы нам с… спокойно выйти.
Соколов, довольный ходом следствия, улыбнулся:
– Хватит! Дальше я сам расскажу. Едва задница Морозова оказалась в проеме слухового окна, ты его тут же сильнехонько толкнул. Тот грохнулся с высоты, ты же, считая себя самым умным и удачливым, побежал с места кровавого злодеяния. Но едва выскочил из подъезда на Неглинку, как нос к носу столкнулся с городовым, который тебя знает не только в лицо, но и по имени. Ты моментально смекнул, чем такой поворот событий тебе, Латышев, грозит. И разыграл сцену, о которой мы уже знаем.
Латышев разрыдался, как истеричная дама.
Кошко задумчиво чесал кончик левого уха, что у него было признаком наивысшего недоумения. Он медленно произнес:
– Признаюсь, я впервые сталкиваюсь с такой блестящей методикой разоблачения преступлений. Но скажите, граф, для чего вам понадобилось закрывать нас на замок?
Соколов любезно объяснил:
– Во-первых, Латышев наверняка бы понял, что он допустил ошибку, впопыхах закрыв дверь на чердак и отрезав путь кошке к ее котятам. Ему несложно было догадаться, что преступление разоблачено. Закрыв на ключ дверь, мы отрезали путь к бегству. А главное, – Соколов хитро посмотрел на главу сыска, – от вас, сударь, на этот раз не могло быть пользы расследованию.
Жеребцов широко улыбнулся и едва не подпрыгнул от удовольствия.
Великий сыщик сделал эффектную паузу и с блеском закончил свою разоблачительную речь:
– И я с самого начала знал две вещи: первое – Морозов не убегал с места преступления. Его пальто висит внизу на вешалке. А главное, что было совершенно очевидно: Латышев причастен к преступлению. Ведь его изящное пальто было… сухим. Стало быть, бухгалтер пришел до мокрого снегопада. Где-то за час до убийства.
И если Кошко никак не удавалось поставить Соколова в рамки дисциплинированного подчиненного, то гений сыска вполне внушил к себе должное почтение.
Новый начальник проглотил горькую пилюлю и начал задумываться: может, и впрямь нельзя из вольного сокола сделать прирученного голубя? Однако, будучи человеком благородным, он с чувством пожал Соколову руку.
Эпилог
Судебный процесс был громким. Латышева защищал самый знаменитый в те годы присяжный поверенный Федор Никифорович Плевако. Он был так знаменит, что один из первых на Руси художественных фильмов был посвящен ему. Плевако произнес прочувствованную речь, в которой он, следуя революционным веяниям века, выставил убийцу-бухгалтера как «борца против капитала» и «жертву социальных катаклизмов».
В зале нервные дамы рыдали и от глупости кидали Латышеву цветы.
Суд приговорил Латышева к шести годам каторжных работ.
Смерть библиофила
Время стремительно бежало, один месяц сменял другой, а Москва еще была поражена кошмарами Эльзы Бланк, еще не успели стихнуть разговоры о коварном убийце из «Товарищества Габай», как всех поразили те страшные события, которые произошли в самом центре города – на Тургеневской площади.
Река времени
Аполлинарий Соколов, желая сделать приятное друзьям, однажды сказал:
– Всех приглашаю к себе в Мытищи! Ах, какое это славное, святое место! Утром восстанешь ото сна, выйдешь в старый парк – вокруг чистое безмолвие, сладкий холодок пробежит по спине, а в дальнем конце просеки – светлый просвет. То солнце встает! И вот вдруг разом заголосят, загомонят птицы. Вы острей ощутите горькие ароматы цветов и трав, и необыкновенное счастье обымет все ваше существо.
Жеребцов восхитился:
– Аполлинарий Николаевич, да вы просто поэт!
Ирошников не удержался от шуточки:
– Нет, наш великий Соколов – прозаик! И признает лишь одного поэта – Гавриила Державина. Да и то, небось, за то, что тот был сенатором. Не так ли, Аполлинарий Николаевич?
Соколов лишь чуть усмехнулся, на мгновение задумался и тут же отозвался державинскими строками:
- Река времен в своем стремленьи
- Уносит все дела людей
- И топит в пропасти забвенья
- Народы, царства и царей
- А если что и остается… —
и Соколов перешел на прозу:
– Остается это знойное беспредельное небо в легких кучевых облачках на эмалевом горизонте, шелковисто-ласковый ветерок, мотающий чистую зелень длинных ветвей, холодок поцелуя в дальней беседке, спрятавшейся в густых зарослях жасмина.
Все восхищенно застыли, а простоватый Павловский даже рот от столь вдохновенной тирады слегка приоткрыл.
Соколов обвел друзей вопросительным взглядом:
– Ну, завтра с утра пораньше едем? Заодно проверим нашего начальника за трапезным столом. За чаркой он столь же отважен и неутомим, как в преследовании злодеев? – Соколов, хитро сощурив глаз, посмотрел на Аркадия Францевича Кошко.
Сенатские заботы
Этому человеку еще предстояло стать легендой, он стоит того, чтобы уделить ему несколько строк.
Сорокалетний Кошко в свое время закончил Казанское пехотное юнкерское училище и служил в полку, квартировавшем в Симбирске. Но пехотинца из Аркадия все-таки не получилось. Виной тому были книги о приключениях знаменитых сыщиков.
И вот крутой поворот судьбы: военный офицер пришел служить в рижскую полицию рядовым инспектором. (Мой читатель тут же вспомнил о самом Соколове, тоже сделавшем подобный вольт.) Инспектор быстро обрел глубокие познания в области криминалистики. Природная сметка и дотошность в расследовании каждого преступления помогли ему сделать первый шаг к своей будущей блестящей карьере: Кошко был назначен начальником полиции Риги. Случилось это в 1900 году.
Дальше же, как писал один из биографов, «деятельность Кошко на посту рижской полиции была столь успешной, что уже через пять лет, во время революционных беспорядков, пришлось беспокоиться о безопасности своей семьи: терроризм принимал все более угрожающие формы».
Так, Кошко для начала попал в Царское Село, где командовал всей полицией, а затем его перевели в Петербург – заместителем начальника сыска.
В это время по чьим-то проискам сенатская комиссия затеяла проверку деятельности полиции Москвы. Как водится, были выявлены «серьезные нарушения закона и упущения по службе». Гартье свое место уступил энергичному Кошко. Товарищ министра внутренних дел Лыкошин предупредил:
– Аркадий Францевич, в старой столице вас ожидает ситуация непростая. В сыскной полиции нет должной дисциплины. Особенно отличается анархическими замашками и пренебрежением к букве закона граф Соколов, сынок члена Государственного совета, действительного тайного советника Николая Александровича. Да, молодой Соколов умен, отлично образован, но он привнес в полицию все замашки конной гвардии, где еще недавно служил. Приструнив его, вам не составит труда навести порядок в остальном.
Кошко опрометчиво обещал «приструнить и навести».
Теперь, получив приглашение от Соколова, выходок которого он опасался особо, Кошко на мгновение задумался: «Подчиненных следует держать на расстоянии, если начальник не хочет, чтобы они держали его за горло! Но… с кем работаешь, с тем и пьешь». Улыбнулся почти добродушно:
– Была бы бражка, так съедим барашка! Служебное авто, дорогие коллеги, в вашем распоряжении.
Соколов заключил разговор:
– Сбор завтра в восемь часов утра, здесь в Гнездниковском!
Рухнувшие планы
Ровно в восемь все были в сборе.
– Сыщики и воры – самые точные люди! – улыбнулся Жеребцов. – Давно это замечено.
Ирошников одобрительно хмыкнул:
– Очень правильно замечено! Как и ворам, сыщикам надо уметь вовремя смыться. Авто давно фырчит у подъезда, на завтраке мы нынче все экономили. Так что скорее к столу великого и гостеприимного Соколова, в Мытищи!
Все дружно поднялись с мест, направились к дверям. Вдруг те распахнулись, на пороге стоял дежурный офицер. Он доложил Кошко:
– Только что телефонил пристав первого участка Мясницкой части Диевский. В доме Гурлянда, что на Тургеневской площади близ Мясницких ворот, в окно виден висящий труп.
– Труп криминальный? – деловито вопросил Кошко. Ему все еще не терпелось показать себя на новом месте.
– Никак нет! Изнутри виден ключ, которым закрыта дверь. Пристав полагает, что самоубийство. Но вы приказали докладывать вам о каждом кадавре.
Кошко глубоко задумался: хотя он и жаждал показать служебное рвение, да понимал, что за каждым покойником в громадном городе не доглядишь. Жеребцов, привыкший к вольностям, запальчиво произнес:
– Вот Диевский пусть с этим самоубийцей и валандается, а у нас – выходной!
Реплика оказалась неуместной.
Кошко нахмурился:
– Решения, с вашего позволения, буду принимать я! – И его колебания сменились решительным порывом: – Сейчас же выезжаем на место происшествия, тем более что вся группа в сборе. – Он обвел взглядом враз помрачневших товарищей, смягчил тон: – Ведь это, кажется, нам все равно по пути? Дело, очевидно, пустяковое, за полчаса отделаемся и покатим в Мытищи вкушать яства с обильного стола Аполлинария Николаевича.
Раздался дружный тяжелый вздох. Лишь неунывающий Ирошников съехидничал:
– Ехал Пахом за добром, да убился о пень лбом!
Галкин, любивший гонять в хлебосольный дом Соколова, разозлился не на шутку. Он жал и жал на газ. На Трубной площади едва не врезался в ломовую лошадь.
Кошко строго заметил:
– Ехать следует осторожней!
Ничего не ответив, Галкин понесся еще быстрей, хотя дорога пошла в гору, мимо крепостных стен Рождественского монастыря.
Важная персона
Во дворе дома номер 8 уже топталась целая свора любопытных. Они не обращали никакого внимания на городового, который безуспешно пытался вытеснить ротозеев на улицу. Пристав Диевский козырнул прибывшим:
– Думаю, что вы напрасно переполошились – целое авто сыщиков! Тривиальное самоубийство. Взгляните на второй этаж, во-от на люстре висит. С вечера в подъезде – консьержка, посторонних не было. Окно самоубийцы закрыто, никто проникнуть в него не мог. Говорят, наложил руки на себя на почве помутнения разума.
Лицо пристава светилось беспредельной преданностью начальству и рвением по службе.
Соколов спросил:
– Николай Григорьевич, ты свидетелей еще не допрашивал?
Пристав виновато улыбнулся, обнажив ряд фарфоровых зубов:
– Таких выявил пока лишь двоих – консьержку Пятакову и… Как вы, господа, полагаете, кто первым увидел самоубийцу? Сам Рацер. Он снимает у Гурлянда квартиру. Он счел долгом остаться в ожидании вас. А вот и Яков Давыдович!
Из плотной толпы, с жаром обсуждавшей происшествие, отделился изящный мужчина с черными английскими бакенбардами, в хорошо сшитом бостоновом костюме. Сдержанным, полным собственного достоинства шагом он приблизился к сыщикам. Рацер источал тончайший запах одеколона «Рубидор», флакон которого стоил восемнадцать рубликов.
Здесь уместно будет рассказать об этом замечательном господине и о том, что с ним приключилось в тот достопамятный день.
Ласковое утро
Яков Давыдович Рацер лицом был значительным и известным. Когда-то он с блеском окончил Филадельфийскую консерваторию по классу скрипки. Как водится, знатоки прочили ему блестящее артистическое будущее. Кто знает, может, его слава скрипача стала бы столь блестящей, как, скажем, Яши Хейфица или Вениамина Казарина, но…
Но тот, кем восхищался сам Ауэр, скрипке предпочел коммерцию. По сей день завсегдатаям букинистических развалов в старинных журналах и справочных книгах попадаются рекламные проспекты Рацера. Из них можно заключить, что Рацер торговал «топливом и лесным материалом». Как и в музыке, в коммерции способности его оказались превосходными.
Рацеру всегда не хватало лишь одного – времени. Вот почему ранним августовским утром, когда люди его круга еще вкушают сон, он уже спускался по мраморным ступеням дома номер восемь, что на Тургеневской площади.
Рацера почтительно приветствовала консьержка – Марианна Пятакова, особа лет пятидесяти с громадными маслинообразными глазами на когда-то смазливом, а теперь уже щучьем лице:
– Яков Давыдович, такая рань, а вы уже на ногах! Совсем себя не бережете.
Общительный Рацер добродушно объяснил:
– У моей тетушки Анны Ивановны сегодня день рождения – восемь десятков лет живет, очень милая старушка! Вот и хочу навестить ее спозаранку, подарочки передать. Путь далекий – на Лосиный остров, а мне уже в полдень необходимо быть в правлении банка.
Возле подъезда, в тихом дворе, ожидала коляска, запряженная парой. Жеребцы в богатой сбруе с серебряным набором нетерпеливо перебирали копытами, томясь своей силой и жаждой быстрого бега. Возле коляски, и тоже нетерпеливо, прохаживался кучер Терентий Хват (не кличка – фамилия). Это был парень невысокого роста, узкий в талии и плечах, но жилистый и необыкновенно ловкий.
Терентий вежливо снял картуз:
– Доброе утро, Яков Давыдович! Поди, опять опаздываем? – и легко подсадил худощавого Рацера.
Тот, привалившись к удобной спинке сиденья, философски изрек:
– Если хорошо работать, то времени всегда хватать не будет.
– Стало быть, гоним с ветерком? – с готовностью ответил Терентий, вскакивая на облучок.
Рацер с легкой грустью пошутил:
– Да, братец, гони! Если однажды и повезут нас медленно, то лишь в последний путь.
Коляска двинулась.
Под люстрой
Голова Рацера от толчка откинулась слегка назад. Взгляд его рассеянно скользнул по окнам дома: повсюду традиционные фуксии и герань, богатые тяжелые портьеры и изящные с узором тюлевые шторы.
Вдруг взор Рацера выхватил такое, чего рассудок сразу переварить не мог. Терентий уже миновал арку, повернул на площадь.
Несмотря на ранний час, жизнь на улицах старой столицы кипела вовсю. Дворники в светлых передниках и с бляхами на груди подметали тротуары и поливали водой из шлангов. С лотками спешили офени – мелочные торгаши вразноску. Точильщик-татарин, перекинув через плечо свою машину с большим колесом и широкой педалью, занудно выкрикивал: «Ножи точу-у! Ножи точу-у!» Возле афишной тумбы суетился расклейщик, кистью размазывая клей на афише Художественного театра:
Немного пришедший в себя Рацер хлопнул Терентия по спине:
– Стой! У нас на втором этаже… человек висит.
Терентий, видимо не понимая барина, лошадей припустил еще быстрее, лишь вполоборота повернув лицо:
– Это, Яков Давыдович, вы насчет чего?
Рацер, раздражаясь этой непонятливостью, а больше необычным и весьма тягостным происшествием, нарушавшим настроение, размашисто стукнул Терентия по спине:
– Да стой же, болван! – И уже чуть спокойнее: – Ты ничего не заметил в окне, где живет Абрамов?
Терентий помотал головой:
– Это который книжки собирает? Нет, не заметил.
Рацер замолчал, тяжело обдумывая: «Может, мне померещилось? Я ведь вчера утром видел Льва Григорьевича, он хвалился новыми приобретениями. Говорил, что купил Острожскую Библию 1581 года. Он был здоров и весел. Что делать? Видать, и впрямь мне померещилось. И все же не лучше ли вернуться? А то целый день буду думать об этом».
Наконец решился:
– Поворачивай обратно!
Терентий буркнул:
– Это, как хотите, самое последнее дело – с дороги вертаться. Эхма! Ну, теперь пути не будет – как пить дать. Право, Яков Давыдович, вам в глазах наваждение ложное. Зачем ему висеть? Поди, сидит за столом и чай дует из самовара с горячими кренделями от Филиппова.
– Хорошо, если так! А пока что, Терентий, делай, как тебе приказываю.
Терентий с неудовольствием махнул рукой, пропустил мчавшийся с трезвоном в колокол пожарный экипаж и, подергав левой вожжой, развернулся у Мясницких ворот, прямо напротив булочной Филиппова. Они вновь пересекли площадь и въехали во двор.
Вытянув шею, с напряженным вниманием и страхом Рацер посмотрел в окно второго этажа. За чисто вымытым стеклом, прямо под хрустальной люстрой, немного сместив ее на сторону, виднелась седая голова старика Абрамова. Под напором петли подбородок был вздернут вверх.
Пришедший едва ли не в обморочное состояние, Рацер едва слышно прошептал:
– К городовому, пошел! У нового почтамта, на Мясницкой стоит…
Важная свидетельница
Городовой Митькин, объемистый в талии муж с багровым глянцевитым лицом, не перебивая выслушал рассказ Рацера. Дежурство кончалось, и городовому не хотелось заниматься этим самоубийством. Но делать было нечего. Он вздохнул и задумчиво промычал:
– М-м-м… Случай такой, смертный! Требуется отцам-командирам доложить. Пойду протелефоню в участок. А вы тут, господин, подождите.
Городовой Митькин скрылся в служебных помещениях почтамта. Вскоре он вернулся мрачнее тучи:
– Велено охранять место происшествия. А вас, господин, просили обождать, – добавил городовой с плохо скрытым злорадством. – Потому как вы первый заметили, будете свидетельствовать. – Он тяжело поднялся на облучок и могучим задом несколько сдвинул Терентия: – Ну, трогай, чего ждешь!
…Когда Рацер вернулся к родному порогу, там уже собралась изрядная толпа любопытных. Вышел к народу и владелец дома, живший на первом этаже, как раз под Абрамовым, – изящный человек с короткими усиками, пахнувший коньяком и дорогим табаком, – Самуил Давыдович Гурлянд.
Все с ужасом поглядывали на окно, за которым в лучах солнца четко виднелась фигура висящего, и ругали полицию, которая все еще не приступает к делу. Но главным предметом обсуждения были причины, которые заставили этого благополучного человека забраться в петлю. В центре внимания оказалась Пятакова, верная помощница полиции, которая знала о жильцах дома больше, чем они сами о себе. Она страстно рассказывала:
– Мне доподлинно известно, почему наш жилец, царствие ему небесное, – она завела глаза, – наложил на себя руки. Он мне доверял во всем, делился самыми сокровенными мыслями.
Пятакова вдруг осеклась, увидав прибывшего на пролетке Диевского. Обрадованно затараторила:
– Вот, господин пристав, вам все и расскажу про покойного Абрамова. По роду своих обязанностей доложу.
– Когда Абрамова видели живым в последний раз? – спросил пристав Диевский.
Пятакова с готовностью ответила:
– Если позволите, все по порядку! Как раз вчера вечером, возле восьми часов, спускается покойный по лестнице, в руках два порожних баула держит. Я сразу догадалась: «Это вы, Лев Григорьевич, опять за книгами собрались? Да еще на ночь глядючи?» – «Случай необыкновенный вышел, – отвечает Абрамов. – Сегодня утром в лавке Шибанова на Никольской познакомился с симпатичным молодым человеком. Он рассказал, что ему в наследство досталась громадная библиотека. Он завтра в Варшаву уезжает, а сегодня освободится лишь вечером. Вот мы решили, что я отберу все, что мне понравится. И список некоторых книг показал – большие редкости». И еще предупредил меня покойный, чтобы я не волновалась, коли он задержится. А я покойному – резон: разве, дескать, можно с деньгами ехать к неизвестному лицу? А он засмеялся и отвечает: «Мы договорились расплатиться у меня дома. Ну, мне пора ехать! Молодой человек будет меня ждать в Черкизово у ворот Богородского кладбища». – «Фу, говорю, страсть какая! А почему он адрес не дал?» – «Страсти никакой нет, а адресок он мне дал. Вот, записан! Просто все: он любезно согласился меня встретить, чтоб я не плутал».
Толпа слушала, раскрыв рты. Городовой Митькин, желая напомнить о том, кто здесь есть начальство, строго произнес:
– Ну а какое это отношение имеет к самоубийству?
Пятакова осадила его:
– Не запрягал, любезный, так и не нукай! Не глупее тебя. Не тебе, безмозглому, а господину приставу докладываю. Стало быть, отношение самое прямое! Вернулся домой покойный затемно. И очень сердитый! Ругается: «Ждал-ждал, а этот дядя так и не появился. Тогда сам поехал по адресу, это Вторая улица в селе Черкизово, дом Утенкова. И что же оказалось? Это вовсе не барский дом, а так, крестьянская хибара. Библиотеки, понятно, никакой нет и не было. Госпожа Пятакова (это он ко мне обращается)! Вам что-нибудь ясно? Для какой надобности меня обманули? Зачем, охальники, пожилого человека гоняли попусту на другой конец города? Теперь я весь разбит, аж в висках ломит. Ведь это натуральное хулиганство, не иначе!»
Пристав Диевский вопросительно поднял брови:
– И что из всего этого следует?
– А то, – быстро ответила Пятакова, – что я умею понимать чужие страдания. Как раз вчера утром я была на Никольской, купила у Феррейна упаковку лекарств от головной боли. Называется оволецитин. Сорок копеечек стоит. Дала покойному две таблетки, он мне сказал «спасибо» и к себе пошел, весь не свой. Ей-богу! Вот с горя, бедняжка, и повесился. Не перенес, что его с книгами провели так. Ох, как он до книг охоч был – страсть!
Домовладелец Гурлянд, человек осторожный и даже пугливый, тяжело вздохнул:
– Что за наказание такое? То у меня когда-то вот этот бриллиантовый перстень похитили, – он повертел в воздухе пальцем, на котором искрился громадный камень, – спасибо господину Жеребцову, нашел, то вот… этот Абрамов.
(Историю о перстне мы еще расскажем.)
Книжная пыль
Диевский задумчиво глядел на окно, за которым теперь, когда солнце поднялось довольно высоко, явственно был виден висящий на люстре человек.
– Почему окно закрыто? – спросил он у Пятаковой. – Ведь нынче погода весьма теплая.
– Окно закрыто, но открыта форточка! – уточнила та. – Покойный Лев Григорьевич очень боялся пыли, считал вредной для книг. По этой причине не открывал окон даже в самую жаркую погоду. – Пятакова понизила голос: – Покойный, надо признаться, был немного не в себе, он просто помешался со своими книгами. Вязанками притаскивал! Неужто столько прочесть возможно?
Нарушая субординацию, в разговор опять вмешался городовой Митькин:
– Был бы нормальным, так из каких-то книжек не полез бы в петлю!
Пристав Диевский строго сказал:
– Городовой, исполняйте свои обязанности, отодвиньте любопытных подальше! – И к Пятаковой: – Посторонних здесь вчера никого не шаталось вечером?
– Как можно? Никого! – воскликнула та. – Я тут же бы сигнализировала…
Пристав подумал, что зря побеспокоил высокое начальство, протелефонировав в Гнездниковский: «Видать, и впрямь дядя этот был малахольный! А что обо мне Кошко теперь подумает? Скажет, что я беспомощный. Ведь новая метла чисто метет, как бы меня того, не вымели».
В этот момент, распугав толпу резкими звуками клаксона, через арку во двор Галкин вкатил авто, набитое сыщиками.
Соколов, сидевший возле шофера, грозно крикнул:
– Кто посмел затаптывать следы на месте преступления? Городовой, арестовать виновных и доставить в участок!
Толпа, толкаясь и давясь, моментально отступила со двора. Лишь из окон, рискуя сверзнуться вниз, выглядывали любопытные.
Жеребцов, с неожиданной ловкостью для его высокого роста, первым выскочил из авто. Завидя Гурлянда, как старому доброму знакомому, пожал руку.
Пристав Диевский, испытывая неудобство по той причине, что обращаться приходилось одновременно и к новому начальнику, как к старшему, так и к Соколову, как самому авторитетному, поворачиваясь то к одному, то к другому, деловито проговорил:
– Согласно показаниям консьержки, никто из посторонних в квартиру самоубийцы не заходил. В окно забраться тоже никто не мог, высоко оно, да и закрыто.
– Следов от приставной лестницы на земле нет? – спросил Жеребцов. – Ох и натоптали тут зеваки, словно стадо коров прошло.
– Это еще до моего прибытия, Николай Иванович! Тут как раз клумбы цветочные, было бы все равно заметно. С деревьев тоже забраться невозможно, потому как ближайшее не менее двух аршин отстоит от дома.
Соколов сорвал с клумбы ромашку, растер ее между пальцев и с наслаждением вдохнул терпкий запах. Взглянул на Диевского:
– Николай Григорьевич, где твои свидетели? Пригласи их в качестве понятых. Ну, бесценные коллеги, поднимаемся наверх.
Все последовали в подъезд, украшенный богатой лепниной, мраморной статуей нимфы и лестницей, застланной ковровой дорожкой.
Воровской инструмент
Двери квартиры Абрамова оказались закрытыми на ключ изнутри.
Пятакова удовлетворенно вздохнула:
– Вот я и говорила господину приставу, что посторонних злодеев у нас не бывает и вчера тоже никого не наблюдалось. Я весь вечер и ночь неотлучно дежурила. Да и дверь в позднее время изнутри задвижкой захлопнула.
Кошко вопросительно посмотрел на Соколова:
– Будем взламывать замок или проникнем в квартиру через окно? Тут второй этаж хотя и весьма высок, но приставную лестницу, надеюсь, найдем подходящую?
Жеребцов скромненько улыбнулся:
– С Божьей помощью обойдемся без столь тяжких трудов.
Он полез в брючный карман и достал нечто с ручками, похожее на обыкновенные щипцы для завивки волос.
У Кошко от удивления вытянулось лицо.
– У вас, Николай Иванович, уистити? Ведь это типично воровской инструмент!
Жеребцов, счастливый эффектом, который произвел, сказал:
– А теперь сей инструментарий послужит на благо полиции! – Он вставил щипцы в замочную скважину, ловко прихватил конец дверного ключа, торчавшего изнутри квартирных дверей, и повернул его: замок мягко открылся.
– Однако! – Кошко неодобрительно покачал головой.
Соколов же, напротив, улыбнулся:
– Ты, Николай, ловок, как домушник высокой квалификации!
– Ежели новое начальство из сыска выгонит, то без дела не останусь.
Кошко поморщился, но ничего не сказал. Лишь подумал: «Про выходки графа я наслышан, теперь вижу, что его любимый ученик вполне достоин учителя».
Петля
Сыщики вошли в квартиру. Прямо напротив, в обширной гостиной, висел Абрамов. Бегло осмотрели помещения: библиотеку, спальню, чулан, кухню. Повсюду, даже в туалете, стояли вдоль стен стопы книг. В просторной гостиной белел мраморный бюст Вольтера, стоял рояль. На стене висела большая картина Репина «Дубовый лес». И повсюду – антикварные безделушки.
Посреди комнаты на высоком потолке переливалась хрусталиками в лучах утреннего солнца массивная люстра. Веревка была зацеплена за ее толстый крюк. Возле стола на ковре валялся стул.
– Никаких следов борьбы нет, как отсутствуют и какие-либо признаки ограбления, – негромко заметил Кошко. – А на теле трупа, что? Есть ли какие-нибудь повреждения?
– Сейчас осмотрим и доложим, – деловито ответил медицинский эксперт Павловский. – Первое впечатление – повесился сам.
Покойный был одет в плохо сшитый костюм-тройку желтовато-песочного цвета, в стоптанных запыленных башмаках, с золотым обручальным кольцом на коротком толстом пальце.
– Я вам скажу, – прошептала Пятакова на ухо Диевскому, – что покойник в этой одежде пришел с улицы. А он дома всегда переодевался. Ох, как страшен он, прямо не узнать. Глаза-то выпучил!
Сыщики внимательно рассматривали Абрамова.
Рот у покойного был полуоткрыт, из него выглядывал кончик языка, из левого уха по щеке натекла струйка крови. На шею была накинута так называемая закрытая скользящая петля. Не повреждая узлов (способ их завязывания может способствовать разоблачению преступника), разрезали веревку и положили Абрамова на пол.
Павловский и Соколов внимательно осмотрели труп и явных признаков повреждений, которые могли произойти от борьбы с возможным убийцей, не обнаружили.
Павловский сказал:
– Судя по всему, это действительно самоубийство. Аполлинарий Николаевич, взгляните: след странгуляционной борозды на шее полностью соответствует материалу и форме петли, а также ее косо восходящему направлению. Состояние тела и трупных пятен говорит о том, что смерть наступила где-то около полуночи.
Пятакова, несколько осмелев, вставила:
– Вот-вот, повесился тут же, как пришел…
Соколов так взглянул на Пятакову, что она осеклась, вернулась к дверям, где стоял ее стул.
Кошко согласно кивнул Павловскому:
– Я думаю, ваши выводы согласуются с осмотром места происшествия. На ворсе ковра четкий след волочения стола – больше чем на метр. И вот, пододвинув стол под люстру, Абрамов поставил на него стул: на белой скатерти есть отпечатки ножек. Встав на этот стул, Абрамов привязал веревку к крюку, сунул голову в петлю и, толкнув ногой опору, повис.
– Стул упал в шестидесяти одном сантиметре от стола. – Диевский держал в руках сантиметр и, стоя на коленях, занимался измерением.
Павловский внимательно осматривал труп, который теперь лежал на полу возле окна. Он докладывал, а протокол вел Жеребцов.
– Одежда в полном порядке, – говорил Павловский, нигде кровавых пятен нет. В бумажнике пятнадцать рублей восемь копеек, записка с адресом: «Село Черкизово, дом Утенкова», билет на трамвайный маршрут «Б». Положение петли типичное – расположена спереди, в области щитовидного хряща, и поднимается по боковым поверхностям шеи к сосцевидным отросткам и заканчивается в области затылочного бугра…
Психоз
Пока Павловский диктовал, Кошко негромко делился впечатлениями с Соколовым:
– Получается, что права свидетельница Пятакова: Абрамов так расстроился неудачной поездкой в Черкизово, что, придя домой, от огорчения полез в петлю. Это похоже на скверный анекдот, но я знал еще более вопиющий случай самоубийства. В девятьсот первом году пятнадцатилетний сын директора рижской гимназии лег на рельсы перед шедшим поездом и был превращен в кровавый фарш.
– И причина?
– Девушка, которую он пригласил в театр, предпочла пойти с другим. Я только что прочитал статью судебного психиатра Ковалевского о нейрастениках. Ковалевский утверждает, что на этих самых нейрастеников накатывает приступ беспричинного страха, тоски, ревности. И в таком состоянии они способны на любой абсурдный поступок: могут убить или себя, или другого.
Соколов с сомнением покачал головой:
– Если бы мы обнаружили предсмертную записку, но таковой нет. Как утверждают свидетели, Абрамов был вдов и среди близких людей имел лишь сына Дмитрия. Он служит инженером-экспертом акционерного общества «Диана», что на Ильинке. Да еще двое каких-то книжников порой захаживали к покойному. Необходимо их разыскать и допросить.
– Мы это сделаем, – заверил Кошко и повернулся к Павловскому: – Если труп сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, вызывайте карету и отправляйте в морг. Проведите там, доктор, вскрытие, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в суициде. А мы начинаем обыск.
Жеребцов вздохнул:
– Волынки с этими шкафами-полками, горе мое горькое! Так что, видать, не судьба нам нынче наслаждаться вашим, Аполлинарий Николаевич, гостеприимством.
– Немного, обжора, подождешь, – успокоил его Ирошников. – Как дело это завершим, так и отправимся…
Таинственный чертеж
Там, где квартира заставлена книгами, обыск – дело действительно до помрачения разума сложное. Из полиции на подмогу были вызваны еще трое.
В трюмо обнаружили шкатулку, где хранились разные золотые безделушки – серьги, два кулона, браслеты, несколько колец с драгоценными камнями, цепочки. Пятакова пояснила, что эти вещички надевала на себя жена Абрамова, скончавшаяся несколько лет назад.
Более любопытные открытия сделали в гостиной, где стоял палисандровый шкаф, набитый весьма редкими изданиями: первопечатными книгами, гравированными изданиями времен Петра Первого, иллюстрированными альбомами, которые кое-где были перемешаны с томами изящно изданной энциклопедии Брокгауза и Эфрона.
– С книгами обращайтесь бережно! – приказал Соколов. – Обратно ставить будем точь-в-точь так, как они стояли у хозяина. Это наша обязанность – соблюдать порядок. – Николай Иванович, что за пакет ты обнаружил?
– Во втором ряду лежал. Ба, да здесь акции Русского торгово-промышленного банка! Каждая стоит две с половиной тысячи. Всего тут тридцать акций. А вот еще кое-чего! В альбоме «Злополучная поездка…» (он напечатан в Петербурге в 1864 году, а название – нарочно не придумаешь!) ассигнации… – азартно говорил Жеребцов. – Много, однако, их тут.
Пересчитали наличные, оказалось – тридцать одна тысяча.
– Теперь отпадают все сомнения – ничего не пропало, а труп этот не криминальный. Вы согласны со мной, Аполлинарий Николаевич?
– Никак нет! – отозвался Соколов. – Уравновешенный, крепкого здоровья и вполне обеспеченный человек, увлеченный собиранием раритетов и только что жаждавший сделать очередное приобретение, вдруг лезет в петлю! Так не бывает. И байки психиатра Ковалевского меня в обратном не убедят.
– Но вы идете против фактов! – раздражаясь, сказал Кошко.
Загремел квартирный звонок. (Пора объяснить: звонки эти были бронзовыми и производили шум при вращении ручки влево-вправо. Кое-где сохранялись до середины XX столетия.)
– Пакет из прозекторской! – воскликнул Ирошников, открывая дверь посыльному. – Что веселенького нам прислал гордость российской медицины Павловский? – И он хотел сломать сургучную печать.
– Позвольте, Юрий Павлович, мою службу исполнять мне самому! – Кошко выдернул из рук фотографа пакет. Вскрыл, пробежал глазами, удовлетворенно хмыкнул: – Вот резюме: «Признаков борьбы, царапин, никакого насилия на теле Абрамова не обнаружено. Смерть наступила в результате сдавливания органов шеи петлей под действием тяжести повешенного тела». Все-с! Дискуссии закончены, обыск тоже. – Раскурил с наслаждением папиросу «Катык», повеселевшим голосом добавил: – Всякому толковому сыщику ситуацию объяснять – дело лишнее. Соколов, опечатайте квартиру, ключи – в полицию. Ценности приобщить к протоколу обыска.
Соколов хмыкнул:
– Хм, бедный умный начальник! За что ему такое страдание – командовать глупыми подчиненными?
Вопреки вроде бы очевидным фактам, гений сыска всем своим существом чувствовал: здесь произошло преступление. Вдруг его взгляд остановился на длинной скатерти, покрывавшей стол и спадавшей почти до пола. Сыщик поднял край и удивился:
– Как же это не заметили мы?
В его руках был лист почтовой бумаги, сложенный вчетверо. Соколов развернул, слегка присвистнул:
– Фьюить! Да это какая-то шарада! Синим грифелем начертано множество вертикальных линий и семь горизонтальных. Некоторые получившиеся прямоугольники отмечены красным. – Он протянул чертеж Кошко, усмехнулся: – Что это? Умный начальник должен бы знать! Пятнадцать кровавых отметин на чертеже.
Кошко осторожно за уголки взял чертеж, долго изучал его, задумчиво покачал головой:
– Чепуха это, а не ребус. Во всяком случае, это не та предсмертная записка, которая была бы к месту. – Указал на середину чертежа: – А вот тут жирный отпечаток пальцем, синим грифелем! Юрий Павлович, проведите идентификацию. Почти наверняка это след руки Абрамова.
…Августовское небо за окнами чуть посветлело – близилось утро.
Кошко официальным тоном произнес:
– Уважаемые сослуживцы, завтра, то есть уже сегодня, попрошу на службу не опаздывать – всем быть ровно в девять утра.
Подозрение
Утром сыщики, в том числе и сам Кошко, походили на сонных мух. Лишь Соколов, как всегда, был свеж, бодр, весел.
– Где Ирошников? – громово крикнул он, появляясь в сыске. – Чьи отпечатки пальцев на чертеже?
– Отпечатки, как выяснилось, не принадлежат убитому. Чьи они? Пока неизвестно, но это ничего не означает. На этой бумаге может быть изображена какая-то галиматья, она не должна сбивать нас с толку.
Соколов насмешливо, в тон повторил:
– Конечно, конечно, сбивать она нас не будет. Она станет нашей путеводной звездой. Вроде Вифлеемской, только приведет не к яслям, а к завершению дела. Сына убитого разыскали? Сказывали, что третьего дня он был командирован «Дианой» в Рязань?
Кошко сдержанно ответил:
– Дмитрий Львович вчера был извещен телеграммой, а сейчас сидит в приемной и ждет встречи. Должен предупредить: он совершенно убит внезапной кончиной отца. Будьте, Аполлинарий Николаевич, с ним деликатней, это моя просьба.
– Благодарствую-с за ваш полезный совет. – Соколов изобразил расшаркивание.
Кошко покраснел от досады, но ничего не ответил.
В приемной навстречу Соколову поднялся осанистый, в костюме от хорошего портного человек лет сорока. Волосы его на артистический манер волнистыми прядями сбегали на плечи. Глаза – крупные, красивые – глядели с печальной тревогой.
Соколов спросил:
– Я хотел бы знать, что побудило вашего отца залезть в петлю?
Дмитрий неопределенно развел руками:
– Все это, знаете, невероятно до такой степени, что я не вижу никакого объяснения… Когда мне сообщили об этом в Рязани, где я находился по служебным делам, то просто не поверил, думал, дурная шутка…
– С кем ваш батюшка дружил?
– Никого и ничего отцу было не надо – только редкие книги, и все! Впрочем, он порой принимал у себя Владимира Чуйко, это владелец большого антикварного магазина на Мясницкой, в доме Давыдовой, что, знаете, против Банковского переулка. И еще он приятельствовал с библиофилом Ульянинским, тот тоже одержим книгой, вроде папаши.
– Большой капитал был у вашего отца?
– Да, значительный! В ценных бумагах и наличными – не менее ста тысяч. Он все это прятал в палисандровом шкафу, что стоит в гостиной. Мне он доверял, при мне раза два доставал оттуда деньги…
– Когда вы в долг просили?
Дмитрий очень удивился:
– Да, в долг! Но откуда вы это знаете?
– Смекалистый я! Кстати, ценные бумаги и ассигнации, как и шкатулку с золотыми изделиями, мы приобщили к протоколу допроса. По завершении следствия вам вернем. Вы, Дмитрий Львович, не возражаете, коли беседу продолжим в доме вашего покойного батюшки?
– Что ж, раз так надо, я готов.
– Кстати, вы слыхали, сударь, про новую забаву сыщиков – дактилоскопию?
– Что это?
– Не знаете? Напрасно, увлекательное дело. А вот и наш фотограф Ирошников – золотой человек. Юрий Павлович, по хорошему знакомству, сделай нам твое одолжение, прокатай пальчики Дмитрия Львовича.
Ирошников пригласил:
– Милости прошу в лабораторию! Дмитрий Львович, вот раковина, вот мыло – тщательно вымойте руки и досуха вытрите. Не бойтесь, это не больно и совершенно для вас бесплатно, – живо проговорил Ирошников, который всегда заряжался от Соколова бодрым настроением.
Достав цинковую пластинку, он капнул на нее типографской краски и резиновым валиком тонко растер ее. Тут же ловко захватил с боков суставы пальцев Дмитрия, перекатил от одного ногтя к другому и таким же манером перенес отпечаток на регистрационный бланк.
– Чепуха, право, – пробормотал Дмитрий, на лице которого было написано любопытство, смешанное с недоверием. О дактилоскопии, только что внедренной в практику московского сыска, он ничего не слыхал.
Рефлекс цели
Соколов и Дмитрий вышли на Тверской бульвар и, поймав лихача, отправились к Тургеневской площади. Огромная людная Москва жила своей прекрасной и шумной жизнью, двигалась мимо богатых витрин магазинов, затененных брезентовыми навесами, яркой нарядной толпой, оглашалась криками офень и торговцев мороженым, звоном конки, была хороша лубочной прелестью золотых церковных куполов, шумной бестолочью едущих колясок и неимоверным количеством тяжко нагруженных ломовых телег. Это была сказочная и вечно праздничная жизнь, которую нам нынче и представить себе невозможно.
Соколову было странно и больно сознавать, что где-то рядом, в темных углах бушуют грязные страстишки, царствуют жестокость, притворство и лживость. Те, кого Господь создал по своему образу и подобию для жизни светлой и радостной, уничтожают ее алкоголем, наркотиками, преступлениями.
Дмитрий с явным трепетом вошел в квартиру, где совсем еще недавно страшно умирал его отец.
Соколов сказал:
– Внимательней проверьте, все ли на месте, нет ли каких перемен? Картины, вазы, статуэтки, вообще, весь антиквариат – целы?
Дмитрий задумчиво осматривал ящики комодов, содержимое книжных шкафов и полок, конторку, стоявшую в библиотеке. Открыл даже тайный ящик в секретере, где лежали редкие древние монеты, которые отец коллекционировал.
– Кажется, все лежит на своих местах, – сказал он.
– Стало быть, самоубийство?
– Вне сомнений. Человек он был кристальной честности, доброжелательный, спокойный. Но порой на него накатывала какая-то меланхолия. А что касается редких книг, то тут, уверен, батюшка был просто одержимым. Среди сна он мог вскочить и начать целовать какой-нибудь уникум.
– Вы желаете сказать, что Лев Григорьевич был психически больным?
– Нет, но даже ученые пишут, что коллекционер – человек не совсем здоровый. Я, поверьте, у кого-то читал…
– Об этом пишут Сербский, Крафт-Эбинг, Попов. Это разновидность рефлекса цели. Но, Дмитрий Львович, вы были невнимательны. В их работах речь идет о реакции накопления, когда стяжание теряет всякую биологическую и культурную ценность. Вспомните Плюшкина. Слабоумные собирают тряпки, нитки, всякий мусор. Но ваш отец собирал вещи высокой ценности – материальной и художественной. Для такого собирательства необходим высокий интеллект и глубокие знания предмета.
Кто-то крутанул дверной звонок. На пороге стоял Кошко. Он приблизил лицо к уху Соколова:
– На чертеже отпечатки пальцев Дмитрия! Вот, я привез увеличенные фото.
Твердый характер
Сыщики вошли в гостиную, где с отрешенным и нарочито спокойным видом смотрел в окно Дмитрий.
Соколов упал в глубокое кресло, стоявшее возле письменного стола в углу комнаты. Указал Дмитрию на стул:
– Садитесь, сударь!
Они оказались лицом к лицу. Соколов, храня гробовое молчание, уставился стальным взглядом в Дмитрия. Вся Москва знала, что взгляда Соколова никто не выдерживает. Ходила легенда, что какой-то отпетый преступник, когда Соколов впился в него суровым взором, скончался от разрыва сердца. Вот и Дмитрий беспокойно заерзал на стуле:
– Чего вы от меня хотите?
Соколов продолжал молча буравить глазами Дмитрия. Тот не выдержал, отвернулся.
Тогда сыщик, по-прежнему храня гробовое молчание, медленно развернул перед носом Дмитрия чертеж.
Едва бросив на него взгляд, Дмитрий заметно взволновался, побледнел.
– Знакомая вещичка? – прервал молчание Кошко.
– Нет! – обрезал Дмитрий. – Первый раз вижу.
Соколов широко улыбнулся:
– К этой интересной бумажке мы еще вернемся. А теперь, Дмитрий Львович, не желаете ли проверить собственную наблюдательность? – И он положил на стол две фотографии. – Но вначале – крошечная лекция. С незапамятных времен было замечено: папиллярные узоры на кончиках пальцев у каждого человека индивидуальны, нельзя найти двух людей с одинаковыми отпечатками. – Соколов задушевно понизил голос: – Даже после смерти, пока не разовьются гнилостные изменения, эти особенности сохраняются. А теперь, сударь, взгляните сюда: на сих фото изображены отпечатки пальцев одного человека или разных?
Дмитрий стал рассматривать фото. Задумчиво произнес:
– Узоры одинаковы!
– Верно, они носят так называемую петлистую форму и принадлежат вам, уважаемый Дмитрий Львович. Причем вот эти отпечатки у вас откатал в сыске наш Ирошников, а вот эти мы обнаружили на чертеже, от которого вы, сударь, по понятной для меня причине отказываетесь. Теперь вы тоже будете запираться?
– Никакого чертежа не видел, не знаю и знать не хочу! – отрезал Дмитрий.
Кошко по-тигриному сладко промурлыкал:
– Ведь ваше запирательство может быть неверно истолковано. Вспомните, дорогой Дмитрий Львович, при каких обстоятельствах вы держали этот листик в руках?
Дмитрий вскинул голову, отчего его волосы красивыми прядями рассыпались по плечам, а глаза источали мучительную боль.
– Господа сыщики, я не мог убить своего отца, ведь я так любил его! Мне лучше было самому умереть. И потом, вы все время забываете, что я находился в двухстах верстах от Москвы. Множество свидетелей вам это подтвердят.
Кошко сочувственно качал головой. Даже на Соколова искренний тон Дмитрия произвел впечатление.
Магазин Жукова
Дмитрий стиснул ладонями виски, глубоко задумался. Вдруг он с живостью воскликнул:
– Как же я сразу не вспомнил? Естественно, что на этой бумаге должны быть отпечатки моих пальцев. Недели две назад (у меня дома хранится счет, могу его предъявить) я посетил магазин письменных и чертежных принадлежностей Ивана Жукова. Это на углу Никольской улицы и Черкасского переулка.
Кошко, сразу просветлев лицом, согласно кивнул головой:
– Наискосок от аптеки Феррейна?
– Совершенно верно! Я купил коробку почтовой бумаги верже за три рубля семьдесят пять копеек – это тысяча листов. Затем сотню большого формата конвертов – семьдесят пять копеек. И еще… – Дмитрий сморщил лоб, – что я еще купил? Ах, три медных прижимки для бумаг в виде руки, одну из которых вы, господа полицейские, видите на этом столе.
– Вы отдали ее отцу? – Кошко излучал само доброжелательство.
– Да, прямо из магазина я на извозчике отправился к отцу. В тот день мы договорились отобедать у него. Приехав на Тургеневскую, извозчика я отпустил, а покупки занес в дом. Отец попросил у меня стопку бумаги. Я вынул из коробки листов двести и положил их на стол. Как и прижимку. Все это и сейчас находится перед вами. Естественно, что тогда и остались на бумаге мои отпечатки. А как иначе?
Эту оправдательную речь Дмитрий заканчивал на торжествующей ноте. Толстая стопка такой же бумаги, на которой был сделан чертеж, действительно находилась на столе.
Проторенная дорожка
Услыхав это объяснение, Кошко радости своей не скрывал: с самого начала приняв сторону Дмитрия, он был счастлив, что теперь отпали последние сомнения в его виновности. Из этого вытекало еще более важное последствие: начальник сыска утер нос скандально известному графу, для которого юридические законы – прошлогодний снег, а заносчивость зашла столь далеко, что отучила уважать субординацию.
Начальник сыска поднялся со своего места, долго тряс руку Дмитрия:
– Вот так бы, с самого начала, все объяснили нам, и никаких недоумений тогда б не возникло! Примите мои сожаления, что в столь тяжкую минуту пришлось вас тревожить. Сегодня же подпишу бумаги, дающие вам право вступить в права законного наследника. Хорошая память, Дмитрий Львович, вас выручила!
– Это у меня от профессии инженера, многое приходится удерживать в голове. – Дмитрий облегченно вздохнул.
– Позволите отвезти вас на службу?
– Спасибо, но хочется немного прогуляться, погода такая хорошая.
Соколов, однако, не торопился вставать из-за стола. Откинувшись по привычке на спинку кресла своей могучей спиной и чуть раскачиваясь, он самым любезным тоном сказал:
– Очень рад, что у вас, Дмитрий Львович, замечательная память. Тогда вы легко сумеете вспомнить, когда испачкали свой указательный палец правой руки синим грифелем: после того, как сделали чертеж, или во время этой работы?
Только что бывшее радостным лицо Дмитрия мгновенно переменилось: оно смертельно побледнело, губы задрожали, не в силах что-либо молвить. Наконец, собравшись с силами, Дмитрий пролепетал:
– Нет… ничего не знаю! – Он понуро опустил голову. – Вот господин Кошко сразу понял, что я не замешан… – Вдруг истерически крикнул: – Все это – гнусная провокация! Вы – по происхождению граф, у вас достойные родители. И чем вы, граф Соколов, занимаетесь? Невинного человека обвиняете в убийстве.
– Обвиняют отпечатки ваших пальцев! – спокойно отвечал сыщик.
Дмитрий вновь исступленно крикнул:
– Так скажите мне, кого осудили только потому, что нашли какие-то выдуманные вами отпечатки пальцев? Ну что же, граф, вы молчите? А молчите вы потому, что нечего вам сказать: никто и никогда не был обвинен из-за таких бредовых свидетельств.
Соколов, выдержав паузу, ледяным тоном произнес:
– Вы, Дмитрий Львович, говорите правду: в России пока никто не был осужден только потому, что оставил на месте преступления пальцевые отпечатки. Но за рубежом многие суды полностью доверяют дактилоскопическому доказательству.
– Например? – запальчиво выкрикнул Дмитрий, уверенный, что сыщик говорит ему неправду.
– Так, в апреле 1907 года в бельгийском городишке Фрепоне были обкрадены три квартиры. На осколках разбитых оконных стекол нашли отпечатки пальцев. Был арестован некий бездельник Леонард, чьи отпечатки были идентифицированы с теми, что остались на стеклах. И хотя Леонард вроде вас категорически отрицал, что обворовал квартиры, суд признал его виновным в краже со взломом. Позже Леонард во всем признался и указал место, где лежат украденные вещи. Подобные приговоры уже выносились в Японии, в Венгрии и других странах.
– Чепуха!
– В России дактилоскопия введена в тюрьмах циркуляром Главного тюремного управления в позапрошлом, 1906 году, а самым свежим законом – ему ровно месяц – от 6 июля 1908 года в сыскных отделениях больших городов.
– Гиль, чепуха, ложь!
– Жаль, что вы еще больше усложняете непростое положение, в которое попали. Я по телефону вызываю конвой, который вас доставит в Бутырскую тюрьму. Место печальное, но оно весьма способствует размышлениям и сосредоточенности. Вы, кажется, владеете английским языком?
– Да…
– Сегодня же вам доставят труды Гальтона и Генри, вышедшие в Лондоне, об использовании отпечатков пальцев в определении преступников. Внимательно читайте и серьезно размышляйте – это поможет вам принести чистосердечное признание. На русском языке, к сожалению, книг на интересующую тему пока нет.
Дмитрий был отправлен в тюрьму.
Озарение
Соколов и помрачневший Кошко остались вдвоем в квартире, словно какая-то сила не позволяла им покинуть место, хранившее страшную тайну.
– Я все-таки не верю, что Дмитрий причастен к убийству отца, – сказал Кошко. – У него нет мотивов к преступлению. Все капиталы найдены на месте, отношения между отцом и сыном были добрые.
Соколов еще раз внимательно разглядывал таинственный чертеж, хотя каждый штрих его помнил наизусть. Ответил он не сразу:
– Но, как удалось выяснить, Дмитрий вел рассеянный образ жизни, ему постоянно не хватало денег.
– Ну и что? Многим не хватает их, но никто не идет на преступление. Тем более, повторюсь, что все ценности в сохранности. Сыну не нужна была смерть отца. А вы безвинного бросаете за решетку, нарушаете закон.
– Нет, любезный начальник, я закона не нарушаю. Вам известно: мы имеем право задерживать подозреваемого на трое суток. Согласен, что тюремная камера – место гнусное. Но она лишает преступника воли к сопротивлению.
– Нет, не всегда! Знаю исключения.
– Есть такие, это или закоренелые злодеи, для которых тюрьма – дом родной, или натуры с железным характером. Дмитрий не похож ни на тех, ни на других.
Соколов прошелся по гостиной, смягчив тон, произнес:
– В конце концов, наше желание должно совпадать с целью Дмитрия: выяснить причины смерти библиофила. И ради этого, ради отца родного, можно два-три дня потомиться на тюремных нарах.
Сыщик задумчивым взором уставился в заманчиво-древние корешки раритетов, которыми был набит палисандровый шкаф. Даже их внешний вид вызывал в его сердце приятный отзвук. Вдруг блестящая мысль молнией сверкнула в его сознании. Он хлопнул себя по лбу:
– Вот он – ключ к разгадке! Как же прежде я не понял этого? Аркадий Францевич, какое несоответствие при взгляде на эти книги режет вам глаз?
Кошко с недоумением смотрел на книги и несоответствия никакого не замечал:
– Не знаю…
Соколов возмутился:
– Нет, вам, любезный начальник сыска, не преступников искать – в колониальной лавке бананами торговать!
Кошко, с трудом после захолустной Риги избавлявшийся от провинциальной фанаберии, вздернул нос:
– Вы, Аполлинарий Николаевич, что-то сказать хотите?
Соколов хлопнул Кошко по плечу так, что тот аж присел, и проревел:
– Внимательней зрите, командир, на сии раритеты! Любой собиратель редкостей расставляет книги на полках не абы как, а обязательно с толком. Учитывает и формат, и цвет переплета, но главное – тематика. Он никогда, к примеру, не поставит книгу по геральдике среди первых путеводителей по Москве, вышедших при Екатерине Великой. А здесь что? Видите, вот раритеты, тисненные при Петре Первом. И вдруг среди них – тома энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона. А тут, между первопечатными фолиантами и иллюстрированными изданиями, словно пятна черной смолы, опять глаз режут тома Брокгауза!
Кошко словно только что прозрел – с великим удивлением уставился на книжные ряды.
– И впрямь, как это прежде мы не обратили внимания? Теперь мне ясно, что с полок сняли какие-то книги и вместо них поставили эти увесистые тома, которые рядом со шкафом стоят прямо на полу.
– Да, брали без всякого порядка, лишь бы заткнуть в шкафу прорехи. Мне теперь понятно, что означает чертеж: горизонтальные линии – полки, вертикальные – книги. А красный карандаш указывает как раз туда, откуда были сняты редкости и теперь красуются почти ничего не стоящие тома Брокгауза.
– Но могли с этой целью воспользоваться и другими книгами, вон сколько их здесь на полу!
– Конечно, но под руку попался именно Брокгауз, которого восемьдесят шесть томов. Наверняка это сделал не книжник, работа слишком грубая.
Кошко испытал сильнейшее волнение. Он заметил:
– Безусловно, покойного Абрамова кто-то обворовал. Желая выиграть время, чтобы воровство не было сразу раскрыто, заложил освободившиеся места книгами. Но Абрамов заметил пропажу и с горя удавился. Вы согласны со мной, дорогой Аполлинарий Николаевич?
Соколов возразил:
– Из-за десятка-другого исчезнувших книг в петлю полезет лишь душевнобольной, а покойный не был таким. Ведь свидетели – Пятакова, Дмитрий, – говоря о «ненормальности», имели в виду лишь болезненную страсть Абрамова к книгам. Но страсть эта не является психическим заболеванием, скорее наоборот – говорит о глубоких знаниях древней и редкой книги, о высоком интеллектуальном уровне субъекта. Да, покойный Абрамов был чудаком, но это с точки зрения обывателей, разбирающихся в книжной культуре, как свинья в апельсинах.
– Что предпримем дальше?
– Выясним, какие книги пропали. Для этого надо встретиться с книжниками, приятелями Абрамова, – Ульянинским и Чуйко. На кухне лежит «Вся Москва». В этой книге мы найдем их адреса и телефоны.
Пыль веков
Далее события развивались с невероятной скоростью.
Не прошло и часа, как в квартире Абрамова появилось двое гостей. Один – высокого роста, крепкий в плечах антикварий с Мясницкой улицы – Владимир Чуйко, с жесткой щеткой усов под слегка проломленным носом, придававшим ему мужественный гладиаторский вид. Другой – щеголевато одетый, с задумчивыми глазами на интеллигентном лице – чиновник Управления удельного округа Дмитрий Ульянинский.
Библиофилы, повздыхав о покойном, дружно ответили Соколову:
– Да, в библиотеке Абрамова (царствие ему небесное!) есть прекрасные и весьма ценные раритеты. И мы их знаем.
Совместными усилиями библиофилы вскоре установили:
– Исчезли из шкафа одиннадцать первопечатных книг, выходивших в шестнадцатом веке в типографиях Ивана Федорова, Острожского, Невежина. Вот на их месте как раз теперь стоят тома энциклопедии. Среди изданий, появившихся при Петре Первом, нет трех книг, одна особенно редка – «Символы и эмблемата». Она напечатана в 1705 году в Амстердаме и содержит восемьсот сорок гравюр. Экземпляр Абрамова некогда принадлежал Виллиму Монсу – фавориту самой Екатерины Первой, обезглавленному по приказу Петра.
– А чье место занял этот том энциклопедии? – спросил Соколов.
– Тут находилась жемчужина коллекции Абрамова – альбом «Отечественная война» со ста тринадцатью карикатурами Наполеона, исполненными Теребеневым, Венециановым, Ивановым и другими выдающимися мастерами.
Ульянинский значительно покачал головой:
– Это был самый полный экземпляр из всех известных! Я предлагал за него Абрамову фантастические деньги – две тысячи, но он отказался.
Кошко полюбопытствовал:
– Какова примерная стоимость всего похищенного?
Чуйко неопределенно отвечал:
– Эти редчайшие книги стоят столько, сколько за них попросят. Если коллекционеру для полноты раздела не хватает какого-либо экземпляра, он готов выложить за него чуть не целый капитал.
Кошко многозначительно взглянул на Соколова:
– Путь поиска пропавшего ясен: надо оповестить всех букинистов. Пусть сообщат полиции, если кто предложит им украденные книги.
Соколов хотел ответить, что похитители не такие дураки, чтобы тащиться с уворованным в антикварные лавки, как вновь кто-то позвонил в дверь.
Любовь к прекрасному
Судьба в этот день решила быть щедрой к Соколову.
В квартиру ворвался Рацер. Он был крайне взволнован:
– Я уже звонил в полицию, господин Соколов, но мне сказали, что вы тут… Это очень кстати! Тут такая история, не знаю, с чего начать, право.
– Проходите в комнаты, Яков Давыдович, усаживайтесь в кресло. Что стряслось?
Рацер плюхнулся в кожаное кресло, быстро заговорил:
– Видите ли, заболел мой кучер Терентий Хват. Еще позавчера он прислал жену с этим известием. Сегодня я подумал: «Надо Терентия навестить, дорога близкая, а человек он услужливый. Куплю того-сего, подарочков разных, и перед заседанием нашего правления загляну».
Приезжаю в Лялин переулок, это дом Морозова, рядом с полицейской больницей. Живет он, оказалось, в полуподвале. Сырость, воздух застоявшийся, а сам кучер мой любезный сидит за столом. Перед ним на клеенку высыпаны пряники, конфеты, стоит початая бутылка водки, а прямо на газете – шматок сала. Зарабатывает Терентий прилично, мог бы лучше устроиться, да, видать, у некоторых просто стиль жизни такой.
Соколов согласно кивнул:
– Кто это заметил, Вольтер, кажется: «Что будет делать разбогатевший пастух? Он будет свиней пасти верхом».
– Очень верное наблюдение! Но, господа, теперь доложу главное. Говорит пьяным голосом: «Гуляю, горе пропиваю!» А на стене лачуги висит, что бы вы думали? Прекрасная старинная гравюра! Да не какой-нибудь аляповатый лубок, какие клеят на сундуки и стены люди круга кучера, что-то вроде «Что делает жена, пока мужа нет дома», а великолепная работа, на которой изображен Наполеон. Я не стал любопытствовать: «Где взял гравюру?», я решил вам сообщить – на всякий случай.
Кошко деловито предложил:
– Внизу – служебное авто. Едем все к Терентию!
Путь от Тургеневской площади до Лялина переулка – самый недальний. Галкин промчался мимо Чистых прудов, свернул на Покровку влево, еще поворот – теперь направо – и вот трехэтажное владение Морозова.
На неразобранной постели валялся пьяненький Терентий, а на стену самым варварским образом была приклеена редкая гравюра.
– Это работа Теребенева «Наполеон с сатаною», из пропавшего альбома, – единодушно заявили библиофилы.
Терентий вяло пробормотал:
– Чего уж, расскажу все, только вы, господа командиры, зачтите мне это в смягчение судьбы. Эх, все равно меня, поди, повесят? А во всем виноват сыночек покойного Абрамова. Как-то еще в прошлом годе подвез я его со Сретенки на Ильинку, а он мне трешник отвалил. Это за целый день такого не всегда наездишь. Фартовый, думаю, господин. А тут недавно повстречал меня возле дома, где Яков Давыдович живут, спрашивает: «Выпить желаешь?» – «Коли с вашей стороны подношение окажется, то очень желаю!» Отправились мы в чайную к старику Абросимову. Дмитрий Львович большой графинчик заказал, все мне подливает, а сам любезный – ну, что тебе угорь в сметане. Вдруг сказал, как оглоблей огрел: «Хочешь капитал сшибить – пятьсот рубликов?» – «За какие такие труды?» – «Ты залезь по дереву в папаши моего окно и тем же путем вынеси книги из палисандрового шкафа, какие тебе по плану скажу». – «А как же залезть, когда он дома будет?» – «Не будет, это моя забота! Только недалеко от папашиного окна толстое дерево произрастает, а сук близко к папашиному окну подходит, вот с него и влезь. Ведь ты сам говорил, что в цирке акробатом служил». – «У Саламонского на Цветном бульваре верхним в пирамиде стоял, да потом свалился, голову повредил, в кучера подался». – «А чтоб не сразу папаша пропажу обнаружил, ты щели на полках книгами заложи, там целый ворох на полу…» – «А обратно?» – «Тем же манером, в окно». – «Зачем в окно? Я ловкий, лучше в фортку, она там просторного размера. Тогда никто и не подумает, что в квартиру залезали. А у вашего папаши книг много, пока он спохватится, пока чего…» Похвалил меня Дмитрий Львович: «Смекалистый!»
Терентий перешел к главному:
– Настал нужный вечер. Сам Дмитрий Львович нарочно из Москвы отъехал, чтобы подозрениев не было. Я лошадь привязал у библиотеки, напротив. Во дворе – ни души! Без шума в квартиру забрался, по плану нужные книжки вынул. Собирался уже уходить, да слышу кто-то ключом в дверях ковыряется, знать, хозяин явился. Ну, думаю, пропал! Надо выкручиваться.
Терентий замолк, нервно почесывая маленькую красноватую ладонь.
Соколов подбодрил:
– Давай, давай! Дальше – самое интересное. И что ты сделал?
Как о чем-то обыденном, Терентий сказал:
– Спрятался я, а когда Абрамов за собой дверь на ключ закрыл, я мешок ему на голову накинул, а он слабый, как котенок, быстро в омрак упал. Смекаю: тикать надо! Вдруг меня словно нечистый в ребро толкает: «Да повесить его на веревку! Пусть все думают, что сам удавился». Отправился я в чулан, там нашел крепкую удавку. Вернулся, а он, Абрамов-то, дышит опять, даже сквозь зубы свист идет. Тогда… решился я. Пододвинул стол под люстру, встал на стул, привязал веревку. Спустился вниз, да его голову в петлю засунул, чтоб в воздухе болтался. А где чертежный план? Как в воду канул! Плюнул я, прорехи в шкафу книжками заложил, которых целая горка возле стояла, да и ушел обратным ходом. Без затруднениев! Поначалу я все домой отвез – как приказал Дмитрий Львович. А тут шум начался, газеты пишут, испугался я. Оба мешка переправил к свояченице, она в Сокольниках живет. Только, грешен, одна картинка очень мне понравилась, думаю: мало ли на свете картинок? Ведь никто не догадается, что это оттуда. Взял, примазал ее к стене. Можете казнить меня, достоин. Только меня давно совесть угрызла, оттого и занемог. Надо бы самому к вам явиться…
– В том-то и все дело – самому! – сказал Соколов.
Кошко виновато посмотрел в глаза Соколова:
– Аполлинарий Николаевич, преклоняюсь перед вашей прозорливостью! Но если бы не эта гравюра на стене, то и дело никогда бы не распуталось.
– Ошибаетесь, сударь! Уже звонил мне капитан Парфенов – начальник Бутырок, сказал, что Дмитрий Абрамов желает сделать чистосердечные признания. Я направил к нему Жеребцова. И если бы не чертеж, не гравюра на стене, все равно преступление было бы обязательно раскрыто. – Помолчал, с твердой уверенностью добавил: – Нет на свете такого преступления, которое нельзя было бы раскрыть. А убийство – в особенности, потому что против убийцы восстает само небо. Жизнь дает Господь, и только он один имеет право отобрать ее.
Неожиданно улыбнулся:
– Завтра едем ко мне в Мытищи!
Кошко откликнулся с охотой:
– Сбор ровно в пять в Большом Гнездниковском, и надеюсь, что теперь никто и ничто нам помешать не сумеет. Кстати, надо взять с собой подполковника Диевского – он первым приступил к этому делу.
– И Якова Рацера! – добавил Соколов.
Старым воровским способом
Уморительная история произошла поздним вечером того же дня, когда шоферы развозили сыщиков по домам.
Подъехав к себе на Садовую-Триумфальную, Кошко поднял голову и с огорчением произнес:
– А где семейные? Неужто отправились к свояку на дачу в Малаховку? А я нынче дома ключи забыл. Придется опять в Гнездниковский ехать, на служебном диване ночь вертеться.
Жеребцов галантно предложил:
– Коли, Аркадий Францевич, не возражаете, постараюсь вашей беде помочь.
– Каким образом?
– Все тем же – воровским!
Предвкушая удовольствие, сыщики двинулись на третий этаж, где снимал квартиру Кошко. Консьержка сообщила, что семья и впрямь уехала на два дня.
Жеребцов, разминая пальцы, осмотрел массивный, с бронзовой накладкой замок. Затем полез в потайной карман пиджака, вытащил стальную отмычку, вставил ее в замочную скважину.
Все затаили дыхание.
Жеребцов мягко повернул отмычку – и замок был открыт. Назидательно посмотрел на начальника сыска:
– Немного стоит сыщик, если он не умеет делать всего того, что делает преступник.
– Например?
– Это нужда покажет, – туманно ответил Жеребцов, ученик гения сыска.
Эпилог
Дмитрий Львович, попав на тюремные нары, тут же потерял стойкость духа. Вызвав начальника тюрьмы, он просил прибыть в камеру Соколова:
– Во всем ему покаюсь!
Соколов прислал Жеребцова, который составил протокол допроса.
На сей раз сынок библиофила был предельно откровенен.
– Мне до зарезу были нужны деньги, – сказал Дмитрий, и на его глазу блеснула слезинка. – С любимой женщиной хотелось съездить в Ниццу, да чтоб с шиком! А тут продулся в карты, кругом задолжал. К отцу на поклон идти? Нет, это бесполезно. На мои «глупости» он и копейки не дал бы. Предпочел бы купить еще один автограф Пушкина или рукопись Гоголя. Ему развлечение – рыться в мертвых бумажках, а у меня остаток молодости проходит. На свете если есть что важное, то только любовь и азартные игры. Остальное – гиль!
…Выяснилось, что именно в этот момент, как на грех, подвернулся ему некий «князь Б.» (газеты его фамилию не расшифровывали). Он обещал Дмитрию за некоторые редкости из коллекции Абрамова (у которого однажды был дома) громадные деньги, ибо и сам «пожираем коллекционерской страстью».
Зародился план экспроприации раритетов, вроде бы вполне безобидный. Бывая часто у отца, Дмитрий в его отсутствие составил известный нам чертеж. И совсем без особых хлопот за пять рублей устроил какому-то студенту-медику (личность не установлена) «случайную» встречу с отцом в лавке Шибанова.
Остальное читателю известно. Решившись однажды лишь на малый грех, человек против своей воли скатывается в преступную клоаку, из которой выхода нет.
Суд лишил всех прав состояния и отправил на каторгу: Дмитрия на три с половиной года, Терентия Хвата на девять лет.
Что стало с остальными героями? Ульянинский в 1912 году в типографии Рябушинского напечатал тиражом триста двадцать пять экземпляров трехтомный каталог своей обширной библиотеки, ставший важным вкладом в российскую культуру. Этот каталог считается необходимостью всякого серьезного библиофила. Умер Дмитрий Васильевич в страшный для России год, когда до власти дорвался торжествующий хам, – в девятьсот восемнадцатом. Ему было пятьдесят семь лет.
Владимир Чуйко вел успешный антикварный торг в своем магазине на Мясницкой, пока большевики не отняли у него все, что он имел.
Плугом пропахала история жизнь Якова Рацера. Но с этим интересным человеком мы встретимся в следующем рассказе.
Что касается библиотеки Абрамова, то без хозяина она распылилась, разлетелась.
Впрочем, на этом свете все кончается – рано или поздно. Сенатор и кавалер Гавриил Державин мудро писал: «Река времен в своем стремленьи уносит все дела людей…»
Обед в Мытищах
Обычная тишина усадьбы графа Соколова на сей раз была нарушена. Хозяин давал званый обед. Причинами тому были успешно завершенное дело об убийстве библиофила и приезд из Петербурга отца-генерала, члена Государственного совета. Эта встреча вдруг приобрела совершенно неожиданный характер.
Воскресшие тени
Теплый и чистый вечер середины августа медленно умирал в розовых сумерках. Из кухни пахло осетриной и раками. Громадный дубовый стол вынесли в сад. Его накрывали шестеро нарочно приглашенных лакеев.
Эта усадьба еще недавно принадлежала отпрыску древней, но вдребезги разорившейся фамилии. Изнурив свое тело беспутной и нетрезвой жизнью, отпрыск безвременно почил. Усадьбу пустили с молотка. Ее владельцем стал Соколов.
Создателем усадьбы был современник Екатерины Великой – знаменитый архитектор Старов. Любитель одиноких прогулок, Соколов легко представлял себе ту жизнь, которая кипела здесь лет сто назад.
Старинные люди любили торжества и умели веселиться.
Еще накануне праздника сюда съезжалась сотня-другая тяжелых карет. Важные отцы семейств, украшенные бриллиантовыми орденами, толстые мамаши в немыслимых кринолинах, очаровательные дочки с розовыми личиками, волокиты всех возрастов, одетые по последней моде, возбуждавшиеся лишь при мысли об амурных утехах, и в сих утехах вполне преуспевавшие.
Вспышки шипящего фейерверка, театральное представление, каскады вод, хор пейзанок, нарочно спрятанных в кустах, обильный ужин под музыку итальянского оркестра, тайные поцелуи в дальних беседках – ах, золотое невозвратное время!
Соколов из всего этого паркового великолепия восстановил лишь обширный барский дом с обязательными четырьмя колоннами, державшими балкон, да бревенчатую баньку на берегу студеного по причине подземных ключей пруда. Задумчиво склонив бородатую голову, в воду смотрел мраморный Нептун.
И вот теперь, как во времена минувшие, сюда съезжались гости.
Крушение надежд
Старый граф, одетый в придворный мундир без звезд, поглядывая выцветшими глазами в лицо сына и взяв его под руку, прогуливался по аллее и говорил по-французски так, как умели на нем говорить лишь в пушкинское время.
– Бисмарк верно заметил, что только неразумный купец все свое добро грузит на один корабль. Я стал, силой Провидения, сим купцом неразумным. Ты, Аполлинарий, мой единственный сын. Что бы философы ни утверждали, но мы живем ради продолжения и славы своего рода. Когда-то я имел неосторожность рекомендовать тебя Николаю Александровичу. И как же государь был эпатирован, когда узнал, что ты манкировал военной карьерой и перешел в ведомство внутренних дел.
Соколов-младший, словно соглашаясь со словами отца, грустно качнул головой:
– Вы правы, папа! Шамфор сказал бы, что удел родителей – страдать от неразумных чад.
– Перестань шутить. Я говорил днями с военным министром Александром Федоровичем Редигером. Он готов тебя вновь взять на службу. Тебе, Аполлинарий, уже скоро тридцать восемь лет, а я в тридцать два года был генералом. Не обижайся, но мы, наш круг, полицейских в дом не пускали, руки не подавали. Я сделал для твоего воспитания все, что должно. А ты… Тут проезжаю мимо Апраксина двора, какой-то оборванец книжками торгует, орет на всю улицу: «Приключения графа Соколова – гения сыска! Лучшее чтение за пять копеек!»
– И что, папа, вы сделали?
Старый граф поморщился:
– Послал кучера Антипа, он скупил всю эту дребедень и сжег. – Вдруг у старика перехватило горло, с трудом удерживая слезы, он сдавленным голосом проговорил: – На службу в полицию прежде отправляли боевых офицеров в наказание. А ты… по своей охоте. Зачем сыщику образование, воспитание? Только дурни могут идти ловить жуликов.
В этот момент, шурша шелковым платьем, высоко перехваченным широким поясом, полная здоровья и живости, с крыльца сбежала горничная Анюта. Густые каштановые волосы были по моде высоко взбиты. Красивому лицу особую прелесть сообщали голубые, весело смотревшие на мир глаза.
– Гости едут! – радостно, вполне по-девичьи крикнула она. – Я на балконе была, у дальнего леса видела кортеж.
Соколов-младший обрадовался вдвойне: и гостям, и тому, что можно было прервать тяжкий разговор.
Генеральская воля
Аполлинарий Николаевич представил своему сиятельному отцу друзей. Старый граф был любезен и чуть ироничен. Каждому он сказал несколько слов тем принятым в высшем свете ласковым тоном, каким говорят с людьми не своего круга, то есть стоящими гораздо ниже на иерархической лестнице.
Появился старший лакей. Важным тоном, словно сообщая известие государственной важности, он произнес:
– Стол готов-с!
Соколов-младший как самой почтенной протянул руку супруге пристава Диевского: могучей даме в широком платье из модного тем летом хорошего кумачового бархата. Старый граф повел к столу Наталью – жену миллионера Рацера, миниатюрную брюнетку восточного типа с чуть выпуклыми блестящими глазами, с толстой косой, два раза обвивавшей ее небольшую хорошенькую головку.
Супруга Кошко занедужила и прибыть не смогла. У Ирошникова его Ирина уехала на две недели к родственникам в Париж. Но больше всех горевал медик Павловский, который вместо праздничного стола занимался криминальным трупом.
Слуги зажгли свечи в массивных серебряных шандалах и поставили на стол две большие, золоченой бронзы керосиновые лампы, накануне купленные к случаю за пятьдесят рублей у «Мюр и Мерилиза» и почему-то называвшиеся «Селадоном». Стол был красиво – заботами Анюты – украшен цветами. У каждого прибора лежало отпечатанное в художественной типографии Левинсона меню.
На балконе заиграл струнный квартет.
Проворные лакеи заставили стол холодными закусками: грибками, салатами, анчоусами, вынесли большое блюдо – на ледяных осколках лежали крупные устрицы.
После первого тоста («За государя и Российскую империю!») старый граф с легкой улыбкой произнес:
– Мы столько узнаем из газет о подвигах нашей замечательной полиции, что невольно готовы впасть в восторг. Впрочем, газетчики и существуют нарочно для того, чтобы водить за нос общество. Мне очень любопытно услыхать об этих подвигах из первых уст.
Гости несколько робели в присутствии столь важного государственного лица, приближенного двум последним императорам, известного всей России. Не растерялся лишь Кошко. Просьбу он счел приказом. И как фигура начальственная, решительно вступил в дело.
Сушки
– Позвольте заметить, ваше превосходительство, что в нашем деле главное – найти ключик, э-э… так сказать, квинтэссенцию, чтобы раскусить козни злодеев. В моей обширной практике много любопытного. Однако я рискну занять ваше внимание историей, которая случилась со мной, так сказать, на заре века. Она имела большой общественный резонанс.
Служил я тогда в Риге, был тамошним начальником сыска. Однажды меня потребовал к себе сам генерал-майор Пашков, губернатор Лифляндии. Встретил ласково, на кресло показал. Говорит: «Ты, Кошко, слышал, что в Мариенбурге с некоторых пор темные делишки творятся?» – «Как не слыхать, ваше превосходительство, когда вся губерния всколыхнулась. – И осмелился, пошутил: – Только, надо заметить, что делишки вовсе не темные, а наоборот, светлые».
Губернатор изволил улыбнуться и продолжал: «Да, в этом местечке уже несколько недель продолжаются пожары. Вчера ночью сожгли конюшню с рысаками у самого барона Вольфа – местного магната. Красного петуха пустили пастору. Местная полиция беспомощна. Тамошний брандмейстер Залит сбился с ног. Приказываю срочно отыскать поджигателей. Шкуру спущу с них!»
В тот же день я отправил двух своих агентов в Мариенбург. Карманы их набили деньгами. Сняли они жилье, стали по пивнушкам – их там две – ходить, щедрой рукой угощали аборигенов. Но к агентам народец отнесся с подозрением. За их счет винцо пил, но языки никто не развязывал. А пожары продолжались. Так минуло еще месяца три-четыре. Брандмейстер Залит грозится: «Ох, поймаю поджигателей, головы снесу негодяям!»
Дело до государя дошло. Шутка ли: дома горят, люди погибли, а концов найти не можем. Поджигатели после себя никаких следов не оставляют, только на месте пожарища – сильный керосиновый запах.
Государь сделал выговор губернатору. Тот на меня ногами топает: «Срочно найди злоумышленников или – в отставку!»
Долго я голову ломал: «Что предпринять?» И наконец додумался, приказал агентам: «Пивнушку откройте, вот к вам народ и пойдет. Среди пьяных разговоров все проведаете, местный народец правду наверняка знает».
Казна денег дала, пивнушку открыли. И вновь агенты плачутся: «Не идут к нам, пьянствуют там, где привыкли».
Что делать? Ночь не сплю, другую бодрствую. А пожары уже более полугода продолжаются. Опять жертвы – сгорела какая-то старуха и ее внук. Главное – причина не понятна. Жгут всех подряд, но более других достается барону Вольфу и пастору. Губернатор грозит уже меня самого на Сахалин этапировать. И вдруг осенило! Вспомнил молодость, когда с приятелями захаживал в немецкий пивной зал на Измайловском проспекте. Ходили туда многие, за несколько кварталов обитавшие. И знаете, почему? Лишь потому, что там бесплатно к пиву давали соленые сушки. Грошовый пустяк, но, право, какая-то магия – именно сушка туда притягивала.
Отправил агентам несколько мешков сушек, научил, как действовать.
Жена Рацера округлила глазищи:
– Неужто подействовало?
– Именно! Навалились аборигены на дармовые сушки, пиво хлещут, пардон, пьют в три горла, языки развязались. И вот однажды среди ночи ко мне на квартиру заваливается агент. С порога кричит: «Всю правду вызнал! Поджоги устраивает сам брандмейстер Залит».
Диевский удивился, спросил Кошко:
– Зачем ему это нужно?
– Незадолго до описываемых событий скончался местный пастор. На вакантное место рассчитывал брат брандмейстера, но барон поставил своего человека. И тогда, в отместку, этот Залит начал устраивать пожары, чтобы баламутить народ и тем самым отомстить барону Вольфу.
Старый граф, внимательно слушавший рассказ, возмутился:
– До чего пали нравы государственных чиновников! Сам поджигает, сам тушит, да еще награды и жалованье получает. И чем история закончилась?
– Мы провели обыск в доме брандмейстера, у его брата и двух подручных. Нашли большие запасы керосина, пороховые шнуры, несколько десятков аршин трута и прочее. Суд приговорил брандмейстера к восьми годам каторги с лишением всех прав состояния. На каторгу отправили и помощников злодея. А я получил от Пашкова денежную премию. Он восхищался: «Надо же, на сушку уловил злодеев! Ай да молодец!» Об этом и газеты писали.
Старый граф, маленькими глотками смакуя бургонское, одобрил:
– Браво, вы, сударь, поступили и впрямь остроумно! – И повернулся к сыну: – Ты, Аполлинарий, восхищен?
Без восторгов
Соколов молчал. Кошко победно посмотрел на него:
– Что же вы молчите, Аполлинарий Николаевич? Мне тоже интересно ваше мнение. – Начальник сыска явно ожидал похвал.
Тяжело вздохнув, Соколов промолвил, вдруг переходя на «ты»:
– Аркадий Францевич, ты сколько времени разоблачал злодеев?
– Ну, поболее полгода. А что?
– Пока ты беспомощно развлекался пивнушкой-сушкой, горели дома, гибли люди. Какой же это успех? Какие тебе награды? На месте губернатора я тебя выпорол бы и отправил в будочники. Все это дело можно было бы распутать быстрей, чем мы тут обедаем.
Кошко заносчиво привскочил со стула:
– Каким образом?
– На пожарищах, как ты сам сказал, всегда ощущался сильный запах керосина. Стало быть, надо начинать с владельца москательной лавки. Кто у него много керосина скупает, тот и поджигатель.
– Так он не сказал бы! – крикнул Кошко. – Они, собаки, все там запуганы. Каждый за себя дрожал.
– Сказал бы! По бегающим зрачкам и выражению лица я сразу бы догадался, что он правду знает. В конце концов, облил бы его керосином и пригрозил зажженной спичкой. Мол, чик – и ты факел!
Старый граф возмутился:
– Фу, Аполлинарий, это ведь варварство!
– Варварство, папа, когда по вине молчавшего лавочника гибли люди. Он-то знал, кто у него подозрительно много приобретает керосина! Я бы его и сейчас отправил, скажем, на золотые прииски Витима, коли он такой сребролюбивый.
Кошко враз помрачнел, сознавая, что Соколов прав. Но тот вдруг весело и добродушно улыбнулся:
– Уверен, что ты, Аркадий Францевич, послужив вместе с нами еще годик-другой, станешь грозой взломщиков, карманников, магазинных воров и угонщиков колясок!
Обретенный бриллиант
Соколов знал гастрономические пристрастия отца, еще загодя он приказал повару Кобзеву:
– Владимир Григорьевич, сделай ударение на рыбном!
Теперь настал момент, когда лакеи на бегу с непостижимой ловкостью – лишь на кончиках пальцев – тащили подносы со стерлядью паровой в шампанском, форелью, припущенной целиком, с запеченной осетриной «Валаамские старцы», судаком отварным, фаршированной крабами севрюгой на вертеле – «Королевские мечты» и другими яствами.
Старый граф восхитился:
– Надо же, у вас тут кухня получше парижской!
Он и впрямь был приятно удивлен. Старый граф почему-то полагал, что общество, в котором нынче вращался его любимый сын, мало чем отличалось от разбойничьего. Но здесь он встретил людей хотя чинов невысоких, но вполне приличных. Повернулся к молчавшему весь вечер Жеребцову:
– Сын сказал мне, что вы, молодой человек, его ближайший сподвижник. Сделайте старику одолжение, поведайте о каком-нибудь вашем отличном деле.
Жеребцов залился краской смущения.
– Николай Александрович, я рядовой сыщик и все дела мои рядовые, обыденные.
– Ваше превосходительство, – встрял в разговор вечный балагур Ирошников, – Жеребцов манкирует вашей просьбой. Прикажите, чтобы он рассказал про бриллиант домовладельца Гурлянда.
– Приказываю!
Жеребцов вначале сдержанно, но постепенно впадая в раж, заговорил:
– Этот Гурлянд – богатейший человек. В прошлом году явился в сыск, с порога требует: «Желаю видеть графа Соколова, который, говорят, гениальный сыщик!» Отвечаю ему: «Граф отправился в путешествие по Европе, вчера прибыл в Ниццу. Что стряслось у вас?» – «Страшная беда! Вернулся сейчас из клуба домой, обнаружил, что ко мне, разбив окно, влезли в кабинет и украли со стола фамильный бриллиант – почти пять карат!» – «Как же там он оказался?» – «Да вчера вечером отправился в Купеческое собрание, что по Большой Дмитровке, 17. Хотел надеть перстень. Достал его из сейфа, положил на стол и забыл, как раз против окна. Ясно: кто-то узрел с улицы и похитил. Так что телеграммой срочно вызывайте Соколова. Найдет – тысячу целковых ему отвалю!» Я его малость остужаю: «Граф Соколов сам две тысячи даст, ежели вы его беспокоить не будете. Едем к вам, посмотрим что к чему!»
Гурлянд фыркнул, но деться некуда, повез к себе. Он, если помните, живет на первом этаже. Как поступают шниферы? Они накладывают на стекло кусок материи, покрытой клейкой массой – столярным клеем, скипидаром или зеленым мылом. Далее, вырезают стекло алмазом, пластырь заглушает шум при выдавливании или падении. На этот раз пластыря не было. Но главное – осколки стекла валялись под окном, а мелкие стеклышки, уцелевшие в раме, имели наклон наружу.
– Стало быть, изнутри выдавливали? – спросил старый граф, с нескрываемым интересом слушавший Жеребцова.
– Так точно, ваше превосходительство Николай Александрович, изнутри! И об этом же говорили следы стамески на раме. Ясно, что никто с улицы в квартиру не проникал, а лишь имитировали взлом. Я выяснил, что прислуга Гурлянда отчасти живет в его же квартире, отчасти в полуподвале. Но все обедают и ужинают у него на кухне. Объявляю Гурлянду: «Поздравляю вас, Самуил Давыдович, кражу совершил кто-то из домашних. На кого имеете подозрение?» Гурлянд горячо протестует: «Такого быть не может! Вся моя прислуга – кристальные люди и меня обожают, словно отца родного. И я не позволю срамить меня, делать обыск». Вижу, спорить бесполезно. Спрашиваю: «В каком часу прислуга обедает?» – «В шесть!» – «Ждите меня и ничему не удивляйтесь».
Вечером, взяв с собою внушительного вида двух городовых, мы неожиданно для прислуги явились на кухню. Там шла трапеза. Один из городовых, оголив шашку, встал возле окна, другой – в дверях. Все было заволновались, лишь повар, как персона важная, спрашивает: «Вы, господа полицейские, зачем пожаловали?»
Я сквозь зубы с самым мрачным видом отвечаю: «Пришли арестовать похитителя бриллианта. Мы подождем, пусть негодяй в последний раз хорошей пищи хозяйской поест. Теперь ему на каторге никто мясную котлету на тарелку не положит». И сам развалился в кресле, наручниками поигрываю, за присутствующими внимательно поглядываю. Поначалу почти у всех кусок изо рта валился, друг на друга с подозрением лупоглазят, поглядывают. Потом освоились, попривыкли, ужин кончают вполне спокойными, ибо вины за собой не ведают. И лишь у одного, с шишкообразной головой и торчащими в стороны ушками, ложка в руках трясется, еда мимо рта валится. Так, почти ничего и не ест уже. А я жару наддаю: вперился взглядом в него одного, да и он на меня беспокойно то и дело поглядывает.
Когда кухарка на стол желе и чай поставила, он уже совершенно ничего не ел, опустив голову, сидел, словно убитый.
Я встал, подошел и положил ему на плечо руку: «Пошли, несчастный!»
Тут ушастенький разрыдался, стал нервно выкрикивать: «Виноват я, все скажу! Зашел в кабинет ради любопытства, а тут, на столе, и лежит… Правду говорю, не хотел я брать, чужого отродясь… ничем не попользовался! Пусть меня повесят, пусть расстреляют, подлеца своей жизни. Заслужил, такой-сякой! Спрятал в сливном бачке у своей невесты Калерии, прачкой она служит на фабрике иголок Гиршмана».
Поехали в Черкасский переулок к Гиршману. Бриллиант в туалете нашли. Передал я его Гурлянду. На радостях он стал мне премию предлагать – сто рублей. Я отверг подношение, но сказал, что уместно будет, коли он вознаградит двух городовых: «У них жалованье маленькое!» Самуил Давыдович от щедрот своих отказал им «красненькую» – десять рубликов-с, по пятерке каждому.
Соколов захлопал в ладоши:
– Браво, Коля, блестящая работа! Выпьем за юное дарование – Жеребцова.
Лакеи несли горячие закуски, украшали стол жульеном из птиц, форшмаком в калаче, толмой в виноградных листьях, блинами с зернистой икрой.
Старый граф ласково улыбнулся, истории эти весьма его развлекали. Он посмотрел на сына, негромко, но внушительно сказал:
– А теперь, дорогой сынок, сделай одолжение, о себе расскажи. А то о тебе разговору больше, чем о Пинкертоне.
Газетное объявление
Аполлинарий Николаевич взглянул на старого графа:
– Отцовское слово, как царское, оно дороже всего. Но, милый папа, положение хозяина обязывает уступить пальму первенства гостям. Я вижу, что наш жизнерадостный фотограф Ирошников готов порадовать общество забавной историей. Это так, Юрий Павлович?
Тот охотно кивнул головой, торопливо запил белым вином рыбный волован и произнес:
– Служебную карьеру я начал письмоводителем в Мариинском участке, что в Марьиной Роще. У меня есть родственничек со смешной фамилией Сквозняков. Парень добрый, но бестолковый. Служил экспедитором в конторе Шиперко.
– Это что мебель перевозит? – колыхнула бюстом супруга Диевского.
– Да, а мой Сквозняков однажды в мартовский денек повез мебель куда-то на Ольховку. Солнце разыгралось вовсю. Жарко стало экспедитору, снял он с себя пальто, совсем новенькое, только что сшил за хорошие деньги. Осторожно так свернул и положил возле себя на фургон.
Тут ему накладную принесли. Пока он оформлял ее, пальто – тю-тю! Побежал потерпевший в участок. Там заявление от него приняли, но, как водится, похитителя обнаружить не обещали. Приплелся ко мне, чуть не плачет: «Юрий Палыч, ты большой человек, в полиции служишь! Прикажи кому следует, чтобы покражу нашли и мне предоставили. Ведь целый год на обнову копил, себе в необходимом отказывал, и вот – на тебе!»
Я малость покумекал и отправился к нашему приставу Романову. Он человек душевный. Я объяснил что к чему и мою задумку поведал.
Удивился пристав, помотал головой: «Сомневаюсь в твоей затее!»
Однако выписал на бланке разрешение Вячеславу Сквознякову ходить по ломбардам и отыскивать ворованное пальто.
Сквозняков спрашивает:
«Ломбардов много, с какого начинать?» – «С Елоховского, понятно, ведь он ближе других к месту кражи».
Побежал Сквозняков с разрешением, а уже часа через два возвращается, пот со лба смахивает: «Нашел! Заложил, подлец, за пятнадцать рублей, а мне пальто обошлось в семьдесят! Прикажи, чтобы выдали». – «На это полиция прав не имеет, следует действовать через суд. Да только проще с медведицей в клетке переспать, чем с российским судом связываться». – «А как же быть?» – Сквозняков чуть не плачет. «Полицейский без ума – все равно что лопата без черенка. А в нашей голубятне, – Ирошников постучал себя по лбу, – кое-что водится».
И пропечатали мы в газетах за казенный счет объявление:
«С воза утеряно темное пальто со светлым бархатным воротником, а в подкладке зашиты 200 рублей ассигнациями, равно как именные акции Приморской Санкт-Петербургской Сестрорецкой железной дороги с ветвями пять штук по 500 рублей. Доставивший потерю получит вознаграждение – 300 рублей».
И адрес указали нелегальной квартиры – в доме 4 по Собачьей площадке.
– Неужели вор поверил? – так и ахнула супруга Диевского.
– Не совсем! Мы на квартире оставили опытного агента, маститого старика Смолина. Ух, хитрющий был! Воришка оказался опытным, тюремной баланды уже вдоволь похлебал. Он поначалу без всякого пальто скромненько явился на квартиру, для разведки. Коли схватят, так не с поличным, но Смолин был, царствие ему небесное, актер – что тебе Щепкин! Он так ловко пьяненького изобразил и водочкой воришку угостил, что тот поверил. И потащил Смолина на какие-то задворки, вынул из-под камушка квитанцию и фальшивый вид на жительство. Приехали в ломбард, тут наручники на воришку и надели.
– Ловко! – Гости захлопали в ладоши, и даже старый граф одобрительно качнул седовласой головой.
Золотой браслет
Теплый сумрак, далекий лай деревенской собаки, яркие звезды, изумрудно светившие в млечной белизне неба, печальная музыка Паганини, доносившаяся с балкона барского дома, – все это сладостным покоем умиротворяло душу.
– В нашем деле требуется прежде всего здравый смысл! – сказал Соколов. – И тогда почти все дела, которые поначалу кажутся загадочными и неразрешимыми, легко распутаются.
Жеребцов вдруг весело расхохотался:
– Ваши слова, Аполлинарий Николаевич, мне напомнили случай с золотым браслетом. Телефонят в сыск из ювелирного магазина Свиридова, что на Большой Полянке, казус какой-то у них вышел. Сел я на извозчика, приехал. Хозяин, человек молодой и вам, Аполлинарий Николаевич, хорошо знакомый, – Жеребцов хитро посмотрел на Соколова, – объясняет мне: «Задержали вора! Спрятал в карман массивный золотой браслет с изумрудами стоимостью в триста рублей и хотел унести».
Вижу приличного на вид господина. Он с большим апломбом заявляет: «Я сюда пришел купить подарок жене. Этот браслет мне понравился. Да, я положил браслет в карман, но я направлялся к кассе, чтобы расплатиться за него, отдать сто девяносто рублей. За невинное оскорбление личности подам в суд», – грозит покупатель и даже возмущенно долбит тростью в пол.
Я, право, не знаю, что делать. Решил протелефонить Аполлинарию Николаевичу. Вопрошаю: «Кому верить?» А тот мне сразу полезный совет дает: «Выясни, сколько при себе денег у этого господина?»
Господин покраснел, порылся, порылся в карманах – там всего трешник.
«На какие капиталы собирались покупать?» – строго спрашиваю. Деться некуда, признался в краже. Я командую: «В Бутырку!» Но ювелир Свиридов заступился: «Давайте для первого раза простим!»
Понимаю, что Свиридову в суд таскаться не хочется.
Внял я этой просьбе, да вскоре пожалел. С таким же трюком господин воришка попался на Кузнецком Мосту у Фаберже. Оказался гастролером, прикатил из Кракова.
Старый граф, раскуривая сигару, заметил:
– Христианская доброта в практической жизни, увы, не всегда хороша!
Аполлинарий Николаевич возразил:
– Однако, папа, сила в доброте великая. Вот тот же Андрей Свиридов… Я оставлю историю о нем… на десерт.
Девичий хор, согласно порядкам старины спрятанный в кустах, согласно затянул:
- Во саду ли, в огороде,
- Девица гуляла…
Официанты принесли новую перемену: перепелов, жаренных на вертеле, фазана в сметане, шницель «Вальс Чайковского»…
Соколов посмотрел на Диевского:
– Николай Григорьевич, у тебя, как лица начальственного, много, поди, баек припасено. Расскажи, сделай обществу наслаждение. Ну, как ты знаменитого Куренкова ловил?
Все замолкли, ожидая рассказ. Старший официант, заложив за спину левую руку, с привычной ловкостью разливал вина. Остро пахло сухой хвоей. Было хорошо, как редко бывает в жизни.
Погоня
Пристав Диевский, разогретый вином, живо начал рассказ:
– Ныне имя страшного убийцы Куренкова известно каждому. О нем много писали газеты. Мне же пришлось охотиться за ним еще лет десять назад. Куренков из крестьян, но закончил сельскую школу, ходил в реальное училище. Оптовую торговлю винами Александра Белова, что на Маросейке, помните? Его туда конторщиком приняли, на хорошем счету был. Фотографией увлекся, удачные снимки делал. Одевался под барина. Но стал на бега ходить, много проигрывать, а из кассы – того, денежки начали пропадать. Белов его расчел. И вскоре, здесь же на Маросейке, Куренков ограбил лавку оптических приборов Шоровского. Куренкова дворник местный в лицо знал, схватил, но тот вырвался, дворника табуретом шарахнул и скрылся. По всем полицейским участкам было разослано описание внешности грабителя.
Прошло месяца два, но Куренков, подобно невидимке, растворился в громадном городе. И вот однажды на закате сентябрьского воскресного дня шел я по Солянке. Вдруг смотрю – из пивного зала Василия Перова выходит крепкого сложения, хорошо одетый человек, в белой сорочке, галстуке, тростью помахивает, костюм прекрасного покроя, может, шил у Жака или у самого Анатолия Гришина в Столешниковом переулке. Однако по манере держаться, по расхлябанной походке, по сутулости угадывается в нем простолюдин.
Но я прошел бы равнодушно, ежели этот субъект не вел бы себя нервно. То оглянется, то возле зеркальной витрины потрется – изучает ее отражение. Ясно – опасается наблюдения.
Вдруг субъект стал переходить дорогу, лицом ко мне повернулся. Жесткие иссиня-черные волосы зачесаны назад, лоб узкий. Овал лица квадратный, нос прямой. Ушная раковина треугольная, оттопыренная. Шея короткая, грудь широкая, рост выше среднего. Ведь это совпадает с приметами разыскиваемого Куренкова!
Оглянулся я: ни городового, ни дворника. Только слоняется рвань разная, ведь Хитровка с ее ночлежками и трущобами в двух шагах. На помощь этих головорезов рассчитывать не приходится. Скорее наоборот… Тип наверняка вооружен, а я нет. Ну, думаю, уйдет! А тип уже заметил мое внимание к нему. Остановил извозчика, вспрыгнул в коляску. Что делать? Другого извозчика, чтобы проследить, не вижу. Тогда я рванулся, догнал коляску и ухватился за рукав типа. А он меня по лицу – хрясть! А сам соскочил, задал деру. Ну, я за ним! К Спасо-Глинищевскому переулку тип не побежал, его там наверняка дворники схватили бы. Тут какая-то шпана проходила, крикнули ему: «Мотай в соляные склады!» Тот и нырнул в подземный лабиринт, где бесконечные темные переходы, а по случаю выходного – ни души, даже фонари керосиновые не горят. Сторож и тот, как потом выяснилось, не вышел на службу по причине запоя.
Как быть? Подобрал я отрезок трубы, спрятался за выступ. Полчаса жду. Совсем уже темно, ни живой души вокруг, только крысы между ног шуршат. Холодно стало, зуб на зуб не попадает. Что делать? Спущусь в лабиринты, он или ускользнет, или меня укокошит и опять же скроется. Вдруг мысль пришла – остроумная. Ору: «Эй, браток, легавый слинял, канай наверх!»
Что бы вы думали? Слышу в темноте осторожные шаги. Вот и мой голубчик нарисовался, головой повертел туда-сюда. Я его обрезком трубы ка-ак шарахну – он и брык, без чувств распластался.
Дернул я на Солянку, стал свистеть, прибежал городовой, мы типа в участок приволокли в наручниках. Действительно, Куренковым оказался.
– И большое наказание тогда этот человек понес? – спросил старый граф.
Диевский вздохнул:
– Выпустили его за отсутствием доказательств вины! Дворник, которого он – табуретом, был свидетелем единственным. Про отпечатки пальцев мы тогда и не слыхали. Попади он в тот раз на Сахалин, так и не произошло бы трагедии в Малом Ивановском переулке, которой, кстати, заниматься пришлось Аполлинарию Николаевичу. А вскоре меня повысили в должности – стал приставом.
Соколов коротко хохотнул:
– Вот, Николай Григорьевич, какая несправедливость: ты трубой – по голове, и тебе – повышение в должности. А если бы я такое, не приведи господи, сделал, так все газетки захлебнулись бы в злобных ругательствах: «Ах, опять этот граф-злодей!»
Отозвался Ирошников, усиленно налегавший на шампанское:
– Вам, Аполлинарий Николаевич, нет нужды трубой действовать. У вас кулаки что тебе пудовые гири.
Все улыбнулись, Диевский простонародно расхохотался и потребовал:
– Аполлинарий Николаевич, расскажите вашу историю, как вы Куренкова допрашивали! Право, господа, дело такое, что его впору в пособие по уголовной тактике заносить.
Четыре трупа
Соколова на этот раз упрашивать не пришлось. Он, неспешными глотками потягивая крымскую мадеру, начал историю:
– Однажды в полицию обратился этот самый Куренков, проживавший на полюбившейся ему Солянке в пятом доме по Малому Ивановскому переулку во владениях купчихи Анны Кучумовой. Куренков, страшно взволнованный, притащил за собой еще двух свидетелей, каких-то мужичков-ремесленников, и рассказал, что в начале восьмого утра пришел в пивнушку Перова, где гулял до обеденного часа.
«Я ведь откровенно с вами объясняюсь, – говорил мне Куренков, – дело тут плохое, мокрое. Нынче насчет выпитого ошибся в расчете и малость пошумел с одним посетителем. Владелец трактирного заведения Василий Андреевич Перов разнервничался и кричит: „Чтоб, чиж паленый, духу твоего здесь не пахло!“ Я и вот эти мои кумпаньены, а еще теперь сбежавшая приститутка Феня пошли ко мне выпить, потому как в тумбочке бутылка водки дожидается. Пришли, а там на полу – кругом одни трупы, четыре, так сказать, экземпляра. Мы как злодейство обнаружили, сразу к вам, осведомить-с!»
Жил Куренков в полуподвальном помещении, где тридцатилетняя вдова сдавала рабочим койки. Когда мы спустились туда, то увидали совершенно жуткое зрелище. Вдова распласталась в громадной луже крови возле окошка. Ее двенадцатилетняя дочь Соня лежала зарезанной возле дверей. На спинке металлической кровати висели два сына вдовы, задушенные полотенцами, – четырех и пяти лет. Возле убитой вдовы стоял выдвинутый из-под кровати сундучок. Он был открыт, и вокруг валялись медяки.
Мы приступили к осмотру места преступления. Куренков помогал нам с необычным энтузиазмом. Он по своей охоте подробно рассказал об образе жизни убитой, о круге знакомых, о том, что трамвайный кондуктор Еремеев был ее любовником, и весьма ревнивым…
И указывает на сундучок, крышка которого раскрыта и кругом медяки раскатились:
– Дело ясное: Еремеев с нее деньги требовал. Она полезла в чужую скрыню, а там – копейки, вот Еремеев со злобы и порешил всех.
Весь этот энтузиазм показался мне подозрительным. Допросили мы по отдельности Перова и тех двух приятелей, которых Куренков в квартиру привел. Они подтвердили, что Куренков безотлучно с раннего утра находился в пивной, много пил, жаловался на резь в желудке, раза три в туалет бегал, проигрался на бильярде, хвалился своими любовными похождениями.
Медик Павловский, в свою очередь, по состоянию трупов определил, что смерть наступила где-то в полдень. Спрашиваю Куренкова:
– А когда вы утром из квартиры уходили, кто здесь оставался?
Он назвал двух-трех человек и добавил:
– Дети еще на своей половине дрыхли, а покойная вдова попалась мне на крыльце. Она разговаривала с дворником Мартыновым. У меня после вчерашнего было сильное изнеможение. Средство от такого недуга мне известно. Вот я и пошел к Перову, чтобы поправиться. А дворник Мартынов ехидничает: «Опять покатил бельмы заливать?» Я ему – вежливый резон: «Почтенный вы мужчина, Мартынов, но только моя выпивка в ваше рассуждение не должна входить». Спросите, он мне не даст соврать.
Время было позднее. Трупы мы в полицейский морг к Лукичу отправили. Я приказал, чтобы принесли пиво и бутерброды. Угостил Куренкова. Против него у меня не было никаких улик, и все же внутренний голос говорил: «Виновен!» Объявляю:
– Спасибо вам, Куренков, следствию вы очень помогли. Но только дело хитрое, боюсь, трудно его распутать будет.
– Это точно, Еремеев человек самый паскудный.
– Распишитесь здесь, на протоколе.
Куренков с явным наслаждением закрутил роскошную подпись и направился к дверям. Я, словно между прочим, спросил:
– Чуть не забыл, Куренков, что в руках у Софьи было, когда она домой вернулась, – корзина или баул?
Куренков живо откликнулся:
– Да ничего, порожние у ней руки были!
И вдруг он осекся, поняв, что проговорился. У него начался приступ нервического хохота:
– О-хо-хо! Ну и ловко вы меня подцепили!
И далее самым простым и спокойным тоном рассказал, что у него в тот день и впрямь болел живот и он раза три бегал в туалет, который на улице. Пропил все деньги, а «нутро своего требовало». Тогда он пошел на хитрость: сказал, что отправился в туалет, а сам припустился домой, чтобы обокрасть сундучки рабочих и быстро вернуться в трактир. Когда обнаружат пропажу, то у него верная отговорка: он целый день безотлучно провел в трактире. Все удалось блестяще. Никто не видел, как он проник в заборный лаз и через черный ход вошел в квартиру. Когда начал обшаривать сундучки, вдруг вернулась хозяйка. Она сказала, что заявит в полицию. «Вскипела тут во мне злоба, аж все нутро затряслось. Ну, думаю, курва, в единый миг тебе предел жизни поставлю. Выхватил нож и по самую рукоять ловко всадил!» – хвастливо заявил Куренков. А тут – как нарочно – на пороге Софья.
…С девочкой убийца расправился безжалостно. Уже хотел бежать, как услыхал веселые детские голоса. Это, на свою беду, вернулись сыновья вдовы. Куренков опрокинул их и одновременно придушил руками, а затем, еще дышавших, повесил на вафельных полотенцах…
(Сделаю маленькое авторское отступление: в моем распоряжении следственные фотографии участников этой трагедии. Страшная картина: малыши, висящие на спинке кровати с задранными вверх детскими личиками. И сам Куренков, вполне приличный на вид человек, в хорошем костюме, со спокойным, почти доброжелательным выражением лица.)
– Ради чего этот изверг пошел на столь страшное преступление? – спросила жена Рацера.
– Я этот же вопрос задал убийце, – сказал Соколов. – Тот промямлил: «Она мое мужское достоинство оскорбила! Я ухаживал за ней, на Троицын день коробку ландрина подарил, а она, лярва, любила не меня, а Еремеева. Когда это произошло, думаю: вот теперь за все отыграюсь – сразу!» – «Эх, Куренков, женщины любят богатых и сильных, а на тебя смотреть неприятно: пьешь много, бегаешь от работы. На себя обижаться надо».
Суд приговорил убийцу Куренкова к бессрочной каторге.
– Тяжелая история, – тихо сказал старый граф. – И ты, Аполлинарий, после этого все еще станешь возражать против сурового наказания преступников?
Соколов мягко улыбнулся:
– Простите, папа, но, по моему мнению, христианская доброта порой должна превозобладать над наказанием. – И он повернулся к гостям: – Согласитесь, господа, что только доброта может исправить к лучшему заблудшего человека?
Жеребцов взмахнул рукой:
– Безусловно, достаточно вспомнить случай с ювелиром…
– Свиридовым? – подхватил Соколов. – Да, пример весьма показательный. И я готов поведать вам эту историю.
Странные обстоятельства
– Я люблю повторять, что работа сыщика напоминает игру в шахматы, где первый ход принадлежит преступнику. Сыщик обязан быть умней и проницательней преступника, тогда он всегда поставит мат – злодей получит свое.
Соколов на мгновение умолк. Свет «Селадона» ярко освещал крупное мужественное лицо сыщика, сделавшееся вдруг печально-задумчивым. Он продолжил:
– Но бывают случаи, когда духу не хватает сделать последний ход, наказать порок. История, о которой вам поведаю, случилась в мой первый год переезда из Петербурга в Москву. Поселившись в громадном доме у Красных Ворот, я по субботам порой захаживал на Сухаревскую толкучку. Здесь среди разного хлама можно отыскать за бесценок хорошую картину, по невежеству наследников выброшенную вместе с мусором, или редкий том – мечту коллекционера. Помните трактирщика Григорьева, имевшего на Сушке заведение в подвале? Так он целую библиотеку редкостей собрал на книжных развалах. Был случай, когда какой-то пьяница ему притащил кипу царских указов, подписанных Петром Первым и им же правленных!
– А еще карманников на Сушке – что стаи воробьев на овсяное поле слетаются, – сказал Жеребцов.
– Верно, ходят туда как на службу, – согласился Соколов. И продолжал: – Проходя мимо калачного ряда, я обратил внимание на прилично одетую барышню лет двадцати пяти. В одной руке она держала над собой кружевной зонтик от солнца, а на локте другой висел ридикюль. Последний был почему-то раскрыт, и оттуда выглядывал уголок кошелька.
«Надо сказать барышне о неловкости», – решил я и уже было двинулся к ней. Но вдруг во мне заговорил профессиональный сыщик. Я подумал: а не воришка ли развязал ридикюль? Решил: надо малость последить. Окинул взором прилежащее пространство: где специалист по чужим сумкам и карманам?
Да будет вам, дамы и господа, известно, что карманный вор всегда имеет приличный вид, одет исправно, чисто, но неброско. Вор не должен выделяться из толпы, а вид его обычно вызывает доверие. В руках его вы не увидите ни зонта, ни перчаток, ни трости.
Рацер вставил:
– Эта профессия требует свободных рук.
– А какие пальцы у карманника высокого класса – ну, прямо-таки Рахманинов! Они необыкновенной длины, узки, выхолены. Такой мастер всегда действует в одиночку.
– Почему? – удивилась любознательная супруга Диевского.
– Ваш муж, сударыня, подтвердит, что настоящий вор-карманник, мастер экстра-класса, или, как его зовут в уголовной среде, щипач, всегда полагается лишь на себя, и сообщник для него – ненужная помеха. Зато заурядный карманник работает на пропуль, то есть, вытащив кошелек, он спешит передать его своему сообщнику.
– Понятно, – мотнула головой супруга Диевского, – чтобы не застукали с поличным.
– Совершенно верно, сударыня! Вдруг я увидел, что к барышне приблизился юноша лет двадцати. Он был скверно одет, лицо с тонкими, даже благородными чертами, серое от дурного питания, хранило печать несчастной жизни. Никаких профессиональных воровских признаков в юноше я не обнаружил.
Неловким движением он запустил в ридикюль руку, вынул кошелек и уже было направился прочь.
– Стой, братец, – говорю и от души улыбаюсь. – Что нашел – чур, на двоих.
Страшно смутился юноша, залился краской, мямлит:
– Простите, Господа ради…
– Просить прощения у закона будешь! – И обращаюсь к барышне: – У вас, сударыня, из ридикюля ничего не пропадало?
– Ах, и впрямь развязался… Откуда у вас, молодой человек, мой кошелек?
– Этот молодой, симпатичный на вид человек – воришка. Он похитил кошелек. Пройдемте в участок, это недалеко, в Глухаревом переулке. Там составим протокол, вы будете свидетельницей, а кошелек вам вернем.
Барышня замахала руками:
– Какой такой участок! В этом кошельке лишь какие-то копейки. – С укоризной посмотрела на юношу:
– У вас, молодой человек, такое хорошее лицо, а вы… Неужели не стыдно?
Заплакал мой пленник:
– Простите, крайняя нужда толкнула… Вижу, сумка открыта, и я… того.
Я схватил за ворот воришку и цыкнул на него:
– Работать надо, тогда нужды не будет по сумкам лазить. Сейчас городовой тебя в участок сведет.
– Мать у меня больная, кушать ей нечего. Ради нее…
– А теперь тебя в тюрьму посадят, так ей легче будет? Хватит канючить. Эй, городовой!
Вдруг барышня, которая сама вот-вот расплачется, лезет в карман, достает рубль, протягивает его юноше:
– Возьмите, пожалуйста, молодой человек, купите маме покушать.
Тот, несмело поглядывая на меня, взял рубль:
– Благодарю вас, сударыня, я при первой возможности верну.
Вспылил я:
– Да что же вы комедию тут разыгрываете: один несчастный, другая – добрая фея, а я – беспощадный злодей. Так, что ли?
Кругом народ толпится, молодого человека тоже жалеют.
Барышня предлагает мне:
– Давайте сходим к молодому человеку домой, убедимся, что он правду говорит. Если не соврал, так и отпустим его. Для первого раза.
Спрашиваю:
– Ты, похититель чужого добра, где живешь?
– Рядом совсем, в Большом Головином переулке! Ходьбы – всего ничего… Это в доме купчихи Глушковой.
Барышня обрадовалась:
– Все сразу прояснится! Я в туберкулезной лечебнице Эрлангера фельдшерицей служу, это на Большой Якиманке. Зовут меня Екатериной Ниловой. Может, помощь какую больной окажу.
Мы направились в Большой Головин переулок, а за нами шествовала толпа любопытных.
Глухо зашумев, пробежал по верхушкам деревьев ночной ветерок. Над лампами кружились и, сгорая, падали ночные мошки. Крепче запахло прелой хвоей и грибами.











