Читать онлайн Личное дело.Три дня и вся жизнь
- Автор: Владимир Крючков
- Жанр: Биографии и мемуары, Военное дело, Спецслужбы
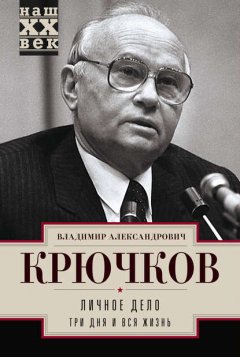
Предисловие
Писать книгу воспоминаний с изложением своего видения происшедшего и происходящего я начал еще в «Матросской тишине» в сентябре 1991 года, там же и был закончен ее первый вариант.
Шестьдесят лет свободы, честной, ничем не запятнанной жизни, и вдруг тюрьма! Арест, следствие и предстоящий суд… После ареста приходишь в себя не сразу, да и придешь ли когда-нибудь полностью? Вряд ли! Жизнь, если можно назвать пребывание в тюрьме жизнью, идет в особом измерении. Порой кажется, что ты находишься в каком-то кошмарном сне! Вот сейчас он наконец-то закончится и ты снова окажешься на свободе, в привычной для тебя среде, а сон этот останется в памяти просто неприятным воспоминанием… Но, к сожалению, жестокая реальность не дает «проснуться», и ты начинаешь мучительно осознавать, что жизнь действительно сыграла с тобой такую злую шутку…
В «Матросской тишине» для меня первым, совершенно необычным чувством оказалось в корне изменившееся ощущение времени. Долгие годы время представлялось мне чуть ли не самым дорогим, что у меня было. Его всегда не хватало, и я берег каждую минуту, искренне жалел о каждой потере. Причем жалел просто до отчаяния! И вдруг все разом изменилось – время как будто остановилось, оказалось совсем ненужным и даже обременительным.
Трудился в камере, естественно, украдкой и при плохом освещении, не имея под рукой никаких материалов. Соседи с пониманием и одобрением относились к моему творчеству, старались по мере сил создать хоть какие-то условия для работы, но, следуя неписаным тюремным законам, стремления ознакомиться с содержанием моих записей не выказывали. Помогали же тем, что соблюдали тишину, прикрывали от глаз охраны, проявляя при этом недюжинную смекалку, и старались достать для меня хоть какие-нибудь материалы, принося после встреч с адвокатами или родственниками газеты или интересные вырезки, а то и просто устные новости, которые, по их мнению, могли бы мне пригодиться.
Большая часть воспоминаний написана, таким образом, мною по памяти. Даже оказавшись на свободе, я так и не получил доступа ни к каким документам Комитета госбезопасности, ЦК КПСС или правительства. Пришлось довольствоваться лишь тем, что можно было почерпнуть из открытой печати. По этой причине в изложении некоторых событий отсутствуют точные даты, мало цитат, однако суть описываемых событий доводится до читателя без искажений. За это могу поручиться.
Помню, как-то в тюрьме я потерял несколько десятков уже готовых страниц рукописи, и мне пришлось заново восстанавливать их. Я сделал это, кляня себя за небрежность и за этот напрасный труд, как всегда сожалея о потерянном времени. Спустя несколько месяцев утраченные листочки, будь они неладны, все же нашлись. Каково же было мое удивление, когда после сверки я обнаружил почти полное совпадение текстов – старого и написанного мною вновь. Я обрадовался не только тому, что в очередной раз проверил свою память, но и мысли о том, что так и должно быть всегда, когда человек говорит правду.
Постоянно я ощущал пусть и незримую, но очень важную для меня поддержку, которая исходила от тысяч и тысяч незнакомых мне людей. Их голоса не только доносились через толщу тюремных стен, звучали в печати, по радио и телевидению, раздавались на площадях и улицах, но и доходили в виде множества писем, которые нескончаемым потоком шли в «Матросскую тишину», моим адвокатам и родственникам. Именно эти люди, а также те, кто пусть и не выражал свои чувства открыто, но в душе продолжал и продолжает поддерживать нас, носят это гордое имя «народ», делу служения которому я и посвятил без остатка всю свою жизнь!
Не считая нужным кардинально менять что-либо в написанном пять лет назад предисловии к двухтомнику, не могу не сказать о тех обозначившихся в самое последнее время внутренних и внешних обстоятельствах, которых я не мог не учитывать во время работы над новым изданием книги.
Во-первых, с официальной политической арены ушел бывший президент России Б. Ельцин. И хотя он еще не оказался в рамках политического небытия, тем не менее можно утверждать, что к концу 1999 года завершился период трагического, мрачного, разрушительного правления этой личности и начался новый этап в жизни России.
О роли Б. Ельцина в истории нашей страны можно будет объективно говорить лишь после того, как с годами выйдет наружу вся правда о «делах» и «творениях» этого человека.
Вместе с Ельциным займет свое позорное место и первый президент Советского Союза М. Горбачев. До последнего времени у нас в стране и за рубежом (преимущественно среди наивных людей) возникали споры о том, что в действиях и политике Горбачева по развалу Советского Союза было случайным или вызванным стечением сложившихся обстоятельств, а что преднамеренным, осознанным. Ответ на этот немаловажный вопрос всем недавно, в августе 2000 года, на семинаре в Американском университете в Турции дал сам Горбачев, прямо заявивший: «Целью моей жизни было уничтожить коммунизм, невыносимую диктатуру над людьми» (газета «Советская Россия» от 19.08.2000).
В этом интервью Горбачев окончательно саморазоблачается как безусловный предатель тех многих миллионов людей, которые шли за ним, веря в его разглагольствования о коммунизме и социализме. Показывает неприглядную роль своих ближайших сподвижников – А. Яковлева и Э. Шеварднадзе. Трусливо пытается полностью переложить вину за развал СССР на Ельцина. Кстати, десять лет подряд он не переставал кричать, что Советский Союз развалили гэкачеписты.
Во-вторых, в конце 1999 – начале 2000 года на российском государственном Олимпе появилась новая политическая фигура – Владимир Владимирович Путин. Избрание В. Путина президентом Российской Федерации было положительно встречено не только теми, кто проголосовал за него, но в общем-то подавляющей частью населения страны. Люди, включая левый и правый электорат, связывали и связывают с его приходом к власти большие надежды.
Как бы то ни было, уже сейчас очевидно одно: новый президент во всех отношениях лучше прежнего (ведь хуже Ельцина трудно себе представить). Другое дело – как эти надежды людей оправдываются…
Президент демонстрирует огромную работоспособность, энергию, организованность и довольно терпимое отношение к тем, чьи взгляды наверняка не разделяет. Он сменил на государственных должностях наиболее одиозные фигуры и быстро наладил деловые взаимоотношения с законодательными органами. На международном поприще совершил целый ряд полезных визитов и принял в стране видных деятелей отдельных государств, в развитии отношений с которыми Россия заинтересована.
С другой стороны, реальные изменения в жизни людей происходят медленнее, чем хотелось бы.
Думается, рудименты политики ельцинского периода, направленной на разрушение всего и вся, не позволяют рассчитывать на быстрое преодоление глубочайшего кризиса, в который оказалась ввергнутой Россия. Тем более что сохраняются внутренние и внешние угрозы для страны. Что касается внутренних угроз, то основная из них – это тяжелейшее положение с отечественным производством. Не работает основной источник пополнения жизненных ресурсов государства. Расчет лишь на рыночные механизмы – грубейшая ошибка. Ни одно высокоразвитое капиталистическое государство ни в прошлом, ни сейчас не избавлялось от кризисных явлений без определяющей роли государственных институтов. Россия, экономика которой совсем недавно была почти полностью государственной, не может рассчитывать только на рынок. Такая политика будет сопровождаться новыми кризисными вспышками, загоняя вглубь то, что разрушает общество и страну.
Что касается внешних угроз, то они, к сожалению, сохраняются и, более того, становятся еще рельефнее. Республиканская партия США, идя на президентские выборы 2000 года, абсолютно четко заявила: «Республиканцы – это партия, выступающая за мир с позиции силы». Такой же политики придерживаются и американские демократы. И те и другие заявляют, что установившееся лидерство США в мире будет обеспечиваться и далее всеми имеющимися у американцев средствами. Для нас такое положение – жестокая реальность. Если Россия эту реальность проигнорирует, то придет время и целостность нашего государства окажется под угрозой.
Возможности для защиты Отечества создаются не в одночасье. Для этого требуются время, надлежащие силы, политическая воля, облеченная в соответствующую внутреннюю и внешнюю политику.
Новый президент России обладает необходимыми личными качествами и потенциалом, так что дело за решимостью употребить их на благо возрождения великой России.
При подготовке настоящего варианта своих воспоминаний, учитывая интерес читателей, дополнил текст характеристиками трех президентов США – Картера, Рейгана и Буша. Именно при них разворачивались события, связанные с Советским Союзом и затем Россией, происходившие в описываемый период. Книга пополнилась также размышлениями о ведущих фигурах американского политического истеблишмента того времени – Киссинджере и Бжезинском. Кроме того, в настоящее издание включены дополнительные материалы о последних месяцах жизни Ю. Андропова, сведения о некоторых политических деятелях советского и постсоветского периода, а также отдельные дополнения и уточнения описанных ранее событий.
Ряд прогнозов, сделанных автором в предыдущих изданиях «Личного дела», пришлось подкорректировать: к сожалению, события развивались и пока развиваются по худшему варианту, чем можно было предположить прежде.
В работе над этой книгой автору оказали большую помощь бывшие сослуживцы, адвокаты, родные и близкие друзья. Всем им моя огромная искренняя благодарность.
Пользуясь случаем, автор благодарит читателей, приславших отзывы о предыдущем издании книги, поддержавших его позицию и высказавших свои суждения о трагических событиях, обрушившихся на нашу Отчизну в последние годы.
1995–2002
Глава 1
Начало жизненного пути
И до тюрьмы, и за те полтора года, что я провел в камере, не проходило дня, чтобы передо мной так или иначе не возникал образ отца. Чисто детские картинки – воспоминания сменялись долгими беседами, в ходе которых я часто в мыслях искал у отца совета и поддержки.
Мой отец, Крючков Александр Ефимович, родился 19 ноября 1889 года в городе Царицыне – затем Сталинграде, ныне Волгограде – в семье рабочего-котельщика. Жили большой семьей небогато, но за счет своего трудолюбия были сыты, худо или бедно, но обуты и одеты. Ютились то в землянке, то в небольшом домишке на окраине города, где снимали угол. Лишь со временем родителям отца удалось приобрести свой крохотный глинобитный домишко, наполовину вросший в землю, который поначалу не имел даже деревянного пола. Много лет спустя к этому однокомнатному строению, разделенному внутри лишь символической перегородкой, приделали сени, прорубили еще одно оконце. Так постепенно эта полуземлянка превратилась в нечто отдаленно похожее на жилой дом. В нем-то и прожили мои дед с бабушкой до конца своих дней. Вот о них мне хотелось бы немного рассказать.
Дед, Ефим Николаевич Крючков, работал на нефтебазе шведского капиталиста Нобеля поначалу простым рабочим, а затем писарем. Сам выучился читать и писать, причем писал довольно складно, грамотно и красивым почерком. По просьбе рабочих дед бесплатно составлял всякого рода письма, ходатайства и прошения. Эта грамотность, мягкий и отзывчивый характер в один прекрасный день, как это водится на Руси, обернулись для деда большой бедой. А история такова.
Жизнь у рабочего человека была в те времена крайне тяжелой. Трудились на износ, едва волочили ноги к субботней получке, а после нее шли в кабак, чтобы хоть как-то отвлечься от повседневных тягот. В воскресенье приходили в себя, с тем чтобы с понедельника вновь впрячься в лямку. Так и шли недели, месяцы, годы. Ясно, что старость и болезни в таких условиях долго себя ждать не заставляли. А с ними человек неизбежно лишался работы, обрекая себя на полуголодное, чтобы не сказать хуже, существование. Хорошо тому, у кого есть работящие дети, которые могут помочь, а как быть остальным? Вот мой дед и решил как-то помочь нескольким бедолагам, которых уволили с работы по болезни. В связи с тем что причиной их нетрудоспособности явилась авария, случившаяся на заводе, мой дед составил от имени потерпевших прошение, да не кому-нибудь, а самому царю. Ответ, разумеется, был отрицательным, впрочем, на другую реакцию особенно и не рассчитывали.
Полученный отказ окончательно обрекал бедняг на полуголодную жизнь и медленное умирание. Это обстоятельство и толкнуло деда на отчаянный шаг: он искусно подделал текст ответного письма, обязав хозяина выплатить пострадавшим единовременное пособие и установить пенсию за причиненные увечья. Однако подлог в конце концов все-таки вскрылся, в результате чего деда самого выгнали с работы и даже на какое-то время взяли под стражу. А вот покалеченных рабочих «выхлопотанного» с таким риском пособия уже не лишили, так что в результате пострадал лишь мой дед. Он и до этого имел больное сердце, а тут вся эта история и вовсе добила его: год спустя, в 1910 году, его нашли на улице умершим от разрыва сердца.
Бабушка – Крючкова Лидия Яковлевна – человек во всех отношениях незаурядный. Она была немкой по национальности, но глубоко русской по воспитанию, духу и образу мышления. Да и сама бабушка всегда с неизменной гордостью подчеркивала, что является русской, любила русскую культуру, с почитанием и даже каким-то благоговением относилась к истории нашего народа. Ее родители были поволжскими немцами, предки которых приехали в Россию еще во времена Екатерины II, да так и осели в Царицыне. Со временем они вконец обрусели, и их потомки также навеки остались жить в России, преимущественно в этих же самых местах. Трудовую жизнь бабушка начала рано, с 16 лет. Была рабочей, мыла цистерны из-под нефтепродуктов. Труд тяжелый и крайне вредный, но за него неплохо платили. Надолго здоровья, однако, не хватило, так что пришлось оставить прежнее место и подрабатывать в других местах – то сторожем, то шитьем в мастерской. Так же как и ее муж, Лидия Яковлевна сама выучилась грамоте и очень любила читать.
Выйдя в 1870 году замуж за моего деда, бабушка рассталась не только со своей девичьей фамилией Шрайнер, но и вообще со всем немецким. Национальные черты характера, такие как бережливость, аккуратность и пунктуальность, проявлялись у нее, пожалуй, лишь в быту, во всем же остальном, в том числе и в облике, была она типично русской женщиной. Хоть и знала бабушка немецкий язык, но при мне старалась никогда им не пользоваться, даже в тех случаях, когда ее навещали жившие по соседству подруги-немки.
Я же очень хотел выучить немецкий и не раз просил ее помочь мне в этом, но она всегда отказывалась, неизменно приговаривая: «Не нужно, не потребуется тебе это». До сих пор не понимаю, почему она столь упорно противилась моим просьбам, никаких объяснений на этот счет добиться мне так и не удалось. Вполне возможно, что бабушка хотела уберечь меня от каких-то неприятностей, тем более что шли 1930-е годы и волна репрессий уже направо и налево косила и русских, и немцев, причем последних и вовсе без разбора. Хоть и не повезло мне с немецким, я все же многому научился от бабушки. Вообще нас с ней связывали очень теплые отношения – меня она выделяла из всех своих внуков, с детства почему-то прочила большое будущее…
Бабушка была глубоко верующим человеком, и я частенько заставал ее склонившейся над старинной Библией, напечатанной готическим шрифтом. Читала она вслух, но так тихо, что слов разобрать было невозможно. С этой Библией в соответствии с ее завещанием бабушку и похоронили. Умерла она в 1938 году, намного пережив своего супруга. Это была первая смерть на моих глазах очень дорогого мне человека…
Национальность моей бабушки никак не сказалась на «русскости» всего нашего рода, может быть, именно потому, что она сама так не хотела этого. Во время Великой Отечественной войны мои родственники-немцы разделили тяжелую судьбу русских людей, многие жестоко пострадали от фашистских оккупантов, а некоторые поплатились своими жизнями. Муж моей тетки – дочери Лидии Яковлевны – также был немцем, а их сын Иван Шульц, летчик-истребитель, погиб в первые дни Великой Отечественной войны в Латвии – был сбит в неравном бою. Тетка же вместе со своим мужем была насильно угнана в Германию. Там они подвергались крайне жестокому обращению, издевательствам и лишь каким-то чудом остались живы. Пожалуй, именно от них я слышал самые негативные отзывы о немецких оккупантах.
После смерти бабушки мой отец остался в большой семье за старшего. К этому времени он уже был начальником цеха на сталинградском заводе «Баррикады», на котором работал, кстати, с девяти лет. Начинал с того, что помогал котельщикам, подносил материалы и инструмент, просто бегал в магазин за продуктами для рабочих. Но уже в одиннадцать лет отец выполнял хотя и несложные, но самостоятельные работы, а с пятнадцатилетнего возраста и вовсе трудился наравне со взрослыми, правда получая за это гораздо меньшую плату.
Всю жизнь отец отдал родному заводу, занимаясь, хотя и в разных должностях, все тем же котельным делом. Иногда он вместе с другими товарищами артелью ненадолго выезжал на заработки, чтобы прокормить семью, но это было тогда обычным явлением, одной зарплаты никогда не хватало. Такие поездки позволяли не только подзаработать, но и повидать страну, что сделать в ту пору иным способом было невозможно.
Я до сих пор помню рассказы отца об этих «путешествиях». Он говорил не только о том, что видел на Кавказе, Украине или в Средней Азии, но и о людях, с которыми доводилось там встречаться. Именно отец с детства привил мне чувство уважения к людям другой национальности, которое я сохранил на всю жизнь. Я и сейчас часто задумываюсь над тем, что сказал бы отец и вообще люди его поколения, если бы им выпала доля увидеть, во что сейчас превратили нашу многонациональную Родину, в которой одной семьей жили все населявшие ее народы.
В годы Гражданской войны отец воевал за советскую власть, прошел через суровые испытания. Однажды был схвачен белыми и чудом избежал расстрела, осуществив вместе с группой красноармейцев дерзкий ночной побег накануне казни. Всю жизнь отец прошагал в ногу с советской властью. В 1924 году после смерти В.И. Ленина вступил по ленинскому набору в партию. Помнится, отец положительно отзывался о нэпе, считал такой ленинский шаг очень мудрым решением, реально облегчившим жизнь народа. Правда, говорил он, невесть откуда вдруг появилось немало утопающих в роскоши богачей, но им советская власть особенно разгуляться не давала, а самое главное, не позволяла наживаться за счет эксплуатации простого люда.
Экономика обескровленной в ходе Гражданской войны страны получила столь необходимую ей подпитку, заметно улучшилось положение дел с промышленными товарами, вздохнула свободнее деревня, что не замедлило сказаться и на продовольственном рынке.
После введения нэпа жизнь начала постепенно меняться к лучшему, появился достаток и в нашей семье. Отец теперь все реже выезжал на заработки, да и на заводе дела у него пошли в гору. Вскоре он уже стал мастером, а в начале 30-х получил назначение на должность начальника котельного цеха завода «Баррикады».
В 1928 году рядом с лачугой бабушки родители построили небольшой деревянный дом. В нем мы прожили до сентября 1942 года, но в войну дом не уцелел – сгорел во время очередной фашистской бомбежки.
30-е годы запомнились мне, тогда еще ребенку, тем, что отец очень много работал, домой приходил поздно, а утром, чуть свет, опять отправлялся на завод. Отдыхал лишь по воскресным дням, да и то не каждую неделю. Но жалоб от отца ни я, ни мать никогда не слышали. В редкие праздники в доме собирались друзья отца. Разговор всегда шел о заводе, о стране, все чаще и чаще затрагивалась тема войны – о ней говорили как о чем-то неизбежном. Никто не сомневался в том, что война будет, как, впрочем, никто не сомневался и в победе.
На нашей небольшой улице жили несколько парней призывного возраста. Настал черед проводить своих сыновей в армию и моим родителям – один из них стал летчиком-истребителем, другой – моряком. Три моих двоюродных брата уже служили: один в авиации, другой был танкистом, третий – пехотинцем. Служба сыновей в армии была предметом особой гордости родителей, хотя, помню, мать часто плакала по ночам – видимо, предчувствовало материнское сердце скорую гибель сыновей в предстоящей войне.
В 1937 году пошли аресты, не обошли они стороной и нашу улицу. Внезапно исчезал кто-то из соседей, а спустя некоторое время доходил слух о том, что он оказался «врагом народа». Помню, только двоим из них удалось вернуться, по сути дела, с того света. Один был уже совсем больным и вскоре умер (лишь много лет спустя я узнал, что на самом деле он покончил жизнь самоубийством).
Конечно, никто вслух не ставил тогда под сомнение действия властей и тем более не связывал происходящее с именем Сталина – об этом не могло быть и речи. Вместе с тем недавние друзья не спешили заклеймить позором своего попавшего в беду соседа, не пытались отмежеваться от него, скорее аресты вызывали чувство сострадания и недоумение.
Однажды мутная волна репрессий чуть-чуть не накрыла и нашу семью. Отец как-то пришел с работы неожиданно рано, еще до обеда. Я подумал сначала, что он заболел. Причина, однако, была совсем в другом. Когда утром отец, как обычно, явился на работу, его вдруг не пропустили на завод, задержав на проходной. Под предлогом того, что нужно кое в чем разобраться, сначала попросили немного подождать, а потом, спустя часа два, объявили, что он свободен, и отпустили домой. Когда можно будет выйти на работу, пообещали сообщить позже.
В тот же день стало известно об аресте директора и некоторых других руководителей завода «Баррикады»… В доме воцарилось предчувствие страшной беды. К счастью, для нашей семьи тогда все обошлось благополучно. Через пару дней отца вызвали на завод, и он вновь стал работать в своей прежней должности начальника цеха. Кто-то потом рассказал отцу, что его спасла безупречная биография и служба сыновей в армии. Отец тогда произнес слова, которые я запомнил на всю жизнь: «А разве от биографии зависит, виновен человек или нет?»
Несмотря на репрессии, в стране невиданными темпами осуществлялось социалистическое строительство, масштабы которого до сих пор поражают воображение. Происходило это в основном за счет самоотверженности советских людей, их напряженного, изнурительного труда. Да, пожалуй, другого выхода тогда и не было. Помощи ждать было неоткуда, поэтому полагаться приходилось только на собственные силы. Выручала не только природная выносливость русского человека, его неприхотливость, способность к самопожертвованию, но и глубокая вера в торжество коммунистической идеи, ожидание светлого будущего, которое, казалось, уже не за горами.
Огромные перемены происходили в социальной области, шла настоящая культурная революция. В кратчайшие сроки удалось повсеместно ликвидировать неграмотность – учились все – и стар и млад. Для пожилых организовывались вечерние школы, курсы, кружки в клубах, а то и прямо на квартирах. Работали передвижные библиотеки.
На нашей улице учебой не были охвачены всего две или три пожилые женщины да один старик, которому в ту пору уже перевалило за девяносто. Не было ни одного ребенка старше семи лет, который не ходил бы в школу. Каждая семья выписывала хоть одну газету или журнал, да еще обменивалась прочитанным с соседями.
В районе, где мы жили, еще в 1934 году провели электричество, а вскоре в домах заработали и радиоточки. В середине 30-х годов у нас появились первые выпускники отечественных вузов – собственные инженеры, врачи, преподаватели, агрономы и даже один геолог. До неузнаваемости изменился облик обитателя сталинградских окраин и большинства остальных жителей города.
Слыханное ли дело, что еще вчера забитый и в массе своей неграмотный заводской люд потянулся к искусству – люди стали ходить в театры, кино, на концерты, посещать выставки и музеи, участвовать в художественной самодеятельности.
Эти несомненные успехи омрачались, однако, предчувствием страшной беды, нависшей над нашей Родиной, – с каждым днем становилась все ощутимее угроза войны. Это сплачивало людей, дисциплинировало, повышало их ответственность. Войну не просто ждали, к ней серьезно готовились.
И все-таки застала она нас врасплох. Тот, кто пережил 1941 год, никогда не забудет, как он узнал о начале войны, при каких обстоятельствах услышал первое сообщение о нападении Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны.
В жаркий воскресный день 22 июня сбылась моя давняя мечта: родители собрались на базар покупать мне велосипед. Долго выбирали, приценялись и, наконец, нашли подходящий вариант – осталось только оплатить покупку.
Именно в этот момент и заработал репродуктор, висевший на фонарном столбе. Сначала объявили о том, что сейчас будет передаваться важное сообщение. Все как-то сразу притихли. И вот раздался голос Вячеслава Михайловича Молотова – Германия совершила вероломное нападение на Советский Союз, первые бомбежки советских городов, бои на границе. В заключение Молотов произнес слова, которые облетели потом весь мир: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»
О покупке велосипеда, конечно, больше не было и речи. Люди на базаре торопливо завершали свои дела и расходились. Заспешили домой и мы. Возвращались молча, погруженные в свои мысли. Дома нас встретили со слезами на глазах. Хоть о войне давно уже говорили как о чем-то неизбежном, в душе все еще продолжали на что-то надеяться, думали: а вдруг пронесет?
Когда весть о войне облетела город, все поспешили к своим семьям, а вечером, наоборот, людям захотелось собраться вместе – буквально весь город высыпал на улицы. Растерянности и тем более паники заметно не было. Лица были суровы, но спокойны, многие решили немедленно идти на фронт. Все считали, что война не продлится долго, и уж тем более были уверены в том, что на свою территорию врага мы ни за что не пустим. Мы ведь воспитывались тогда в духе непобедимости.
А по радио тем временем объявляли один указ за другим. Ждали сводок, и они скоро действительно пошли – одна тяжелее другой. Но и тогда еще надеялись, что дела на фронте вот-вот поправятся. Никто не предполагал, что придется воевать целых четыре года, что война докатится до Сталинграда и полностью разрушит его, что она обернется для страны такими огромными жертвами…
В начале июля 1941 года наша семья первой на улице получила похоронку – извещение о гибели моего брата Константина. Нам сообщили, что он был смертельно ранен и похоронен 25 июня 1941 года в Латвии в районе города Даугавпилса. Брат был участником финской войны, там он тоже воевал летчиком-истребителем и был удостоен высокой награды – ордена Красной Звезды. Он был любимцем всей семьи, человеком редкой души, общительным, музыкально одаренным, заботливым и нежным сыном, мужем, отцом, братом и внуком. И вот Кости не стало…
Ну а потом похоронки стали приходить на нашу улицу все чаще и чаще. Почтальон шел тяжелой походкой, сгорбившись, на его лице, казалось, навсегда застыла печать глубокой скорби. Говорил нехитрые слова утешения, а сам при этом украдкой смахивал слезы.
В конце июня 1941 года вместе с одноклассниками я написал заявление с просьбой отправить меня на фронт. У здания военкомата собралось, казалось, полгорода. Некоторые пришли по повесткам, но основную массу составляли добровольцы. Выстояв длинную очередь, мы наконец пробились в кабинет военкома. Едва взглянув на наши документы, он вернул их обратно – возрастом не вышли. Даже справка об окончании курсов Осоавиахима и права на управление мотоциклом, на которые я так рассчитывал, не возымели действия. Все наши уговоры военком оборвал словами: «Идите и не мешайте работать!» Выйдя за дверь, мы тут же приняли решение помогать фронту другим, единственно возможным тогда для нас способом – работой на оборонных заводах.
Я оставил школу и пошел разметчиком на завод «Баррикады», туда, где трудился мой отец. Было мне тогда 17 лет.
Прежде на «Баррикадах» я бывал только во время школьных экскурсий. Спустя два месяца сдал экзамен и получил четвертый разряд по механической разметке. Работал по 12 часов в сутки при одном выходном в неделю, который давали, когда позволяла обстановка.
Часто вспоминаю это время, мой первый рабочий коллектив, чистые, бесхитростные отношения между людьми. Рабочие всегда что думали, то и говорили, горой стояли друг за друга. Мастер Николай Михайлович досконально знал всю свою бригаду, не только требовал план, но и проявлял искреннюю заботу о людях. Подойдет, бывало, ночью и скажет: «Вижу, устал, иди поспи часок!» Да еще при этом даст «концы» – промасленные тряпки – подложить под голову. Сам же потом и разбудит.
На своем веку мне приходилось работать в разных коллективах, но самые яркие и сильные впечатления у меня остались именно от рабочей среды.
…Пролетел первый военный год. Враг вплотную подошел к городу. Воздушные тревоги объявлялись по нескольку раз на день, но бомбежек пока не было. И вот 23 августа 1942 года около пяти часов вечера в район тракторного завода прорвалось первое танковое подразделение немцев, а два часа спустя начался массированный налет немецкой авиации.
У меня в тот день был выходной, и я находился как раз в центре города, когда раздались первые разрывы бомб. Это был кромешный ад! Вокруг рушились здания, после прямого попадания они разом оседали на землю, поднимая высоко к небу клубы дыма и плотной пыли. Люди же почему-то искали защиты от бомб и осколков именно вблизи строений, сотнями погибая под их обломками. Вокруг раздавались крики, стоны, начались пожары, а самолеты волнами все шли и шли на город.
Перед бомбометанием летчики делали большой разворот и, пикируя, заходили с востока, из-за Волги, уклоняясь таким способом от огня наших зениток, расположенных в западной части города. Вечером от разлившейся нефти, горевших пароходов и барж заполыхала Волга. Зрелище горящей реки производило впечатление какого-то кошмара!
Ночью немцы бомбили уже не так сильно, но с утра налеты возобновились с прежней интенсивностью. Мне каким-то чудом удалось живым выбраться из центра города. Один раз близким разрывом меня бросило на землю и привалило сверху деревом. Домой я смог попасть лишь глубокой ночью, а к утру, несмотря на сильную боль в ушибленной спине, побежал на завод.
На «Баррикадах» тушили многочисленные пожары, спасали уцелевшее оборудование и наиболее ценное сырье. Стало ясно, что нормальная работа предприятия в условиях непрекращающихся бомбежек и обстрелов уже невозможна. Поэтому было принято решение вывезти все, что только можно, на другой берег Волги.
Задача была очень непростой, работать приходилось день и ночь. Помню, как-то раз мы переправили очередную партию цветных металлов и, вместо того чтобы этим же пароходом, как обычно, сразу вернуться назад, вынуждены были задержаться на том берегу до прихода куда-то запропастившихся машин. Не бросишь же груз просто так на берегу. Капитан парохода торопился назад и ждать нас не стал, пообещав забрать вторым рейсом. Когда его небольшое суденышко было уже на середине реки, налетели немецкие самолеты. На наших глазах пароход был потоплен, никто из находившихся на его борту не спасся…
В ноябре началась эвакуация баррикадцев в Горький на завод № 92 имени И.В. Сталина. Но уже в апреле 1943 года, сразу же после открытия навигации, первыми пароходами мы вернулись всем коллективом в Сталинград, на свой родной завод. Весь город был в руинах, сильно пострадали и «Баррикады».
В то время на заводе работало всего 76 человек, но задания давались большие, сроки устанавливались самые сжатые. На фронт никого не отпускали, специалистов и так не хватало. А вот работать на завод брали всех, кто мог держать в руках инструмент. Восстанавливали завод на ходу, ни на минуту не прекращая производственного процесса.
Вскоре пошла наша первая военная продукция – орудия, прицепы для перевозки снарядов, отремонтированная армейская техника. Завод быстро набирал темпы, вновь превращался в крупное оборонное предприятие, каким и остался впоследствии – вплоть до недавнего времени.
В 1943 году летом меня пригласили в Баррикадный районный комитет партии на беседу к первому секретарю Романенко. Познакомились, поговорили о заводских делах, а потом без всякого перехода он неожиданно делает мне предложение: «А не попробовать ли вам себя на комсомольской работе?» Я даже не сразу взял в толк, о чем идет речь. Мне пояснили, что в наш район для работы на заводе и стройках прибыло несколько тысяч юношей и девушек, им надо помочь наладить быт, насколько это возможно в условиях разрушенного города, поскорее втянуться в трудовой процесс и создать комсомольскую организацию. Возглавить этот участок должен комсорг ЦК ВЛКСМ. В этой связи и возникла моя кандидатура.
На следующий день меня вызвали на заседание бюро райкома ВКП(б), где было принято решение о направлении меня на работу комсоргом ЦК ВЛКСМ Особой строительно-монтажной части № 25 Министерства СССР по строительству. Через месяц на общем собрании комсомольской организации я был избран секретарем заводского комитета комсомола. А в июле следующего, 1944 года меня избрали первым секретарем Баррикадного райкома ВЛКСМ.
В этом же году происходит еще одно очень важное в моей жизни событие – я вступаю в Коммунистическую партию, становлюсь на всю оставшуюся жизнь коммунистом!
И вот наконец долгожданная победа! Трудно описать те чувства – действительно это была радость со слезами на глазах, ведь не было ни одной семьи, которую миновало бы горе утраты близких. Но жизнь брала свое – выплакали последние слезы безутешные матери, вернулись те, что остались в живых, и вся страна ринулась на очередной подвиг, теперь уже трудовой – восстанавливать разрушенное народное хозяйство. До сих пор не перестаю удивляться, как удалось справиться с этой поистине грандиозной задачей в такие рекордные сроки!
Отгремела война, и теперь уже можно было всерьез заняться дальнейшей учебой, мысль об этом никогда не покидала меня. Еще в 1944 году в Сталинграде были открыты вечерние школы рабочей молодежи. Я начал учиться в 10-м классе (9-й класс окончил в 1941 году) и в следующем году получил аттестат зрелости. В том же 1945 году я поступил в Саратовский юридический институт, но на очном отделении довелось проучиться лишь год. Отец ушел на пенсию, у матери ухудшилось здоровье, в большой нужде жила сестра с пятью детьми, старшему из которых было 9 лет. Нужно было им помогать, и в 1946 году я перевелся на заочное отделение. Летом того же года меня избрали вторым секретарем Сталинградского горкома комсомола. Однако трудиться на комсомольском поприще мне довелось недолго: я принял решение перейти на работу в органы прокуратуры, с тем чтобы совмещать заочную учебу в институте с приобретением практических навыков, необходимых для будущей специальности.
В органах прокуратуры в общей сложности я проработал около пяти лет: был следователем, прокурором следственного отдела областной прокуратуры, прокурором района.
В те годы борьбе с преступностью придавалось очень большое значение. Эффективно действовали сами правоохранительные органы, но главное было в другом – у нарушителей закона не было никакой социальной базы, с ними боролась не только милиция, но и широкие слои общественности, весь народ. Даже после массовой послевоенной демобилизации, амнистии, в условиях, когда места недавних боев были завалены горами неубранного оружия, неизбежный всплеск преступности, особенно тяжкой, – такой как убийства, бандитизм, грабежи, – был очень незначительным, с ней удалось быстро справиться. Да, принимались самые жесткие меры, но они были обоснованными и получали полную поддержку у населения. Любое тяжкое преступление в районе являлось предметом особого разбирательства на всех уровнях, за ходом расследования осуществлялся неустанный контроль. Раскрываемость поэтому была почти стопроцентной, в подавляющем числе случаев виновным не удавалось уйти от наказания. Что же касается хозяйственных правонарушений, то они вообще носили единичный характер, а суммы причиненного ущерба при этом были незначительны.
Допускаю, что такая по нынешним временам прямо-таки идиллическая картина некоторым может показаться неправдоподобной, но ведь и нам в свое время даже в голову не могло прийти, что возможны такие масштабы преступности, какие мы имеем сегодня.
В 1946 году, когда я уже работал в прокуратуре, вышел на пенсию отец. Здоровье у него к тому времени было порядком подорвано. Еще в 1928 году в результате производственной травмы он лишился глаза. В конце жизни ему было уже трудно разбирать буквы и он просил меня или мать читать ему вслух.
Отец всегда живо интересовался событиями, имел на многие вещи собственную точку зрения. Так, например, он считал, что у нас в стране напрасно полностью зажимается частная собственность, не поощряется рост личного благосостояния, часто повторял, что народ и так уже много сделал ради высоких идеалов, теперь в жизнь должна постепенно входить материальная заинтересованность. Воспитание трудом отец считал непременным условием здорового развития человека и общества. Он и на пенсии не переставал много работать в нашем нехитром подсобном хозяйстве, причем делал это с явным удовольствием.
Умер отец 5 июля 1951 года, проститься с ним пришло на удивление много народу. Друзья по работе поставили скромный обелиск из нержавеющей стали, обнесли его нехитрой оградкой. За могилой до сих пор ухаживают две мои племянницы – дочери сестры, – которые так и живут в родном городе.
Совсем по-другому сложилась бы и моя судьба, останься и я навсегда в Сталинграде.
В 1951 году произошел, однако, резкий поворот в моей жизни. К тому времени мне уже удалось окончить (в 1949 году) юридический институт, я был прокурором Кировского района Сталинграда и ни о какой другой работе даже не помышлял.
Но вот в начале лета 1951 года Сталинградский обком партии впервые получил разнарядку направить двух кандидатов для учебы в Высшей дипломатической школе МИД СССР. Никто из местных руководителей не имел ни малейшего представления о том, какими качествами должны обладать эти избранники. Кандидатов поначалу было много, но в итоге решили остановить свой выбор на двух, имевших высшее юридическое образование, одним из этих двоих был я.
В июле 1951 года мы выехали в Москву для прохождения мандатной комиссии и сдачи экзаменов.
Так я впервые в жизни попал в столицу. Сколько же было волнений, ярких впечатлений и открытий! Ансамбль Московского Кремля, бесчисленные музеи, театры, огромные здания и, как мне тогда показалось, широченные улицы, буквально запруженные автомобилями, забитые товарами магазины – все это произвело на меня, провинциала, просто ошеломляющее впечатление!
Никогда не забуду, как в первый раз оказался возле Большого театра, спустился в московское метро. Поразила и необыкновенная чистота московских улиц – по ночам по городу до самого утра ездили машины, подметая и поливая и без того стерильные мостовые. Эти мои первые впечатления от Москвы глубоко врезались в память.
Первые дни в столице были посвящены собеседованиям, заслушиваниям на различных комиссиях и сдаче экзаменов. Проходило все это в старом здании МИД на Кузнецком Мосту, в доме по соседству с выразительным памятником Воровскому и… с будущим новым зданием КГБ СССР, в котором находился мой последний служебный кабинет.
Помнится, возглавлял приемную комиссию известный советский дипломат А.В. Богомолов, бывший тогда заместителем министра иностранных дел СССР. Я волновался, конечно, – непривычная обстановка способствовала этому. Но все обошлось благополучно. Поначалу, когда со стороны Богомолова посыпались многочисленные вопросы, я грешным делом подумал, что меня хотят «завалить». Но председатель комиссии, видимо уловив мои мысли, сказал, что ему нравятся мои ответы и он просто хочет познакомиться со мной поближе.
На следующий день были собеседования с остальными членами комиссии, потом начались экзамены по предметам. В результате и этот этап был успешно преодолен. А вот моему земляку из Сталинграда повезло меньше, он, к сожалению, не прошел.
После сдачи экзаменов меня, как это было тогда принято, пригласили на Старую площадь для беседы в ЦК ВКП(б). Напоследок задали вопрос и о том, почему я согласился отправиться на учебу в дипшколу. Было заметно, что этой теме придается особое значение.
Чувствовалось, что мои ответы произвели хорошее впечатление. Однако, опять-таки в духе того времени, ничего определенного мне не сказали, посоветовали лишь возвращаться в Сталинград, куда, мол, мне и сообщат о принятом решении. В полном неведении относительно своей будущей судьбы я пребывал вплоть до конца августа, когда наконец пришло долгожданное извещение о моем зачислении в ВДШ.
Это было радостным событием не только для меня, моих родных и многочисленных друзей, но и для сослуживцев, знакомых и просто соседей. Ведь я был первым сталинградцем, который отправлялся на учебу в Высшую дипломатическую школу МИД СССР! Но уже тогда я глубоко задумался над тем, что ждет меня впереди, как сложится дальнейшая судьба, как эта резкая перемена в жизни отразится на семье… Конечно, тогда мне и в голову не могло прийти, что когда-нибудь эта новая стезя приведет меня на московскую улочку с таким грустным и поэтическим названием Матросская Тишина!
В последний день августа 1951 года я прибыл в Москву и поселился в общежитии ВДШ, находившемся недалеко от Павелецкого вокзала, в Стремянном переулке, дом 29, которое, по-моему, существует по сей день. У меня была небольшая, рассчитанная на двух человек комнатка площадью около 6 квадратных метров (умывальник, туалет и кухня были общими), в которой я и прожил все три года учебы, – по тем временам условия вполне приличные. Заниматься приходилось много: осваивал два языка – венгерский и немецкий, штудировал новые для меня науки. Ежедневно, кроме воскресенья, вставал в шесть часов утра, а завершал свой рабочий день в час-два ночи. И так от каникул до каникул. Помогали молодость и огромное желание учиться!
Впервые в жизни у меня была возможность заниматься только учебой. Здание дипшколы находилось в тихом переулке недалеко от Красных Ворот – в Большом Козловском, в доме № 4. Помещения были небольшими, поэтому использовался буквально каждый квадратный метр, в том числе и подвал, где располагался уютный буфет. Больше всего меня поразила своим богатством библиотека дипшколы, с самого первого дня учебы я буквально не вылезал из нее.
Первое занятие в ВДШ было у меня по венгерскому языку. В группе насчитывалось трое слушателей. Преподаватель начал с рассказа о трудностях венгерского языка, в котором 28 падежей, нет рода, непривычное для русских построение предложений, сложное произношение и так далее в том же духе. Он явно хотел настроить нас на напряженный труд, но эффект получился прямо противоположный – на втором занятии группа состояла уже из двух человек, а вскоре я и вовсе остался в одиночестве. Оба моих товарища сочли, что освоить венгерский им не под силу, и обратились к руководству школы с просьбой о замене им языка. Специалисты требовались не только по Венгрии, поэтому их просьбу легко удовлетворили. Так и получилось, что из всего нашего потока все три года венгерскому языку обучали меня одного.
Кстати, наш преподаватель понял, что допустил оплошность, и, видимо испугавшись перспективы потерять последнего ученика, резко сменил тактику – теперь он внушал мне, что не такой уж и сложный этот венгерский, да и вообще не так страшен черт, как его малюют! Меня, помню, порядком забавляли его постоянные сентенции о том, что этот пресловутый язык учу не я первый, мои предшественники с этой задачей тоже неплохо справлялись, да и надбавку к зарплате за знание венгерского языка платят повышенную… Мне пришлось даже успокаивать беднягу, заверять, что не собираюсь отступать.
В конечном счете все вошло в норму, а я стал, как шутили мои однокашники, «самым дорогим» с точки зрения материальных затрат слушателем – ведь у меня была отдельная языковая группа с «персональным» преподавателем. После бегства моих товарищей долго потом еще на меня показывали пальцем и говорили: «Вон идет тот самый чудак, который учит венгерский».
Ну а язык тем не менее у меня пошел. Довольно быстро разобрался с грамматикой, понял ее внутреннюю логику и налег вовсю на словарный запас. Разработал удобную для себя методику и стал постоянно увеличивать количество выученных за день слов. Через какой-то короткий промежуток времени этот ежедневный рацион перевалил за сотню слов, что удивляло даже опытных педагогов. Но секрет был прост – я всюду носил с собой специальные карточки, на которые выписывал заучиваемые слова, и при малейшей возможности – в метро ли, в перерывах между занятиями – доставал их из кармана и начинал вновь просматривать, тасуя как попало. Если к вечеру выявлялось хотя бы одно забытое слово, то за этим следовало наказание – переписывание заново всей сотни слов и словосочетаний, составлявших мою ежедневную норму.
Буквально через несколько дней после начала занятий параллельно с венгерским пришлось заняться еще и немецким языком. На этот раз в группе был полный комплект – три человека. Одной из преподавательниц у нас была Софья Борисовна Либкнехт, жена Карла Либкнехта. Ей было уже за семьдесят. От возраста и пережитого она с трудом передвигалась, но сохраняла поразительную живость ума. Человеком она была в высшей степени образованным, от природы одаренным, интеллигентным и очень тактичным. Немецкая пунктуальность чувствовалась во всем – семидесятилетняя, не очень здоровая женщина ни разу не опоздала на занятия!
В 1953 году осенью она побывала в ГДР, посетила Западный Берлин, постояла на месте гибели мужа. Делясь своими впечатлениями от увиденного, Софья Борисовна часто повторяла, что немцы в ГДР живут лучше, чем советские люди, но явно проигрывают в жизненном уровне своим западным собратьям. «Если в ГДР, – говорила она, – снабжение хорошее, то в Западной Германии блестящее: рано или поздно такая ситуация приведет к возникновению большой и крайне опасной «немецкой проблемы». Помню, что нас удивляла ее обеспокоенность, ведь мы воспитывались в другом духе, когда соображения материального порядка вообще не играли заметной роли.
Надо сказать, я охотно занимался немецким. Этот язык напоминал мне о Сталинграде. О своей бабушке по отцу я уже рассказывал. Кроме того, на нашей улице, в соседнем дворе, жила в землянке одна немецкая семья. Глава этого семейства работал на заводе «Баррикады» и был, как рассказывал мой отец, уважаемым специалистом и очень хорошим работником. Я подружился с его старшим сыном, девятилетним мальчиком, моим сверстником. Мы часто ходили друг к другу в гости, постоянно держались вместе на улице – даже в играх всегда норовили оказаться в одной команде. Русский язык мой немецкий друг еще не очень освоил. Я, как мог, помогал ему, а он в ответ учил меня немецким словам. Вот тогда и зародилось желание выучить немецкий язык, я даже дал себе слово непременно сделать это. Наша детская дружба продлилась почти семь лет. Потом началась война, а через несколько дней немецких семей в соседних дворах уже не оказалось: всех немцев выслали. С тех пор я потерял след моего друга, но память о нем, о совместных детских годах и нашей дружбе сохранилась навсегда.
Трехлетняя учеба в ВДШ в 1951–1954 годах дала мне невероятно много. Впервые появилась возможность серьезно заняться языками да плюс к тому десятками других предметов, как специальных, так и общеобразовательных. Я изучал советскую и зарубежную литературу, получил широкий доступ к документальным источникам, общался в буквальном смысле с элитой профессорско-преподавательского состава. Все это создавало отличные условия для приобретения знаний и освоения азов будущей профессии. Надо особо указать на одну важнейшую примету того времени – на качественный сдвиг, происшедший в учебном процессе после смерти Сталина.
На траурном митинге, состоявшемся в ВДШ, выступавшие не могли скрыть слез, причем восхваляли Сталина даже сильнее, чем при его жизни. При этом каждый задавался вопросом: как жить дальше, что ждет всех нас впереди? Первые недели шли пока в прежнем русле, однако чувствовалось, что накопившееся за годы внутреннее напряжение вот-вот вырвется наружу. Тем не менее все еще по инерции продолжали бояться открыто говорить про то, о чем думали, хотя страх постепенно начал уходить. Решительный же перелом в сознании людей произошел лишь с арестом Берии. Именно тогда начался отсчет нового времени, характерной чертой которого явилась переоценка ценностей, которыми общество жило до той поры. Не случайно тогдашний президент США Эйзенхауэр заметил: «Со смертью Сталина в Советском Союзе окончилась одна эпоха и началась другая». К сожалению, переходный процесс, который неизбежно сопровождает смену эпох, у нас явно затянулся. Порой мне кажется, что он продолжается и по сей день.
1954 год, июнь. Позади ВДШ, красный диплом, распределение на работу в МИД, на венгерское направление. Отшумел торжественный выпускной вечер, впереди долгожданная дипломатическая работа, а пока что месячный отпуск, который получили выпускники.
Мы с женой решили использовать эту возможность для того, чтобы получше отдохнуть в преддверии работы на новом поприще.
Поскольку нам рассказали, что новоиспеченным дипломатам положена форма, мы с женой решили, что мне незачем иметь два пальто – хватит и одного, «форменного». Поэтому прежнее мое добротное «гражданское» пальто мы продали, получив таким образом дополнительные «отпускные». А 1 августа, когда я вышел на работу в МИД СССР, нам объявили, что форму для дипломатов отменили… Так и пришлось потом еще целый год донашивать совсем старое пальто, которое, по счастью, сохранилось от прежних лет.
Так вот и жили, порой с трудом дотягивая «от зарплаты до зарплаты», хотя оптимизма и веры в лучшее будущее было не занимать. Историю со злополучной формой и так неосмотрительно, по-цыгански проданным пальто вспоминали со смехом, без какого-либо сожаления.
В венгерской референтуре, куда я был распределен, работало восемь человек. Сидели все в небольшой комнате на 17-м этаже высотного здания на Смоленской площади, куда к тому времени переехало Министерство иностранных дел. У каждого свой небольшой канцелярский стол, чуть больших размеров – у заведующего референтурой. Здесь знакомились с почтой, готовили документы, обсуждали общие дела, спорили, изредка принимали посетителей из других ведомств.
К концу дня в голове шумело от разговоров, телефонных звонков и табачного дыма. Но в этой тесноте были и несомненные плюсы – мы не только были в курсе всего происходящего на венгерском участке, но и очень хорошо знали друг друга.
Мнение, которое я составил тогда о своих товарищах, неоднократно подтверждалось затем даже спустя десятки лет. А окружавшие меня люди, конечно, были самыми разными – и характерами, и поведением, и манерой работать, да и в целом отношением к жизни.
В памяти отложилось выступление министра иностранных дел В.М. Молотова перед партийным активом в апреле 1955 года. Обсуждался вопрос о работе и задачах нашего ведомства. Слово взял А.А. Громыко, бывший в ту пору первым заместителем министра. В своем выступлении он подверг острой критике стиль работы Молотова, говорил о необходимости выработки нового подхода во внешней политике, причем делал это в довольно резких выражениях.
Зал реагировал сдержанно, очень уж непривычными были в ту пору подобные заявления. Заключительное слово Молотова длилось более часа. Начал он традиционно с анализа обстановки в стране, потом перешел к делам международным, подчеркнул важность всемерного укрепления социалистического лагеря перед лицом возрастающей угрозы со стороны мирового империализма, в заключение остановился на задачах коллектива. На критические замечания Громыко в свой адрес Молотов при этом вообще не отреагировал, хотя было видно, что они его больно задели.
Поначалу Молотов сильно нервничал, даже заикался. Впрочем, он быстро взял себя в руки и, как всегда, начал уверенно выдавать формулы, делать привычные оценки. В общем-то это было заурядное выступление, но зал слушал затаив дыхание, так как всем было ясно, что сейчас решается, кому быть министром: по-прежнему Молотову или Громыко.
Хотелось, конечно, большей определенности и конкретности, людям надоели одни лишь лозунги, общие призывы к удвоению усилий в борьбе за светлое будущее народов и т. п. Расхожие пропагандистские фразы никак не настраивали на творческий подход в вопросах внешней политики. С другой стороны, приверженцы старых порядков с явной опаской относились к молодому, энергичному Громыко, не были готовы к ломке привычного уклада своей жизни. Поэтому речь Молотова звучала для многих гарантией стабильности, а свежие ветры сулили одни неожиданности, да и было пока непонятно, в каком направлении они дуют.
Несмотря на то что Молотов продолжал руководить МИДом, время брало свое, и обстановка в министерстве постепенно менялась. Медленно, но неумолимо наполнялась новым содержанием работа, менялся ее стиль, да и просто распорядок жизни сотрудников. Дипломаты вдруг стали «развязывать языки», начали глубже задумываться над недавней историей и происходящим сейчас, ставить все больше и больше вопросов. К сожалению, ответов было значительно меньше, чем этих вопросов…
Ветер перемен коснулся не только производственной сферы, но и личной жизни людей. При Сталине весь состав МИДа работал по крайне изнуряющему ночному графику. Рядовые сотрудники уходили со службы часа в два-три ночи, а наутро в девять ноль-ноль снова были уже на своих местах. Правда, днем на перерыв отводилось по два-три часа. У руководства же график был несколько иным – рабочий день начинался часа на два позже, а завершался чуть раньше, чем у остальных. Все шло от «отца»!
Годами, день за днем, кроме воскресений, люди жили в таком нечеловеческом ритме. В результате личная жизнь как таковая теряла свой естественный смысл. У сотрудников в принципе не должно было быть личных дел. Уйти с работы пораньше, например часов в десять вечера, можно было лишь с разрешения довольно высокого начальства, да и то только в случае веских причин. Мид овцы теперь с ужасом вспоминали эти порядки, хотя еще не так давно безропотно тянули лямку и другой жизни для себя просто не представляли. Человек привыкает ведь ко всему!
Получив наконец нормальный рабочий день, дипломаты смогли теперь выбираться в кино, театр, да и просто проводить время с семьей, выходить на прогулки, чего раньше они были практически лишены. Все это не замедлило сказаться на облике сотрудников – они менялись буквально на глазах, воспрянули, стали раскованнее, в глазах появился какой-то блеск.
В воздухе витало предчувствие дальнейших перемен. Пока только в личных беседах, так сказать, в кулуарах, но все же можно было услышать откровенные суждения, интересные мысли и идеи. На бесчисленных же собраниях – партийных и профсоюзных – или в ходе производственных совещаний, которые мало отличались от тех, которые мы знали по сталинским временам, такое, конечно, услышать было нельзя. Впрочем, и здесь иногда раздавались смелые речи, не получавшие, впрочем, ни поддержки, ни осуждения присутствующих. Во многом это объяснялось позицией руководства, где процесс пробуждения нового сознания явно отставал от настроений масс, а какого-то реального размежевания сил в верхних эшелонах пока так и не произошло.
К концу лета 1955 года я получил назначение на работу в нашем посольстве в Будапеште. В это же время состоялось мое знакомство с человеком, который сыграл, пожалуй, самую значительную роль в моей дальнейшей судьбе. Я имею в виду Ю.В. Андропова, бывшего тогда послом СССР в Венгрии. Юрий Владимирович позвонил мне по телефону и сообщил, что вопрос о моем назначении решен и в октябре он ждет меня в Будапеште.
Итак, первая загранкомандировка. Для любого дипломата это важный этап не только с точки зрения карьеры, но и для всей его жизни. Именно в ходе первой командировки, на мой взгляд, происходит становление будущего дипломата, завершается, если хотите, первый цикл подготовки нового специалиста, начавшейся на учебной скамье и продолженной в период работы в центральном аппарате министерства.
Первая работа за границей сказывается и на формировании личности человека – люди, попав в новые для себя условия, в отрыве от дома, родных и друзей, очутившись в общем-то в небольшом коллективе, неизбежно раскрываются, полнее проявляя не только деловые, но и личные качества.
Впрочем, все это я осознал позже, а после назначения меня одолевали совсем другие мысли и чувства. Волновался оттого, что рассматривал работу в посольстве как своего рода серьезный экзамен на звание настоящего дипломата. Думал о родных, которых долго теперь не увижу, о своей семье, в очередной раз вынужденной резко сменить образ жизни и отправиться со мной в мир, для нас совершенно неведомый. Очень жалко было расставаться с новыми друзьями, ведь мы отчетливо сознавали, что расстаемся, скорее всего, надолго, так как бродячая и полная перипетий жизнь дипломатов может разметать нас по разным уголкам земного шара!
На перроне вокзала собрались близкие друзья. Позади недолгие и совсем необременительные сборы. Жена, преподаватель русского языка и литературы, с большим сожалением оставившая школу и своих учеников (многие из которых, кстати, пришли проводить свою учительницу), пятилетний сын, наш первенец, и радостно-тревожное ощущение прыжка в новую, как мы были уверены, интересную и полную романтики жизнь…
Таким мне запомнилось это осеннее утро на Киевском вокзале столицы. Паровоз издал протяжный гудок, медленно тронулся с места и, отчаянно пыхтя, покатил вперед, все дальше и дальше увозя нас от сравнительно спокойного и привычного прошлого…
За окном мелькали знакомые поля и леса, нечастые переезды и деревеньки, а в глазах у нас уже стояла Венгрия, и я питал самые радужные надежды, связанные с увлекательной и манящей дипломатической службой. Конечно, не мог я тогда предположить, что предстоящая командировка принесет с собой суровые испытания и станет первым шагом по трудной и каменистой дороге, которая приведет меня в заоблачные высоты большой политики, а затем и в тюремную камеру, где я украдкой, ночами и писал эти строки…
Жалею ли я о том, что встал на этот путь? Оглядываясь назад, на свою долгую жизнь, могу твердо сказать, что нет, не жалею, что, довелись начать все сначала, я и в следующий раз прошел бы его так же, не свернув в сторону.
Через сутки с небольшим поезд пересек границу, и мы оказались на территории Венгрии. За окном замелькали совсем другие пейзажи, так непохожие на те, что мы видели всего несколько минут назад. Чужая земля, совсем иная жизнь, незнакомый народ. Вагон раскачивало из стороны в сторону – сказывалась узкая колея венгерской железной дороги, – а я жадно всматривался в эту теперь уже немножко и «мою» страну, разглядывая названия маленьких полустанков и переводя жене надписи на венгерских вывесках.
Первое, что бросалось в глаза, – это бесчисленные наделы крестьян-единоличников, узкие делянки, на которые были нарезаны зеленые, несмотря на уже наступивший октябрь, поля вдоль дороги. Техники почти никакой, но удивительно много лошадей, тяглового скота. Не очень уж богатые хутора с домами средних размеров и хозяйственными постройками. Всюду копошились люди, причем работали и стар и млад. На проходящий поезд никто не обращал никакого внимания – некогда.
По внешнему виду крестьяне мало отличались от наших, только чувствовалось, что они посдержаннее, но вместе с тем, как я потом убедился, такие же добрые по характеру и с каким-то особым, не сразу понятным иностранцу внутренним миром. Подростки трудились в поле наравне со взрослыми – возили на арбах собранный урожай, стебли кукурузы, солому, разбрасывали навоз.
Венгерские крестьяне, как, впрочем, и все венгры, исключительно трудолюбивы. Делают все неторопливо, тщательно, увлеченно и с достоинством. Среди крестьянских угодий особой ухоженностью отличались виноградники. Вообще к винограду у венгров отношение совсем иное, чем к остальным сельскохозяйственным культурам, – они вкладывают в него всю душу, работают на виноградниках с особым удовольствием.
Городские картины тоже отличались от наших, и не только архитектурой. Любой, даже самый маленький городишко имеет все присущие своим большим собратьям черты – в каждом есть центральная площадь, главная улица, магазины с яркой рекламой, внушительных размеров собор, парадное здание для городских властей. Архитектурные памятники очень бережно охраняются, венгры не просто гордятся ими, но и хорошо знают их историю.
Вообще надо сказать, что отношение венгров к собственной истории необычайно уважительное. Это святое. Здесь кроются корни венгерского патриотизма, отсюда проистекает и явный национализм, также характерный для этого народа. Понимание и учет венгерского национализма необходимы для того, чтобы правильно строить отношения с этой страной, понимать существо происходящих в ней процессов. Тот, кто недооценивает эти факторы, в итоге все равно просчитается – исторических примеров тому более чем достаточно.
Мы получили жестокий урок в 1956 году, расплатившись в какой-то мере и за собственные ошибки, за пренебрежительное отношение к чувствам, традициям венгерского народа.
Сила венгерского национализма в чем-то напоминает мощный селевой поток. Его невозможно остановить, пренебрегать им опасно. Но разрушительные последствия потока можно значительно уменьшить, если направить несущуюся массу в нужное русло, дать ей выдохнуться, иссякнуть.
Было бы неверно думать, что в национализме как таковом нет ничего положительного, никаких созидательных начал. Когда надо направить энергию народа на что-то весьма значительное, добиться выполнения труднейшей задачи, то именно национализм может явиться здесь единственным подспорьем. Благодаря национализму Венгрия уцелела в борьбе за независимость и свободу, сохраняла дух народа даже в самые трудные времена.
Живучесть венгерского национализма проявляется хотя бы в том, что ни в одной нации венгры не растворялись, чаще они сами вбирали в себя выходцев из других стран. Трудолюбие, прилежность, терпимость к лишениям, организованность, любовь к порядку, высокая порядочность – вот те качества, которые сделали венгерскую нацию такой сильной, выносливой и жизнеспособной.
Есть и еще одна характерная для венгров черта – это их исключительное гостеприимство и дружеская расположенность к иностранцам. На дружбу венгров можно смело полагаться, но если они оказались по другую сторону баррикад, то вы столкнетесь с весьма серьезным противником.
…7 октября 1955 года к вечеру наш поезд прибыл на Восточный вокзал Будапешта. Я жадно вслушивался в долетающие из толпы голоса и вдруг ощутил, что понимаю лишь отдельные слова, но никак не фразы целиком. На обращения ко мне венгров я не смог ответить ничего путного – так и не понял толком, чего же все-таки от меня хотят. Это явилось для меня жестоким ударом! Я настолько был поглощен своими переживаниями, что даже на вопросы встретивших меня на вокзале товарищей из нашего посольства порой отвечал невпопад. Несколько успокоило лишь разъяснение одного из дипломатов, который, по его словам, испытал такой же шок, когда впервые ступил на венгерскую землю. «Такое происходит с каждым, – заверил он меня, – через пару недель все войдет в норму».
Отчетливо помню также, что жена на вокзале крепко держала за руку сына, прижимала его к себе, не отпуская мальчишку ни на полшага. По-моему, она ничего не замечала вокруг и была занята лишь одной мыслью – не дать потеряться сыну в этой многолюдной незнакомой толпе.
Мы вышли из крытого вокзала и оказались на широком, обрамленном могучими липами проспекте Ленина, по обеим сторонам которого высились старинные дома прекрасной архитектуры. А спустя всего пятнадцать минут посольский автобус уже въезжал на территорию жилого дома нашего посольства на улице Лендваи.
С интересом осматривали мы место, где нам предстояло провести несколько лет. А жить поначалу пришлось в одной комнате большой трехкомнатной квартиры с обшарпанной мебелью, обшей кухней и прочими очень знакомыми по Москве атрибутами коммунального быта. Впрочем, должен сказать, эти условия были настолько уже привычными, что не произвели на нас особого впечатления.
Так вот и началась моя первая (и вместе с тем последняя) зарубежная командировка на дипломатической службе, открывшая совершенно новую и очень яркую страницу в моей жизни – венгерскую. Эта командировка оказалась довольно бурной, сопряженной с большими трудностями и испытаниями. Именно венгерский этап во многом и определил мою дальнейшую судьбу, связал меня на целых 29 лет с Юрием Владимировичем Андроповым – человеком, который, едва блеснув в политическом зените нашей страны, сумел тем не менее оставить такой яркий след в ее истории.
У каждого посольства есть своеобразная летопись, связанная не столько с событиями и делами, сколько скорее с теми послами, которые их возглавляли. В период после 1945 года, когда советско-венгерские отношения были особенно насыщенными, об Андропове после говорили, пожалуй, как о самой яркой личности. Он стремительно завоевывал симпатии и уважение в среде послов других социалистических стран и даже, я бы сказал, в дипкорпусе в целом. Беседы с ним были неизменно содержательными и интересными, никогда не носили лишь протокольного характера.
Юрий Владимирович поражал собеседников своей эрудицией, легко мог вести разговор на философские темы, демонстрировал недюжинные познания в области истории и литературы. Единственное, в чем он, и пожалуй, не без некоторых оснований, считал себя профаном, – так это область экономики, чего он, кстати, и не скрывал.
Чем большим багажом знаний располагал Андропов, тем сильнее была его тяга к ним. Он много читал, любил и умел слушать.
В посольстве регулярно проходили целевые совещания, на которых велись откровенные дискуссии, поощрялись высказывания самых различных точек зрения. Андропов не боялся принимать ответственных решений, но при этом проявлял разумную осмотрительность, избегал чрезмерного риска. Если же вдруг возникала опасная ситуация, он никогда не терял головы, не лез напролом, но и не сдавал без боя свои позиции. Может быть, именно поэтому его сослуживцы всегда чувствовали себя с ним как за каменной стеной, никогда не впадали в панику, даже когда в силу каких-то обстоятельств Андропов делал ошибочный шаг.
Все знали, что Юрия Владимировича, если он действительно не прав, всегда можно переубедить и он откажется от ранее принятого решения, на какой бы стадии исполнения оно ни находилось.
Андропов редко сам прибегал к шутке, я не слышал от него ни одной забавной истории, ни одного анекдота, но вместе с тем он ценил юмор, не обижался, даже когда подшучивали над ним. Реагировал на это заразительным смехом, но никогда не подтрунивал над другими. Правда, веселью Юрий Владимирович отводил мало времени и быстро переключался на серьезный настрой.
Андропова всегда отличало чувство высокой ответственности за любое дело – большое или малое. Не помню ни одного случая, чтобы он пытался переложить ответственность на другого, скорее брал вину на себя, даже в тех случаях, когда, казалось, для этого не было никаких оснований.
По прибытии в Будапешт я с первых же дней начал активное знакомство со страной. Охотно откликался на приглашения посетить столичные предприятия, научные и учебные заведения, культурные центры, часто бывал в музеях, а пару раз в месяц отправлялся и в более далекие поездки.
Венгрия производила впечатление благополучной страны. Обилие товаров и продовольствия, низкие цены, отличное соотношение денежной и товарной массы. Хорошо помню, что в 1955–1956 годах на каждую денежную единицу в один форинт приходилось товаров на сумму три форинта.
По нескольку раз в год для сбыта товаров проводились распродажи по бросовым ценам. Огромное количество товаров Венгрия поставляла в Советский Союз. Венгры – самые различные по своему социальному положению – говорили, что никогда еще они не жили так хорошо, как в 1955 году.
В стране не было безработицы, люди стали получать от государства бесплатное жилье, в невиданных масштабах шло строительство. Энтузиазм охватил широкие массы, и казалось, ничто не угрожало устоям новой народной власти.
Венгры ценят уважительное отношение к их стране, поэтому мои выступления на венгерском языке всегда воспринимались аудиторией с большим одобрением. Венгры – гордый и независимый народ. Дорожат всем своим, национальным и не нуждаются ни в чем чужом.
Как-то один наш товарищ, журналист, с похвалой отозвался о великом композиторе и исполнителе Ференце Листе, назвав его венгерским. Аудитория тотчас же шумно возразила, напомнив, что Лист – австриец.
Отношение к Советскому Союзу было отличным. Советские люди, находившиеся в Венгрии, чувствовали это в своей повседневной жизни. Торгово-экономические связи наших стран расширялись и углублялись по всем направлениям. Обмен делегациями, специалистами, частные поездки людей приобрели постоянный характер. Казалось бы, небо в советско-венгерских отношениях было безоблачно и ничто не предвещало мрачных перемен.
Но вот наступил 1956 год, ознаменовавшийся XX съездом КПСС и разоблачением культа личности Сталина. Доклад на съезде Н.С. Хрущева произвел прямо-таки ошеломляющее впечатление. Сразу воспринять все сказанное было просто невозможно, настолько тяжелыми и неожиданными оказались впервые обнародованные факты столь масштабных нарушений законности и чудовшцных репрессий сталинского периода. Нужно было как следует осмыслить все сказанное, понять, как такое могло произойти в социалистической стране.
Ни одна коммунистическая партия, включая КПСС, пережить XX съезд без потрясений, издержек так и не смогла. То, что впереди нас ждут драматические события, стало ясно сразу же после доклада Хрущева.
XX съезд КПСС – это точка отсчета нового периода в истории КПСС и Советского государства, всего коммунистического движения, переломный этап в развитии стран народной демократии. В стратегическом плане выбранный курс был единственно верным, без него невозможно было здоровое развитие общества. Тактически же мы совершили серьезную ошибку, пойдя на этот шаг без соответствующего пропагандистского обеспечения.
В Москве явно недооценили опасности переноса тяжести обвинений на всю партию, на всех ее членов, на все Советское государство. Некоторые зарубежные коммунистические партии вообще не смогли перенести этого удара и прекратили свое существование. Огромные же массы советских людей оказались в положении без вины виноватых, испытывая чувство горького разочарования и опустошенности.
Руководители братских партий не были заранее проинформированы о содержании предстоящего доклада Хрущева на XX съезде КПСС под предлогом сохранения намеченного шага в секрете. Но сразу же после съезда доклад стали передавать за рубеж всем руководителям партий, нисколько не заботясь о том, что он немедленно, без каких-либо разъяснений, станет достоянием самой широкой общественности. Все это поставило КПСС и другие братские партии в крайне тяжелое положение.
Тогдашнее руководство Венгрии во главе с Матиасом Ракоши попыталось ослабить негативную реакцию, произведенную на общественность своей страны материалами XX съезда КПСС. С этой целью в апреле 1956 года был проведен будапештский партийный актив с закрытым докладом на тему о советском съезде. Прений не открывали, было лишь подчеркнуто, что необходимые выводы нужно сделать и венгерским коммунистам (какие именно, при этом не сказали – на этот счет имелось в виду определиться позднее). Участники актива осознавали всю серьезность ситуации, но никто толком так и не понял, что же конкретно нужно делать в этой обстановке, с тем чтобы избежать чрезмерных издержек для партии в целом.
По стране тем временем поползли самые невероятные слухи о докладе Хрущева о культе личности Сталина. При этом подбрасывалась мысль о том, что подобные беззакония не обошли и Венгрию, только здесь, мол, власти пытаются скрыть беззакония, обмануть народ.
Ракоши чувствовал надвигавшуюся опасность, судорожно искал выход, пытался советоваться с Москвой, но, разумеется, никаких вразумительных ответов не получал, кроме призывов «действовать по обстановке». Ракоши неоднократно обращался за помощью к нашему послу в Будапеште Ю.В. Андропову, интересовался его личным мнением, просил выяснить позицию Москвы по некоторым вопросам, но все было тщетно. Андропов сам ломал голову над тем, что же все-таки происходит в Москве, поскольку никаких четких ориентировок не получал.
А тем временем опасные для венгерского руководства слухи стали обретать еще более драматическую окраску, продолжая все сильнее будоражить общество. Любые россказни принимались за чистую монету. В результате каждый факт обрастал леденящими душу подробностями, из уст в уста передавались постоянно завышавшиеся цифры репрессированных венгерских граждан. А ведь в самой Венгрии, как и в других социалистических странах, хотя и были нарушения законности, но дело обошлось сравнительно малыми жертвами.
Надо отдать должное Ракоши: он не дал разгуляться репрессиям, устоял перед советским примером.
По официальным данным, в Венгрии с 1949 по 1953 год было незаконно репрессировано в судебном порядке несколько сот человек, из них расстреляно двенадцать, в том числе известный политический деятель Ласло Райк. Это во многом объяснялось тем, что Ракоши числился в любимчиках у Сталина и тот позволял и прощал ему больше, чем многим руководителям других стран.
Обстановка тем временем продолжала накаляться, сказывалось отсутствие решительных действий венгерских коммунистов, которые, вместо того чтобы выработать самостоятельную линию, все еще по привычке продолжали ждать директив из Кремля. Кризис власти приобрел угрожающий характер.
Чтобы хоть как-то разрядить ситуацию, в июне 1956 года Ракоши по настоятельному совету Москвы взял шестимесячный отпуск и выехал на лечение в Советский Союз. Тогда он еще не знал, что навсегда прощается с Венгрией, в которую после многолетней ссылки в Советском Союзе вернется уже мертвым, чтобы быть похороненным в Будапеште на кладбище для заслуженных ветеранов…
…Трагически сложилась судьба этого человека, впрочем, как и многих других видных деятелей мирового коммунистического и рабочего движения. Его слава и личная драма – отражение той сложной эпохи, в жерновах которой погибла целая плеяда замечательных людей, пламенных революционеров, решивших в свое время полностью отдать жизнь борьбе за интересы народа и до конца дней сохранивших верность своим идеалам.
Ракоши был одним из руководителей Коминтерна, работал с Лениным, считался его соратником. Об этом он и сам говорил с неизменной гордостью. В 1924 году Ракоши нелегально перебрасывается из Москвы в Венгрию для организации там партийной работы. Но в том же году его арестовывают и бросают в тюремные застенки. В заключении он проводит целых 16 лет! Держался Ракоши достойно, не раз смотрел смерти в глаза, но не сдался, выстоял.
В то время в Советском Союзе был образован комитет за освобождение Ракоши и его товарищей. Возглавила эту общественную организацию замечательная женщина, якутка по национальности, Феня Федоровна Корнилова.
В 1940 году Ракоши и его товарищи были обменяны на венгерские знамена, захваченные Россией в Первую мировую войну. Так Ракоши наконец оказывается на свободе. В Советском Союзе он возглавляет венгерских коммунистов. У нас обретает вторую родину, обзаводится семьей. Кстати, его женой становится та самая якутка, которая возглавляла когда-то комитет за его освобождение и теперь решила до конца дней разделить нелегкую судьбу мужа.
В 1944 году часть Венгрии была освобождена советскими войсками, и Ракоши возвращается домой. После войны он становится во главе объединенной Венгерской партии трудящихся и до 1956 года бессменно остается на этом посту. Одаренный, широкообразованный, Ракоши производит сильное впечатление на всех, кто с ним работает, просто соприкасается.
В 1947 году на одной из пресс-конференций для венгерских и иностранных журналистов в Будапеште он поражает присутствующих своей образованностью, эрудицией. На семи языках без услуг переводчиков Ракоши свободно отвечает на вопросы (пятью языками – русским, немецким, французским, английским, итальянским – он владел в совершенстве). Мировая пресса тогда писала, что в лице Ракоши на небосводе коммунистического движения взошла новая яркая звезда.
Рассказывали, что однажды поздно ночью Ракоши застали в его рабочем кабинете поглощенным каким-то занятием. На вопрос, что он с таким усердием делает, Ракоши ответил, что решил выучить румынский язык, возможно, это поможет ему глубже понять эту страну и тем самым добиться улучшения венгеро-румынских отношений. «Нужно лучше узнать друг друга, все-таки соседи», – заметил он.
Будучи даже такой яркой личностью, Ракоши не нашел в себе силы вырваться за пределы жестко насаждаемой нами линии, выйти на простор проведения самостоятельной политики Венгрии с учетом ее особенностей. Да это и сложно было сделать. Он был бессилен перед общим потоком, в который попали практически все европейские социалистические страны, да и не только европейские.
Спустя несколько лет, уже находясь в Советском Союзе, на обвинения тогдашнего руководства Венгрии в том, что его деятельность в стране привела к «извращениям, искривлениям, пренебрежениям национальными особенностями», он саркастически ответил, что только недалекие люди могут не учитывать наличия в то время общих источников как великих побед, так и совершенных ошибок.
Однако, несмотря на всю свою проницательность, Ракоши до последних дней так и не понял суть и причины событий, произошедших в Венгрии осенью 1956 года. Он винил прежде всего самого себя, но корень зла видел лишь в том, что напрасно поддался давлению Москвы и дал согласие оставить высший партийный пост и покинуть Венгрию. Объективное видение реальностей изменило даже ему, и он продолжал жить в другом, далеком от действительности измерении.
Ошибка одной-единственной личности, а за нее приходится расплачиваться целому народу, всей стране, причем не только ей одной. Хотя, разумеется, нельзя сваливать все на Ракоши: его суждения об общих источниках поразивших страны социализма бед не лишены оснований.
В 1961 году мне, тогда уже сотруднику аппарата ЦК КПСС, было поручено присутствовать на беседе двух представителей руководства Венгерской социалистической рабочей партии с Ракоши, которая состоялась в Краснодаре (этот город по просьбе венгерского руководства был определен в качестве места жительства для опального политического деятеля). Представителями ВСРП были Иштван Ногради – руководитель Центральной контрольной комиссии Венгерской социалистической рабочей партии и Дьердь Ацел – член ЦК партии.
Беседа длилась более восьми часов, из которых более шести говорил Ракоши. Цель посланцев из Венгрии состояла в том, чтобы высказать Ракоши претензии в связи с фактами его «антипартийной деятельности, подстрекательскими письмами и нежелательными встречами с некоторыми венгерскими гражданами».
Ракоши с ходу отверг все предъявленные ему обвинения, а на угрозу собеседников принять меры по разоблачению его поведения перед венгерской и мировой общественностью бросил фразу, которую я хорошо запомнил и, уверен, точно воспроизвожу по памяти: «Вы не забывайте, что перед вами единственный оставшийся в живых руководитель Коминтерна, работавший с Лениным под его личным руководством. Шестнадцать лет я провел в хортистских застенках в Венгрии, вел себя достойно, не сдался, выдержал все испытания. Во время войны еще раз доказал, что являюсь другом Советского Союза. Под моим руководством в Венгрии победила социалистическая революция, а вот без меня в 1956 году произошла контрреволюция».
Беседа была завершена, представители ЦК ВСРП поняли, что не смогут переубедить Ракоши, что взгляды его останутся неизменными.
Да, действительно, Ракоши до корней волос был революционером в том понимании этого слова, которое было присуще его времени. Но на смену одному этапу исторического развития неизбежно приходит другой, и он несет в себе уже иные понятия и реалии. Далеко не каждому дано осознать это, избавиться от прежних стереотипов, продолжать шагать в ногу со временем. Не был исключением, к сожалению, и Ракоши. Что это? Трагедия, беда человека или неумолимая логика эпохи, жестокая закономерность?
Пройдет время – и история, вернее, «мудрые», как всегда, историки задним числом во всем разберутся, разложат все и вся по нужным полочкам. К сожалению, для многих это будет слишком поздно…
С конца весны 1956 года обстановка в Венгрии накалялась угрожающими темпами. Тон задавала часть творческой интеллигенции, прежде всего писатели, журналисты, деятели искусства. В круговерть социально-политических событий стремительно вовлекалась городская молодежь, в первую очередь студенческая. Все сильнее проявляли себя средства массовой информации. Причем наибольшую активность (как часто все повторяется в этом мире!) нередко демонстрировали именно те, кто еще вчера слыл коммунистом и даже сталинистом.
Такие люди делятся на две категории. Одни прежде искренне заблуждались и теперь под влиянием всплывших на поверхность фактов захотели встать на чистую дорогу в жизни, решили исправить положение дел в стране. Другие же действовали из сугубо карьеристских соображений: однажды уже совершив восхождение в своем общественном и служебном положении в рамках старых порядков, они и теперь вознамерились сделать очередной рывок, отталкиваясь от нового трамплина.
Ставший в июне 1956 года во главе партии Эрнё Герё, не обладая необходимыми личными качествами политического руководителя, сухой по характеру, лишенный какого бы то ни было ораторского дара (а для венгров, да и не только для них, это качество имеет очень большое значение), с самого начала показал свою беспомощность и не только не приобрел влияния на массы, но и растерял последние остатки авторитета партии.
6 октября 1956 года состоялся массовый траурный митинг в связи с захоронением останков необоснованно репрессированных в сталинские времена Ласло Райка и его шести товарищей. В митинге приняло участие до 300 тысяч человек. Это была генеральная репетиция перед основными событиями. Правда, сам митинг прошел организованно, не вышел из-под контроля официальных властей и не отличался особым накалом страстей или экстремизмом. Но именно он положил начало открытой подготовке к решающему выступлению против партии, правительства, самого социалистического строя. Было очевидно, что решающая схватка не за горами и что вопросы будут решаться теперь не в кабинетах, а на улицах.
Однако и в этой экстремальной ситуации высшее руководство ВНР продолжало бездействовать, вместо того чтобы предпринять хоть какие-то политические акции, дать понять широким массам, что их чаяния, тревоги и заботы понимаются наверху. Разрыв между руководством и народом все увеличивался. Несовершенство государственной системы, зародышевое состояние подлинно демократических институтов, неспособность к искусным маневрам, отсутствие опыта – все это и привело к таким далеко идущим последствиям. А ведь венгерские события по своим глубине и масштабам были первым такого рода кризисом в социалистическом лагере.
Уход в отставку тогдашнего венгерского руководства или хотя бы его основной части уже дал бы необходимый выигрыш во времени и внес бы столь желаемую разрядку в обстановку. Руководство же во главе с Герё хоть и было обречено, но продолжало цепляться за власть, ибо другие подходы были тогда социалистической практике неведомы.
23 октября Герё возвратился из поездки в Югославию. Что означал в такое время этот визит – беспечность или незнание подлинной ситуации в своей собственной стране? Пожалуй, и то и другое.
Вечером этого же дня на улицах Будапешта начала разыгрываться трагедия. Состоялась демонстрация, затем митинг. В общей сложности на улицах города собралось тогда до 100 тысяч человек. Лозунги произносились самые разные – от социалистических до откровенно фашистских. Просматривалась и антисоветская настроенность, но не у большей части людей. Общим скорее был антисталинский порыв.
Знание венгерского языка позволило мне вместе с другими сотрудниками посольства побывать на улицах и площадях, узнать, что говорилось на митингах.
Около десяти вечера раздались выстрелы в районе радиоцентра: его атаковала группа молодежи. Появились первые убитые и раненые. Солдат, подъезжавших на машинах к радиоцентру, тут же разоружали.
Эту картину я наблюдал лично, оказавшись у здания радио-центра именно в этот драматический момент.
Начались нападения на магазины, появились крепко подвыпившие молодые люди. Город за час-полтора изменился до неузнаваемости, начали действовать законы толпы, где уже совсем другая, не поддающаяся предсказанию логика.
Толпа двинулась на площадь имени Сталина, чтобы разрушить находившийся там памятник вождю. Спустя три часа удалось свалить статую. Ее низвержение сопровождалось безудержным ликованием собравшихся. Казалось, большего восторга и счастья никто из присутствовавших в своей жизни не испытывал. Сначала памятник с помощью автомашины раскачали из стороны в сторону, а затем, подрезав автогеном часть фигуры чуть выше сапог, тягачами свалили навзничь (так и стоял потом еще несколько дней на площади постамент с одними сапогами на нем, что дало повод жителям Будапешта тут же окрестить это место «площадью сапог»). Повергнутая статуя мгновенно скрылась под телами забравшихся на нее людей. Площадь огласилась каким-то диким ревом.
И вдруг – то ли от еще сохранившегося страха перед этим человеком, то ли просто отрезвев от отвратительной сцены варварства – люди как-то разом притихли и стали поспешно уходить, вернее, даже убегать прочь от зловещих обломков. Через минуту бегство приобрело массовый характер, толпа была буквально охвачена паникой.
В этот момент кто-то запел национальный гимн. Все замерли на месте. Гимн разом привел толпу в чувство, успокоил, хотя люди и продолжали постепенно расходиться. Когда стихло пение, у поверженной статуи осталась сравнительно небольшая инициативная группа, которая и приняла решение организовать «траурный кортеж», с тем чтобы доставить бронзовую фигуру вождя «на родину» – во двор советского посольства – и там похоронить ее.
Уже в пути планы, однако, изменились: статуя была отвезена к берегу Дуная и сброшена в воду. По пути значительную часть памятника растащили по кусочкам на сувениры.
Здесь уместно вспомнить, что в марте 1953 года Венгрия очень тяжело переживала смерть «вождя народов». Его там в ту пору действительно почитали, причем уважение и любовь к нему в народе были неподдельными.
В ночь на 24 октября 1956 года положение в столице полностью вышло из-под контроля властей. Во многих местах слышалась стрельба, начались повальные грабежи магазинов, учреждений, работа общественного транспорта была полностью парализована, жители стали спешно покидать город. Положение осложнилось активным вовлечением в беспорядки учащейся молодежи.
Венгерское руководство по телефону правительственной связи рвалось в Москву к Хрущеву, настоятельно убеждая советскую сторону оказать необходимую помощь в нормализации обстановки в Будапеште. Несмотря на бесчисленные призывы, Андропов отказался ставить перед Москвой вопрос о вводе наших войск в столицу, поэтому Герё стал решать этот вопрос напрямую с Хрущевым.
24 октября утром советские воинские части вошли в Будапешт. На некоторых направлениях завязались бои с применением орудий, бронемашин и танков.
25 октября Герё наконец-то заявил о своей отставке. Ушли со своих постов и некоторые другие руководители. Но было слишком поздно: этот шаг уже не сыграл своей конструктивной роли.
Выдвижение на пост премьер-министра Андраша Хегедюша – молодого, энергичного, прогрессивного и бесспорно талантливого руководителя – также не спасло ситуацию. В условиях политической неразберихи власть в итоге перешла в руки Имре Надя – этой поистине роковой фигуры в венгерской истории.
Об этом человеке следует сказать особо. Его жизнь была тесно связана с Советским Союзом. Во время Первой мировой войны он попал в плен и на целых 26 лет остался в нашей стране. До Второй мировой войны Надь принимал активное участие в работе венгерской секции Коминтерна, особых постов он, правда, там не занимал, но был, как говорится, на виду.
Сталинские репрессии больно ударили по венгерским коммунистам, погиб их руководитель Бела Кун, но Надя они как-то обошли стороной – что ж, не всех ведь постигла тяжелая участь, повезло и ему. Так, по крайней мере, полагали сами венгры.
В 1945 году Надь возвращается в Венгрию, где принимает участие в строительстве новой жизни. Репрессии в этой стране, имевшие место в сталинский период, его тоже не затронули.
После 1953 года Надь занимал ряд высоких постов, в том числе был премьер-министром. Между Ракоши и Надем постоянно возникали серьезные разногласия по принципиальным вопросам социалистического строительства. В числе прочего Надь обвинялся в поддержке сил, выступавших за «буржуазные» порядки, подвергался критике за националистические настроения, непоследовательность в политике. Все подмечали у него склонность к демагогии. Короче говоря, вскоре Надь оказался не у дел.
Когда летом 1956 года обстановка в Венгрии стала накаляться, о нем вспомнили. Инициативу, кстати говоря, проявил Анастас Иванович Микоян.
Надо сказать, что Микоян верил Надю и полагал, что на него можно делать ставку. Правда, поддержки в этом вопросе ни среди советских специалистов, ни у венгров Микоян не находил. Тогда он решил лично убедиться в обоснованности своей позиции.
В июне 1956 года Микоян попросил Хрущева разрешить ему встретиться с Надем в здании советского посольства в Будапеште. Андропов поручил мне (я был тогда пресс-атташе посольства) созвониться с Надем и в случае его согласия привезти гостя в посольство.
На наше предложение о встрече Надь без промедления ответил согласием, и вскоре я отправился за ним. По дороге Надь с теплотой рассказывал о своем пребывании в Советском Союзе, говорил, что привык к советской прессе, особенно к «Правде», регулярно слушает московское радио. По поводу своей дочери мой спутник заметил, что она вообще больше русская, чем венгерка, как по воспитанию, так и по языку. Сам Надь по-русски говорил совершенно свободно, без всякого акцента. В машине он ненавязчиво обронил несколько фраз о том, что не мыслит Венгрию без тесного союза с Советским государством, дал понять, что лучше его кандидатуры Москва не найдет, что с ситуацией в стране только он в состоянии справиться.
Как мне рассказывали, беседа Микояна с Надем носила характер глубокого зондажа и завершилась обоюдным выводом о целесообразности взаимного сотрудничества. Но, как отмечали венгерские друзья, Надь часто говорил одно, а делал совсем другое. С одной стороны, он вроде бы давал заверения в сохранении дружбы с Советским Союзом, но наряду с этим продолжал принимать активное участие в подготовке антиправительственных акций.
Когда в конце октября 1956 года он занял пост премьер-министра, его первыми шагами стали выход Венгрии из Организации Варшавского договора и обращение к Западу за помощью. Прослеживалась явная ориентация Надя на появлявшиеся новые антисоциалистические партии и организации, в его выступлениях звучали призывы к реставрации капитализма. Не преминул сделать Надь и ряд резких антисоветских заявлений.
Но все это стало очевидным потом, пока же Надю удалось заручиться поддержкой Микояна, а тот, в свою очередь, сумел убедить советское руководство в том, что именно Надь способен вывести Венгрию из тяжелейшего кризиса.
Эта ошибка дорого стоила и нам, и нашим венгерским друзьям. Юрий Владимирович рассказывал мне, что 1 ноября 1956 года на заседании Президиума ЦК КПСС деятельность А.И. Микояна на венгерском направлении была подвергнута весьма суровой критике, но было поздно, к тому времени Надь успел уже натворить много бед…
30 октября советские воинские подразделения покинули Будапешт, так как их дальнейшее пребывание там, казалось, было лишено всякого смысла.
Действительно, власть к тому времени полностью перешла в руки Надя, Герё и Хегедюш оказались не у дел, а Янош Кадар вообще вынужден был уйти в подполье. Нашим войскам в этих условиях просто не на кого было опереться. Кроме того, у многих были еще иллюзии насчет того, что венгры смогут сами во всем разобраться и, по крайней мере, навести порядок в столице.
В те самые часы, когда советские воинские части покидали венгерскую столицу, состоялась встреча Микояна с известным политическим деятелем, лидером партии мелких сельских хозяев Венгрии Тильди Золтаном. Беседа проходила прямо на улице – до событий это был проспект имени И.В. Сталина, во время событий – Венгерской молодежи, затем, когда стихли бои, Народной Республики, а сейчас – имени Андраши. Даже по неоднократной смене всего за каких-то два месяца названий этого проспекта – одного из центральных в Будапеште – можно судить о тех бурных изменениях, которые происходили в тот период в политической жизни страны.
Микоян сообщил Тильди Золтану о начавшемся выводе советских войск из Будапешта и выразил надежду, что новым властям удастся самостоятельно навести общественный порядок в городе. Он поинтересовался оценками собеседника перспектив дальнейшего развития обстановки в Венгрии и будущего советско-венгерских отношений.
Тильди Золтан, который явно уже видел себя в роли президента государства, приветствовал уход советских войск из столицы, заверял, что безобразия в Будапеште и других городах страны прекратятся и сразу же наступят мир и спокойствие. По его словам, отношения между Венгрией и Советским Союзом получат всестороннее развитие. «Конечно, – заметил он, – придется пересмотреть кое-что во внутренней и внешней политике, но венгерская сторона будет активно консультироваться с Москвой». Уверенность исходила от каждого слова собеседника.
Жизнь, однако, не замедлила опровергнуть такой «прогноз». Тотчас же после ухода наших войск начался дикий разгул грабежей и насилия. Самосуды вершились один за другим. В Будапеште на фонарных столбах вешали коммунистов, «агентов Москвы».
В беседах с совпослом Надь говорил о чувстве дружбы к Советскому Союзу, а в своих публичных заявлениях приветствовал улицу, призывал и дальше «развивать революцию». Надо было срочно спасать положение, а этого можно было добиться только одним путем – вернуть назад наши войска, выведенные из Будапешта всего пять дней назад.
И вот 4 ноября части Советской армии вновь вступили в город, для того чтобы исправить ошибки политиков.
В конце октября – начале ноября 1956 года наступил, пожалуй, самый критический момент. Значительно осложнилась и ситуация вокруг советских учреждений, посольство оказалось в осаде, каждый выход из здания был сопряжен с опасностью. Дипломаты давно уже перешли, по существу, на казарменное положение, ночевали в своих служебных кабинетах и лишь изредка, да и то только после возвращения наших войск, на полчаса поочередно вырывались на армейских бронетранспортерах домой, чтобы навестить семьи, которые оставались в жилом доме, расположенном в нескольких кварталах от посольства. Вскоре членов семей, к счастью, удалось эвакуировать в Союз, и с наших плеч свалился тяжелый груз постоянных опасений за их судьбу.
Надо сказать, что для тревоги за жизнь близких были серьезные основания. Ведь первое время жилой дом вообще оставался без охраны, и его несколько раз занимали вооруженные мятежники. Лишь после 4 ноября несколько наших солдат стали постоянно дежурить в здании, обеспечивая хоть и символическую, но все же защиту его обитателей.
Советское посольство работало в те дни в крайне напряженном ритме. Необходимо было давать подробную информацию в Москву, продолжать работать с местными властями, решать массу сложных вопросов, возникавших в той ситуации буквально ежеминутно. Одной из первейших задач, стоящих тогда перед нами, было спасение венгерских друзей, жизнь которых в те дни буквально висела на волоске.
Вспоминаю бессонные ночи, выходы для сбора информации на обезлюдевшие улицы, тайные встречи с венгерскими товарищами, порой при весьма небезопасных обстоятельствах. Мы помогали найти убежище тем, кому угрожала расправа, находили возможность для контактов с дипломатами из посольств других социалистических стран.
Знание венгерского языка позволяло вступать в разговор с венграми, получать свежую информацию прямо из центра событий. Хорошо, если перед тобой оказывался благожелательный собеседник, но частенько попытки завязать беседу заканчивались тем, что приходилось в буквальном смысле слова уносить ноги, как только по акценту в тебе распознавали русского.
Выполнение официальных поручений, сопряженных с посещением соответствующих учреждений и ведомств, тоже было отнюдь не простым делом, до них ведь надо было как-то добраться, а затем еще с документами вернуться обратно в посольство. Не обходилось, конечно, и без серьезных ЧП. Об одном из них следует рассказать особо.
В ночь на 24 октября 1956 года в Будапешт должен был прилететь А.И. Микоян с группой товарищей. Встречать его на военный аэродром выехал Андропов вместе с военным атташе. На окраине столицы они попали в засаду, были обстреляны, при этом их пробитая пулями автомашина, угодившая к тому же еще в завал из деревьев, полностью вышла из строя. Пассажирам пришлось глубокой ночью в течение более двух часов пешком добираться до своего посольства.
А на улицах Будапешта было неспокойно, бродили толпы возбужденных и вооруженных людей. Андропов шел твердой походкой, даже неторопливым шагом. Не раз на них обращали внимание, несколько раз пытались остановить, но каким-то чудом все обошлось благополучно. Сопровождавшие Андропова лица с восхищением рассказывали о его выдержке и самообладании. Сам же Юрий Владимирович признался потом, что это происшествие стоило ему огромного нервного напряжения.
Для иллюстрации настроений в Будапеште в то время стоит рассказать об одном случае. Больше года я был знаком с одним венгерским другом, довольно известным в стране ученым, доктором наук Ласло Вартаи. Знал хорошо его семью, неоднократно бывал у него дома. Это были нормальные отношения советского дипломата с одним из представителей венгерской науки. Во время встреч речь часто заходила об обстановке в стране, о советско-венгерских отношениях, о путях и перспективах развития венгерского общества. По своему настрою Вартаи был ближе к левым, демократическим силам. К Советскому Союзу относился неплохо, но явно тянулся и к Западу.
Когда начались описываемые события в Венгрии и наши войска вошли в Будапешт, у моего друга это вызвало бурю негодования, он однозначно осудил наше военное вмешательство. Мне показалось тогда, что я потерял его навсегда.
Но вот 30 октября 1956 года советские воинские подразделения покинули венгерскую столицу, и сразу же началась настоящая охота на коммунистов, сотрудников органов госбезопасности. Будапешт захлестнули акты насилия и грабежи.
2 ноября в посольстве раздался телефонный звонок, и кто-то, назвавшись незнакомым мне именем, на немецком языке спросил меня. По голосу я сразу понял, что это Вартаи. Намеками договорились о времени и месте срочной встречи, на которой настаивал мой собеседник.
И вот в ночь на 3 ноября мы встретились. Каково же было мое удивление, когда Ласло начал разговор с извинений за свои недавние слова по поводу вмешательства наших войск. Он поведал мне о страшных фактах разгула реакции (так он сам выразился), причем не только в Будапеште, но и в провинции, с волнением говорил о том, что страну утопят в массовых репрессиях, если вовремя не поспеет прямая военная помощь со стороны Советского Союза. Я не верил своим ушам! Всего пять дней назад Вартаи нахваливал Имре Надя, а сейчас называл его не иначе как предателем.
Потребовалось всего несколько дней, чтобы в душе человека произошла настоящая революция – от осуждения нашего вмешательства до призывов к немедленному оказанию вооруженного содействия! А ведь лично ему, Вартаи, как известному демократу и прозападно настроенному ученому, ничто не угрожало…
За истекшие годы оценка событий в Венгрии менялась неоднократно, но кардинально – лишь дважды. Тем не менее, по моему глубокому убеждению, последнее слово историей пока еще не сказано. Отнюдь не претендую на такое слово и я. Представляется, что однозначного ответа вообще нет, да и быть не может. Те десятки тысяч, что вышли на улицы Будапешта 23 октября и в последующие дни, едва ли были контрреволюционерами, какой-то реакционной силой. Но разве те, кто на сей раз оказался по другую сторону баррикад и принимал участие в убийствах, грабежах, в других преступлениях, кто насильственно низвергал властные структуры, кто силой принуждал принимать решения, угодные одним и противоречащие интересам других, разве они вправе называть себя истинными революционерами?!
Так уж получилось, что к коммунистам примазывалось немало случайных попутчиков, которые своими действиями нанесли невосполнимый урон всему движению, сплотили против себя мощный фронт сопротивления, куда вошли и те, кто изначально стоял на куда более правильных позициях, нежели сами эти псевдокоммунисты.
В этой связи стоит воспроизвести оценки бывшего члена высшего партийного руководства Венгрии, директора института общественных наук ЦК ВСРП Дьердя Ацела. Этот общественно-политический деятель, ученый, политолог всегда отличался неординарным, самостоятельным мышлением. Он никогда не находился во власти конъюнктурных подходов, отчего нередко испытывал лишения, подвергался критике то слева, то справа. При Ракоши он был репрессирован, осужден и вышел на свободу уже после смерти Сталина. При Яноше Кадаре на последнем этапе входил в высшее партийное руководство, стоял на социалистических позициях, но последовательно выступал за обновление существовавшей общественно-политической системы, за что стал мишенью для критики слева. А в последнее время, уже после Кадара, за мужественное отстаивание социалистических идей и призывов к сохранению основополагающих начал народной власти подвергался гонениям уже справа. Так что его суждения, даже по одним лишь этим примерам, можно считать вполне непредвзятыми и поэтому заслуживающими особого внимания.
В статье «У демократизации нет альтернативы», опубликованной в июле 1989 года в журнале «Проблемы мира и социализма», Ацел так описывает октябрьские события (1956) в Венгрии: «Сегодня оживились дискуссии о его (митинге 23 октября 1956 года в Будапеште) характере, направленности: революция это была или контрреволюция? Народное восстание или мятеж реакционных сил, сумевших обманом вывести народ на улицы? Но однозначного ответа на эти закономерные вопросы пока нет. Важно учитывать, что состав участников и объективное содержание их выступлений менялись по мере развития событий. Так, в массовой демонстрации вечером 23 октября определяющим было требование обновления социализма, коренной демократической реформы. Наряду с этим в последующие две недели характерным стало смешение многообразных сил и целей: лозунгам обновления вторили голоса в пользу народно-демократического устройства власти, установленной после 1945 года. Оживились и сторонники старого, свергнутого более десяти лет назад режима, силы, желавшие в несколько модернизированной форме – парламентской демократии западного типа – вернуться к прошлому. Имели место также экстремистские проявления: стали поднимать голову консервативно-националистические и крайне правые, антикоммунистические, хортистские, христианско-националистические силы, вплоть до деклассированных, преступных и реваншистских элементов».
Думаю, эти высказывания Ацела содержат важный ответ на непростой вопрос.
4 ноября 1956 года, когда советские воинские части вновь вошли в Будапешт, Имре Надь с группой своих единомышленников бежал в югославское посольство, где и получил временное убежище. 22 ноября по договоренности между Венгрией, Югославией, Румынией и Советским Союзом он вместе со своими четырьмя сообщниками был вывезен в Румынию, так как югославы по целому ряду соображений были не в состоянии продолжать держать мятежников в своем оказавшемся в изоляции посольстве в Будапеште. Да и венграм пребывание Надя в Будапеште доставляло немало хлопот.
Советская сторона также была заинтересована в скорейшем разрешении этого конфликта в интересах снижения напряженности в стране в целом. Спустя несколько месяцев имренадевцы были, однако, возвращены в Венгрию и переданы в руки властей. В июле 1957 года они предстали перед судом, были приговорены к высшей мере наказания и казнены. А спустя 33 года последовала реабилитация, в столице на государственном уровне состоялась официальная траурная церемония перезахоронения останков Надя и других казненных с ним лиц.
Янош Кадар называл историю с Надем своей личной трагедией. Кадар немного не дожил до того дня, когда стали известны достоверные материалы о причастности Надя к репрессиям против группы венгерских эмигрантов в Советском Союзе в 30-х годах. Как видно из материалов, переданных венгерской стороне в 90-х годах, Надь, будучи агентом НКВД (псевдоним Володя), сделал ложный донос о якобы имевшей место антисоветской деятельности ряда венгерских эмигрантов (в эту группу попало более 200 человек). Многие из них были осуждены, а некоторые даже расстреляны.
Вряд ли кто будет оспаривать, что этот важный штрих в биографии Надя представляет всю историю с ним в совершенно ином свете. Хотел бы подчеркнуть, что ни Ракоши, ни Кадар, ни другие венгерские друзья понятия не имели об этой до последнего времени тайной стороне биографии Надя, хотя кое-какие слухи на этот счет в Венгрии все же циркулировали. Говорил мне об этом как-то и сам Кадар. В Советском Союзе соответствующие документы в архивах КГБ были обнаружены лишь в 1990 году.
К 10–11 ноября 1956 года бои в Будапеште утихли, в стране начался сложный и болезненный этап восстановления нормальной жизни. Возглавил этот процесс Янош Кадар – человек необычной судьбы, редких дарований, патриот и в то же время яркий интернационалист, искренний друг Советского Союза. О нем речь впереди, а сейчас очень кратко о том, как Венгрия стала выходить из тяжелейшего кризиса.
В те мрачные ноябрьские дни среди венгров, да и у нас тоже преобладали пессимистические прогнозы. Казалось, процесс нормализации затянется на многие годы, не удастся избежать периодических вспышек социальных конфликтов. Как переломить ситуацию? Как внушить людям, что у правительства Кадара самые добрые намерения, горячее стремление быть вместе с народом, в полной мере учитывать его чаяния?
Созданная в дни событий, в самом начале ноября, Венгерская социалистическая рабочая партия (вместо распущенной Венгерской партии трудящихся) провозгласила содержательную программу обновления общества, его демократизации и опоры на широкие слои населения. Были сняты ограничения на индивидуальную и частнопредпринимательскую деятельность. Правительство пошло на значительное повышение жизненного уровня, рост которого в январе 1957 года составил 22 процента.
Это был, конечно, чрезмерный скачок, что в последующем пагубно сказалось на экономике страны и негативно повлияло на политическую обстановку, порождая у населения все новые и новые запросы и требования повышения заработной платы.
Но в целом ситуация в стране улучшалась, причем даже быстрее, чем предполагали в Венгрии и за ее пределами. Расстановка социально-политических сил в обществе при ее глубоком и объективном анализе в целом была не такой уж плохой. Около 8—10 процентов населения активно действовали против власти, до 20 процентов стояли на позициях венгерского руководства, хотя и проявляли себя при этом куда менее активно. Остальные, приблизительно 70 процентов, оставались пассивной массой и тем самым представляли собой как бы резерв для первых и вторых, но все-таки больше симпатизировали социалистическому выбору.
Улучшению политической обстановки, развитию народного хозяйства, расширению и углублению демократических процессов во многом помогали активность, укрепляющиеся связи руководителей всех уровней с народом. Главным в своей деятельности партия определила лозунг «борьбы за массы» и последовательно проводила его в жизнь.
1 мая 1957 года в Будапеште состоялся грандиозный митинг с участием 500 тысяч человек. Такого прежде Венгрия не знала. Кадар произнес блестящую речь. Главное содержание первомайского митинга сводилось к необходимости продолжения строительства социализма, поддержки правительства Кадара, укрепления дружбы с Советским Союзом. Было очевидно, что страна вышла из острейшего кризиса 1956 года и встала на путь обновления. Такой политике народ оказал внушительную поддержку. Огромная заслуга в этом принадлежала самому Кадару.
Тридцать два года занимал этот человек высшие посты в партии и правительстве. Как и у многих революционеров-коммунистов, у Кадара была непростая судьба, от жизни он нередко получал тяжелые удары, но всякий раз поднимался – порой, казалось бы, уже из политического небытия – и энергично включался в активную партийную и государственную деятельность, неизменно занимая видное положение в обществе.
Янош Кадар родился 26 мая 1912 года в полу славянской бедной семье. Жил с матерью, так как отец ушел к другой женщине. Рано вступил в рабочее движение, в компартию. Из хортистской Венгрии Кадар не уезжал, представляя именно местную часть коммунистического движения Венгрии (в отличие от Ракоши, Герё, И. Реваи и других, которые возглавляли так называемую промосковскую группу). Между этими частями никогда не было полного мира и согласия, напротив, трения иногда приобретали настолько серьезный характер, что кое-кому это стоило не только постов, но и жизни.
При хортистском режиме Кадар не раз подвергался арестам, но сравнительно легко отделывался. В 1944 году он активно включился в работу по созданию новой Венгрии, казалось, ближе сошелся с Ракоши. В конце 40-х – начале 50-х годов был министром внутренних дел, и именно в это время была арестована группа Ласло Райка. Инициатива ареста принадлежала не Кадару, это известно, и сам он не раз подчеркивал это обстоятельство. Райк попал под жернова сталинских репрессий, их венгерского ответвления.
В 1951 году арестовывается сам Кадар по стандартному обвинению в шпионаже, но в 1954 году он снова на свободе, и все обвинения против него сняты за полной их необоснованностью. Находясь под арестом, Кадар испил до дна всю горькую чашу унижений и мучений, вплоть до бесчеловечных пыток. Это оставило у него глубокую, так до конца дней и не зажившую рану. Он часто в разговорах возвращался к своему аресту, хотя для него эти воспоминания были тяжелой мукой.
Кадар, пожалуй, больше чем кто-либо из руководителей других социалистических стран понимал настоятельную потребность в глубоких и всесторонних реформах общественного развития. Будучи однозначным приверженцем социалистического пути, он тем не менее был сторонником радикальных перемен в подходах к проблемам общественного и государственного строительства, выступал за политический плюрализм, за согласие и сотрудничество всех социальных сил.
Еще в середине 60-х годов Кадар заговорил об исчерпании источников экстенсивного роста экономики, о необходимости повышения гибкости социалистической системы хозяйственного управления, ее всеобъемлющей реформы. С 1968 года в Венгрии действительно стали последовательно проводиться реформы.
В экономике сразу почувствовались глубокие перемены. Предоставление большей свободы предприятиям, наделение их правом самостоятельного выхода на внешний рынок, акцент на экономические рычаги, установление прямой зависимости субъектов производства в промышленности и сельском хозяйстве от эффективности их работы, а также многое другое – вот реальные результаты политики Кадара в этой области.
За Кадаром заслуженно утвердилась слава реформатора. На таких же реформистских, прогрессивных позициях стоял он и в вопросах литературы, искусства, культурной жизни общества в целом. Этого творческого запала хватило Кадару надолго.
В течение первой половины своего пребывания на посту лидера он выступал за периодическую сменяемость руководителей в высших эшелонах власти, причем не просто говорил об этом, но и пытался подать личный пример, подняв в 1972 году на заседании политбюро ЦК ВСРП вопрос о своем уходе на пенсию. О намерении уйти в отставку Кадар неоднократно говорил Ю.В. Андропову, контактов с которым никогда не прерывал. Делился такими замыслами Кадар и со мной.
Его близкие друзья поняли, что у Кадара действительно созрело такое решение. Вот тут-то и начались песни на старый, до боли известный мотив: «Что будет с Венгрией, если Кадар уйдет с поста руководителя партии?»
В правовом отношении вопрос о сменяемости высших руководителей, об их уходе с постов по истечении определенного времени тогда отрегулирован не был, такой, казалось бы, нормальной практики не было ни в одной социалистической стране. Поэтому в ход пошли и в конечном счете одержали верх чисто обывательские доводы (подбрасываемые, в частности, и с нашей подачи) – нет, мол, замены, сложный момент (хотя тогда ситуация в Венгрии в общем-то была неплохой), народ не поймет, что скажут в мире, и прочее словоблудие на ту же тему.
В результате решили так: пусть Кадар продолжает занимать свой пост, но работает при этом (с учетом состояния здоровья) ограниченное количество часов в день, для стабильности этого будет, дескать, вполне достаточно. Уговорили на такой вариант и Кадара, который согласился остаться на посту лидера партии, несмотря на все свои благие намерения, и занимал его потом еще целых 16 лет!
Но эти годы уже не шли ни в какое сравнение с предыдущими: не те силы, отсутствие прежней тяги к новому, неспособность сколотить новую, молодую и энергичную команду, привычка к прежнему стилю работы и многое другое.
Результат не заставил себя ждать – Венгрия начала заметно терять в темпах и качестве развития.
Руководство, живя лишь старым багажом, стало отрываться, изолироваться от масс, недовольство все острее ощущалось и справа, и слева, и в центре. Кадар еще как-то держался на старом авторитете и на своих личных качествах – таких как честность, порядочность, демократизм, терпимость к инакомыслию, но долго продолжаться это не могло.
Одним из первых шагов Кадара после прихода к власти в 1956 году было дальновидное и по тем временам принципиально новое решение – ввести порядок, согласно которому высшие руководители получали бы сравнительно небольшую зарплату и не имели бы никаких особых привилегий. Питание, жилье, пользование дачами – все должно было оплачиваться руководством, включая и самого Кадара, из собственной зарплаты. Путевки в санатории и дома отдыха, посещение охотничьих хозяйств, квартиры и коммунальные услуги – все эти расходы также покрывались начальством самостоятельно. А источник один – зарплата.
Надо сказать, Кадар строго следил за соблюдением установленного порядка и сам никогда не нарушал его. Не случайно вопросы этики, честности, проблемы с финансовыми расходами ни в период пребывания Кадара у руководства, ни после его ухода никогда никем не поднимались, хотя, приди к власти в Венгрии оппозиция, она не преминула бы воспользоваться порочащими своих предшественников фактами, если бы таковые имелись.
На одной особенности характера Кадара следует остановиться особо, поскольку она представляется весьма поучительной. Кадар и как человек, и как политик был, в сущности, одинаков. Все его личные качества находили адекватное выражение в нем как в политическом деятеле. Так, он был исключительно постоянен в отношениях с людьми. Его личные друзья были близкими к нему и по политической деятельности, трудились вместе с ним.
Но Кадар, к сожалению, оказался заложником своих привязанностей. На протяжении многих лет он держал вокруг себя практически одну и ту же команду, мало обновлял ее состав, не приближал к себе свежих людей, деятелей с политическими взглядами, отличными от его собственных. Достойные всяческой похвалы качества Кадара-человека, его отношения с близкими к нему людьми мешали делу, когда речь шла о Кадаре-политике. Личные привязанности сковывали его действия, зачастую тяготили, но освободиться от этой черты Кадар так и не смог.
С этим были сопряжены серьезные издержки. Ведь многие, в том числе и весьма способные, люди тянулись к Кадару, относились к нему с искренним уважением, но, видя его нежелание сотрудничать с ними, отходили в сторону или даже оказывались в стане оппозиции.
Еще одна, тесно связанная с первой ошибка заключалась в том, что Кадар и на других людей смотрел через призму личного постоянства, не замечал ни их роста, ни появления у них отрицательных черт, ни даже перерождения некоторых из них. В его представлении люди на каком-то уровне как бы застывали в своем развитии. Впрочем, эта особенность Кадара в последние годы распространялась не только на людей, но и на его видение обстановки, процессов, происходящих в обществе.
И все-таки Кадара никак нельзя назвать консерватором. Он все время пытался найти какие-то свежие решения в социально-экономической области, демонстрировал неординарные подходы к формам и методам управления. При этом он отнюдь не держался мертвой хваткой за свой пост, продолжал постоянно думать об уходе, о необходимости передачи власти в другие руки, но в решении этого центрального кадрового вопроса был настолько привередлив, что долго не мог сделать свой выбор. В результате такой необходимый шаг запоздал как минимум лет на восемь.
Последние два-три года Кадар руководил страной, будучи уже далеко не в лучшей форме, здоровье заметно сдавало. К сожалению, это в той или иной мере было характерно для всех бывших социалистических стран. Пример же, что греха таить, подавали мы сами. Смена лидера выросла в такую проблему, что порой заслоняла собой все остальные интересы государства! За эти ошибки в итоге мы так жестоко и поплатились.
Отношение Кадара к Советскому Союзу всегда отличалось не только искренним чувством дружбы и глубокого уважения, но и неизменной честностью и принципиальностью: он без колебаний доводил до советского руководства свои критические оценки по тем или иным аспектам внутренней и внешней политики нашей страны. Не мог скрывать и своего отношения к некоторым из советских руководителей. До конца дней не потерял своего уважения к Хрущеву, ценил дружбу с Андроповым, а вот с Брежневым так и не сошелся.
В целом же Кадар оставил глубокий след в истории венгерского народа, добрую память о себе и своих делах. Его бескорыстие, самоотдачу высоко ценили не только в стране, но и за рубежом. Беспристрастный взгляд на политический курс и практическую деятельность Кадара за три десятилетия его руководства поможет высветить немало поистине исторических достижений в жизни венгерского общества.
В 1958–1959 годах, то есть всего за два года, в Венгрии по инициативе сверху была совершена аграрная революция. Была практически полностью кооперирована деревня, причем без применения насильственных методов. Признавался и допускался только один путь – убеждение крестьян-единоличников в преимуществах коллективной формы ведения сельского хозяйства.
Учет венгерских особенностей, местных условий и традиций, крестьянской психологии, положительный пример действовавших сельскохозяйственных кооперативов и государственных хозяйств позволили, с одной стороны, безболезненно в социально-политическом отношении решить проблему кооперирования, а с другой – избежать падения сельхозпроизводства. В одних производственных кооперативах личный скот содержался в общем стаде, в других коллективное поголовье отдавалось для откорма в приусадебные хозяйства крестьян – членов кооператива. В зависимости от размера обобществленного надела своей земли каждый член кооператива получал пожизненную земельную ренту. С самого начала кооперативам была предоставлена широкая хозяйственная самостоятельность.
Социалистическое сельское хозяйство Венгрии поражало своей эффективностью. Продовольственная проблема в стране в своей основе была решена, причем в кратчайшие сроки. Тяготы жизни хортистской Венгрии, которую обоснованно называли страной «трех миллионов нищих», ушли в прошлое.
После себя Янош Кадар оставил в общем-то небедную страну. До него венгры жили намного хуже, а вот как они будут жить в ближайшие годы – надо еще посмотреть. Характерно, что Кадара никогда не поносили в средствах массовой информации, над ним иногда подшучивали, но по-доброму, с чувством уважения.
Случилось так, что как раз в день утверждения на сессии Верховного Совета СССР моей кандидатуры на пост председателя КГБ, 8 августа 1989 года, Венгрия прощалась с Яношем Кадаром. В похоронах приняло участие более 500 тысяч человек, причем люди пришли сами, без каких-либо призывов сверху, чтобы проводить в последний путь этого человека и тем самым отдать дань его неоспоримым заслугам.
В августе 1959 года моя командировка в Венгрию завершилась, и я возвращался в Москву. Закончился один из весьма насыщенных событиями периодов в моей жизни. Я достаточно обстоятельно узнал и полюбил эту страну, изучил историю, язык, обычаи и культуру венгерского народа. В Венгрии я приобрел хороших друзей из интеллигенции, рабочих, крестьян, близко сошелся со многими венгерскими руководителями. За работу в посольстве, в том числе во время событий осени 1956 года, меня удостоили высокой правительственной награды – ордена Трудового Красного Знамени.
Из Венгрии мы вернулись уже с двумя сыновьями: в 1957 году у нас родился второй ребенок. На родину возвращались с радостью, хотя понятия не имели, что нас ждет впереди: жилья ведь в Москве у нас не было никакого, не знали даже, куда ехать с вокзала. Друзья, однако, заранее побеспокоились и сняли для нас номер в гостинице «Бухарест».
И вдруг на следующий день после приезда в Москву неожиданность – меня попросили позвонить в ЦК КПСС, в отдел, которым заведовал наш бывший посол Юрий Владимирович Андропов.
Так я попал на работу в аппарат ЦК КПСС и с того момента уже не распоряжался своей судьбой, трудился на тех участках, куда меня направляли. Конечно, согласие формально спрашивали, но отказываться тогда было не принято. Поэтому все мои последующие назначения осуществлялись сверху, а мне, со своей стороны, оставалось каждый раз лишь благодарить за оказанное доверие.
Первой моей ступенькой в отделе ЦК КПСС по связям с рабочими и коммунистическими партиями социалистических стран была должность референта в секторе по Венгрии и Румынии, то есть я продолжал трудиться на полюбившемся мне венгерском направлении.
Должен сказать, что это меня вполне устраивало. В соответствии с действовавшим тогда порядком всеми наиболее серьезными проблемами наших отношений с социалистическими странами занималась Старая площадь. МИДу в этих условиях отводилась довольно скромная роль ведения текущей, по большей части технической работы на двустороннем направлении. Вся кухня большой политики варилась в здании ЦК КПСС. Даже моя скромная должность референта в отделе ЦК открывала доступ к таким вершинам наших отношений с Венгрией, к которым в МИДе допускалось разве что самое высокое руководство. Так что сомнений в правильности выбранного, к тому же и не мной, пути у меня не было и быть не могло.
Помимо прочего, работа в аппарате ЦК позволила быстро решить жилищную проблему: вскоре наша семья из пяти человек получила 2-комнатную квартиру площадью 29 квадратных метров. Радости нашей не было предела! Пожалуй, я был чуть ли не единственным из советских венгроведов, кто получил в те времена отдельную квартиру. Поэтому много лет подряд Новый год и другие праздники мы отмечали с друзьями в нашей семье.
Жена легко нашла работу по специальности – устроилась в соседнюю среднюю школу преподавателем русского языка и литературы. Работа двух человек в семье в ту пору гарантировала стабильный достаток. Кроме того, мне удавалось подрабатывать переводами с венгерского, а иногда еще получать гонорары за статьи и брошюры. Пожалуй, впервые мы узнали, что такое нормальная, вполне благоустроенная жизнь.
К сожалению, то относительное благополучие, в котором мы застали страну по возвращении из командировки, продлилось недолго. Вдруг словно что-то надломилось. Беднее стал ассортимент, прежде всего продовольственных товаров. На колхозных рынках резко повысились цены на мясо и другую сельскохозяйственную продукцию.
Было ясно, что начала сказываться политика Н.С. Хрущева по ограничению, а затем и откровенному зажиму приусадебных хозяйств, сопровождавшаяся передачей скота из личного пользования в колхозы и совхозы. Повсеместно пошел неконтролируемый убой скота и птицы, стали сокращаться площади под индивидуальными садами и огородами. Тогда еще мало кто отдавал себе отчет в том, к каким катастрофическим последствиям приведет такая политика, насколько далеко назад будет отброшено наше сельскохозяйственное производство. Ведь отрицательные последствия хрущевского волюнтаризма мы продолжаем ощущать и по сей день!
Но главное даже не в сокращении производства продуктов сельского хозяйства, а в том, что люди из активных тружеников не по своей воле превращались в чистых потребителей, иждивенцев на шее государства. Крестьянина отлучили от труда во имя утопических идей скорейшего торжества коммунистических отношений на селе. А неполадки (мягко выражаясь) в деревне потянули за собой и промышленность. Беда в том, что заносило Хрущева, к сожалению, не только в этом.
Плод его неуемной инициативы – постоянные реорганизации по вертикали и горизонтали, манипуляции с партией, выражавшиеся в попытках разделить ее на городскую и сельскую организации, масштабная химизация, рассматриваемая как панацея решительно от всех трудностей в нашей экономике, удары по металлургии, по кирпичному производству (блочные дома, метко прозванные в народе «хрущобами», до сих пор уродуют вид наших городов), в социальной области – то заигрывания с интеллигенцией, то удары по ее представителям, на внешнеполитическом фронте – сначала многочисленные мирные инициативы, а затем скатывание вплотную к войне с последующим поспешным отступлением ради сохранения мира.
Ведущие политики мира нередко сбивались с толку, пытаясь дать оценку отдельным внешнеполитическим шагам Хрущева и хоть как-то спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Хотя зачастую не было никакого смысла искать глубинные мотивы того или иного нашего шага.
Помню, как-то в ответ на просьбу Кадара дать пояснения по поводу очередного заявления советского лидера Хрущев простодушно признался: «Сморозил я, а мир гадает, что это означает. Да ни хрена не означает!»
Немудрено поэтому, что стабильности и ответственности в стране становилось все меньше и меньше. Нетерпимость ко всему, что не укладывалось в господствующие стереотипы, губила те ростки демократии, которые взошли благодаря политике самого же Хрущева в первоначальный период его правления. Народ устал от нескончаемых перегибов, шараханий и не только не одобрял многочисленные изменения в политике, экономике, государственном устройстве, но толком и не понимал их значения, тем более что жизнь становилась все хуже, росла неуверенность в завтрашнем дне и вместе с ней социальная напряженность.
В этих условиях октябрь 1964 года – смещение Хрущева – лег как бы на созревшую для этого почву. Люди ждали солидной политики, стабильного курса. Никто не верил в широко провозглашенные лозунги с точными сроками построения коммунизма, решения продовольственной, жилищной и других острейших социально-экономических проблем.
Вместе с тем для многих приход к руководству Л.И. Брежнева также не представлялся идеальным решением. Было очевидно, что это – фигура весьма заурядная, слишком приверженная старому стилю, в сути которого люди уже разобрались и в душе не поддерживали его. Но провозглашенная Брежневым программа все же больше импонировала прежде всего своим спокойным подходом, уверенностью, приземленностью. Намечались совершенно конкретные меры по улучшению жизненного уровня, четко заявлялось о необходимости развития личных подсобных хозяйств. Были отменены меры, вызывавшие у людей наибольшее раздражение и непонимание: упразднены совнархозы, поломавшие сложившиеся вертикальные и горизонтальные связи в народном хозяйстве, сняты ограничения на индивидуальную трудовую деятельность в городе и деревне, прекращено разрушение металлургической промышленности и многое другое.
Брежнев покончил с делением партии на городскую и сельскую (то же самое деление при Хрущеве было осуществлено и для структур советской власти на местах). Все эти меры дали быструю отдачу – жизнь в стране на глазах стала входить в нормальную колею, чему в немалой степени помогало и то, что главное внимание теперь уделялось производству: централизованные и плановые начала еще сохраняли определенные резервы и упор делался на их максимальное использование.
Однако по-прежнему давала о себе знать наша главная ошибка, которая состояла в том, что мы продолжали идти по пути сохранения и усиления административно-командной системы.
Ритмичная работа, относительно четкие планы, активизация внешнеторговых связей, лишенный ненужной эмоциональности подход давали определенные результаты, но все же довольно скромный в целом жизненный уровень народа повышался в основном за счет увеличения продажи другим странам сырья, прежде всего нефти. Получаемую валюту почти целиком тратили на закупки продовольствия и ширпотреба. В общем, шел нездоровый процесс простого воспроизводства и проедания с таким трудом созданных накоплений.
В политике, экономике, практике и теории – повсюду свирепствовал догматизм, ни о каких серьезных реформах не было и речи. Для многих было очевидно, что мы пожираем самих себя.
Не могло не вызывать озабоченности и то обстоятельство, что государству стало все труднее сводить концы с концами. Поэтому повсюду начали приукрашивать, манипулировать фактами, играть показателями.
Как всегда бывает в таких случаях, появилось стремление компенсировать внутренние трудности за счет чего-то положительного во внешней политике. И здесь, надо признать, многое было сделано. Активизировался процесс переговоров по разоружению, по проблемам безопасности и сотрудничества в Европе, расширилось наше участие в различного рода международных конференциях.
Надо отдать должное Брежневу – много внимания уделялось отношениям с социалистическими странами, наши связи получили заметное развитие. Регулярно проходили встречи на высшем уровне, активно велись двусторонние переговоры по конкретным направлениям сотрудничества, исключительно широким стал обмен делегациями, опытом. Однако внешнее благополучие не могло скрыть те негативные процессы, которые зарождались как в недрах отдельных союзных государств, так и в соцлагере в целом. В отношениях СССР с другими социалистическими странами нередко возникали трения.
Вспоминается в этой связи один, на мой взгляд, весьма характерный эпизод.
Леонида Ильича Брежнева продолжало волновать сдержанное отношение Кадара к смещению Хрущева. Контакты у Кадара с Брежневым никак не налаживались, сохранялась какая-то взаимная настороженность. А тут еще Кадар все время подливал масла в огонь, продолжая оказывать Хрущеву знаки внимания: время от времени присылал ему к праздникам то фруктов, то хорошего венгерского вина. При этом он пояснял, что считает Хрущева своим товарищем и не собирается отворачиваться от него.
После некоторых колебаний Брежнев решил первым сделать шаг навстречу. В конце февраля 1965 года Брежнев и Подгорный решили нанести визит в Будапешт и обстоятельно побеседовать с Кадаром.
Я уже работал заведующим венгерским сектором отдела ЦК КПСС, и поэтому мне было поручено сопровождать руководство в этой поездке.
Кадар пригласил на официальную встречу с Брежневым еще нескольких товарищей из политбюро ЦК ВСРП. Складывалось впечатление, что один на один разговаривать он не захотел, и это явно не понравилось Леониду Ильичу.
В ходе беседы обменялись информацией об обстановке в своих странах, подчеркнули намерение и дальше развивать двусторонние советско-венгерские отношения, но – вопреки сложившейся практике – никаких комплиментов в адрес друг друга собеседники не произносили. Вопрос о смещении Хрущева Брежнев не затрагивал, чем хотел подчеркнуть, что рассматривает этот шаг как сугубо внутреннее дело Советского Союза.
После завершения официальной части Кадар пригласил советских гостей поехать на охоту в одно хозяйство на юге страны, под городом Печем. Приглашение было с готовностью принято – Брежнев и Подгорный были заядлыми охотниками.
В путь отправились специальным поездом. В вагон-салоне Кадар старался разговорить гостей, подбрасывал то одну, то другую тему, предлагал в менее официальной обстановке обсудить ряд конкретных проблем, но беседа как-то не клеилась. Всем показалось, что Брежнев, не имея под рукой заранее заготовленных материалов (а существом дела он не владел), просто растерялся. В конце концов, по-моему, понял это и сам Кадар.
Перешли на охотничьи темы, и тут уж беседа пошла вовсю. Особенно был активен Подгорный. У него наготове была масса охотничьих историй, приключившихся будто бы лично с ним. Успел он, правда, рассказать не больше двух-трех, так как краткостью явно не отличался.
Венгерские друзья слушали с показным вниманием, тактично реагировали на россказни, иногда – в порядке подтверждения своего интереса – задавали даже уточняющие вопросы, на которые тут же получали самые исчерпывающие ответы. Так и пролетели все четыре часа путешествия в поезде.
По прибытии на станцию назначения пересели в машину и через тридцать минут въехали уже на территорию охотничьего хозяйства с приличной, по венгерским масштабам, площадью несколько сот гектаров. Затем уже на повозках, запряженных лошадьми, поехали по лесной дороге к месту охоты. Из густых зарослей кустарника иногда показывались кабаны, то здесь, то там перебегали дорогу косули. Лес вокруг стоял девственный, с могучими деревьями неописуемой красоты.
Вскоре прибыли на место. Наблюдал я охоту впервые, и она мне запомнилась на всю жизнь. Охотники заняли места и изготовились к стрельбе. Я стрелять отказался, сославшись на то, что не охотник.
Егеря тем временем начали выгонять фазанов, которые буквально сотнями стали вылетать из зарослей, многие из них тут же падали камнем, сраженные меткими выстрелами. Кадар и его товарищи стреляли редко, больше просто наблюдали, обмениваясь между собой впечатлениями. Брежнев же палил вовсю! С ним рядом находился порученец специально для того, чтобы перезаряжать ему ружья.
Леонид Ильич, отстрелявшись в очередной раз, не глядя протягивал пустое, еще дымящееся ружье порученцу и принимал от него новое, уже заряженное. А бедные фазаны, которых до этого прикармливали несколько дней, все продолжали волнами лететь в сторону охотников…
Эта бойня, которая и по сей день стоит у меня перед глазами, прекратилась лишь с наступлением темноты.
У охотничьего домика разложили трофеи, к фазанам добавили еще нескольких зайцев, двух кабанов. Кадар и его товарищи взяли по одной птице – таков порядок, за следующий трофей надо уже платить коммерческую цену. На гостей, разумеется, эти порядки не распространялись.
Вечером состоялся дружеский ужин. Первым охотником был признан Брежнев, вторым – Подгорный. Как и в поезде, начался обмен впечатлениями, опять пошли бесчисленные охотничьи байки. Впрочем, Кадар все-таки ухитрился затеять серьезный разговор, причем весьма полезный. Речь пошла о реформах.
Он сказал, что Венгрия намерена идти путем реформ, стоять на месте больше нельзя. Венгры должны рассчитывать только на себя, подчеркивал Кадар. Скоро будет решена проблема производства достаточного количества зерна, что улучшит ситуацию в стране на продовольственном фронте (так оно и произошло!).
Кадар говорил, что следует оживить коммунистическое движение, оно и так застоялось, критически отзывался о работе Совета экономической взаимопомощи. Пожаловался он и на плохое качество как венгерской, так и советской промышленной продукции.
Брежнев не спорил, хотя конкретных ответов не давал, отделываясь обещаниями во всем разобраться и обязательно вернуться к этим вопросам в будущем. Мысли его, по-моему, все еще вертелись вокруг недавней охоты, приятные впечатления от которой он не хотел портить никакими серьезными разговорами.
По итогам визита было опубликовано совместное коммюнике. Оно получилось теплым. В общем, лед начал таять. Кадар остался доволен, что все-таки именно Брежнев с Подгорным первыми приехали к нему, самолюбие его было удовлетворено. Брежнев же понял, что не может не считаться с авторитетом, которым пользовался Кадар, в том числе и в Советском Союзе.
Постепенно советско-венгерские отношения полностью вернулись в нормальное русло. Однако заниматься венгерской проблематикой мне оставалось уже недолго: не зависящие от меня обстоятельства в очередной раз круто изменили мою судьбу.
В 1967 году Андропову неожиданно предложили перейти из ЦК КПСС на работу в КГБ СССР. Сам Андропов узнал об этом лишь в тот день, когда ему было сделано это предложение. Идея назначения на этот пост именно Юрия Владимировича родилась не случайно и явилась следствием тех непростых отношений, которые сложились тогда в высшем руководстве, и в частности у Л.И. Брежнева с А.Н. Косыгиным.
К тому времени я уже два года работал помощником Андропова (как секретаря ЦК КПСС), что позволяло быть в курсе многих дел, связанных с обстановкой в высших эшелонах власти. Должен сказать, что заседания политбюро и секретариата ЦК КПСС проходили тогда бурно и подолгу. Речь на них часто шла не только о каких-то сугубо конкретных вопросах, но и в более широком плане о путях дальнейшего развития советского общества.
Брежнев был сторонником постепенных перемен, предлагал проводить их без спешки, без потрясений, без революционной ломки. Косыгин же выступал за путь более радикальных реформ. Отстаивая свои идеи, он проявлял редкостное упорство, не выносил возражений, болезненно реагировал на любые замечания по существу предлагаемых им схем и решений. Экономику он вообще считал своей вотчиной и старался не подпускать к ней никого другого. Этим Косыгин настроил против себя многих членов высшего руководства.
На определенном этапе накал разногласий в политбюро достиг апогея, и вопрос встал о выборе между двумя подходами к развитию нашего общества. Линия Брежнева взяла верх. Он стал укреплять свои позиции в руководстве, но в порядке уступки Косыгину все же был вынужден согласиться с его предложением о перемещении Андропова с участка социалистических стран и, главное, из аппарата ЦК КПСС.
Надо сказать, что тогда пост секретаря ЦК КПСС, который до своего нового назначения занимал Андропов, являлся весьма влиятельным. Не следует думать, что в основе конфликта Косыгина с Андроповым лежали лишь политические разногласия. По наблюдениям многих товарищей, для их отношений была характерна и какая-то личная несовместимость. Не раз на это сетовал, кстати, и сам Андропов. Очередная стычка с Косыгиным действовала на него порой просто удручающе.
И все же спор между ними имел явную политическую подоплеку – Андропов опасался, что предлагаемые Косыгиным темпы реформирования могут привести не просто к опасным последствиям, но и к размыву нашего социально-политического строя.
Назначением Андропова на пост председателя КГБ СССР в мае 1967 года Брежнев, с одной стороны, как бы сделал уступку Косыгину, а с другой, значительно укрепил свои позиции, сделав этот важнейший участок полностью безопасным для себя. И действительно, с этого направления Брежневу до самых последних дней уже ничто не угрожало. Андропов всегда сохранял к нему полную лояльность, стремился всячески помогать.
Помимо выполнения своих прямых обязанностей председателя КГБ, он принимал активное участие в подготовке всех наиболее важных речей и докладов генсека, готовил многие предложения по вопросам внешней и внутренней политики, причем всегда делал это с полной самоотдачей. Андропов часто спорил даже с Леонидом Ильичом, отстаивал свои взгляды, но неизменно делал это с большим тактом, вел дискуссию исключительно корректно. Если же его удавалось в чем-то переубедить, то он не просто вставал на позицию другой стороны, но и твердо придерживался достигнутой договоренности.
Брежнев понимал значение Комитета госбезопасности, был внимателен к чекистам и хорошо осведомлен о положении дел в органах, черпая информацию от тех сотрудников КГБ, которых лично знал, а также из курировавшего Комитет госбезопасности отдела административных органов ЦК КПСС. Во всяком случае, кадровую политику в комитете из своего поля зрения Брежнев никогда не выпускал.
Вместе с Андроповым на работу в Комитет государственной безопасности перешел и я. Предложение Юрия Владимировича не явилось для меня неожиданным, ведь к тому времени мы уже проработали вместе около тринадцати лет и нас связывали не только общие взгляды, но и личные отношения, основанные на взаимном доверии и уважении.
Нет нужды говорить, что до того самого дня я меньше всего ожидал, что когда-нибудь стану чекистом! Еще труднее было предположить, что с КГБ будет связана вся моя последующая трудовая жизнь, что в этой организации я пройду долгий и нелегкий путь от помощника председателя, начальника секретариата КГБ, заместителя и начальника главка до председателя Комитета!
Глава 2
Годы в разведке
Долго и даже с некоторыми опасениями думал я над тем, как подойти к описанию своей работы в разведке. До последнего времени ни один руководитель советской разведки не писал мемуаров. Исключение составляют вышедшие в 1992 и 1993 годах две книги сменившего меня на посту начальника Первого главного управления КГБ СССР Леонида Шебаршина, в которых его работа в разведке описана без претензий на освещение деятельности службы в целом в течение длительного периода и показа ее как одной из структурных составляющих государственности.
Это и понятно – секретный характер организации, невозможность использования сведений, почти целиком представляющих государственную тайну, опасение подвести сотрудников, находящихся еще в строю, раскрыть агентов и помощников, особенно тех, кто сейчас там, за рубежом.
Сейчас, когда я побывал под арестом и мое положение отличается от положения предшественников, к вопросу о хотя бы кратких воспоминаниях бывшего руководителя советской разведки в 1974–1988 годах позволительно подойти иначе. Но не мое положение является определяющим. Кардинально изменилась обстановка в стране, ситуация вокруг органов госбезопасности, в их работе стало больше гласности, перед отечественной и мировой общественностью открылись многие аспекты деятельности специальных органов, в том числе и разведслужб бывшего Союза.
Кстати, в гласность работы органов госбезопасности, и в частности разведки, мне довелось внести вклад, став, как говорится, первопроходцем. Мною было дано немало интервью средствам массовой информации – отечественным и зарубежным, опубликован ряд статей по вопросам деятельности Комитета госбезопасности. Затем следовали многочисленные выступления в печати руководящих и рядовых сотрудников органов в центре и на местах, встречи с представителями общественности.
Разумеется, своими воспоминаниями я не должен причинить вреда никому лично и разведслужбе в целом. Поэтому не буду называть многих имен, опущу ряд конкретных операций, дел и стран. Если кому-нибудь из моих бывших «однополчан»-разведчиков доведется прочитать эти воспоминания, я уверен, они без труда узнают себя и в душе, возможно, дополнят их другими деталями, эпизодами, историями, которые мною опущены то ли в стремлении рассказывать о самом главном, то ли по причине несовершенства памяти.
В Комитете госбезопасности СССР я проработал в общей сложности 24 года и три месяца, из них более 17 лет в разведке: три года был первым заместителем начальника Первого главного управления и затем в течение 14 лет – руководителем ПГУ. Правда, после августа 1991 года я числился в органах госбезопасности формально, был уволен в отставку 4 октября 1994 года.
До сих пор считаю, что годы, проведенные в разведке, являются самыми яркими в моей жизни. Для меня это был период творческого подъема, становления не только как профессионала, но и как политика. Огромный объем информации, который ежедневно стекался ко мне, позволял не только быть в курсе международных событий, но и взглянуть как бы со стороны, с разных точек зрения на процессы, происходившие в нашей стране. Думаю, что в этом плане именно разведка предоставляет поистине уникальные возможности.
В Первое главное управление я пришел по приказу Андропова летом 1971 года, хотя принципиальное решение на этот счет Юрий Владимирович принял задолго до этого, еще в июле 1970 года. Целый год он не решался отпустить меня с должности начальника секретариата КГБ СССР, все подыскивал, как он говорил, подходящую замену. Да и после того, как на мое место кандидатура была найдена, у председателя все еще оставались сомнения – ведь к тому времени мы проработали с ним бок о бок уже 17 лет, сошлись, привыкли друг к другу, и предстоящее «расставание» для нас обоих было сопряжено с необходимостью преодоления определенного психологического барьера.
Но решение в конце концов все же созрело, этому в немалой степени способствовали постоянные просьбы тогдашнего начальника ПГУ Сахаровского, который собирался уходить на пенсию. Да и заместители председателя Комитета поддерживали его предложение, настоятельно советовали Андропову отпустить меня.
Памятный для меня разговор накануне назначения состоялся июньским вечером 1971 года, когда были завершены все неотложные дела, умолкли телефоны и у Юрия Владимировича, как всегда в такое время, появилась возможность спокойно поговорить по душам.
– Ну что ж, больше тянуть нельзя, пора определяться с твоей дальнейшей работой. На меня давят со всех сторон, да я и сам понимаю, что в ПГУ действительно нужен свежий зам. Ты подходишь со всех точек зрения, хотя и здесь ты мне нужен тоже. Как сам-то думаешь?
Я искренне ответил, что готов на любой вариант: разведка, конечно, манит новизной, привлекает в профессиональном отношении, но мне тоже не по себе от мысли, что работать придется на некотором удалении друг от друга. Я не скрывал от Андропова и испытываемых мной опасений, поскольку нетрудно было представить, как сложна работа в разведке, а позади уже большая часть трудовой жизни. Андропов промолчал, но я понял, что решение он уже принял, причем еще до нашего разговора.
Вот так я стал разведчиком. Вернее, стал-то я им значительно позже, после того как освоил премудрости этой сложной и весьма необычной (хотя и говорят, что она одна из древнейших) профессии, а пока с головой окунулся в работу, стараясь побыстрее входить в дела.
Знакомство с подразделениями, заслушивание резидентов, других сотрудников резидентур и центрального аппарата, тщательное изучение проводимых операций быстро расширяли мои познания. Складывались первые впечатления о разведчиках. Высокообразованные, компетентные, ищущие, работают не за страх, а за совесть, переживают за дело, за неудачи, а их, с сожалению, у разведчиков случается немало. В случае провала быстро берут себя в руки и идут к новым целям. Почти у всех неплохие знания о стране, по которой работают, хорошее владение иностранными языками.
Но одно качество меня наполняло особенным чувством удовлетворения: ради дела, решения задач подавляющее большинство разведчиков готовы были пожертвовать карьерой, личным благополучием.
С самого начала поставил перед собой цель вникнуть в задачи каждого оперативного работника, во все детали разведывательной деятельности. Тот участок, курировать который мне поначалу поручили, – европейские оперативные отделы, архивный отдел, информационно-аналитическое управление, а затем и отдел по сотрудничеству с соцстранами (кроме КНР, Кубы и Вьетнама), – позволил близко познакомиться с важными сторонами деятельности разведки, характерными для работы на других участках, в том числе и на главном направлении, которым всегда считалось американское.
В целом в ПГУ меня приняли хорошо, хотя и с некоторой настороженностью: пришел, мол, человек председателя, будет устанавливать свои порядки (хотя этого как раз я делать и не собирался). Некоторому предубеждению против меня способствовало и то обстоятельство, что сразу же поползли слухи о моем скором назначении на должность начальника ПГУ.
Мне трудно сказать, действительно ли Андропов переводил меня в ПГУ с таким дальним прицелом, но решение на этот счет вскоре действительно у него созрело, и долгое время это оставалось тайной, пожалуй, только для меня. Важнее было другое – преодолеть отношение к себе как к человеку со стороны, не прошедшему азы разведслужбы, никогда не работавшему в поле. Разведка ведь всегда отличалась своей кастовостью и определенным снобизмом.
Работа разведчика сопряжена с реальной, практически повседневной опасностью, требует крайнего напряжения физических и интеллектуальных сил, воли, мужества и абсолютного самопожертвования. И это не пустые слова. Разведчик вынужден жить двойной жизнью – та, реальная, скрыта от чужих глаз, а на поверхности лишь маска, расставаться с которой на людях не просто нельзя, но и опасно. Лишь немногие будут в курсе его достижений и успехов: даже самые близкие люди, жена и дети, так никогда и не узнают, какие подвиги подчас совершает их муж и отец. А вот всю тяжесть провала они всегда испытывают на себе – ведь в лучшем случае за этим следует выдворение из страны, а то и тюремное заключение, долгие годы тревожного ожидания. Случается, что платой за поражение является жизнь…
Непременное качество разведчика – высокая общеобразовательная подготовка, интеллектуальный уровень. Наличие как минимум двух высших образований – общегражданского и специального разведывательного – во многом предопределяет личность разведчика, помогает ему в политическом и профессиональном диалоге с иностранными представителями, делает его интересным, привлекательным собеседником.
Деляческий подход к разведке неприемлем, более того, пагубен, он намного сократил бы ее эффективность, сузил возможности по привлечению и сотрудничеству лиц, симпатизирующих или, напротив, враждебно настроенных к нашему государству.
Разумеется, всему, что нужно разведчику, не научишь, многие качества должны быть попросту врожденными, но специальная подготовка играет большую роль.
Разведка имеет свой институт по подготовке кадров с давними традициями. Началось с небольшой школы еще до войны, сегодня это первоклассное высшее учебное заведение, которое готовит кадры с разносторонними знаниями, отличной профессиональной и языковой подготовкой. Институт в определяющей мере удовлетворял потребности органов госбезопасности в кадровых разведчиках. В нем осуществлялась также переподготовка сотрудников Первого главного управления, велась научно-исследовательская работа. В штате института доктора, кандидаты наук, в его распоряжении многочисленные научные труды, учебные материалы. В 1984 году после смерти Андропова институту было присвоено его имя.
Есть еще один, чисто психологический аспект, который играет важную роль в судьбе разведчика. Ведь ему суждено постоянно нарушать большинство библейских заповедей, действовать вопреки всему тому, чему учили с детства.
Представьте себе «шпиона», который свято следует завету «не укради», или говори только правду, как этого требовали с детства! В том-то и дело, что ему приходится – в высших интересах дела, разумеется, – постоянно идти на такие поступки, которые в обычной жизни, мягко говоря, не украшают человека. И тут ни в коем случае нельзя перейти грань, чтобы не превратиться в циника, сохранить чистоту души и веру в идеалы.
Должен сказать, что в разведслужбах разных стран эта общая для них проблема решается по-разному, а от этого в общем-то напрямую зависит и результативность их деятельности. Одна лишь грубая сила, беспринципность, лозунг «цель оправдывает средства» не только не могут принести должного результата, но и являются главным уязвимым местом в работе ряда спецслужб, причиной морального разложения кадров, многих поражений. Именно поэтому советская разведка всегда уделяла большое внимание воспитательной работе, мы выработали своеобразный кодекс поведения, правила игры, если хотите, от которых никогда не отступали.
В последнее время с этим стали считаться и наши противники, из арсенала даже самых жестких и беспардонных спецслужб, к числу которых я отношу прежде всего спецслужбы США и ФРГ, мало-помалу стали исключаться наиболее бесчеловечные методы работы. Думаю, что в перспективе они вполне могли бы уступить место более цивилизованным формам борьбы!
До самого последнего времени идут споры о том, следует ли смешивать разведывательную деятельность с политикой. Мне подобные споры представляются беспредметными и даже странными. Разведывательная деятельность – это неотъемлемая часть политики, но ведется она особыми, специфическими средствами и способами, и поэтому всю полноту ответственности за нее должны нести политики, руководители страны самого высокого уровня. Назначение в свое время Буша, бывшего председателя Национального комитета Республиканской партии, на пост директора ЦРУ подтвердило, по крайней мере в США, как правоту такой точки зрения, так и плодотворность тесного переплетения разведывательной и политической деятельности.
Выступая в Нью-йоркском клубе коммерческого факультета Гарвардского университета, Буш-старший признавал, что «тайная разведывательная деятельность необходима как альтернатива посылке морских пехотинцев». Еще более примечательны на этот счет высказывания Киссинджера. «Наша политика по установлению более рациональных и надежных отношений с Советским Союзом, которую принято называть разрядкой, – говорил он, – оказалась бы невозможной без надежных разведывательных данных». И еще: «Деятельность разведок имеет решающее значение для будущего нашей страны… Не имея эффективного разведывательного потенциала, Соединенные Штаты окажутся ослепленными и беспомощными».
Другой вопрос, какими методами действует разведка. Убийство неугодных политических и общественных деятелей, организация заговоров, переворотов, экономический саботаж и блокада и другие такого рода способы были взяты на вооружение многими спецслужбами капиталистических стран, в том числе и Соединенных Штатов, что в общем-то и не скрывалось. Бывший директор ЦРУ Колби в 1976 году признавал, что возглавляемая им американская разведка пыталась организовать покушение на Фиделя Кастро, но это не удалось.
В последнее время американские официальные лица говорят в открытую об организации не одного десятка покушений на Ф. Кастро, причем это преподносится как нечто обычное, соответствующее нормам международной жизни. Более того, высказывается сожаление по поводу этих неудавшихся попыток физически убрать кубинского лидера, поскольку удачное покушение сняло бы многие проблемы для США.
Американская сторона не без гордости признает факт своего участия в свержении режима Альенде в Чили, вмешательство в дела на Гренаде, в Панаме, в ряде других латиноамериканских, африканских, азиатских, арабских стран. На все эти акции, называемые тайными, с согласия высшей исполнительной и законодательной власти выделялись специальные средства.
Такая практика идет еще со времен Даллеса, считавшего, что «в тоталитарном государстве убийство может оказаться единственным средством для свержения современного тирана». Разумеется, право решать, какое государство считать тоталитарным, а какого руководителя – тираном, автор этих слов целиком присваивает себе.
В 1976 году известный американский политолог Тейлор Бренч на страницах журнала «Нью-Йорк таймс мэгэзин» утверждал: «Достопочтенные джентльмены из ЦРУ разрабатывали планы убийства неугодных деятелей вместе с гангстерами из мафии».
Итак, с одной стороны, тайные акции, с другой – порождаемая ими бесконтрольность спецслужб. Есть ли какой-нибудь выход из создавшегося положения? Есть – подвести легитимную основу под деятельность разведывательных служб в национальном и международном масштабе. Ни одно уважающее себя государство, облеченное естественной ответственностью за свою безопасность, не откажется от разведывательной деятельности, и потому на смену лицемерию должна прийти узаконенная разведка с выполнением ею своих функциональных обязанностей в допустимо приемлемых для межгосударственных отношений рамках.
В 1981 году Рейганом было издано так называемое распоряжение по разведке относительно функций и обязанностей руководителей министерств и ведомств по оказанию помощи Центральному разведывательному управлению. По этому распоряжению главы всех министерств и ведомств должны в соответствии с законом и порядками, одобренными министром юстиции, обеспечивать директору ЦРУ доступ ко всей информации, необходимой для удовлетворения Соединенных Штатов в разведывательных сведениях, и надлежащим образом рассматривать обращения директора ЦРУ об оказании соответствующей поддержки деятельности разведывательных органов. По полученным нами в то время сведениям, далеко не все в вашингтонском руководстве поддерживали этот шаг своего президента.
Ничего подобного советским законодательством не предусматривалось. Не было даже практики запросов в министерства и ведомства о направлении в разведку информации, материалов, документов, справок по отдельным вопросам. Но поскольку нужда в таких материалах была, то нашей разведке волей-неволей приходилось вести настоящую разведывательную деятельность в своих же государственных и общественных организациях, что, разумеется, не укладывалось ни в какие правовые нормы. В этом отношении американская практика выгодно отличалась от советской. Кстати, наша разведка пыталась воспользоваться американским опытом, но это нам не удалось – мы не были поняты.
Центральное разведывательное управление и остальные разведки США вообще чувствовали себя куда вольготнее, в том числе и материально, чем разведки – внешнеполитическая и военная – Советского Союза. Так, советская разведка финансировалась в строго определенных центральными инстанциями рамках – ни больше ни меньше. По данным же, которыми располагала советская разведка, разведывательные органы США, включая Агентство национальной безопасности, весьма существенную часть своих средств получали из «черных» фондов, в частности за счет бюджета Пентагона. Причем эти расходы ни в каких официальных сметах не фигурируют, не говоря уже о расходах на тайные операции, полная стоимость которых никогда не была известна общественности и вряд ли когда-либо станет достоянием гласности.
Нет большего заблуждения, чем высказываемая иногда точка зрения, что разведка якобы вносит напряженность в межгосударственные отношения. Разведывательная деятельность действительно может быть причиной эпизодического осложнения в отношениях между теми или иными государствами. С этим согласиться можно. Однако практика показывает, что такие осложнения носят временный характер и существенным ущербом не оборачиваются.
Но вместе с тем именно разведка способна содействовать смягчению напряженности и укреплению доверия, снимая неоправданные подозрения и тем самым внося ясность в сложные ситуации.
Соединенные Штаты всегда выступали за большую «прозрачность» в военной области, добивались на переговорах по разоружению принятия самых строгих мер контроля, отмечая важность этого фактора для предотвращения обхода достигнутых договоренностей и поддержания тем самым стратегической стабильности. В век научно-технической революции для поддержания паритета особенно важно исключить возможность неожиданного появления в руках одной стороны принципиально новых видов оружия с невиданной до сих пор мощью. Но ведь разведка и здесь способна сыграть первостепенную роль.
Наличие разведок уже конституциировано практически во всех странах, где эти службы есть. Контакты между различными странами по линии разведок говорят о наступлении времени, когда их деятельность может быть узаконена межгосударственными соглашениями, что послужит важным шагом на пути к признанию разведслужб институтом международного права и несомненным фактором стабильности. Собственно говоря, речь идет о том, чтобы признать и узаконить давно уже существующую реальность, и не более того.
Под влиянием перемен в мире в последние годы стали устанавливаться контакты между руководителями спецслужб. Считаю подобную практику нормальным, полезным явлением. Контакты помогают лучше понимать друг друга, смягчать удары, предупреждать неприятные ситуации.
В ходе обмена мнениями по политическим проблемам раскрываются взгляды сторон, тут и совпадения, и совершенно различное видение событий, и несовместимость интересов. Последнее наиболее важно, в итоге оно определяет все остальное.
Естествен интерес к личностям. До прямого контакта думаешь о том, кто по ту сторону, только как о противнике, он ведь работает против тебя, твоя же задача – переиграть его в интересах своего государства. Степень его знаний о тебе, твоей организации, как правило, тайна, и потому неизвестно, кто перед тобой вдруг окажется.
Первый контакт официального представителя советской разведки с руководителем Центрального разведывательного управления США Гейтсом состоялся в декабре 1987 года в Вашингтоне во время посещения этой страны Горбачевым. Тогда я был в числе сопровождавших его лиц.
Неофициальная встреча с Гейтсом состоялась в одном небольшом ресторане с участием в общей сложности шести человек. Когда мы расселись, я в полушутливой форме заметил, что до сих пор мы работали друг против друга под столом, теперь же сидим за столом и ведем оживленную беседу.
О Гейтсе впечатление складывается не сразу. Раскрывается он со временем, часто отмалчивается, вопросы задает прицельные, жестами, обрывками фраз дает понять, что ему известно о собеседнике больше, чем последний думает.
На вопрос, что из спиртного подать к столу, я попросил виски. На это Гейтс заметил, что знает даже сорт виски, который предпочитает начальник советской разведки. Он действительно знал. Я заметил, что это не такая уж важная тайна, но, во всяком случае, он не мог узнать ее от тех из наших, кто перешел на службу к американцам, поскольку ни с кем из них я никогда не выпивал.
Участники встречи избегали разговоров по существенным вопросам, беседа велась вокруг познавательных, но близких нам тем, связанных с Советским Союзом и Соединенными Штатами.
Спустя пару лет, в 1990 году, Гейтс посетил Москву в качестве гостя американского посольства (Гейтс был директором ЦРУ в 1991–1993 годах). У нас состоялась встреча в гостевом доме Комитета госбезопасности в центре Москвы, в Колпачном переулке. Гейтс – специалист по Советскому Союзу, по истории нашего государства, увлекается периодом Ивана Грозного, Петра Первого, имеет научные труды.
Американский собеседник проявил, и это было заметно, повышенный интерес к национальному вопросу. Он прямо спросил, не хочу ли я узнать точку зрения ЦРУ на то, что будет с Советским Союзом в 2000 году – начале будущего века. Из его скупых слов можно было понять, что он сомневается, сохранится ли к тому времени СССР. Гейтс выразил намерение передать нам соответствующий аналитический прогноз, подготовленный в ЦРУ США.
Я, разумеется, сказал, что мы с признательностью восприняли бы передачу такого материала и сообщили бы свою точку зрения на него. Этот материал так и не был передан нам американской стороной, хотя в Вашингтоне мы находили возможность напомнить об этом Гейтсу.
Конечно, такому разговору с Гейтсом было придано большое значение, его серьезность и важность не вызывали сомнений в нашей службе. Думал я о трагическом прогнозе для Советского Союза и тогда, когда произошел его развал. Правда, Гейтс говорил о более позднем сроке: случившееся опередило развитие событий примерно на десять лет! Нашлись ловкие исполнители, которым оказалось по плечу приблизить трагедию, осуществить ее значительно раньше и масштабнее.
Гейтс – выразитель интересов тех, кому верно служил многие годы, он патриот Америки и воспитывался в годы господства холодной войны, когда Советский Союз считался врагом США номер один. Гейтс исходил из объективного несовпадения интересов США и СССР, не без основания усматривал в нашей стране главное препятствие на пути Америки по распространению и усилению влияния в мире. Он всегда нелояльно относился к Советскому государству, стоял на экстремистских позициях и впредь будет делать все для усугубления развала Союза и, можно с уверенностью предположить, дальнейшего ослабления и самой России.
По имеющимся данным, Гейтс настороженно относился к возможному тесному сближению СССР и Китая, усматривая в этом опасность для США.
Последнее характерно не только для Гейтса. Опасность развития советско-китайских отношений для Америки усматривали и предшественники Гейтса на посту директора ЦРУ. Тут следует исходить из реального представления в Вашингтоне о линии Москва – Пекин. Надо полагать, что в обозримом будущем в этом вопросе изменений в американской позиции не произойдет.
Встречался я и с бывшими директорами ЦРУ – Колби (возглавлял эту организацию в 1973–1976 годах) и Тернером (1977–1981) – во время их приезда в Москву в 1990–1991 годах как частных лиц. И при одном и при другом американская разведка добилась существенных успехов в приобретении агентуры из числа советских граждан, в том числе среди сотрудников наших внешнеполитической и военной разведок. Оба усматривали в Советском Союзе главного противника США, вели огромную работу по бывшим социалистическим странам и в государствах третьего мира. Таким образом, в принципиальном плане различий между всеми тремя названными директорами ЦРУ нет.
Посещение Тернером и Колби Советского Союза было вызвано их желанием лично увидеть главного противника по разведывательной работе и посмотреть, что же с ним происходит. Они проявили неподдельный интерес к идущим у нас процессам, не скрывали своего удивления и непонимания. В центре их внимания опять-таки был национальный вопрос, отношения между республиками. Тернер в то время писал книгу о своей работе в разведке и попросил меня написать короткий комментарий, если мне память не изменяет, ко второму изданию книги, что я и сделал, и он был помещен в книге.
Тернер и Колби положительно отзывались о нашей стране, ее культурной жизни, в частности о театрах. Москва и Ленинград произвели на них впечатление оживленных, красивых, полных содержательной жизни городов. По-моему, они на это не рассчитывали. Примечательна в этом отношении фраза, брошенная Колби в беседе со мной: «А вы знаете, социализм не так уж плох!»
Думаю, что мои встречи с Гейтсом, Тернером, Колби, контакты КГБ с представителями американских спецслужб на разных уровнях положили для КГБ начало более широких связей по этой линии не только с американцами, но и с представителями других стран.
Надо признать, что к назначению на должность руководителей ЦРУ, ФБР и других спецслужб в Вашингтоне неизменно подходили весьма основательно как в периоды республиканского, так и демократического правления. С точки зрения национально-политических интересов страны, определяемых существующим режимом, в этом вопросе никаких зигзагов не было. Это в последние месяцы существования Советского Союза, а затем в России, как и в других странах – членах СНГ, в смутные 90-е годы на руководящие посты в органах госбезопасности назначались приверженцы откровенно противоположных социально-политических взглядов, причем с нулевой профессиональной компетентностью в этой области. Именно такие люди сначала парализовывали, разрушали деятельность вверенных им спецслужб, а затем направляли их усилия на подрыв устоев «тоталитарного» государства, а фактически на разрушение государства как такового. Ничего подобного в Соединенных Штатах никогда не наблюдалось.
Из директоров ЦРУ – профессионалов стоит выделить Уильяма Кейси. Рейган хотел видеть ЦРУ более мощной организацией (или ему внушили, что она должна быть таковой). В подборе руководителя для реализации этой задачи он не ошибся. Кейси обладал острым умом, решительностью и вместе с тем необходимой гибкостью. Он был способен серьезно анализировать факты, события, что усиливало его цепкость прагматика.
Его прагматизм не был сиюминутным – он не уходил от решения долгосрочных вопросов, что находило проявление в укреплении как ЦРУ в целом, так и отдельных направлений его деятельности. Правда, натура ирландца давала о себе знать, в частности, в импульсивности работы американской разведки. Так, несмотря на начавшиеся в 1980-е годы провалы своей агентуры в Советском Союзе, ЦРУ продолжало упорно поддерживать активность своей агентурной сети, чем советские спецслужбы эффективно пользовались. Как-то в американской печати про Кейси сказали, что он не может сколько-нибудь продолжительное время держать себя в руках. По-моему, подмечено точно.
В целом же для Советского Союза Кейси был неудобным руководителем ЦРУ. Бюджет этой организации при нем стремительно увеличивался: по некоторым данным, до 20 % в год. Число сотрудников возросло с 14–15 до 18 тысяч человек.
Именно при Рейгане и Кейси получили развитие силы специального назначения. По официальным данным, расходы на них возросли с 441 млн долларов в 1982 году до 1,2 млрд долларов в 1986 году, а численность увеличилась с 11 до 15 тысяч человек.
В Москве обратили внимание на то, что в 1986 году конгресс США узаконил проведение так называемых тайных операций и даже определил их классификацию. К крупным он отнес те операции, для которых требовались затраты от 5 до 7 млн долларов и которые были нацелены на свержение иностранных правительств. Как видите, определяющим являлись деньги, а возможные жертвы, материальный ущерб и другие негативные последствия остались за рамками, как бы не принимались в расчет.
Любопытным образом в этот период складывались отношения между Капитолийским холмом и разведывательным сообществом США. По оценке советской разведки, они носили напряженный характер, и ЦРУ, несмотря на браваду, все-таки побаивалось конгресса. Надо признать, что законодательная власть в США влиятельна, сильна и достаточно правомочна для принятия основополагающих решений, в том числе и по судьбе действующего президента. (В этом отношении полная противоположность ситуации в России.) Разногласия были отрегулированы в пользу… обеих сторон. Кейси не допустил чрезмерного контроля за ЦРУ со стороны конгресса, прежде всего за оперативной деятельностью. В свою очередь конгресс не лишился права контролировать строго определенные направления деятельности ЦРУ специально выделенными для этих целей конгрессменами и при их полной ответственности за сохранность секретов.
Когда в 1991 году, еще в бытность Комитета госбезопасности СССР, в Верховном Совете рассматривался проект закона о советских органах госбезопасности, то американский опыт о соотношении законодательной власти и КГБ был учтен. Однако принятый у нас закон был куда более «демократичным», более толерантным, чем американская система безопасности, – достоинство, честь, интересы, права человека надежно защищались государством и любая тайная операция по американскому образцу исключалась. Даже проверка на детекторе лжи считалась нарушением прав человека, и если кто-либо подвергался этой процедуре, то лишь с согласия испытуемого и скорее в научно-экспериментальном плане, ни к чему и никого не обязывающем.
Но вернемся к Кейси. Он все-таки скорее выполнял роль исполнителя, чем творца политики и инициатора разработки глобальных решений, основополагающих инициатив Вашингтона в международных делах. В частных беседах сотрудники ЦРУ воздавали должное Кейси в «наведении порядка» в этой организации, в повышении ее престижа, чему способствовали его жизненная школа и опыт как ветерана – разведчика времен Второй мировой войны.
Любое государство должно иметь гарантии от неприятных неожиданностей, чувствовать себя уверенным. Без усилий разведок это недостижимо. Другое дело – правила игры, обусловленность: какие методы и приемы в работе допустимы, а за какие рамки переходить нельзя. По этим вопросам возможны и целесообразны переговоры, соглашения, договоренности – пусть даже только джентльменские, лишь бы они соблюдались.
Разведка – сложный организм, который живет, действует и развивается в зависимости от конкретных исторических условий, во многом определяемых той внешней и внутренней политикой, которую проводит данное государство. Есть у нее, правда, задачи, которые остаются неизменными на протяжении веков.
Главная из них состоит в том, что любая разведслужба – это глаза и уши государства. Жизненно важная информация, как правило, либо поступает к руководству страны по каналам разведки, либо перепроверяется с использованием ее возможностей.
Хотя чисто разведывательные сведения, добытые агентурным путем или с помощью технических средств, составляют далеко не весь объем в общем информационном потоке, включающем сведения из открытых или дипломатических источников, тем не менее именно на их основе принимается значительная часть принципиальных решений на политическом уровне.
Все возрастающее значение в последнее время приобретает информационно-аналитическая деятельность спецслужб. Это и понятно, ведь только в их руках может концентрироваться информация из всех источников – как собственных, так и иных, в то время как другие ведомства имеют ограниченный доступ к разведданным, не могут оценить ни степень их достоверности, ни возможность их использования в безопасном для агентуры плане.
Наконец, именно разведслужбы обладают наиболее обширным арсеналом приемов и средств для получения нужных сведений, в первую очередь тех, которые хранятся за семью печатями и составляют государственную тайну.
С развитием международных связей возрастает потребность в защите интересов государства и обеспечении безопасности его граждан за рубежом. И здесь у разведки и ее подразделения – внешней контрразведки особые задачи и возможности. По сути дела, именно она осуществляет основную работу в этом направлении.
На резидентурах и наших представителях за рубежом лежит вся ответственность по охране зданий и персонала дипломатических представительств, обеспечению безопасности шифросвязи и выполнению многих других связанных с этим задач.
К числу задач разведки относилась передача денежных средств зарубежным компартиям. Возможно, это и не дело разведки, однако других надежных и безопасных путей для этого у нашего государства тогда попросту не было. Не говоря уже о том, что тогда было другое время, существовали иные порядки, другая соподчиненность партийных и государственных органов.
Промышленный шпионаж – довольно развитое явление в странах Запада. Были вынуждены заниматься подобными делами и мы, только в гораздо более сложных условиях. От нас свои секреты оберегали не только конкретные фирмы, на их стороне стояло еще и государство, да плюс к тому международные механизмы, такие как КОКОМ. Как минимум тройной кордон! Но и в этих условиях удавалось достичь ценных результатов, речь о которых пойдет чуть ниже.
И до меня, и при мне в разведке шли острые дискуссии о дальнейших путях развития службы, формирования оптимальных направлений оперативной деятельности. Только внешне казалось, что в Первом главном управлении все решается и делается по накатанному пути, без каких-либо дискуссий и споров. В действительности острые и горячие обсуждения проходили на всех уровнях, по служебной, партийной линиям, на производственных совещаниях и научно-теоретических конференциях.
Неизменно возникал вопрос: что является главным, основополагающим в решении оперативных задач? Такой вопрос обсуждался не только у нас, в советской разведке. Споры по нему шли, и довольно открыто, в ЦРУ США, а также в спецслужбах Франции, Англии, ФРГ и других стран.
Под воздействием достижений научно-технической революции, появившихся благодаря этому дополнительных возможностей стала распространяться точка зрения, согласно которой в век столь важных открытий в науке и технике агентурная работа в разведке закономерно должна отойти на второй план. Не обошлось здесь и без активных мероприятий со стороны некоторых западных спецслужб. До нас регулярно доводилась целенаправленная информация о том, что ЦРУ постепенно отказывается от приоритета агентурной работы и делает главную ставку в добыче информации на технические средства, на использование открытых сведений.
Кстати, то же самое происходит и сегодня, что видно из официальных заявлений представителей иностранных спецслужб, аналитических исследований, публикаций в печати. Расчет ясен: дать пищу тем, кто настойчиво старается любым путем ослабить деятельность наших органов госбезопасности и их неотъемлемой части – разведки, если не лишив, то, по крайней мере, принизив значение ее важнейшего оперативного средства – агентуры.
Глубокий и всесторонний анализ этой проблемы, а также опыт работы спецслужб различных стран говорят о том, что агентура была и на обозримое будущее останется основным звеном оперативной деятельности. Именно агентурным путем спецслужбы добывают наиболее ценную информацию. К агентурному проникновению другой стороны следует относиться как к неизменному и вполне закономерному явлению. Вопрос в том, кто наберет здесь, образно выражаясь, больше очков.
В то время как шли дискуссии о значении и роли агентурной работы, решали, сокращать ее удельный вес или нет, и ЦРУ и КГБ темпов оперативной деятельности по приобретению агентурных позиций не снижали. Этого не позволяла делать сама жизнь. Более того, именно в 60—80-х годах, когда особенно активно муссировались слухи о предстоящем уменьшении значения агентурной работы, ЦРУ и некоторые другие западные спецслужбы добились особенно серьезных успехов в приобретении агентуры в Советском Союзе и бывших социалистических странах.
ЦРУ, например, удалось внедриться в ряд советских учреждений, научно-производственных объединений и получить доступ к важнейшим государственным секретам. По подсчетам экспертов, ущерб, который понес Советский Союз в результате агентурной деятельности западных спецслужб, исчислялся многими миллиардами тех полнокровных рублей, особенно в отраслях оборонной промышленности и науки.
Еще об одном аспекте, связанном с деятельностью разведывательных органов США, и прежде всего ЦРУ. Во всем мире главным объектом критических нападок, виновником чуть ли не всех бед считается ЦРУ. Такое же мнение бытовало и в Советском Союзе. Именно оно «разрабатывает», «инициирует», «реализует» все зловещие планы против человечества. А ведь это далеко не так! Конечно, роль и значение ЦРУ нельзя недооценивать, однако при всем при том эта организация является всего лишь исполнителем воли и решений вашингтонской администрации, президента, конгресса. Не больше и не меньше! Забвение этой истины приводит к тому, что благодаря такому преувеличенному подходу к месту ЦРУ в системе американской государственности за бортом заслуженной критики остается политический Вашингтон, его правящая верхушка.
Поясню эту точку зрения на следующем примере.
С каждым годом горбачевской перестройки мощь Советского Союза, его позиции на международной арене таяли. Мы получали достоверную информацию о том, что ЦРУ верно улавливало эту тенденцию и пришло к выводу, что Москва стала не так уж грозна, как прежде, и американская политика по отношению к ней может быть смягчена. Но это не устраивало кое-кого в Вашингтоне. И вот в марте 1990 года разногласия по этому вопросу вылились на страницы американской печати. Газета «Нью-Йорк таймс» поведала читателям, что между директором ЦРУ и министром обороны США существуют разногласия по вопросу о том, будет ли Советский Союз и впредь представлять серьезную военную угрозу для Америки и Запада. Эта полемика, отмечала газета, скрываемая администрацией от общественности, возникла после слов директора ЦРУ Уильяма Уэбстера о том, что эксперты разведки считают маловероятным, чтобы Советы представляли серьезную угрозу с точки зрения обычных вооружений в обозримом будущем, даже если на смену Горбачеву придут сторонники жесткого курса.
Эта оценка Уэбстера вызвала резко критическую реакцию министра обороны Чейни, заявившего, что высказывания директора ЦРУ не содействуют его усилиям с целью добиться одобрения предложений администрации Буша по увеличению расходов на оборону.
В итоге упомянутую опенку ЦРУ просто замолчали, а Пентагон получил просимые им ассигнования на военные цели.
ЦРУ в целом верно оценивало ход и результаты перестройки в СССР. Так, к лету 1991 года ЦРУ и РУМО США представили президенту доклад о состоянии советской экономики. В докладе, в частности, отмечалось, что «через шесть лет после того, как президент СССР Михаил Горбачев начал проводить политику реформ, получившую известность под названием перестройки, советская экономика оказалась в кризисе. Выпуск продукции сокращается со все возрастающей скоростью, инфляция грозит выйти из-под контроля, межрегиональные торговые связи разорваны, а центр и республики оказались втянутыми в ожесточенную политическую борьбу относительно будущего всего многонационального государства».
В то время как ЦРУ объективно подмечало провальное положение в Советском Союзе из-за горбачевской перестройки, Буш и другие высокопоставленные американские деятели не уставали расточать похвалы своему «другу Майклу», восторгаясь его «новым мышлением», приверженностью «общечеловеческим ценностям», подталкивая этого, мягко выражаясь, недалекого человека к дальнейшему разрушению Советского государства.
Вовсе не хочу придать хотя бы некоторой части деятельности ЦРУ прогрессивный характер. Речь идет об организации, призванной и имеющей возможность объективно отображать действительность. Другое дело, как она поступала на самом деле. Ясно одно: и администрация, и ЦРУ работали в одном ключе, дополняли друг друга, во всяком случае, американская разведка выступала в роли исполнительницы воли и политического курса вашингтонской олигархии. Вся их практическая деятельность была тесно переплетена.
В 1988 году специальный помощник президента США и директор разведывательной программы Совета национальной безопасности Кеннет де Граффенрейд заметил, что «конец 80-х – 90-е годы, вероятно, будут характеризоваться беспрецедентной вовлеченностью президента в решение проблем разведывательно-политического характера во всех аспектах».
Так оно и происходило.
Выявление и пресечение деятельности иностранной агентуры всегда требовало исключительно сложной, кропотливой и, как правило, весьма длительной работы. Отправной точкой подчас служил какой-то отдельный признак утечки информации или же просто предчувствие, возникающее при скрупулезном анализе огромного потока информации. Для того чтобы добраться до истины, нужно было осторожно, чтобы не порвать тонкую нить, размотать весь клубок до конца. Почувствуй противная сторона, что мы напали на след, и дело можно считать проигранным – агент ляжет на дно, и добраться до него будет уже гораздо труднее.
Как-то мне было поручено посетить одну страну специально для проведения встречи с человеком, являющимся весьма ценным источником информации. Оперативно та встреча была обеспечена на должном профессиональном уровне, с соблюдением всех мер предосторожности, чтобы ни в коем случае не поставить под удар агента. Встреча длилась целых 26 часов! Когда усталость совсем валила нас с ног, тут же и дремали, отводя на это не более двух часов. Не хотели тратить время на сон ни наш зарубежный друг, ни я, ни два наших товарища, которые обеспечивали встречу.
Источник информации сотрудничал с нами на идейной основе, искренне уважал наше государство, был благодарен советским людям за победу в Великой Отечественной войне, которая спасла его и его близких от верной смерти. Он сам никогда не бывал в Советском Союзе и о жизни у нас знал лишь понаслышке. В последние годы агент далеко не по всем вопросам обладал конкретной информацией, но его связи, знания, опыт, характеристики отдельных лиц, глубокие оценки политической и экономической ситуации в стране представляли для нас поистине уникальный интерес.
По ходу разговора им была обронена одна случайная фраза, которая в сочетании с другой информацией, полученной нами ранее совсем из другого источника, явилась ключом к важной разгадке. Последовал целенаправленный поиск, всесторонний анализ, проверка возникших версий, оперативные игры, в результате чего был разоблачен опасный агент, длительное время работавший на зарубежную разведку. Но, прежде чем это случилось, прошло более десяти лет…
О значении агентуры говорит и тот факт, что сведения об агентах – святая святых – самая оберегаемая тайна любой разведслужбы. Ничто, ни методы и приемы разведдеятельности, ни даже конкретные задачи и цели, не охраняется так тщательно, как сами источники получения информации. Зачастую приходится отказываться от реализации полученных важнейших данных, если это может засветить агента или просто дать противнику ниточку для его локализации.
Агенты оберегаются столь тщательно, за их деятельностью так пристально следят из центра, что факты их случайной расшифровки чрезвычайно редки. А уж когда речь идет о раскрытии источника информации, скажем разведслужбой противника, то можно почти однозначно сказать, что причина кроется в предательстве и искать ее нужно у себя дома. В последнее время появились и такие провалы, которые можно объяснить лишь одним – нашу агентуру выдают, других причин быть просто не может!
Советская разведка всегда работала бок о бок со службами наших ближайших союзников, многие задачи решались нами сообща, в тесном взаимодействии. Но никогда мы не обменивались данными о своих агентурных сетях – таков непреложный закон конспирации.
Как-то раз руководитель разведывательного ведомства одной из социалистических стран предложил передать мне перечень своей агентуры и даже протянул подготовленный документ. Я решительно отказался от этого «подарка», объяснив удивленному коллеге, почему не следует этого делать. С получением такой информации мы не просто взвалили бы на себя огромную ответственность, но и в случае любого провала значительно затруднили бы выявление его причин, ведь для того, чтобы докопаться до истины, потребовалось бы расширить круг поиска до неопределенных пределов.
Сейчас, наблюдая за происходящим, я мысленно крещусь, вспоминая об этом решении. Даже трудно представить, какими последствиями для наших друзей могла обернуться ситуация, если бы в Москве имелись подобные списки!
В самом конце 1974 года решился вопрос о моем назначении на должность начальника Первого главного управления КГБ СССР, то есть начальника разведки. По традиции со мной должен был побеседовать генеральный секретарь ЦК КПСС.
Брежнев принял меня 30 декабря в своем кабинете в Кремле. Там же был и Андропов. Перед беседой Юрий Владимирович предупредил меня, чтобы я не очень удивлялся, если генсек покажется мне не в форме, главное, мол, говорить погромче и не переспрашивать, если что трудно будет разобрать в его словах. Так что в Кремль я прибыл уже подготовленным, но то, что я увидел, превзошло все мои ожидания.
За столом сидел совершенно больной человек, который с большим трудом поднялся, чтобы поздороваться со мной, и долго не мог отдышаться, когда после этого буквально рухнул опять в кресло. Андропов громким голосом представил меня. Брежнев в ответ только и сказал: «Что ж, будем решать».
Я произнес несколько слов в порядке заверений, и на этом официальная часть процедуры была закончена. Прощаясь, Леонид Ильич снова кое-как встал, обнял меня, пожелал всего доброго и даже почему-то прослезился.
В комитет мы возвращались с Андроповым вместе. В машине, против обыкновения, всю дорогу ехали молча – все еще находились под впечатлением встречи. Уже в кабинете Юрий Владимирович рассказал мне, что со здоровьем у Брежнева в последнее время стало совсем худо, именно по этой причине и была отменена его поездка по ряду стран Ближнего Востока, хотя официально это объяснялось соображениями политического характера.
Тут раздался звонок по спецсвязи – это был Устинов. Я поднялся, чтобы уйти, но Андропов жестом остановил меня, предложив присутствовать при разговоре. Устинов поинтересовался, как выглядит Брежнев, – видно, хотел проверить собственные впечатления.
– Совсем плохо, вот и на Крючкова его вид произвел удручающее впечатление. Пора, наверное, найти какой-то мягкий и безболезненный вариант постепенного отхода Брежнева от дел. Продолжать и дальше управлять страной в таком состоянии он уже не может физически.
Устинов ответил, что придерживается такого же мнения. Я часто потом вспоминал этот разговор, думая о том, что «постепенный отход» затянулся на целых восемь лет!
Да, это был трудный период в истории нашего государства. Здоровье Брежнева, несмотря на кратковременные просветы, продолжало неуклонно ухудшаться. Он уже ничем и никем не управлял, управляли им. Тягостное это было зрелище, в конечном счете это безвременье и повлекло за собой многие наши последующие беды, создало ту самую затхлую атмосферу застойного периода, в которую свежим ветерком перемен так легко впорхнула потом перестройка.
По мере ухудшения состояния здоровья Брежнева к концу 1974 года пришли в движение, активизировались те члены высшего советского руководства, которые до тех пор ничем особенным себя не проявляли. Это можно было почувствовать по официальным речам, высказываниям во время встреч с сотрудниками различных советских организаций и ведомств. Каждый старался «набирать очки», всячески пропагандируя прогрессивность своих взглядов. В результате к концу 70-х – началу 80-х годов расстановка сил в высшем эшелоне власти более или менее определилась.
А.А. Громыко, Д.Ф. Устинов и Ю.В. Андропов работали в тесном сотрудничестве и всегда находили между собой общий язык. Их объединяла исключительная лояльность к Брежневу.
А.П. Кириленко пытался играть свою собственную роль, опираясь при этом на часть партийного аппарата.
М.А. Суслов активности не проявлял, стоял особняком и ни с кем не был тесно связан ни личными, ни деловыми отношениями.
A. Н. Косыгин олицетворял собой довольно влиятельное совминовское лобби.
B. В. Щербицкий старался быть ровным со всеми, тянулся к Андропову, хотя близко они так и не сошлись.
Н.А. Тихонов, К.У. Черненко, А.П. Кириленко и В.В. Гришин однозначно стояли на позициях личной преданности Брежневу, однако сколько-нибудь заметной роли в государственных делах они не играли.
Страна хотя и медленно, но верно катилась под гору. Не все, надо сказать, делалось так уж плохо, но тем не менее самая верхняя часть государственной пирамиды была парализована, и это не могло не сказываться на ситуации в стране.
В обществе возник и все больше распространялся опасный вирус апатии и пассивного ожидания перемен в высшем руководстве. Если у кого-то возникали смелые идеи, радикальные предложения, то никто не хотел брать на себя смелость добиваться их реализации. Так все и топтались на месте, пребывая в молчаливом ожидании.
А тем временем в стране созревали потенциальные условия для роста социальной напряженности, усиливались кризисные явления в политике и экономике, свидетельствовавшие о том, что общество поражено серьезным недугом. И этот недуг олицетворял собой прежде всего сам Брежнев.
Умер Л.И. Брежнев в ноябре 1982 года, то есть спустя восемь лет с той памятной для меня беседы в Кремле. И все это время состояние его здоровья оставалось крайне неровным и тяжелым.
И все-таки, подводя итоги правления Брежнева, нельзя говорить лишь о серьезных ошибках и недостатках. Объективный анализ свидетельствует о том, что на многих направлениях удалось достичь и позитивных результатов.
Тогдашнее руководство на протяжении всего периода пребывания у власти твердо стояло на позициях защиты внешнеполитических интересов Советского Союза и в целом не допускало ухудшения положения и ослабления влияния нашей страны в мире. У Л.И. Брежнева, в отличие от Хрущева, не было чрезмерных иллюзий насчет возможности решительного улучшения отношений с западными странами, США и Японией, хотя попытки активизировать связи с упомянутыми государствами, прежде всего в торгово-экономической области, настойчиво предпринимались.
Немало было сделано для укрепления обороноспособности родины. Тому, кто пытается сейчас возложить на СССР ответственность за гонку вооружений и холодную войну, нелишне напомнить о том, что именно в брежневский период был достигнут военностратегический паритет с США.
Период Брежнева ознаменовался заключением важнейших советско-американских договоров в области ограничения стратегических наступательных и оборонительных вооружений, что привело к некоторой разрядке напряженности.
С другой стороны, политическое, экономическое и военное противостояние с Западом рассматривалось нами как нечто неизбежное и оставалось незыблемым краеугольным камнем нашей внешней политики. Ни одна из сторон не предпринимала сколько-нибудь серьезных попыток радикального смягчения противостояния, хотя столицы ведущих государств отдельными своими внешнеполитическими шагами демонстрировали стремление к сотрудничеству и миру. Пример тому – Хельсинкские соглашения по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе, которые, в отличие от более поздней пустой трескотни по поводу «построения общеевропейского дома», явились в свое время пусть скромным, но все же реальным шагом на пути длительного процесса оздоровления обстановки не только на Европейском континенте, но и в мире в целом.
США и Советский Союз внимательно следили за тем, чтобы установившийся баланс сил в мире не был опасно нарушен в пользу той или иной стороны. Поэтому реакция на любые посягательства изменить статус-кво не заставляла себя ждать и была довольно решительной.
Советский Союз сохранял свои позиции в Восточной Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в ряде стран Африки и Латинской Америки. Это стоило нам определенных расходов в виде прямой, преимущественно военной помощи.
Однако со многими странами шел активный и значительный торгово-экономический обмен, который приносил нам существенные выгоды, во всяком случае, для экономики нашей страны польза была вполне ощутимой. Мы получали валюту, сельскохозяйственные и промышленные товары, крупные заказы на строительство объектов. Наше прочное положение позволяло легко получать кредиты на выгодных условиях, мы не ходили в должниках. Но, разумеется, все это далеко не покрывало реальных потребностей, было несоизмеримо с масштабами нашего государства. По-прежнему слишком много в нашем экспорте было сырьевых товаров и очень мало готовой продукции – на торговле с нами наживались больше, чем мы получали от нее. В приобретении позиций в третьем мире Советский Союз, да и другие социалистические страны скорее видели лишь возможность укрепить свое геополитическое положение, иметь больше друзей, выстоять в глобальном противостоянии, которое в то время было очевидной реальностью. Должных экономических выгод при этом мы не получали, да и целей таких перед собой, похоже, не ставили.
Политика, целиком и полностью основанная на идеологии и лишенная здравого прагматизма, разумеется, не являлась оптимальной и рано или поздно должна была претерпеть изменения. Но это означало бы коррекцию политического курса, отказ от устоявшихся стереотипов мышления. Беда социалистических стран, включая и Советский Союз, состояла в том, что они так и не решились на этот шаг, не смогли заглянуть вперед, спрогнозировать развитие событий даже на ближайшую перспективу. Этому мешало наше закоснелое мировоззрение, которое с ходу отвергало любые идеи, не укладывавшиеся в строгие рамки чрезмерно идеологизированной официальной доктрины.
Китайская проблема неизменно занимала важнейшее место в сфере внешнеполитической деятельности Советского Союза. Андропов никогда не выпускал ее из поля зрения, много занимался ею. Причины очевидны: Китай – не просто соседнее государство, но и держава, великая по любому параметру.
Неосторожное обращение Хрущева с китайским соседом в конце 50-х – начале 60-х годов дорого обошлось СССР. Конечно, нельзя сводить все только к личности самого Хрущева, к его взглядам и заблуждениям. Были обстоятельства и объективного свойства – потенциально сохранявшийся территориальный вопрос, наличие различных подходов по ряду международных проблем, к примеру по Монголии, Вьетнаму, Лаосу, Камбодже (так, по крайней мере, тогда представлялось), существенные различия во взглядах на строительство социалистического общества.
Но все же доминирующими были именно субъективные факторы, которые мы, к сожалению, привыкли почему-то недооценивать. А ведь несовершенство общественно-государственных систем во всем мире волей-неволей обуславливает первостепенную роль и значение личности, особенно оказавшейся во главе государства.
Если в период правления Хрущева наши отношения с Китаем достигли высшей точки накала и стороны, казалось, неудержимо и бесповоротно шли по пути обострения ситуации, то приход к руководству Брежнева положил конец этой тенденции, привнес новые элементы в политику Советского Союза по китайскому вопросу. С нашей стороны начали предприниматься искренние и целеустремленные попытки нормализовать советско-китайские отношения. Проявлялись выдержка, терпение, но вовремя остановить начатое еще при Хрущеве сползание к опасной конфронтации было уже трудно.
Отсюда и трагический конфликт в районе острова Даманский в марте 1969 года. Начался он 2 марта расстрелом китайцами девяти советских пограничников и захватом острова, а закончился 15 марта освобождением Даманского, хотя, разумеется, последствия этого военного столкновения имели свое продолжение еще в течение длительного времени.
Военный инцидент на Даманском разразился на небольшом клочке земли и уже по одному этому признаку мог показаться сугубо локальным. Но его значение определялось не географией, а теми принципами, подходами к решению территориальной проблемы, которые продемонстрировало китайское руководство, стремлением китайской стороны во что бы то ни стало показать, что Китай является независимой державой со своим собственным лицом и намерен решать вопросы исключительно по собственному разумению.
Китайские руководители хотели любой ценой заставить считаться с ними. Правда, способ проявить себя в этом качестве выбрали жестокий – ведь конфликт, несмотря на всю его ограниченность, с самого начала принял кровавый характер.
Для советской стороны инцидент в общем-то был неожиданным. После гибели группы пограничников советское руководство оказалось если не в шоке, то в состоянии близком к этому. Начался мучительный поиск выхода из создавшегося положения. Даже локальный конфликт представлял огромную опасность, поскольку в любой момент мог перерасти в полномасштабное военное столкновение.
На узком совещании у Андропова было выработано следующее предложение: во-первых, локализировать конфликт, ограничив его рамками чисто пограничной проблемы, а во-вторых, попытаться урегулировать возникший инцидент только силами пограничников, ни в коем случае не допуская участия в боевых действиях регулярных воинских подразделений. Помню, Юрий Владимирович все время убеждал, что с Китаем надо договариваться, призывал проявлять максимальную выдержку. Он настоятельно рекомендовал также избегать спешки, просил отвести для решения проблемы побольше времени.
Несмотря на то что существовала и другая точка зрения, сторонники которой предлагали воспользоваться предоставленным китайской стороной поводом для того, чтобы развернуть широкомасштабное наступление и задействовать для этого крупные воинские соединения, Брежнев поддержал мнение именно Андропова. Оба они – и Брежнев, и Андропов – хорошо понимали, что тот успех, который сулила нам крупная военная операция, все равно носил бы временный характер, раны же потом пришлось бы залечивать значительно дольше.
Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило правильность именно такого подхода. Спустя некоторое время после событий на Даманском советско-китайские отношения стали постепенно нормализоваться. Правда, для этого нужно было отойти в лучший мир Мао Цзэдуну.
Те позитивные перемены в международных отношениях, которых удалось добиться в последний период правления Брежнева, реальные ростки разрядки и снижения напряженности мало отразились на положении нашей разведки. В лице Москвы, несмотря на свои миролюбивые заверения, Запад по-прежнему усматривал источник зла и корень всех бед. Ну а под рукой Москвы всегда подразумевали Комитет государственной безопасности, а вернее, его передовой отряд, действующий в непосредственной близости, – советскую внешнюю разведку. Поэтому острие подрывной деятельности против Советского Союза было направлено на его органы госбезопасности.
До сих пор продолжают муссироваться слухи о мнимой причастности спецслужб Болгарии, а заодно и Советского Союза к покушению в 1981 году на главу Римско-католической церкви папу Иоанна Павла II. По сути дела, речь идет о крупнейшей за последние десятилетия политической провокации, развернутой против нас и наших союзников.
В высших эшелонах государственной власти США, Италии, да и многих других стран никто всерьез в так называемый болгарский след, по-моему, не верил. Американские и западноевропейские спецслужбы прекрасно знали, что болгары никогда не пошли бы на подобную акцию, тем более что она была лишена всякого смысла, но антисоветскую и антисоциалистическую шумиху тем не менее усиленно подогревали.
Воспользовались целым рядом совпадений, на полную катушку эксплуатировали предубеждения западного обывателя, всюду видевшего руку Москвы, умело обыгрывали и то обстоятельство, что папа (бывший кардинал Войтыла) был известен своим антисоветизмом, твердо стоял на позициях неприятия социализма.
Должен признаться, что на определенном этапе целенаправленные действия в первую очередь американских спецслужб заставили кое-кого даже в Москве засомневаться, а до конца ли искренни наши болгарские друзья, нет ли хоть малейшей, пусть даже опосредованной связи между Софией и тем инцидентом, который произошел в Ватикане. Вопросы эти поднимались в контактах с болгарами на высшем уровне. Мне тоже поручили провести откровенный разговор с министром внутренних дел Болгарии Стояновым, что я и сделал, хотя сам, разумеется, полностью исключал причастность болгарских коллег к покушению.
Дополнительную проверку с использованием наших оперативных возможностей мы все же провели. Вывод был однозначным – болгары здесь ни при чем. Хотя должен признаться, что масштабы умело раздуваемой истерии достигли таких размеров, что однажды я поймал себя на мысли, что и меня настораживает чрезмерное волнение болгарских коллег после ареста Антонова.
Последовала команда еще об одной проверке, результаты которой уже не оставляли никакого места для сомнений. Со временем доказательств того, что дело Антонова от начала до конца сфабриковано, становилось все больше и больше. Американцы засветились, когда пытались склонить некоторых своих агентов из числа советских граждан дать ложные показания о том, что к покушению на папу причастен КГБ, – именно в таком духе обрабатывали в США Виталия Юрченко.
То, что Агджа – фигура подставная, сейчас уже очевидно, хотя, несмотря на все старания, нам в свое время так и не удалось докопаться до всех деталей, получить доказательства, которые однозначно указывали бы на главного организатора этой акции. Но правда об этом происшествии, истинная подоплека всего дела наверняка известна в Ватикане. Не случайно после встречи один на один с осужденным Агджой Иоанн Павел II обронил фразу о том, что теперь он знает правду, но почему-то предпочел не предавать ее огласке.
Грязной выглядит вся эта история, она не делает чести ее организаторам. Мало того что «болгарское дело» в течение длительного периода отравляло международный климат, у него есть и другие последствия. Я имею в виду искалеченную судьбу болгарского гражданина Антонова, его начисто подорванное за годы пребывания в тюрьме и мучительного судебного процесса здоровье, страдания его семьи.
Политика часто перемалывает судьбы людей, но подобная расчетливая жестокость лично у меня всегда вызывала искреннее возмущение и осуждение.
Советский Союз часто обвиняли в связях с международным терроризмом. Комитету госбезопасности, естественно, отводилась роль безжалостного исполнителя этой политики. Приемы использовали чисто шулерские – раз Москва поддерживает национально-освободительные движения, в том числе и те, которые вынуждены прибегать к вооруженной борьбе, значит, она является пособником любого экстремизма, несет ответственность за деятельность ультралевых организаций террористического толка.
При этом тщательно замалчивалось то обстоятельство, что именно последовательное осуждение нами террора в любых его проявлениях являлось не только главным сдерживающим фактором в распространении международного терроризма, но и приводило к тому, что мы сами часто становились мишенью для террористов в качестве «предателей» дела мировой революции и «пособников» мирового империализма.
Кстати, если в наши руки когда-то и попадала информация о готовящемся теракте, мы использовали все возможности для того, чтобы предотвратить его – независимо от того, против кого была направлена акция. Это хорошо знали и сами террористы, поэтому они тщательно охраняли свои секреты, в том числе и от нас.
Помнится, мы оказывали посильную помощь американцам при освобождении заложников в Бейруте, предоставляли им сведения об угрозе совершения покушений на Буша и Рейгана в третьих странах. Американская сторона благодарила за эту информацию, но сама, насколько я помню, с нами подобными данными никогда не делилась. Может быть, потому, что не располагала такими сведениями.
Для подтверждения мифа о «жестокости» и «коварстве» советской разведки часто ссылаются на историю исчезновения в конце 1975 года бывшего советского военно-морского офицера Артамонова, известного также под фамилией Шадрин, который еще в 1959 году, будучи командиром эсминца, входившего в состав нашей эскадры в Гданьске, бежал на военном катере в Швецию, а затем, перебравшись за океан, стал работать на Разведывательное управление министерства обороны США (РУМО).
Утверждается, что КГБ похитил и намеренно ликвидировал этого перебежчика с тем, чтобы наказать его за измену Родине, а заодно и преподать урок другим предателям. Во всех красках история с похищением Ларка (псевдоним Артамонова) была расписана Калугиным, который в свое время как раз и был непосредственным руководителем нашей опергруппы, получившей приказ принять захваченного в Вене Артамонова на австрийско-чехословацкой границе и доставить его (живым и невредимым, замечу!) в Прагу. При этом используется избитый прием – вроде бы в целом правдиво рассказывается о «деле Артамонова-Шадрина» (привирается разве что по мелочам), приводится масса животрепещущих подробностей, но преднамеренно опускается несколько «мелких» деталей, которые проливают на это происшествие совсем иной свет.
Итак, Артамонов действительно нарушил присягу, бежал на Запад и стал работать на американские спецслужбы против СССР. За это преступление он в соответствии с действующим законодательством был заочно осужден и приговорен к высшей мере наказания – расстрелу.
В начале 70-х годов нашей разведке удалось выйти на Артамонова, установить с ним в Вашингтоне контакт, на который он поначалу пошел неохотно. Перед ним открылась возможность искупить свою вину перед Родиной, и Артамонов согласился работать на советскую разведку. Однако мы никогда не расценивали это как «крупное достижение вашингтонской резидентуры», прекрасно понимая, что имеем дело с предателем, который в любой момент может изменить еще раз.
Не буду отрицать, что в течение определенного периода мы склонялись к тому, что Ларк искренне раскаялся и сможет оказаться нам полезным, хотя подозрения все же оставались. Затем эти подозрения не только переросли в уверенность, но и были подтверждены оперативным путем. Вскоре в его настроении произошла заметная перемена, он вдруг активно потянулся к нам, стал форсировать отношения с советским разведчиком, что несколько настораживало, но не более того. А вскоре были получены достоверные данные о том, что американцы затеяли с его помощью игру с нами с далеко идущими провокационными целями.
Тогда-то и встал вопрос о том, чтобы выманить предателя и доставить его в Центр, разумеется, отнюдь не для того, чтобы просто привести в исполнение смертный приговор, вынесенный ему еще в 1960 году. Во-первых, мы давно отказались от подобных методов, а во-вторых, слишком уж сложный это вариант для такого случая, как говорится, овчинка выделки не стоит. Просто были обстоятельства, требовавшие беседы с Артамоновым в Москве, о некоторых из них Калугину, кстати, знать не полагалось… Ради этого и планировалась вся операция.
При разработке ее рассматривалось несколько вариантов того, как избежать сопротивления Артамонова и безопасно переправить его в Чехословакию, причем именно этой стороне дела придавалось ключевое значение. Предлагалось вообще не прибегать к медицинским препаратам либо, в крайнем случае, ограничиться безобидным хлороформом. На этом настаивали все разработчики операции, включая медперсонал. Были веские основания полагать, что для успеха операции этого будет вполне достаточно.
За применение «более эффективных» медицинских средств решительно выступал один Калугин. Несмотря на прямое поручение, чисто технические детали в должной мере им проработаны не были, что и привело к провалу операции в задуманном варианте. Не были приняты во внимание и настоятельные предупреждения медиков, в том числе и врача, сопровождавшего «пациента», о создании во время транспортировки необходимых условий «комфорта» (тепло, отсутствие физических нагрузок, введение препаратов, снимающих воздействие хлороформа и т. и.). Более того, вопреки обстоятельствам Калугин ввел Артамонову еще одну дозу снотворного. Тогда это было расценено как стремление перестраховаться.
Принимающая группа на границе оказалась слишком далеко от места передачи, и подопечного пришлось метров двести – триста волоком тащить по снегу (кстати, никаких носилок, вопреки утверждениям Калугина, под рукой не оказалось). Долго, минут десять-пятнадцать, ждали подхода застрявшей машины, оставив человека лежать на снегу. В единственную легковую машину набилось шесть человек, «пациенту» досталось место на холодном металлическом полу, где он и пролежал еще более часа. Все это и привело к неожиданному для нас летальному исходу.
По заключению медицинской экспертизы, даже с больным сердцем (о чем мы, естественно, не знали) Артамонов при выполнении всех требований врачей пережил бы транспортировку нормально.
Обо всем этом мне сразу же подробно доложил мой заместитель Усатов, который, вылетев в Прагу, руководил оттуда проведением операции. Усатов обратил особое внимание на то обстоятельство, что все участники принимавшей группы тяжело переживали случившееся, за исключением одного Калугина, который – и это заметили даже его товарищи – как будто был даже удовлетворен таким исходом.
Задуманная операция окончилась неудачей. Мы не только не получили Артамонова для работы с ним в Центре, но и вызвали неприятный для нас международный резонанс – ведь советские спецслужбы обвинялись в похищении человека на территории суверенного государства и совершении преднамеренного убийства. Разумеется, доводы о том, что речь идет о предателе, приговоренном к смертной казни советским судом в строгом соответствии с действующим законодательством, в расчет никем не принимались. Да, впрочем, этот аспект мог явиться разве что смягчающим обстоятельством и никак не снимал с нашей службы ответственности за допущенную ошибку. Но и наказывать участников операции оснований тоже не было.
В конце концов, главной причиной смерти явилось непредвиденное обстоятельство – больное сердце Артамонова, о чем мы не знали, упомянутые же выше технические просчеты при проведении операции не оказались бы фатальными для здорового человека. Кстати, при вскрытии обнаружилось, что у Артамонова был еще и рак печени в довольно запущенной стадии, так что жить ему оставалось, по оценкам врачей, максимум полгода…
Нельзя было сбрасывать со счетов и то, что погиб преступник, фактически дважды предавший Родину. Этот момент тоже играл не последнюю роль. Непосредственных участников операции было решено все же наградить, включая и Калугина, в отношении которого было признано нецелесообразным делать какое-то исключение, хотя именно на нем лежала главная ответственность за допущенный сбой. Ну а рассказанную им «трогательную» историю о том, что ему якобы самому было предложено выбрать себе орден, иначе чем бреднями не назовешь.
Мы ни разу не использовали недозволенных методов в работе против наших противников, решительно порвав с практикой прежних лет, когда принцип «око за око» служил оправданием нарушения норм международного права и законности. К сожалению, взаимностью нам не отвечали – с нашими людьми не церемонились, позволяя себе грубые провокации, сопровождавшиеся жесткими мерами не только психологического, но подчас и физического воздействия.
В арсенале средств, используемых западными спецслужбами против Советского Союза, было и такое, как массовые выдворения советских работников из ряда стран. Эти акции всегда сопровождались усиленно раздуваемой антисоветской истерией и приводили не только к резкому ухудшению двусторонних отношений, но и похолоданию международного климата в целом.
Поводом – не причиной, подчеркиваю, а именно поводом – для таких эксцессов мог послужить любой инцидент – будь то провал агента, предательство или что-нибудь еще в этом же роде. Цель ослабления нашей резидентуры в данной стране носила при этом скорее побочный характер – в конечном счете уехавшие из страны работники заменялись на новых, хотя, конечно, это был непростой процесс и мы несли большие потери в оперативном плане – обрывались многие связи, отменялись намеченные операции и так далее. Все это сопровождалось временным снижением нашей активности на каком-то направлении.
Местные спецслужбы использовали массовые выдворения для того, чтобы избавиться от наиболее активных и потому представлявшихся им опасными работников в наших представительствах за рубежом, независимо от того, являются ли они разведчиками или, скажем, «чистыми» дипломатами, журналистами и торговыми представителями. Хотя, конечно, в первую очередь под прицелом были наши работники и сотрудники Главного разведывательного управления Советской армии (ГРУ).
Часто при принятии решения о высылке руководствовались и просто низменным чувством мести, ведь реальная отдача от этой акции чаще всего была невелика, к тому же можно было нарваться и на ответные меры. Так что главной целью при проведении подобных акций надо однозначно назвать политику – стремление во что бы то ни стало подорвать позиции Советского Союза в мире, отравить международный климат.
Подобные приемы имели место на протяжении всего периода существования Советской державы, но то, что происходило в 70— 80-х годах, превзошло все, что было ранее. В 1971 году изменил Родине сотрудник разведки Лялин, работавший в Англии под прикрытием торгового представительства. Особо важных секретов он не знал, поскольку был на рядовой работе, но тем не менее даже косвенные сведения, переданные им противнику, наносили нам существенный оперативный и политический ущерб.
Воспользовавшись этим предательством, правительство Великобритании объявило персоной нон грата 105 сотрудников совза-гранучреждений в этой стране, включая и тех, кто работал там в прошлом. По своей масштабности предпринятая Лондоном акция не знала аналогов. Дело происходило в августе 1971 года, спустя всего две недели после того, как я начал работать в разведке в качестве заместителя начальника службы, курирующего, в частности, английское направление. Так что боевое крещение получилось непростым. Опыт, который я тогда приобрел, к сожалению, потребовался мне еще не раз.
Наша ответная реакция была откровенно слабой и неадекватной – советская сторона, по существу, пропустила удар. Выдворенные сотрудники вместе с членами семей эвакуировались на специально присланном для этого корабле под щелканье фото- и телекамер и улюлюканье возбужденной пропагандой и непривычным зрелищем толпы.
Все зарубежные средства массовой информации долго еще в оскорбительном для нас тоне смаковали эту историю… Предатель, надо сказать, поработал старательно: английская сторона решила пойти на крайне жесткие меры, сверх всякого мыслимого уровня. Следует заметить, что в числе выдворяемых сотрудники КГБ и ГРУ составляли меньшую, даже незначительную часть.
Вслед за Англией серию антисоветских акций провели и другие страны Европы, Латинской Америки и Африки: по всему миру прокатилась волна выдворений.
Тогда мы не знали, что в разведке действовала внедренная ранее агентура противника, которая снабжала иностранные спецслужбы необходимой информацией для организации подобного рода провокаций.
Размах шпиономании достиг такого уровня, что дело доходило до курьезов – в Боливии одним махом объявили персонами нон грата 116 человек. Поскольку такого числа сотрудников, да и вообще советских граждан в этой стране у нас вообще никогда не было, в список включили даже туристов, сугубо частных лиц, в разное время посетивших ее. Так, в числе советских «шпионов» оказался, например, поэт Евгений Евтушенко, который когда-то, да и то проездом, имел неосторожность несколько часов провести в этой стране.
В последующие годы акции по выдворению, хотя и не такие значительные, с завидной регулярностью проводились то в одной, то в другой стране. Советская сторона отвечала тем же, но в полную меру сделать это было невозможно из-за малой численности сотрудников в посольствах этих стран в Москве. А сколько-нибудь действенных мер политического характера руководство страны предпринимать почему-то по-прежнему не решалось – вместо того чтобы хоть раз проявить решительность и тем самым положить конец этой порочной практике, к чему мы, кстати, хоть и с большим опозданием, но все же пришли. Тогда предпочитали сдержанную реакцию, мотивируя это иллюзорными интересами сохранения разрядки.
В марте 1983 года разразился очередной крупный скандал. Франция, воспользовавшись очередным предательством, объявила о выдворении из страны и лишении права на въезд в нее в будущем 47 советских сотрудников, большая часть которых никакого отношения к разведке никогда не имела. Французы проявили здесь элементарную мстительность.
Так что же вызвало у французов такое раздражение? А поводом послужило разоблачение нами завербованного французскими спецслужбами сотрудника Первого главного управления Ветрова.
Грязная это история. К тому же от нее за версту попахивает вульгарной уголовщиной – на чем, кстати, и попался ее «герой».
Вот краткая суть этого дела. В 1982 году Ветров предложил своей подруге (тоже, кстати, работавшей в этом же управлении) совершить небольшую прогулку в окрестностях Москвы. Между ними произошло бурное объяснение, вызванное тем, что Ветров отказался от ранее данного обещания развестись с женой и узаконить отношения со своей новой пассией. Помимо неприятностей чисто бытового характера расставание с любовницей представляло для Ветрова и другую, куда более грозную опасность, потому что она, как он полагал, догадывалась о его второй жизни. Поэтому, когда они оказались в достаточно уединенном месте, Ветров попытался убить свою спутницу, нанеся ей удар бутылкой по голове.
На свое несчастье, рядом оказался случайный прохожий, который попытался вмешаться в конфликт. Заметая следы, Ветров нанес ему удар ножом. В результате женщина получила тяжелое ранение, а невольный свидетель был убит.
Спустя какое-то время убийца решил проверить, не осталась ли в живых его недавняя любовница, и вернулся на место преступления. Его тут же опознали и арестовали.
Вина Ветрова была полностью доказана, и суд приговорил его к десяти годам лишения свободы. Никаких других обстоятельств, кроме попытки покушения на жизнь любовницы и убийства, на суде не фигурировало, хотя у нас имелись основания полагать, что степень морального падения осужденного зашла дальше того, за что он был наказан.
Насторожил и тот факт, что в ходе следствия Ветров слишком уж охотно признавал свою вину и подробно описывал все подробности содеянного. Росло подозрение, не является ли это попыткой скрыть другое, возможно, еще более тяжкое преступление. Но тогда это так и осталось лишь версией, не нашедшей своего подтверждения. Прямых доказательств шпионской деятельности Ветрова получить тогда так и не удалось, хотя именно эта версия по целому ряду причин активно нами разрабатывалась. Поэтому Ветров и в камере продолжал оставаться под пристальным наблюдением.
Улик накапливалось все больше, а вскоре Ветров совершил роковую для себя ошибку: дал следствию необходимое доказательство, собственноручно написав письмо жене с просьбой проинформировать своих французских друзей обо всем случившемся с ним. Он опасался, как бы французы не начали разыскивать своего неожиданно пропавшего агента и тем самым не засветили его.
Письмо было нами перехвачено. Все стало на свои места. Остальное, как говорится, было уже делом техники. Ветрова срочно этапировали в Москву, где он под тяжестью неопровержимых улик дал подробные показания по поводу своей шпионской деятельности.
Выражаясь профессиональным языком, он был инициативником, то есть в свое время сам предложил услуги французским спецслужбам. В конце 1984 года Ветров был приговорен за измену Родине к высшей мере наказания.
В ходе расследования выяснилось, насколько топорно работали французы с Ветровым в Москве!
Остается только диву даваться, как все это просмотрела наша контрразведка! Кстати, полученный урок был в полной мере использован для того, чтобы сделать соответствующие выводы насчет эффективности системы наружного наблюдения в Москве, и французы (и не только они) сразу же почувствовали это на себе.
Ветров справедливо опасался, что, потеряв связь с ним, французы могут предпринять расшифровывающие его шаги. Его недавние покровители, нимало не заботясь о его судьбе, поспешили реализовать полученную от него информацию, чтобы нанести удар по нашим позициям в Париже, и пошли на массовое выдворение из Франции сотрудников советских учреждений. Типичная история предательства, которая, мягко говоря, не украшает ни одно из действующих в ней лиц!
Высшее политическое руководство СССР после долгих колебаний решило в конечном счете – к великому удивлению даже французской стороны – на ответные меры вообще не идти, ограничившись лишь заявлением резкого протеста.
До сих пор не могу понять мотивов подобного решения, принятого, кстати, Андроповым, ставшим к тому времени генеральным секретарем ЦК КПСС. Возможно, он полагал, что в случае ответных мер его, как бывшего председателя КГБ, могли заподозрить в небеспристрастном подходе, другого объяснения дать просто не могу. Тем более что МИД СССР и сам Громыко заняли правильную позицию и выступали за ответные меры, хотя и носящие ограниченный характер.
Когда в Париже наконец поверили, что советская сторона отказалась от ответных мер, то причины такого решения поставили всех в тупик. От нас, видимо, ожидали какого-то подвоха и даже пытались в неофициальном плане получить разъяснения по поводу столь странного поведения советской стороны. А когда все немного успокоились, то по всему миру прокатилась очередная волна выдворений, сопровождавшихся к тому же ограничением численности и прав сотрудников советских учреждений за рубежом.
Вот и все «дивиденды», которые принесло наше благородство и сдержанность!
В сентябре 1985 года на очередную крупную провокацию вновь пошли англичане, теперь уже в лице правительства Тэтчер, предложив 31 советскому сотруднику, якобы уличенным в недозволенной деятельности, срочно покинуть страну. Поводом послужило предательство изобличенного нами сотрудника ПГУ Гордиевского, которого английской резидентуре в Москве к тому времени удалось нелегально вывезти из Советского Союза.
Надо отдать должное Горбачеву – он ответил, как говорится, по полной: на следующий день Москва объявила о выдворении из Советского Союза 31 английского сотрудника.
Тогда Лондон, решив, по всей видимости, испытать нас на прочность, назвал еще шесть советских сотрудников, которым предлагалось покинуть пределы Англии. Советская сторона ответила тем же. Причем Горбачев во время обсуждения сложившейся ситуации предложил и далее отвечать строго адекватными мерами вплоть до того, как он выразился, чтобы пойти по нулям, то есть до последнего сотрудника.
Столкнувшись с такой непреклонной позицией Москвы, Тэтчер, которая в то время находилась с визитом в Египте, сделала в Александрии официальное заявление о том, что Англия прекращает акции по выдворению советских сотрудников и считает инцидент исчерпанным.
Достойная позиция Москвы сыграла положительную роль в дальнейших переговорах с Лондоном по урегулированию возникшей проблемы. Характерно, что другие страны на этот раз не проявили солидарности с англичанами и, вопреки практике прежних лет, воздержались от проведения подобных акций в отношении представителей Советского Союза.
Во всех наших внешнеполитических ведомствах такая решимость советского руководства была воспринята с явным одобрением. Особое удовлетворение она, естественно, вызвала в Первом главном управлении и в среде наших военных коллег. Разведка ведь не может рассчитывать на снисходительное отношение к себе, с ней будут считаться лишь в том случае, если она не только сильна сама по себе, в частности кадрами, опытом, высоким профессионализмом, но и если за ней стоит государство, на поддержку которого она всегда может рассчитывать.
После этого случая был еще один поединок, который советская сторона выиграла. На этот раз инициатором стали Соединенные Штаты Америки, которые до этого сами не прибегали к подобной практике, ограничиваясь науськиванием и подстрекательством своих союзников.
В ответ на массовое выдворение советских дипломатов нами был предпринят нетрадиционный, но крайне эффективный шаг: из посольства США в Москве был отозван весь обслуживающий персонал, состоящий из советских граждан. Буквально в считаные дни работа посольства была полностью парализована, и американская сторона начала лихорадочно искать пути к урегулированию конфликта. Мало того что наши ответные меры оказались такими действенными, администрация США стала мишенью весьма едких насмешек собственной прессы.
Пожалуй, впервые предпринятая Вашингтоном антисоветская акция привела к критике действий американской стороны с тыла, причем в самой уничижительной форме. Многие до сих пор вспоминают остроумный и едкий фельетон Арта Бухвальда, в котором высмеивается ситуация тех дней вокруг посольства США в Москве: американский резидент, несмотря на окрики из Вашингтона, отказывается предоставить политическое убежище мифическому советскому генералу ввиду того, что в здании после ухода советских специалистов отсутствуют элементарные условия для проживания.
Каждый случай выдворения, особенно массового, становился предметом специального разбирательства и тщательного анализа. Выводы могли быть самыми разными. Когда речь идет об элементарной провокации – тут все ясно, нужна ответная реакция, и чем она жестче, тем лучше.
Но ведь бывали ситуации, когда провал настолько очевиден, что оспаривать его нет никакого смысла. Становиться в позу, когда ты действительно сам во всем виноват, было даже вредно, при любых обстоятельствах нужно сохранять чувство собственного достоинства. Хотя и здесь противник не вправе перебарщивать, допускать некорректность и пользоваться оскорбительными приемами, тем более рассчитывая при этом на безнаказанность. Разведслужба – это не подпольная организация, а вполне официальное учреждение, являющееся к тому же одним из важнейших атрибутов государства.
Говоря о подрывной деятельности иностранных держав и их спецслужб против СССР, необходимо учитывать то обстоятельство, что она не являлась каким-то абстрактным политическим процессом, – речь идет о конкретных действиях, которые были направлены против государства и острие которых проходит по живому – по судьбам людей, про которых не ради красного словца говорят, что они находятся на передовой.
Выдворение из страны, шельмование – это, пожалуй, самое легкое из того, что подстерегает разведчика в его повседневной жизни. Хотя и это является весьма ощутимым ударом – как правило, на долгие годы человеку закрывается въезд не только в эту, но и во многие другие страны, а значит, насмарку идут долгие годы подготовки, сужаются возможности применения сил на наиболее интересном участке оперативной работы.
Однако последствия бывают и куда более серьезными, особенно когда разведчик сам допускает оплошность и дает в руки противника хоть малейший повод для провокации. Тут уж пускается в ход весь незатейливый, но порой весьма эффективный арсенал спецслужб – вербовочные подходы, угрозы, запугивание, шантаж, – любые методы, лишь бы они привели к желаемому результату, помогли сломить человека.
Здесь особенно важно, чтобы разведчик до конца верил, что за его спиной стоит его собственная служба, на помощь и поддержку которой он всегда может рассчитывать. Именно поэтому человеческий фактор имеет такое огромное значение, без его учета любая, даже самая строгая дисциплина бессильна в условиях жестокой тайной войны.
Еще в самом начале моей карьеры в Первом главном управлении произошел один довольно характерный случай. В 1973 году в Тунисе была совершена провокация в отношении нашего молодого сотрудника, работавшего в этой стране под журналистским прикрытием. Его арестовали с применением грубого физического воздействия, в течение двух суток без перерыва допрашивали, бросили в общую камеру с уголовниками, в тюрьме вновь жестоко избили и даже имитировали расстрел.
Наш товарищ вел себя достойно, стойко выдержал все издевательства, не пал духом и не поддался на запугивания, хотя провокация стала возможной именно из-за нарушения им самим элементарных норм поведения и служебной дисциплины – он пошел на встречу с малознакомым человеком без разрешения своего непосредственного руководителя. Уже после он рассказывал, что испытывал определенные сомнения, но надеялся на оперативный успех и не предвидел столь грубой провокации.
Тунисские власти внушали арестованному, что совпосольство отказалось от него и не намерено добиваться его освобождения. С большим трудом нам все же удалось сообщить попавшему в беду товарищу о предпринимаемых нами мерах.
В конце концов решительные протесты, ответные меры, в частности выдворение из Советского Союза лица, в котором была заинтересована тунисская сторона, наш демарш на высшем уровне и угроза международного скандала по поводу провокационных действий в отношении советского сотрудника дали результат – через два месяца арестованный был освобожден.
По возвращении попавшего в переделку сотрудника в Союз с ним пожелал встретиться председатель КГБ Андропов. Перед ним предстал молодой, еще не закаленный ни работой, ни жизнью разведчик, который в своей первой командировке попал в такую переделку. Он не без волнения рассказал о случившейся с ним истории, не пытаясь скрыть своих ошибок и просчетов. Он понимал, что попал в беду по собственной вине, грубо нарушив нормы оперативной работы, и этим, конечно, причинил службе и оперативный, и политический ущерб. Его оправдывали молодость, желание добиться успеха и необстрелянность во всех отношениях.
Андропов, несмотря на это, занял непреклонную позицию, в нехарактерной для него жесткой манере заявил, что сотруднику нет оправдания, что он заслуживает самого серьезного наказания, а в заключение вообще выразил сомнение в возможности его дальнейшей работы в разведке.
Парень и этот удар снес молча, хотя, видимо, не рассчитывал, что получит столь резкую оценку на таком высоком уровне. Как мне показалось, особенно больно задело его то обстоятельство, что мужественное поведение в тюрьме вообще не было принято во внимание.
Как только мы с Андроповым остались наедине, я счел необходимым высказать свое отношение как к тональности состоявшейся беседы, так и к принятым председателем решениям.
– Юрий Владимирович, а за что, собственно, вы предлагаете – уволить парня из органов? Что он такого натворил, если разобраться? Да, нарушил дисциплину, ошибся, не распознал ловушку. Но ведь от подобных ошибок не застрахован ни один разведчик, даже самый опытный! Как будто мы в первый и последний раз горим на этом. А что касается нарушения режима, то он, во-первых, за это уже получил сполна еще в тунисской тюрьме, а во-вторых, сделал это в общем-то ради дела, в надежде получить положительный результат. Ну, допустим, доложил бы он о своих планах резиденту, и что дальше? Все равно данных о том, что намечается провокация, не было, скорее всего, встречу ему все равно бы санкционировали, и итог был бы почти таким же.
– Так что ты предлагаешь, по головке теперь его гладить? Завтра же у тебя все начнут вытворять, что им заблагорассудится, а мы только и будем делать, что вызволять их из каталажек да объясняться по этому поводу с Громыко! Так что ты этот свой либерализм оставь для более подходящих случаев!
– Если мы за каждый проступок будем гнать работника в шею, – стоял я на своем, – то начисто отобьем у людей охоту вообще что-то делать. Этот как раз получил урок на всю оставшуюся жизнь, могу ручаться, что второго такого прокола у него уже не будет. Моя бы воля, так я еще и орденом наградил бы его за проявленное мужество!
– Ладно, не горячись, пусть пока работает, а там видно будет, – ворчливо пошутил Андропов.
Спустя несколько дней Юрий Владимирович вновь вернулся к этой теме:
– Знаешь, я тут подумал еще раз над всем этим делом и решил, что ты, наверное, прав: я действительно перегнул тогда в разговоре. Ты как-нибудь доведи до него эту мысль, но только так, чтобы он не воспринял это как полное прощение…
Для меня эта давняя тунисская история послужила хорошим уроком. Я понял, что нельзя допускать даже тени несправедливости к тем, кто попал в беду – пусть даже из-за собственной грубой ошибки, но затем искупил вину.
Я считал и считаю, что битый разведчик вправе рассчитывать на реабилитацию, критика его действий не должна носить обидный и тем более унижающий человеческое достоинство характер, только при этом условии она будет иметь воспитательное значение. Ни в коем случае нельзя создавать у сотрудника комплекс вины, постоянно напоминать о его грехах, оставлять на душе тяжелый осадок необоснованных подозрений.
В своей дальнейшей работе в разведке, а затем и на посту председателя Комитета госбезопасности я никогда не позволял добивать провинившегося, возвращаться к критике товарища, который, однажды совершив проступок, уже понес наказание, извлек из этого уроки.
До сих пор сожалею о том, что руководство Комитета госбезопасности не пошло тогда на представление к правительственной награде попавшего в беду частично по своей вине сотрудника, но в итоге выдержавшего суровое испытание. Ошибка, к сожалению, тогда перевесила мужественное поведение и стойкость.
В чем-то похожая, хотя гораздо более сложная и запутанная история произошла и с Виталием Юрченко. К моменту моего перехода на должность председателя КГБ в октябре 1988 года вопрос с Юрченко уже окончательно прояснился, и сейчас можно рассказать о том, что же произошло на самом деле, за исключением той части, которую и сегодня по оперативным соображениям раскрывать пока нельзя. Однако сути случившегося это никак не исказит.
2 ноября 1985 года уже под вечер у дежурного советского посольства в Вашингтоне раздался телефонный звонок. Мужской голос скороговоркой сообщил, что звонит Юрченко, попросил срочно открыть ворота в жилой комплекс посольства и приготовиться к его встрече.
Юрченко, до этого долго работавший офицером безопасности в нашем посольстве в Вашингтоне, прекрасно ориентировался в расположении зданий, знал все входы и выходы, поэтому конкретность, с которой он изложил свою просьбу, сомнений в личности звонившего не вызывала.
Дежурный сразу же доложил о необычном звонке, который вызвал переполох в резидентуре, но ворота, несмотря на опасения провокации, все же открыли и приготовились к встрече. Через 15 минут из темноты, еще более сгустившейся из-за сильного дождя, вынырнула фигура человека в плаще с поднятым воротником и в низко опущенной шляпе. Сомнений не оставалось – встречавшие тотчас опознали полковника Юрченко, сотрудника Первого главного управления КГБ СССР, тремя месяцами ранее, казалось бы, бесследно исчезнувшего в Риме, куда он был направлен для выполнения специального задания…
Пропал Юрченко 1 августа, когда все дела уже были завершены и он готовился к отлету домой. Напоследок пошел прогуляться по Вечному городу и в посольство не вернулся.
Спустя несколько часов его хватились, начались поиски, но все впустую. Подключили итальянские власти, но и это не дало никакого результата – человек словно в воду канул. Наиболее правдоподобное объяснение было одно: что-то произошло – то ли несчастный случай, сердечный приступ, то ли Юрченко стал жертвой преступления. В возможность его перехода на сторону противника никто сначала не верил.
Первичная проверка в Москве ничего подозрительного тоже не выявила: на работе и в семье вроде все нормально, с женой и сыном видимых проблем нет. Насторожил один, на первый взгляд, незначительный штрих – в последнее время Юрченко частенько жаловался на здоровье, проявляя при этом явно ненормальную мнительность. От медицины эта деталь ускользнула, о ней знали лишь самые близкие.
Этот факт тут же был взят на заметку. Пусть и слабая зацепка, но она все же заставляла попристальней взглянуть на версию добровольного ухода к противнику, хотя и под несколько иным углом зрения…
Спустя несколько дней итальянцы намекнули: нельзя исключать, что Юрченко добровольно покинул пределы Италии и находится в другой стране, например в США, не стоит ли поискать его там.
Первые запросы к американской стороне результатов не дали. Лишь наши повторные настойчивые обращения в государственный департамент, а также запрос по конфиденциальному каналу КГБ – ЦРУ в конце концов дали эффект, и нас проинформировали, что Юрченко действительно находится в США, причем прибыл туда якобы по своей воле.
Полученное известие наводило на серьезные размышления: ведь совсем недавно анализ имевшихся у нас сведений о Юрченко, мнения сослуживцев о нем сводили к нулю вероятность тривиального предательства. Конечно, сомнения в правдоподобности навязываемой нам версии ухода оставались, но полностью сбрасывать со счетов этот самый неблагоприятный для нас вариант мы также не имели права. От наших источников в итальянской столице, а затем и в Вашингтоне вскоре поступили сведения, позволившие довольно точно воссоздать истинную картину его исчезновения. Она, кстати, во многом совпала затем и с рассказом самого Юрченко, который мы услышали спустя три месяца после его возвращения. С его слов, дело было так.
Во время прощальной прогулки по Риму Юрченко вдруг почувствовал себя плохо, присел отдохнуть и потерял сознание. Когда очнулся, увидел склонившихся над ним незнакомых людей. Остальное помнит как в тумане: самолет, уединенный двухэтажный дом уже, как он понял, в Штатах.
Затем начались допросы, сопровождавшиеся интенсивным применением медицинских препаратов. На какое-то время воля была полностью парализована, и Юрченко с трудом отдавал себе отчет в том, что происходит. Временами наступали прояснения и вместе с ними осознание всего трагизма ситуации, в которой он оказался. Были моменты, когда Юрченко считал, что все кончено и обратного пути у него уже нет. Эти настроения почувствовали работавшие с ним американцы и решили, что главные трудности у них уже позади…
Но Юрченко все же нашел в себе силы не сдаться. Он задумал, казалось бы, невероятное – вырваться к своим – и стал целенаправленно готовиться к этому. Для начала необходимо было скорректировать свое поведение, с тем чтобы полностью усыпить бдительность опекавших его сотрудников ЦРУ и ФБР.
Трюк удался, и режим содержания постепенно становился все менее суровым. Вскоре в сопровождении своих «новых коллег» Юрченко позволили выезжать в город, посещать рестораны, магазины, совершать прогулки. Разумеется, опека все еще оставалась довольно плотной, но это уже был шанс.
То ли Юрченко действительно настолько вошел в доверие к американцам, то ли те просто пытались покрепче привязать его к себе, но ему стали оказывать внимание на очень высоком уровне. Однажды его даже пригласил на обед бывший тогда директором ЦРУ Кейси.
Юрченко превосходно знал Вашингтон и решил, что без труда сможет незаметно добраться до посольства, если только сумеет оторваться от своих покровителей. Спустя пару месяцев у него окончательно созрел план побега, и он приступил к его поэтапной реализации.
Прежде всего установил близкие, даже доверительные отношения с постоянно сопровождавшим его сотрудником, а затем наметил для очередного посещения тот ресторан, который хорошо знал и который находился в двух шагах от жилого комплекса нашего посольства. Субботний день тоже выбран был не случайно – это только у нас спецслужбы работают, невзирая на выходные…
В ресторанах Юрченко уже давно позволяли одному отлучаться на короткое время: то ли действительно притупилась бдительность, то ли просто ленились вместе с ним ходить в туалет. Все остальное было делом техники – короткий звонок в посольство и побег через запасной выход, который был примечен еще в прежние времена.
Как оказался Юрченко у своих, читатель уже знает. Через час после его появления шифровка об этом лежала у меня на столе. В воскресенье 3 ноября 1985 года в здании нашей разведки в Ясеневе собрались все руководители ПГУ, имевшие отношение к делу Юрченко. На совещание приехал и председатель КГБ СССР Виктор Михайлович Чебриков – ситуация ведь весьма необычная, подобного оборота дела никто не ожидал. Нужно было срочно готовить письменное сообщение Горбачеву с детальными предложениями о наших дальнейших шагах.
Вновь проанализировали все известные центру обстоятельства, обстановку вокруг советских учреждений в Вашингтоне (наблюдение за ними американцы тотчас же усилили). Вопросов возникало много – как и когда вывозить Юрченко на родину, каких действий можно ожидать со стороны американских властей, что сообщать в средствах массовой информации, поставить ли в известность семью Юрченко еще до появления первых публикаций в печати и передач в эфире и т. и.
Было решено немедленно поставить перед Госдепартаментом США вопрос о безотлагательном и беспрепятственном выезде Юрченко из страны. Поддержали и предложение совпосольства о проведении в Вашингтоне пресс-конференции Юрченко, в ходе которой он должен был рассказать о том, что с ним произошло.
Американцы, судя по всему, пребывали в состоянии шока и поставили лишь одно условие, потребовав личного появления Юрченко в Госдепартаменте. С нашими предложениями о выезде Юрченко они согласились.
Пресс-конференция в посольстве и процедура в Госдепартаменте прошли успешно, американцы, все еще не оправившись от растерянности, реагировали на все происходящее на удивление вяло, без присущей им напористости. Оперативность, с которой мы действовали, отличная координация усилий Министерства иностранных дел и Комитета госбезопасности СССР обеспечили успех операции по вывозу Юрченко из Штатов, не дали возможности американской стороне затянуть это дело.
Настало время рассказать об одной, образно выражаясь, попутной операции, которую мы осуществили, воспользовавшись ситуацией с Юрченко. Дело в том, что мы давно установили утечку информации к противнику из нашей вашингтонской резидентуры и с большой долей достоверности вычислили агента, завербованного ЦРУ из состава оперативных работников.
Проверочные мероприятия полностью подтвердили самые худшие подозрения. Вопрос, однако, состоял в том, как вывезти этого человека в Союз.
По имевшимся данным, в ЦРУ догадывались, что мы если еще и не локализовали полностью их агента, то, во всяком случае, достаточно близко подобрались к нему. Поэтому при малейших признаках опасности агенту был бы обеспечен немедленный уход. Вот мы и решили воспользоваться сложившейся ситуацией и организовать выезд предателя в Союз в числе сопровождавших Юрченко лиц. Потребовалось, таким образом, создать специальную оперативную группу только ради того, чтобы включить в нее единственное интересующее нас лицо.
Мы понимали, что после объявления о предстоящей поездке сотрудник попросит разрешения сходить на квартиру, чтобы собрать вещи и подготовиться к отъезду. Заранее было решено не препятствовать этому, дабы не вызывать никаких подозрений, хотя мы прекрасно понимали, что он использует это время для связи со своими шефами в ЦРУ и получения от них соответствующих указаний.
Так оно и вышло. Об этом он сам потом рассказал, когда уже находился под арестом в Москве. Но можно себе представить, чего стоили всем нам эти часы томительного ожидания, пока Мартынов (именно так звали предателя) совещался со своими хозяевами из Лэнгли и не появился наконец в посольстве!
Американцы, как мы и предполагали, посоветовали ему лететь и попытаться узнать, что же все-таки произошло с Юрченко, не был ли он с самого начала специально заслан советской разведкой и каким образом, с чьей помощью он оказался в советском посольстве. Соблазн для наших коллег из американских спецслужб узнать эти так интересующие их подробности воистину был слишком велик, раз уж они решили рискнуть своим агентом. Собственно, на это мы и рассчитывали!
Таким образом, в самолете пришлось оберегать не Юрченко, тут проблем никаких не было, а «сопровождавшего» его Мартынова.
В промежуточном аэропорту Гандера в Канаде было дано указание из самолета никому не выходить. Пассажирам пояснили, что возможна, мол, провокация и рисковать не стоит, лучше всем остаться на борту.
Вот тут наш «сопровождающий» и занервничал, но было уже поздно. В полете у него было теперь достаточно времени, чтобы обо всем как следует поразмыслить. По прибытии в Москву он был арестован прямо в аэропорту, психологический шок был настолько велик, что он тут же стал давать подробные показания. Оказалось, что лететь в Москву Мартынов с самого начала боялся, чуяло, как он выразился, сердце, но хозяева из ЦРУ были неумолимы, сказали, что лететь все равно придется.
В Москве Юрченко сообщил нам массу сведений, представлявших значительный оперативный интерес. В политическом плане операция с делом Юрченко также оказалась выгодна Советскому Союзу, остудила пыл западных спецслужб, наглядно продемонстрировав, что безнаказанно осуществлять провокации против советских сотрудников за рубежом не удастся.
История с Юрченко, изложенная в его интерпретации, в частности об обстоятельствах его перемещения из Италии в США, в общем-то совпадает с теми данными, которые были получены нами по другим каналам. Но были и нюансы. О некоторых из них он откровенно рассказал мне в ходе многочасовой беседы с глазу на глаз.
Но есть ли смысл затрагивать эту деликатную тему, выворачивать наизнанку всю подноготную жизни человека? Главное, как мне представлялось тогда и в чем я убежден сегодня, состоит в том, что уход от американцев и возвращение в Союз были сознательно осуществлены самим Юрченко. Это стало возможным благодаря его смелым и решительным действиям и в этом плане имеет огромное положительное значение.
Руководство разведки подошло к Юрченко без предвзятости, с точной оценкой баланса положительного и негативного, а первое в итоге несомненно перевешивало второе. Он продолжал работать в службе, хотя и не в прежнем качестве.
Еще перед тем как случилась эта история, Юрченко был отмечен ведомственной наградой – знаком «Почетный сотрудник госбезопасности», который по возвращении и был вручен ему в торжественной обстановке. Полученные от Юрченко оперативные сведения были активно использованы в работе и принесли ряд интересных результатов.
Но главное, пожалуй, даже не в этом. И без того изломанная судьба человека, подчеркнутое презрение со стороны некоторых сослуживцев, которое до сих пор сопровождает Юрченко, – более чем достаточная кара за его прегрешения. Вместо того чтобы добивать споткнувшегося, нужно протянуть ему руку, тем более что ее действительно есть за что пожать!
Вообще разведчики заслуживают более бережного отношения к себе. Я уже говорил об опасностях, которые подстерегают их буквально на каждом шагу.
Хочу рассказать об одном случае. В конце 70-х годов в Ливане было совершено террористическое нападение на машину, в которой находились сотрудники советского посольства в Бейруте, в том числе и один наш работник, армянин по национальности, Роберт Мартиросян. Пуля лишь слегка задела один из шейных позвонков, но ранение оказалось для него роковым. В результате были парализованы нижние конечности и пострадавший навсегда остался прикованным к постели.
Он стойко переносил тяжелый недуг, и мы решили не увольнять его на пенсию по состоянию здоровья. Как и положено, сотрудник повышался по должности, хотя работал преимущественно дома, занимаясь в основном аналитическими исследованиями. Причем проявил себя на этом поприще с самой лучшей стороны: его уму и работоспособности оставалось только удивляться. Часто болезнь обострялась, принося неимоверные страдания, но он все равно держался, не падал духом.
Как-то я навестил его в больнице, там увидел его жену и двух чудесных ребятишек. Каждый, включая и самого пострадавшего, понимал, что болезнь рано или поздно одержит верх, но оптимизм и исключительная воля человека помогали ему выжить. Любимая работа, чувство, что он еще нужен, в сочетании с заботой и вниманием, которой он был окружен в семье и среди сослуживцев, оказались лучше всяких лекарств!
Но в 1991 году состояние его здоровья резко ухудшилось, и нашего товарища не стало. Мы сделали все, чтобы облегчить ему жизнь, помочь семье, но были бессильны перед лицом неумолимого недуга…
Вспоминаю, что во время одной финансовой проверки нам было сделано замечание – нарушаем, дескать, закон, держим на работе инвалида первой группы. Я объяснил ситуацию, заявив, что мы сознательно пошли на этот необычный шаг, что намерены и впредь придерживаться выбранной линии. Никто, конечно, наше решение не отменил, и наш товарищ так и оставался до конца своих дней в рядах действующих разведчиков.
История разведки изобилует полными трагизма человеческими судьбами. Когда говорят о нашей работе, на ум человека со стороны приходит прежде всего овеянная романтикой жизнь разведчиков-нелегалов. Да, в какой-то мере это верно! Есть и романтика, и окутанные завесой глубокой тайны биографии, яркие дела. Буквально считаные люди знают об их существовании, тем более видели в лицо. Человек есть, а вроде бы его и нет. Вместо него на виду совсем другой – вернее, тщательно отработанная ходячая легенда.
Работа разведчика-нелегала невероятно трудна и опасна. В случае провала самое легкое, что его ожидает, – это выдворение из страны, а в худшем случае – и тюрьма. Процесс вызволения путем обмена, как правило, затягивается на годы, которые, конечно же, дорого обходятся нашим товарищам и их семьям.
Впрочем, у нелегала зачастую вообще нет семейной жизни, по крайней мере в нормальном понимании этого слова: нередко он возвращался из командировки с уже взрослыми детьми, которые не знают не только родного языка, но и то, что они советские люди. Бывало и так, что перевоспитать их уже невозможно, и возникала не просто проблема отцов и детей, но и непримиримая вражда…
Становится ясным, какими уникальными качествами должен обладать нелегал, насколько глубоко преданным он должен быть по отношению к своей Родине!
Длительное время возглавлял эту службу опытный, влюбленный в свою профессию генерал-майор Дроздов. В прошлом сам был на нелегальной работе, однажды сыграл роль фашистского офицера. Знал каждого сотрудника лично, гордился ими, их успехами, переживал неудачи, когда попадали в беду, делал все, чтобы выручить. У него почти никогда не сдавали нервы. Недавно ушел на заслуженный отдых.
Свой опасный путь разведчики-нелегалы выбирают сознательно, в полной мере отдавая себе отчет в том, какие испытания и опасности поджидают их впереди. И как бы трагически порой ни заканчивались их судьбы, я не встречал ни одного из них, кто пожалел бы потом, что избрал для себя такой нелегкий путь. И дело не только в поистине нечеловеческих условиях работы – вдали от Родины, от родных и близких, без привычных условий жизни, в постоянном напряжении, когда расслабиться нельзя ни днем ни ночью, и так порой десятки лет – ведь любая, даже самая незначительная оплошность может стоить не только свободы, но и жизни.
Об одной трагической судьбе, которая глубоко врезалась мне в память, я и хочу рассказать. Эта история часто возвращала меня к размышлениям о людях этой профессии и всякий раз только усиливала чувство глубочайшего уважения к ним.
Подошел срок окончания подготовки нашего разведчика для выезда в загранкомандировку на многие годы, может быть, и на всю жизнь. Отправляться в путь пришлось в срочном порядке, и, едва увидев своего новорожденного ребенка, через два дня он был уже в самолете на пути к цели. Лишь спустя шесть лет ему представилась возможность проездом побывать в Москве и в течение нескольких дней повидаться с сыном. Затем вновь потянулись долгие годы разлуки.
А сын тем временем по-прежнему рос без отца и почти отчаялся когда-нибудь увидеть его снова. Обстоятельства складывались таким образом, что прервать пребывание нашего разведчика за рубежом все никак не удавалось – такой уж важной оказалась занимаемая им позиция, малейший перерыв в работе мог обернуться для нас серьезными издержками, да и для него самого даже кратковременное отсутствие было бы сопряжено с большим риском.
Тем не менее в конце концов нам все же удалось изыскать возможность вызова разведчика в одну европейскую страну, откуда он тайно перебрался в соседнюю, где мы организовали для его сына отдых в пионерском лагере. К тому времени парню минуло уже 16 лет. Две недели, отведенные для свидания отца с сыном, были самыми счастливыми в их жизни – они ни на минуту не отходили друг от друга, казалось, хотели наговориться за все прошлые годы.
Время пролетело быстро, и вот уже настала пора прощаться. Отец уверял расстроенного сына, что через год, максимум два вернется домой и тогда уже ничто не сможет разлучить их. Но какое-то смутное предчувствие грядущей беды никак не оставляло разведчика – на душе словно лежал тяжелый камень.
Разведчик вернулся «домой», а его сын продолжал свой отдых. Мы хотели хоть как-то скрасить жизнь юноши, сгладить горечь расставания. Но случилось непоправимое – во время купания в озере мальчику вдруг стало плохо – у него свело судорогой ноги, и он утонул. Его быстро нашли, пытались откачать, но все было тщетно, врачи оказались бессильны…
Каждый из нас воспринял это как личную трагедию. Отцу тотчас же сообщили о постигшем горе и разрешили немедленно прервать командировку. К моменту, когда он сумел вернуться в Союз, сын уже был похоронен. У меня до сих пор в горле стоит ком, когда я представляю, как он, стоя на коленях, обнимал еще свежий могильный холмик…
На следующий день мы встретились в служебном загородном доме под Москвой. Долго сидели молча, затем вспоминали былое, всю жизнь нашего боевого товарища. Конечно, много говорили о постигшем его горе, но слова утешения помогали мало – своих слез не стыдились ни он, ни я.
Бесценные результаты его работы, проявленный им героизм и стойкость при выполнении важнейшего задания были высоко оценены – ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Если бы существовала более высокая награда, он был бы достоин и ее!
Спустя полгода наш герой опять выехал в заграничную командировку и пробыл там около пяти лет. Затем вернулся в Советский Союз и больше уже никуда не выезжал.
У разведчика-нелегала особое ощущение Родины, особая тяга к ней. Сколько мыслей, раздумий там, на чужбине. Какая тоска по белой березке, по родным и друзьям, по родной земле. А ведь жизнь-то одна, и когда нелегал оказывается на своей земле, то он никогда не проводит свое время лишь в стенах московской квартиры.
Он стремится выехать в другие города, села, жадно всматривается в жизнь, оценивает происшедшие перемены, бурно переживает недостатки, трудности, с которыми сталкивались советские люди, черпает новые силы для дальнейшей борьбы. Он лучше начинает понимать, в чем нуждается страна, отчего его работа становится результативнее.
Можно привести множество добрых дел, совершенных разведчиками-нелегалами на благо Родины. Обо всем не расскажешь, объем книги не вместит их. Но кое о чем все-таки хотелось бы еще поведать читателям.
…В конце апреля 1986 года в стране случилась большая беда – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Тогда мы еще до конца не представляли масштабы трагедии.
Усилиями нелегальной разведки еще за несколько лет до чернобыльской аварии мы получили уникальный доступ к иностранным материалам по проектированию, строительству и эксплуатации атомных станций. Удалось вывезти несколько чемоданов документации по указанным проблемам.
Особый интерес представляла информация по обеспечению безопасности атомных станций. Кстати, эта часть информации нам досталась труднее, с осложнениями, пришлось пойти на риск, в результате чего нашему сотруднику вскоре пришлось спешно покинуть страну пребывания. Добытая информация получила во всех центральных организациях положительную оценку.
За все надо платить, в том числе и за безопасность. Так вот, гарантия полной безопасности атомной станции обходилась примерно в 15 процентов ее стоимости. Решение простое – все опасные блоки, части станции сооружаются под землей, предусматриваются также другие меры предосторожности. Соответственно меняется конструкция и технология.
Несмотря на положительные оценки полученной информации, нам стало известно, что ее не собираются использовать в отечественной атомной промышленности. Тогда по своей инициативе разведка вышла на ряд ученых в некоторых удаленных от центра областях с целью получения их оценки и заключения. Отовсюду – только положительные отзывы.
Была организована встреча нелегала с небольшой группой советских специалистов, в ходе которой последние получили весьма квалифицированные разъяснения. Однако в реализацию информация не пошла.
Уже после Чернобыля в начале 1987 года мне позвонил министр энергетики СССР Майорец. Он сказал, что министерство вновь вернулось к нашей информации, признало ее исключительно ценной, особенно ту часть, которая касается безопасности. Министр принес извинения за прежнее руководство, которое допустило явный просчет, отказавшись от ее использования.
Кстати, наш разведчик был награжден орденом Красного Знамени, который в скромной обстановке вручил ему автор этих строк.
1988–1991 годы для разведчиков, особенно нелегалов, были исключительно трудным временем. Они старались работать активно, проявляли инициативу, стремились в полном объеме выполнять поставленные задания. Какие тревожные, тяжелые письма они направляли в Центр! Сколько в них было переживаний, непонимания!
Как сейчас помню начальные строки одного письма: «Уважаемый Владимир Александрович! Что происходит с нашей страной, с моей Родиной? Куда мы идем? Здесь в открытую говорят, что скоро не будет Союза. Злорадствуют по этому поводу. Я вне себя от отчаяния».
Это письмо относилось к началу 1990 года и было доложено руководству страны. Да ведь и мы понимали, куда идем, что-то старались делать, но, увы, Союза уже нет, и того разведчика-нелегала наверняка будоражит мысль: «Я ведь писал».
Еще один нелегал из другой страны с болью писал, что ему тяжело слушать, как недруги, потирая от удовольствия руки, говорят, что все спецслужбы мира, вместе взятые, не сделали бы с Советским Союзом то, что русские сами творят со своей страной.
Нахлынувшие воспоминания в который раз заставляют горько задуматься над тем, как можно сейчас, после всего того, что произошло с нашей Родиной, смотреть в глаза таким людям, отдавшим ей все самое ценное, что было в их жизни!
Работа разведчика полна опасностей, порой совсем неожиданных. Главная опасность – провал. Часто это происходит вообще по не зависящим от него обстоятельствам – из-за предательства, небрежности или провала другого разведчика или агента, а порой и в силу простой случайности, предугадать которую трудно.
Конечно, бывает и так, что работник засыпался сам, совершил ошибку или просто недооценил опасность. Причин может быть много, но результат один.
Хорошо, если разведчик работал под дипломатическим прикрытием, здесь в большинстве случаев особых проблем не возникает: выдворение, как я уже говорил, – это самая меньшая из всех возможных бед.
Сложнее, когда дипломатическим иммунитетом не прикроешься и приходится отвечать по всей строгости местных законов. Длительный срок тюремного заключения в таком случае можно считать гарантированным.
Мы никогда не бросали на произвол судьбы своих попавших в беду людей – независимо от того, шла ли речь о гражданине нашей страны либо об агенте. Какие только операции не проводились, чтобы вызволить из неволи наших товарищей! Попытки в случае необходимости предпринимались неоднократные, лишь бы был положительный результат. В подавляющем большинстве случаев в конечном счете все же удавалось добиться успеха – за последние два-три десятка лет не было ни одного случая, чтобы разведчик остался отбывать свой срок на чужбине.
В последние годы установилась и все шире использовалась практика обмена задержанными разведчиками. Правда, не всегда на равной основе, но тут уж все зависит от обстоятельств и от того, как удастся договориться.
Часто наших «хватали» специально для того, чтобы обменять на интересующее противную сторону лицо. В таком случае обмен совершался довольно быстро.
Но бывали случаи, когда менять было просто не на кого, тогда на выручку приходили друзья-коллеги из бывших социалистических стран, чаще всего из Германской Демократической Республики. Для освобождения попавших в беду товарищей ни они, ни мы никогда не жалели усилий, шли на любые финансовые затраты, иногда прибегали к ответным мерам в отношении лиц, причастных к спецслужбам противника, – задерживали и предавали их суду.
В подавляющем большинстве случаев наши разведчики попадались на «подставе» – способе внедрения своего человека в агентурную сеть противной стороны, – с самого начала организуемой спецслужбами с целью раскрытия нашего работника. При этом задержание со всеми вытекающими последствиями применялось независимо от того, совершались ли разведчиками какие-либо уличающие их действия или нет.
Ну что ж, борьба есть борьба. Часто вопрос решался исходя из жестокого, неумолимого подхода: кто кого. На грубые провокации и мы отвечали адекватно – иначе было просто нельзя, но первыми такие методы никогда не применяли.
Аналогичную корректность не проявляли, к сожалению, наши противники. Правила хорошего тона были для них лишь исключением.
И все же наибольшей беспардонностью и жестокостью отличались спецслужбы США и ФРГ – часто они действовали, даже не пытаясь хоть как-то завуалировать истинную цель своих акций, шли на «подставы», невзирая на то что порой это было сопряжено с передачей ценных материалов. А уж о таких приемах, как грубый шантаж и запугивание, прямое склонение к измене Родине, – говорить и вовсе не приходится.
Одним психологическим прессингом, впрочем, дело почти никогда не ограничивалось, в ход шло и физическое воздействие, а также сочетание обоих методов – в виде, например, помещения в одну камеру с уголовниками.
В мае 1978 года в Нью-Йорке были арестованы два сотрудника представительства СССР при ООН и один чиновник этой организации. Все они были нашими разведчиками и попались на «подставе», умело организованной американской контрразведкой.
Сомнения в источнике, на контакт с которым выходили, были, принимались максимально возможные меры предосторожности, обеспечивалась подстраховка. Но американцы работали у себя дома, где, в отличие от нас, им и стены помогали.
По пути к месту операции разведчики заметили пролетавшие на небольшой высоте самолет и вертолет, возникли сомнения из-за необычности их появления, да к тому же прямо на маршруте. Посчитали совпадением, а после случившегося еще раз вспомнили, что в разведке мелочей нет.
Улик против наших товарищей не было, но американская контрразведка обошлась и без них. Одного нашего товарища – сотрудника ООН, обладавшего дипломатическим иммунитетом, отпустили сразу. Других ожидали арест и тюрьма, бесконечные допросы, шантаж, склонение к измене Родине, обещания хорошей жизни и т. п. В случае согласия работать на американцев гарантировали даже оказание помощи для достижения «успеха» в оперативной деятельности.
Наши товарищи держались стойко, ни на какие угрозы не поддались.
Начались переговоры об условиях обмена, который получился довольно сложным. Поначалу дело продвигалось туго. Тогда подключились друзья из ГДР и Болгарии. За двух наших сотрудников предлагалось семь человек, в числе которых были лица, представлявшие интерес для ФРГ.
В результате многосторонних переговоров оба наших сотрудника через несколько месяцев были освобождены из тюрьмы, а спустя год вернулись на родину. Они были выпущены под залог с обязательством прибыть на суд. На суд, конечно, не явились (для этого и были уплачены деньги!) и были заочно осуждены на 50 лет лишения свободы каждый.
Ряд аналогичных дел имел место и в ФРГ. Наши сотрудники задерживались там на срок от нескольких дней до года. Немецкая сторона никогда не шла на равный по числу обмен – всегда требовала от нас многократного превышения, так как знала, что в обмене все равно будут участвовать наши друзья из ГДР, а в их руках всегда находились люди, в которых была весьма заинтересована западногерманская сторона.
Немцы и здесь проявляли свою неизменную педантичность, строго оговаривая не только условия и порядок обмена, но и весь сценарий его осуществления, вплоть до мельчайших деталей. Мы, разумеется, тоже опасались подвохов и потому были не менее педантичны, чем немцы.
Сложнее всего было вызволять разведчиков-нелегалов – им и в этом вопросе было труднее других. Они, в отличие от других разведчиков, не только не имели никакого официального прикрытия, но и вообще находились в той или иной стране, в сущности, совершенно незаконно, по подложным документам.
Было время, когда разведчик-нелегал ни при каких обстоятельствах не имел права открывать свою принадлежность к СССР и в случае ареста должен был действовать по обстановке, полагаясь только на собственные возможности (они были весьма скромными). Это диктовалось как бы высшими государственными интересами и в то время, пожалуй, действительно было жестокой необходимостью.
В последние два десятка лет мы, однако, от такой практики решительно отказались. Теперь любой наш сотрудник в случае, если он сочтет это для себя полезным, мог рассчитывать на советский флаг и встать под защиту своего государства.
Казалось бы, совершенно естественное решение, но еще совсем недавно наши разведчики и не помышляли о таких «благах», знали, что в случае ареста рассчитывать на открытую помощь Родины не придется. И стойкости тем не менее у них от этого не убавлялось!
Когда в 1973 году я перешел на работу в Первое главное управление, положение дел в разведке в общем-то было неплохим. Накопленный опыт, хорошо подготовленные кадры и отлаженная система работы давали положительные результаты. Разведка в целом справлялась с теми задачами, которые в то время на нее возлагались. Правда, ощущался какой-то застой, слишком уж многое делалось по старинке, по раз и навсегда заведенным правилам. А вот новые, причем очень важные, направления разведывательной деятельности, вытекающие из современной обстановки, на мой взгляд, должного развития не получали, что приводило к явным перекосам и нарушению приоритетности в работе.
Разговоры о необходимости развития разведслужбы велись довольно активно, решений на этот счет принималось тоже немало, однако отсутствие четкой линии толкало на принятие поспешных и мало продуманных решений, порождало однодневные концепции.
Одни утверждали, что наступил век решения разведывательных задач преимущественно техническими средствами, и потому ратовали чуть ли не за полный отказ от агентурной работы.
Агентуристам возражали аналитики, которые считали, что всесторонний и скрупулезный анализ открытых материалов, поднятый на качественно новый уровень, может вполне компенсировать значительное сокращение традиционной разведывательной деятельности и т. п.
Жизнь быстро опровергала подобные взгляды и все ставила на свои места. Но дело от этих шараханий из стороны в сторону явно страдало, становилось все очевиднее, что наша разведка не в полной мере соответствовала задачам сегодняшнего дня, не была сориентирована на реальные потребности политической и экономической жизни страны.
Необходимо было органичнее вписать разведывательный аппарат в структуру государственного механизма, наладить более тесную обратную связь с другими организациями и ведомствами. Устранение недостатков такого рода – вещь очень непростая: мало правильно наметить цели и задачи, нужно еще произвести соответствующую перестройку работы конкретных направлений разведки, скорректировать ее структуру.
Все это требовало глубокого и всестороннего анализа и соответствующих условий, поэтому я с самого начала твердо решил избегать скоропалительных выводов и не допускать неуместной спешки.
Разведка была неотъемлемой частью системы органов госбезопасности, но как-то сложилось, что между Первым главным управлением и другими подразделениями Комитета, и прежде всего контрразведкой, отношения были далеки от идеальных. Имели место взаимные нарекания, разговоры о том, кто лучше и больше сделал, кто профессиональнее работает.
Сотрудников Первого главного управления называли белой костью, упрекали в высокомерии, стремлении выделиться, оторваться от общего чекистского коллектива.
Мои личные наблюдения еще с позиции начальника Секретариата КГБ уже тогда убеждали в том, что все это беспочвенно. А что касается отношений между коллективами разведки и контрразведки, то многое, если не все, зависело от того, какую позицию избрали руководители подразделений и партийных организаций, на которых лежала основная ответственность за воспитание сотрудников и моральный климат в коллективах.
Был, конечно, элемент зависти: сотрудники Первого главного управления чаще имели возможность выезжать за границу, то ли на постоянную работу, то ли во временные командировки, и это, конечно, делало их служебное положение более привлекательным, ставило их в более выгодное материальное положение.
Попав в разведку, я сразу ощутил неприятные отзвуки таких настроений и твердо решил сделать все от меня зависящее, чтобы положить конец и создать условия для здоровых товарищеских отношений между разведчиками и контрразведчиками, а также сотрудниками других подразделений Комитета.
Мы инициировали регулярные встречи между руководством разведки и контрразведки, активизировали рабочие контакты на разных уровнях, уделяли внимание более частому и системному проведению совместных операций и акций за рубежом и в Советском Союзе. По инициативе Первого главного управления в разведку был направлен ряд сотрудников контрразведывательных подразделений, а в последние мы командировали на работу группу разведчиков.
Это сразу сказалось на общей атмосфере взаимоотношений между подразделениями. Правда, до конца эта проблема так и не была решена. Дело в том, что не было разработано положение, точно регламентирующее функции, круг задач, решаемых разведкой с одной стороны и контрразведкой – с другой.
Но уже после первых шагов заметно усилились координация между разведкой и контрразведкой, эффективность оперативной работы.
Об одном контрразведчике хотелось бы упомянуть. В 1979 году в разведку, первым заместителем начальника управления был направлен один из заместителей начальника Второго главного управления Маркелов. Он имел более чем сорокалетний опыт работы в органах госбезопасности, отличался трудолюбием, порядочностью в отношениях с товарищами, преданностью делу и долгу. При всем многообразии проблем умел выделить главное и, как правило, находил оптимальные пути выполнения задач.
В ПГУ он занялся вопросами внешней контрразведки, и тут его опыт пригодился. Коллектив разведчиков отнесся к нему с доверием.
В свою очередь, Маркелов был чуток к товарищам, не кичился своим опытом, прислушивался к мнению сослуживцев. Люди видели, что это шло от души.
В 1986 году Маркелов вернулся в контрразведку и был назначен начальником Второго главного управления. С этого момента никаких трудностей во взаимодействии между разведкой и контрразведкой не возникало. С пользой для дела он использовал опыт работы в разведке и контрразведке. К сожалению, возраст, ухудшение здоровья сделали свое дело, и в 1990 году Маркелова не стало.
Важнейшим в деятельности разведки оставалось политическое направление. В международных отношениях сохранялась напряженность, стороны активно вооружались, что, естественно, само по себе уже являлось серьезным источником опасности.
Лучшие умы, новейшие достижения науки и техники отдавались в распоряжение военной машины. СССР и США настолько запугали друг друга, что любые миролюбивые заверения воспринимались лишь как попытки усыпить бдительность противника.
Запад предпочитал действовать с позиции силы, постоянно наращивая усилия по подрыву ситуации в Советском Союзе и других социалистических странах, возводил все новые барьеры на пути развития торгово-экономических отношений капиталистических стран со странами социалистического содружества.
Надо признать, что в существовавшей тогда международной напряженности была доля и нашей вины. Часто у нас не хватало выдержки перед лицом политических и военных вызовов. Мы неоправданно сужали круг тех политических сил и отдельных лидеров в капиталистических странах, с которыми можно было договариваться на базе взаимных уступок.
Наталкиваясь в очередной раз на попытки разговаривать с нами языком силы и отказ Запада учитывать наши законные интересы, мы разом сворачивали дальнейшие усилия по поиску компромиссов. В итоге – новый виток международной напряженности и осложнение отношений Советского Союза с ведущими западными странами.
Логика неизбежности противостояния двух мировых систем неизменно диктовала и методы политической борьбы.
Добываемые разведкой материалы говорили о подготовке стран НАТО к войне.
Конечно, мы понимали, что между подготовкой к войне и ее возможным началом – дистанция огромного размера, но в большой политике пренебрегать такими факторами непозволительно, тем более что в нашей истории уже был печальный опыт недооценки военной угрозы. Поэтому к войне готовились и мы, хотя у нас никогда и не было намерения ее начать.
Бремя военных расходов становилось для нас все более непомерным, и США вместе со своими союзниками умело использовали это обстоятельство для того, чтобы и дальше выматывать нашу и без того не столь уж безупречную экономику. Нас втягивали то в один, то в другой дорогостоящий виток гонки вооружений. Порочный круг этого бесконечного марафона все туже затягивался петлей на нашей шее…
В 70-х годах структура разведки и основные направления ее деятельности были достаточно устоявшимися и во многом традиционными для подобных служб во всем мире. Ключевой являлась политическая разведка, построенная по весьма простому принципу – географическому.
Общее руководство резидентурами осуществлялось географическими отделами. Это означало, что у каждой загранточки в центре есть свой куратор.
Научно-техническая разведка сформировалась как отдельное направление и в последние годы переживала бурное развитие, набирала темпы, укреплялась кадрами. Результаты ее работы все в большей мере чувствовала наша экономика, действовала обратная связь, количество заявок от министерств и ведомств постоянно увеличивалось.
Далеко не все они принимались к исполнению, речь могла идти только о тех, которые действительно имели значение для нашей экономики.
Внешняя контрразведка прошла длительный путь становления и в итоге также оформилась в самостоятельное направление. Оно было призвано выявлять и пресекать деятельность иностранных спецслужб против Советского государства и его граждан. Обеспечение безопасности КГБ, и в частности его Первого главного управления, также вменялось в обязанность управлению внешней контрразведки.
В ПГУ работала обладавшая, пожалуй, наиболее давними традициями нелегальная разведка. Это особо засекреченное, я бы сказал, элитное подразделение отличалось высоким профессионализмом, собственными формами и методами работы, спецификой подготовки кадров.
Важным звеном, постоянно работающим в напряженном ритме, по существу формирующим внешний облик разведслужбы, являлось информационное подразделение. Сначала это была всего лишь небольшая группа, затем она стала отделом, службой, а в итоге оформилась в Управление разведывательной информации. Это управление привлекало к своей работе лучших аналитиков, обладающих к тому же и большим опытом оперативной работы.
Весь этот хорошо отлаженный разведывательный механизм работал как единое целое, все его звенья тесно взаимодействовали между собой. Сбой только лишь на одном участке сразу же сказывался на всех остальных направлениях.
Это и понятно, ведь структура, которую я описал, складывалась годами, была тщательно выверена и обеспечивала наибольшую эффективность работы разведки в целом. Поэтому когда в камере «Матросской тишины» я услышал по радио об упразднении подразделения, которое занималось, как было сказано диктором, дезинформацией (по нашей терминологии – служба «А»), я был просто ошарашен.
На самом деле речь идет о службе активных мероприятий.
В мировой практике все спецслужбы широко используют проведение акций, которые содействуют созданию наиболее благоприятных условий для решения тех или иных государственных – политических, экономических и военных – задач. Не менее активно пользуются этим и частные компании, фирмы и другие организации. В мире противоречивых интересов, когда противостоящие силы идут на использование неофициальных приемов и методов ради достижения своих целей, защита по своему характеру вправе быть адекватной.
Служба дезинформации, о которой речь шла в радиопередаче, не раз оказывала нам неоценимые услуги, а иногда даже позволяла разрядить ситуацию, предотвратить опасное развитие событий в той или иной стране и даже в целом регионе, как это было, например, в случае с Кипром, о чем, пожалуй, следует упомянуть отдельно. Тогда достичь своей цели удалось давно известным и сравнительно простым способом, который тем не менее не раз доказывал свою эффективность.
В августе 1974 года была совершена попытка государственного переворота в столице Кипра Никосии. Президентский дворец, где находился глава государства архиепископ Макариос, был подвергнут мятежниками массированной бомбардировке с воздуха и получил сильные повреждения. Под обломками здания погибло много людей, еще больше было раненых.
Нападавшие передали по радио сообщение о том, что в ходе бомбардировки был убит и сам Макариос. Смерть президента означала падение самого режима, тем более что в руках у Макариоса была сосредоточена не только светская, но и церковная власть в стране.
В Москве информация о предпринятом штурме была получена спустя час-полтора после его начала.
Нам сразу же показалось странным то обстоятельство, что сообщение о смерти Макариоса было передано по радио слишком уж поспешно. Расчет был понятен: внести дезорганизацию и панику в ряды сторонников законного президента, с тем чтобы с ходу полностью овладеть ситуацией на острове.
Реагировать нужно было, не теряя ни минуты. Мы приняли единственно правильное в этой обстановке решение: инспирировать от имени Макариоса радиосообщение о том, что он жив и призывает своих сторонников, всю греческую общину дать решительный бой заговорщикам.
Предпринятый нами шаг дал немедленный эффект: силы, стоявшие за Макариосом как в Никосии, так и в Афинах, активно включились в борьбу за сохранение законной власти. Мятежники получили достойный отпор и потерпели поражение.
Каково же было наше удивление, когда спустя несколько часов вдруг выяснилось, что Макариос действительно остался в живых, каким-то чудом уцелев под руинами дворца, и вновь приступил к исполнению своих обязанностей! Нетрудно предположить, какая участь ожидала его, не появись вовремя сообщение, опровергавшее его гибель.
На первый взгляд все кажется очень просто: одно лишь послание в эфир – и такой эффект! Только не стоит забывать о том, что сначала нужно было столь оперативно получить всю необходимую информацию, хорошо знать расстановку сил не только в стране, но и за ее пределами, располагать средствами для проведения активных мероприятий. А за всем этим стоит многолетняя кропотливая работа и бесценный опыт сотен людей!
Когда впоследствии Макариос узнал, от кого на самом деле исходило сообщение о том, что он остался в живых, он был просто поражен тем обстоятельством, что в момент передачи в эфир мы не располагали решительно никакими данными о его судьбе – лишь смутные подозрения, вызванные слишком поспешным объявлением о его «гибели»…
Этот пример, не говоря уже о многих других операциях, говорит сам за себя, свидетельствует о необходимости иметь в разведке такую, к сожалению, ныне упраздненную бездарными руководителями службу. Так сколько же еще дел натворят дилетанты – бакатины и им подобные – в своем «реформаторском» порыве?!
Время от времени появляются желающие подсчитать и поспекулировать на том, каково соотношение в разведке и контрразведке руководящего и рядового состава. В этом вопросе очень легко можно заблудиться.
Аппарат этих служб от руководителей до рядовых является работающим, добывающим и реализующим информацию. Все, невзирая на должность, приобретают источники, поддерживают с ними контакты, в равной мере отчитываются о проделанной работе, готовят информационно-аналитические материалы.
Игнорировать специфику – значит лишить значительную часть сотрудников возможности продвигаться по служебной лестнице, не говоря уже о том, что в этом случае не был бы использован и оценен в полной мере их политический и оперативный потенциал.
Подобный вывод можно пояснить на многих примерах. В разведке, к примеру, работает немало ярких умов, которым под силу сложные операции, требующие политического и оперативного опыта, всесторонних знаний, интеллекта, соответствующих личных качеств и, не в последнюю очередь, огромного напряжения, самоотдачи.
В разведке вообще много парадоксов. Ее можно хвалить с утра до вечера и, наоборот, ругать чуть ли не ежедневно. Каждый день – удачи и поражения. Первых больше, но, к сожалению, хватает и вторых. Это и понятно: на войне как на войне. Работали мы, но и против нас шла постоянная борьба, причем куда большими силами.
Нам удалось добиться серьезного прорыва на некоторых направлениях и по целому ряду стран. Были получены важнейшие документальные материалы о военно-политических планах США и НАТО. Они могли бы составить честь любой разведслужбе. Сведения раскрывали планы наших противников на ближайшие годы и более длительную перспективу. Они получили высочайшую оценку Министерства обороны. Прежде подобных материалов нам добывать не удавалось.
Должен сказать, что разведка, помимо всего прочего, является, пожалуй, наиболее рентабельной структурой в стране. Ее затраты окупаются сторицей, и, когда мы научимся действительно считать деньги, извлекать прибыль из получаемых по ее каналам уникальных сведений, разведке будет выделяться ровно столько средств, сколько она в состоянии освоить. А у нас, к несчастью, добытые с таким трудом материалы отнюдь не всегда использовались подобающим образом.
Только одна из проведенных совместно с друзьями операций, по оценке весьма компетентной комиссии, дала нашей экономике не менее 500 миллионов долларов. Информация касалась космических проблем. Позже разведчик, сыгравший главную роль в проведении операции, был раскрыт и арестован. Опять же с помощью друзей из ГДР нам удалось выручить его.
Наша медицина остро нуждалась в препарате для лечения и предупреждения такого тяжелого и широко распространенного недуга, как диабет. Покупка лицензии на производство инсулина вылилась бы в кругленькую сумму, равную одному миллиарду долларов, а импорт лекарства обошелся бы еще дороже. Но главное даже не в этом – не решалась сама проблема и сохранялась зависимость от зарубежных поставщиков. Научно-техническая разведка сумела добыть документацию, необходимую для производства инсулина, истратив на это всего-навсего 30 тысяч долларов!
В 70—80-х годах во всем мире в сельском хозяйстве стали все шире применяться биостимуляторы. В 1981 году разведка получила достоверные данные о типах используемых на Западе биостимуляторов, способах их применения, эффективности, стоимости. Речь шла о биостимуляторах для повышения плодородия почвы, силосования зеленой массы кукурузы, сохранения свежести силоса, обеспечения микробиологических реакций, предупреждения гнилостных процессов.
Поначалу информация о производстве биостимуляторов была неполной: нужны были образцы и технологии на разных этапах производственного цикла. Задача была непростая, но и ее удалось решить.
Интерес у наших специалистов к информации был огромен. Правда, прошло пять лет, прежде чем было дано добро на промышленное производство и применение отечественных биостимуляторов – все изучали их возможное воздействие на человека. А в стране, где были приобретены материалы, биостимуляторы продолжали с успехом применяться в сельском хозяйстве и уже появилось следующее поколение этих препаратов.
Существенный вклад научно-техническая разведка вносила во многие отрасли промышленного производства, но особенно в развитие электроники. Все попытки Советского Союза получить официальный доступ к новейшим технологиям производства электронно-вычислительной техники оказывались безрезультатными – ни одно государство не отваживалось нарушить запрет КОКОМ.
В сотрудничестве с разведками некоторых социалистических стран нам удалось приобрести не только документацию по производству изделий электроники, но даже и отдельные технологические линии.
Были случаи, когда объемы доставляемой разведкой в Союз, например, компьютерной техники и оборудования для производственной линии по их выпуску были настолько значительны, что для их доставки приходилось фрахтовать морские суда. Это были сложнейшие и крайне рискованные операции, в благополучном исходе которых мы не были уверены до тех пор, пока суда не отшвартовывались у наших причалов.
Мы, как говорится, лезли из кожи вон, добывая жизненно необходимые для страны материалы и технологии, а некоторые наши ученые корифеи тем временем вели пустопорожние диспуты на тему о том, следует ли использовать добытую документацию и образцы или же в науке и технике нужно действовать полностью автономно от Запада и выходить к сияющим вершинам самостоятельно…
В области военной техники западные страны вели разработки более масштабно и с большим заделом на будущее. Они намного опережали Советский Союз по лазерным технологиям, по авиации, военно-морскому флоту, некоторым видам обычных вооружений.
Наши затраты не шли ни в какое сравнение с их расходами. Одни США выделяли на военные цели куда больше средств, чем Советский Союз и социалистические страны, вместе взятые. Да и американские союзники были побогаче наших.
Вооруженные силы США обладали большими возможностями для создания и оснащения передовой техникой сил быстрого реагирования – один лишь их авианосный флот представлял как по числу авианосцев, так и по качеству их вооружений внушительную силу с колоссальными возможностями. Они активнее нас вели военное освоение космоса, полностью используя свои преимущества в экономике и общем уровне развития страны. Война в Персидском заливе наглядно продемонстрировала возможности и высокий уровень научно-производственного и технологического потенциала США.
В этих условиях на разведку падала ответственная задача не только по отслеживанию военных приготовлений американцев, но и по добыче документации и образцов зарубежной военной техники, с тем чтобы по мере возможности не допускать опасного качественного отставания в отечественной оборонной отрасли.
Бесценные материалы были приобретены по геологической тематике для нефтяной промышленности. За эти сведения советская сторона готова была платить валютой, причем не считаясь с расходами, но система эмбарго напрочь перекрывала для нашей страны каналы получения ее легальным путем.
Большой личный вклад в развитие научно-технической разведки внес ее руководитель с 1975 по 1992 год Леонид Зайцев, энтузиаст, разносторонне образованный, хороший оперативник. Он имел три высших образования, знал три языка, из них два в совершенстве. Опыт работы в центре и за рубежом, отменное знание механизма взаимодействия разведки с министерствами и ведомствами страны позволяли Зайцеву успешно решать многие задачи.
Насколько было сложно добывать информацию, настолько же порой нелегко было добиваться ее реализации, давать ей путевку в жизнь. Был очевиден системный характер трудностей.
В последние годы все же удалось создать государственный механизм формирования заданий, их финансирования, оценки и реализации. Но, к сожалению, после 1991 года созданный с таким трудом механизм был разрушен.
Многое сделал для обработки и реализации ценнейшей информации прирожденный аналитик, патриот этого направления разведки Юрий Баринов. Он обладал исключительной работоспособностью, усердием и, я бы сказал, дотошностью. На счету аналитической службы, где работал Баринов, сотни блестящих информационных исследований с серьезными выводами и прогнозами. По многим из них были приняты важные решения директивных органов. Уверен, что если бы разведка поставила свою работу на коммерческую основу, то только за информационно-аналитические материалы она могла бы получать значительные денежные средства.
На базе этой службы в 1970 году был создан Информационноаналитический институт научно-технической разведки ПГУ. В июле 1979 года он был преобразован в Научно-исследовательский институт разведывательных проблем (НИИРП). Институт занимался анализом и подготовкой информационно-аналитических записок по крупным проблемам в ЦК КПСС, Совет министров, Академию наук СССР, министерства и ведомства.
Институт прошел большой путь в своем развитии, в нем сложился высококвалифицированный коллектив аналитиков и оперативников, которому под силу стала подготовка материалов, нередко содержащих свои, отличные от других организаций оценки состояния и перспектив развития по актуальным политическим и научно-техническим проблемам государственного и международного значения. Материалы освещали такие вопросы, как процесс интеграции в Европе, его значение для судеб не только континента, но и мира; роль трех мировых центров – США, Западной Европы и Японии, основные направления развития этих центров и характер взаимоотношений между ними; научно-техническая революция и ее влияние на расстановку политических сил в мире; используемые пути и методы развития сельскохозяйственного производства; положение и перспективы развития обстановки в Африке, Латинской Америке, Азии; ислам и его влияние на мировую политику и в отдельных регионах и т. д.
Помню, какой большой интерес вызвала записка института о формах и методах стимулирования труда в Японии, – казалось бы, тема, не свойственная разведке. Материал был разослан во многие министерства, ведомства, профсоюзы. Один из важнейших ее выводов сводился к тому, что в Японии высокая дисциплина труда является естественным состоянием работающего и что она формируется и поддерживается целой системой мер. К этому японец готовится в семье, школе, к этому его подталкивает вся окружающая обстановка.
Начальником Научно-исследовательского института разведывательных проблем с самого начала его образования, с 1979 года, и по ноябрь 1991 года был Эдуард Яковлев. Он вложил в работу института, в его развитие душу и отдал ему здоровье.
Институт наладил деловые контакты с аналогичными подразделениями в других ведомствах и министерствах, а также с научно-исследовательскими институтами, занимавшимися схожими проблемами.
С самого начала было обращено внимание на приток в институт свежих кадров с разносторонней профессиональной подготовкой и знаниями, опытом информационно-аналитической работы, знающих и понимающих нужды государства. Спустя примерно три-четыре года институт представлял собой подразделение, вобравшее в себя немало интересных специалистов с ярким умом и желанием заниматься творческой деятельностью. Если прежде в научно-исследовательские подразделения, информационно-аналитические службы и группы оперативные работники шли неохотно и рассматривали это как ссылку, ущемление их профессионального достоинства, то вскоре люди потянулись в НИИРП.
Спустя какое-то время сотрудники института возвращались на работу в оперативные подразделения. Короче говоря, была налажена ротация кадров, что очень важно, поскольку это вносило свежую струю и в работу института, и в работу оперативных подразделений. В масштабах страны институт был уникальным подразделением, поскольку располагал закрытой и открытой информацией.
Любые успехи разведки, в том числе и те, о которых я рассказал выше, были бы попросту невозможны, не располагай мы агентурной сетью за рубежом. Одними нелегалами, число которых довольно ограничено, все задачи выполнить невозможно. К тому же трудно предугадать, какие сведения потребуются завтра, и заранее внедрить наших разведчиков на все необходимые позиции. У разведчиков же, работающих в стране под официальным прикрытием, возможность добывать интересующие нас сведения только одна – через местных граждан и граждан других стран. А когда речь идет о целенаправленной информации, тем более носящей секретный характер, то достичь ожидаемого результата можно только с помощью агентуры. Даже самая современная техника здесь оказывается малоэффективной. Поэтому важнейшей составляющей в деятельности разведки по-прежнему является агентурная работа. На этом направлении успехи советской разведки неоспоримы.
Многие из наших агентов работали на советскую разведку, руководствуясь своими убеждениями, в других случаях превалировал чисто меркантильный интерес, по крайней мере в начале сотрудничества. Что касается материальных затрат на оплату работы наших источников, то они, я считаю, были минимальными.
Материальная сторона дела вообще не была определяющей в наших отношениях с агентами. Расходы на оплату услуг ценнейших источников информации окупались с лихвой. Однако ни наша служба, ни тем более сам агент не допускали небрежности в передаче и расходовании полученных от нас средств, отлично сознавая, что этот деликатный момент таит в себе немало опасностей.
Часто американцы пытаются утверждать, что выявление того или иного нашего агента явилось результатом его неосторожного обращения с денежными средствами, привлекшего внимание соседей или соответствующих налоговых органов. Могу с уверенностью сказать, что это весьма неуклюжий способ скрыть истинную причину провала агента.
В случаях с ценнейшей агентурой причиной провала почти на сто процентов является предательство в нашей среде или, что тоже бывало, хотя и редко, донос кого-то из ближайшего окружения агента, включая его родственников. В этом мы убедились не на одном примере, и потому в последние годы каждый провал исследовался прежде всего исходя из подобных предположений.
Есть, конечно, еще одна опасность. В ходе длительной работы волей-неволей притупляется бдительность, появляется чувство безнаказанности, и провал может произойти из-за элементарной неосмотрительности. Но этого никогда не случалось с наиболее ценными и потому особо оберегаемыми нами источниками – ведь все понимали, что ставкой в этой рискованной игре чаще всего является сама жизнь.
У нас был один ценнейший агент, который работал на советскую разведку около 40 лет. Многое было сделано им для укрепления нашей обороноспособности. Он работал, не считаясь с риском, и при этом наотрез отказывался от какого-либо вознаграждения. Будучи в душе искренним другом Советского Союза, тем не менее среди своих сослуживцев и даже дома он слыл оголтелым антисоветчиком, в таком же духе воспитал и своих детей.
Одной нашей резидентурой были получены достоверные данные о том, что среднего уровня чиновник, имевший доступ к весьма ценной военно-политической информации, попал в крайне тяжелое материальное положение и испытывает в связи с этим серьезные трудности. Прямой выход на него советского разведчика вряд ли имел бы шансы на успех из-за патологической ненависти чиновника к Советскому Союзу. Поэтому было признано целесообразным использовать в работе с ним чужой флаг.
Усилиями резидентуры в сопредельной стране были созданы условия для более глубокого и всестороннего изучения объекта вербовки и подведения к нему нашего опытного разведчика-нелегала под видом гражданина третьей страны. Первый контакт посеял у нас немало сомнений в реальности достижения поставленной цели – иностранец воспринял зондаж довольно холодно.
Тем не менее работа с ним была продолжена, и благодаря мастерству и находчивости нашего разведчика дела постепенно стали налаживаться, более того, со временем удалось перевести начавшееся сотрудничество в плоскость близких личных отношений.
В какой-то момент у нашего нового помощника возникли подозрения насчет принадлежности оперативного работника к той стране, от имени которой он выступал. Чтобы развеять их, приходилось регулярно подпитывать разведчика свежей информацией, в том числе и сугубо местного значения, разработать для подкрепления его легенды целый комплекс других мер.
Наши усилия увенчались успехом: контакты получили нужное развитие и сотрудничество – якобы на третью страну – пошло как и положено.
Шло время, работа продолжалась к взаимному удовлетворению обеих сторон. И тут произошло непредвиденное: один переданный источником материал, имевший особую важность и срочность, без согласования с нами был реализован Министерством иностранных дел в печати.
По этой публикации наш агент сразу понял, на кого он работает в действительности. Последовало бурное объяснение, после которого у нашего разведчика, да и в центре возникли опасения, что мы можем потерять ценного агента. Но все, к счастью, обошлось, сотрудничество не прекратилось, интенсивность передачи материалов не снизилась, скорее наоборот, а тематика поступающих от агента данных была скорректирована в нужном для нас направлении.
Спустя несколько лет агент ушел в отставку и лишился возможности добывать нужные для нас сведения. Однако мы продолжали оказывать ему помощь, что воспринималось им, надо сказать, с большой признательностью.
За время сотрудничества с нами у этого человека в корне изменились взгляды в отношении Советского Союза – он стал не просто агентом, но и нашим соратником. Возникал даже вопрос, не организовать ли ему закрытую поездку в Советский Союз в знак нашей признательности за оказанную помощь? Но в конечном счете решили все-таки не искушать судьбу и от этой затеи отказались.
Несколько лет советская разведка поддерживала контакт с одним важным источником информации. Это был довольно необычный случай. Дело в том, что агент, хотя давно и активно работал на нас, тем не менее не раскрывал перед нами своего имени. Более того, мы даже не знали его в лицо!
На контакт с ним выходили дважды в год, причем время и место проведения операции он также всегда подбирал сам. Каждый раз он видел нас, а вот мы его нет.
Но однажды наш разведчик, прибыв на очередную встречу с этим необычным агентом, заметил у назначенного места наружное наблюдение. Операцию тут же отменили и стали дожидаться запасного варианта. Но и на следующей встрече заметили опасность – опять осечка.
Мы с большим трудом подали об этом сигнал нашему источнику, спасли его, но надолго потеряли контакт с ним. Одно время мы даже полагали, что он больше вообще не выйдет на связь. Но в советской разведке неукоснительно действует принцип: главное – безопасность источника. Кто начинал работать с нами, вскоре убеждался в этом. Кстати, такой подход оказывал благотворное моральное воздействие на наших помощников.
К числу интересных приобретений советской разведки в 80-х годах следует отнести Эдварда Ли Ховарда, гражданина США, бывшего сотрудника ЦРУ, которого планировали использовать под прикрытием посольства США в Москве для поддержания контактов с ценной американской агентурой в нашей стране. Однако перед самой отправкой в Советский Союз Ховард повздорил с начальством и вконец испортил отношения со своим ведомством.
В ЦРУ сочли невозможным оставлять Ховарда в разведке, и он вынужден был распрощаться с прежней работой. Случившееся настолько задело самолюбие опального разведчика, что он стал подумывать о том, чтобы покинуть Соединенные Штаты и переехать на жительство в другую страну.
О выезде в Советский Союз он поначалу и не помышлял. По причинам, которые я не буду здесь обсуждать, Ховард случайно попал под подозрение американской контрразведки. Она не только не выпускала Ховарда из виду, но и установила за ним плотное наружное наблюдение.
Обнаружив слежку, Ховард принял окончательное решение покинуть США и направиться в Советский Союз. В сентябре 1985 года в одной из европейских стран наша служба установила с ним контакт и помогла благополучно добраться до Москвы.
Начался непростой период адаптации Ховарда к условиям жизни в Советском Союзе. Будучи широко образованным и интеллектуально развитым человеком, он, однако, обладал крайне неустойчивой психикой, был легко раним. Тяжело переживая разлуку с семьей, прежде всего с женой и сыном, к которым был искренне привязан, Ховард часто впадал в депрессию. Настроение его менялось по нескольку раз на день, причем, казалось бы, без всякой на то причины.
От безудержного веселья через минуту могло не остаться и следа, доброжелательность и общительность легко переходили в замкнутость и даже агрессивность. В часы нервных срывов с ним могли общаться только наиболее близкие ему люди.
Но такие приступы проходили сравнительно быстро, и тогда перед нами вновь представал умный и тактичный собеседник, внимательно прислушивающийся к советам и пожеланиям, досконально выясняющий все интересующие его вопросы.
Ховард обладал широкой эрудицией, неплохо разбирался в экономике, финансовых проблемах, а бизнесмен он, как говорится, вообще от Бога. Имея денежные сбережения на счетах западных банков, Ховард активно играл на разнице курсов валют и почти никогда не оставался в проигрыше.
С согласия Ховарда несколько советских специалистов были ознакомлены с его методикой и приемами извлечения выгоды из игры на валютной бирже и дали им высокую оценку. Практическую ценность имели и предоставленные им сведения о практике работы со вкладами частных лиц в банках некоторых западных стран. Пожалуй, лишь к политике он не только не питал никакого интереса, но даже испытывал какое-то отвращение.
Ховарда с полным на то основанием можно назвать смелым человеком, но с явным налетом авантюризма и любви к бесшабашному, не всегда оправданному риску.
Несмотря на привязанность к жене и сыну, Ховард через некоторое время общения с ними начинал испытывать потребность в смене обстановки, ему нужны были новые впечатления.
Он охотно совершал поездки по стране, старался лучше познакомиться с Советским Союзом, побывал на Кавказе, Украине, в Сибири, Прибалтике.
Конечно, по своим личным данным и моральным качествам Ховард явно не подходил для работы в ЦРУ, он это и сам понимал. Но и ему ЦРУ нравилось не больше: правдоискателю, вечно борющемуся с несправедливостью, претила сама природа этой организации, формы и методы ее работы.
А вот для советской разведки Ховард представлял значительный оперативный интерес. За многие годы это был первый сотрудник ЦРУ, готовившийся для работы в американской резидентуре в Москве, который пришел к нам по личной инициативе. Потому-то наше сотрудничество и оказалось столь эффективным.
Желание Ховарда побывать на Западе и решить там некоторые личные дела привело к тому, что он несколько раз под чужой фамилией выезжал в другие страны, с удовлетворением отмечая отменное качество изготовленных нами документов, которые выдерживали самую строгую проверку. Более того, Ховард посетил даже Соединенные Штаты, что он расценил, по-моему, как поистине упоительное приключение. Ему, как он сам признавался, доставило большое наслаждение в очередной раз провести ЦРУ. Правда, пробыл он в Штатах недолго – не стоило испытывать судьбу.
Ховард, несомненно, был патриотом своей страны, любил родину, тяжело переживал разлуку с ней. Он решился на отъезд в Советский Союз, до глубины души оскорбленный несправедливостью, которая, по его мнению, была допущена по отношению к нему. Его и в самом деле лишили заработка, расторгли договор, поломав тем самым все материальные расчеты семьи.
Ховард скрупулезно подсчитал нанесенный ему ущерб и в разговорах не раз возвращался к этой теме.
Вообще Ховард всегда крайне болезненно реагировал на ущемление своих прав. Поэтому за долгие годы жизни в нашей стране он так и не смог привыкнуть к некоторым сторонам нашей действительности, например к нашей сфере обслуживания, которая возмущала его с самого первого дня. Он частенько устраивал разборки в магазинах, наивно пытаясь втолковать нашим продавцам такой понятный для американца принцип, что клиент всегда прав.
Потом Ховард лишился заботливого покровительства в нашем лице, и я не могу исключать того, что в один прекрасный день его могут сдать, так же как это сделали с целым рядом других помощников советской разведки. Именно поэтому я и не говорю о конкретных моментах нашего общения с этим человеком, могу только сказать, что оно явилось для нас поистине бесценным, помогло решить несколько действительно крупных проблем.
Просто для размышления могу сказать, что деятельность в пользу американской разведки бывшего сотрудника одного из наших научно-исследовательских институтов нанесла государству ущерб, исчислявшийся миллиардами долларов. Ущерб же от передачи сведений, наносящих ущерб безопасности государства, вообще не поддается какой-либо оценке, поскольку невозможно сказать, сколько стоит сама безопасность. А с помощью Ховарда нам удалось перекрыть опасные каналы утечки жизненно важной для безопасности СССР информации.
Нелепый случай преждевременно оборвал жизнь этого незаурядного человека. В июле 2002 года Ховард случайно упал на своей подмосковной даче, получил тяжелую травму и скончался. Ему было всего 50 лет. Жена с сыном приехали из Штатов в Москву и увезли урну с его прахом на родину. Не думаю, что история Эдварда Ли Ховарда на этом завершилась. Его жизнь – стоящий сюжет для художественного фильма – содержательного, захватывающего, поучительного.
Сведения на агентуру во всех спецслужбах – наиболее оберегаемые оперативные данные. Лишь весьма ограниченный круг лиц в разведке и контрразведке может быть осведомлен о действующих агентах. А о наиболее важном агенте в спецслужбе, как правило, знают всего несколько человек: три-пять, не более. Только таким образом можно снизить до минимума риск утечки.
Но в любой самой строгой системе есть свои изъяны и слабые места. По ходу работы хотя бы косвенные данные об агентах неизбежно становятся известными более широкому кругу сотрудников. Всю эту механику хорошо представляют себе в любой спецслужбе и используют малейший промах противника для того, чтобы проникнуть в его святая святых, получить доступ к информации о его агентуре.
Приобретение в последнее время нужных источников на этом направлении, то есть агентов непосредственно в спецслужбах противника, – несомненно, огромная удача советской разведки и контрразведки, плод усилий всего коллектива.
Оперативный аспект работы с агентурой из числа сотрудников спецслужб особенно важен и сложен. Здесь нужно прежде всего остерегаться провала. Ведь в случае подозрения сотрудника спецслужбы в измене для проверки этой версии применяют весь арсенал средств, причем с учетом того, что приходится иметь дело с профессионалами, работа эта ведется особо филигранно. Кроме того, есть все возможности организовать тонкую проверку, в ходе которой представляется шанс выявить, является ли данное лицо каналом утечки информации или нет.
Поэтому к работе по спецслужбам привлекаются самые опытные сотрудники, наделенные необходимыми для этого качествами, и для них работа с источником из спецслужб становится как бы второй жизнью.
Именно благодаря агентурной работе по спецслужбам противника нам удалось выявить довольно разветвленную агентурную сеть в нашей стране. При этом первостепенное значение придавалось сведениям по агентуре противника из числа сотрудников органов госбезопасности и Главного разведывательного управления Министерства обороны.
Те, кто вышел на ценные источники из числа сотрудников спецслужб и закрепил с ними отношения, заслуживают самой высокой похвалы. Они были щедро вознаграждены и внутренне имеют все основания испытывать чувство законного удовлетворения. Но открытая слава, публичное признание придут к ним значительно позже, быть может, уже не при их жизни.
Помимо несомненных успехов, которые имела наша разведка, были, конечно, и провалы, тяжелые поражения. Это происходило в условиях все усиливающейся подрывной деятельности западных спецслужб и нашей «податливости» и уступчивости в политике по многим вопросам.
Предательство – это самое тяжелое, самое страшное событие для органов госбезопасности, и особенно для их разведывательных служб. Ущерб от такого предательства может достигать значительных масштабов, иногда исчисляется миллиардами рублей и оборачивается, соответственно, не меньшим приобретением для государства, на которое работает агент.
Наиболее трудная задача по пресечению агентурного проникновения – получение сведений хотя бы о малейших признаках деятельности источника противной стороны. Добыча же прямых, конкретных данных на агентуру – дело вообще исключительно трудное. В истории советских органов госбезопасности таких удач было не так уж много, и эти разоблачения по праву считаются нашим крупнейшим оперативным завоеванием.
В конце 70-х годов руководство советской разведки решительно отказалось от продолжения ряда конкретных разработок по поиску агентуры противника ввиду их явной бесперспективности. Отдельные из таких оперативных дел велись по инициативе бывшего руководителя внешней контрразведки Первого главного управления Калугина.
Не хочу утверждать, что Калугин во всех случаях сознательно направлял усилия советской разведки по ложному следу, однако не вызывало сомнений другое – очевидная бесперспективность таких разработок; и при этом велись дела, которые для многих представлялись никчемными, хотя усилий на них затрачивалось немало.
Помню одно из таких дел. После очередного доклада Калугин внес предложение о возбуждении уголовного дела в отношении одного сотрудника Первого главного управления, который, по его мнению, мог быть связан с одной из западных разведок, причем, опять же по его мнению, оснований для таких подозрений было достаточно. В случае его ареста, утверждал Калугин, дело кончится положительным результатом: подозреваемый не вынесет психологических нагрузок и даст признательные показания.
Внимательное ознакомление с делом убедило меня в том, что такое утверждение не имеет под собой никакой серьезной почвы. Я решительно выступил против и предложил вообще прекратить дальнейшую разработку.
Спустя некоторое время сотрудник, в отношении которого Калугиным предлагалась такая мера, внес существенный вклад в работу на одном из важных направлений внешней контрразведки и помог в разоблачении агентуры противника.
Конечно, это наводило на размышления. Я неоднократно прокручивал в памяти этот случай и не мог отделаться от горького ощущения, что в случае принятия предложения Калугина мы не только пошли бы по ложному следу, но и поломали бы судьбу человека, что в конце концов обернулось бы трагедией для сотрудника и серьезными издержками для службы.
Лишь в начале 80-х годов ценой огромных усилий советской разведки и контрразведки удалось выйти на обширную агентурную сеть в Советском Союзе, получить не только косвенные данные, но и конкретные имена. Речь идет о разоблачении десятков агентов западных спецслужб, вербовка которых состоялась в разное время – от одного года до тридцати лет назад.
Помимо активно действующих предателей были и такие, кто по возрасту уже отошел от дел, а некоторых к тому времени и вовсе не было в живых. Когда был подведен итог работы Калугина на посту заместителя руководителя, а затем и руководителя внешней контрразведки, то вывод оказался любопытным: за годы работы Калугина на этом участке были далеко не единичными случаи вербовки противниками наших сотрудников, а вот разоблачений, пресечений предательства – ни одного!
Наши предположения о серьезном, глубоком проникновении западных спецслужб в органы госбезопасности, военную разведку, научные центры, на важнейшие объекты промышленного производства и в некоторые другие организации, к сожалению, получали новые подтверждения, всплывали новые имена. Заново были подвергнуты основательному объективному анализу поступившие в разведку и контрразведку сигналы об агентурной деятельности противника.
Были изучены также появившиеся в разные годы публикации в средствах массовой информации, изданные за рубежом книги, а также доклады, представленные спецслужбами парламентам и руководству тех или иных стран.
Естественно, нас и раньше настораживали труднообъяснимые провалы советской разведки и контрразведки, накладки, возникавшие в ходе отдельных операций, неудачные попытки, казалось бы, вполне реального проникновения в соответствующие структуры ведущих капиталистических стран. Косвенных данных о наличии предателей накопилось множество, но ниточки, ведущие к источникам, размотать до конца никак не удавалось.
Безуспешные попытки разоблачить агентуру, разумеется, доставляли нам немало беспокойства. Появилась нервозность, от сознания собственного бессилия у некоторых буквально опускались руки.
В таких условиях важно было прежде всего сохранить моральный климат в коллективе, не дать разгуляться волне шпиономании, избежать необоснованных подозрений в отношении честных сотрудников, а главное, не ослаблять усилия и продолжать целенаправленную работу по выявлению агентуры в наших рядах.
Я, как руководитель разведки, пытался успокоить товарищей, призывал проявлять выдержку, стремился вселить в них веру в успех, хотя и сам находился под гнетом тяжелых раздумий.
Кстати, не лучшие времена переживала и наша внутренняя контрразведка. Ее сотрудники также отдавали себе отчет в том, что в Советском Союзе действует агентура противника – соответствующие сигналы поступали и к ним. Были на счету контрразведки и отдельные разоблачения, но они погоды не делали. Солидных же успехов и у них, однако, тоже не было.
Среди контрразведчиков появилась даже довольно любопытная теория, согласно которой нашим контрразведывательным подразделениям как в центре, так и на местах якобы удается пресекать попытки агентурного проникновения в нашу страну в самом начале и тем, дескать, не допускать более глубокого внедрения агентуры в государственные структуры. Для меня же было абсолютно ясно, что подобная точка зрения является всего лишь попыткой как-то объяснить отсутствие результатов в борьбе с действующей агентурой, и не более того.
Действительно, наша контрразведка ежегодно разоблачала по нескольку инициативников, которые стремились установить контакты с представителями западных стран, в основном работавшими в посольствах. В ходе таких контактов инициативники предлагали подчас представляющие интерес для Запада материалы, однако далеко не все из них представляли серьезную опасность для нашего государства. Но эти разоблачения не могли объяснить, например, фактов многочисленных провалов, с которыми сталкивалась разведка.
Итак, не вызывало сомнений, что требуются дополнительные согласованные усилия разведки и контрразведки, а точнее, постоянное более тесное взаимодействие между ними для того, чтобы выявить каналы агентурного проникновения в нашу страну, ликвидировать уже существующую шпионскую сеть и, опираясь на полученные результаты, надежно перекрыть пути проникновения западных спецслужб в будущем.
Стоит отметить вклад бывшего начальника внешней контрразведки ПГУ Анатолия Киреева в выявлении иностранной агентуры.
Под руководством Киреева в конце 70-х – начале 80-х годов в ПГУ работала группа опытных оперативных работников специально по выявлению агентуры.
Это исключительно сложная, кропотливая, требующая длительных по времени усилий работа. В распоряжении оказывался подчас небольшой отрывочный признак, сигнал, отталкиваясь от которого оперативный работник по неведомым лабиринтам разработки добирается до цели.
Киреев лично провел ряд весьма успешных, высокопрофессиональных операций, был настойчив и целеустремлен, вкладывал много сил и старания. Смело отбросил шаблоны, по-новому подошел к оценке и анализу когда-то проверявшихся и положенных на полки сигналов. Несколько лет назад он умер, тяжелая болезнь подкосила его.
К середине 1985 года появились первые ощутимые успехи на этом пути. Перед нами встал вопрос о том, чтобы оптимальным образом решить две главные задачи: во-первых, обеспечить безопасность каналов получения нами этой информации и, во-вторых, в полной мере реализовать добытые материалы.
Обе задачи были тесно взаимосвязаны, но в какой-то мере и исключали одна другую. На первое место, как и всегда в таких случаях, ставилась задача обеспечения безопасности нашей собственной агентуры. Это диктовалось не только интересами службы, но и морально-нравственными соображениями, продиктованными нашими обязательствами перед источниками. Реализация материалов поэтому осуществлялась поэтапно, по мере того как были предприняты все необходимые меры по выведению из-под удара того или иного нашего агента.
По предложению разведки было строго оговорено, что контрразведка не вправе самостоятельно реализовывать полученные от нас данные, предпринимать какие-либо шаги без согласия Первого главного управления. Эта договоренность в принципе соблюдалась, хотя и были достойные сожаления промахи, которые доставили нам немало хлопот и привели к серьезным издержкам.
Был случай, когда пришлось проводить очень сложную и рискованную операцию для спасения одного нашего весьма ценного источника только из-за того, что контрразведка не проявила должной выдержки и решилась на необдуманный шаг по реализации полученных от нас материалов, даже не предупредив заблаговременно разведку о готовящейся акции.
И все же, несмотря на всю сложность этой масштабной операции, в целом она проходила успешно. Органы контрразведки, а затем и следствие провели огромную работу по составлению довольно полной картины деятельности завербованных лиц, определению и локализации причиненного ущерба и принятию мер по предупреждению подобных рецидивов в будущем.
Для аналитической работы был получен богатейший материал: ранее имевшиеся косвенные сведения, отдельные сигналы, мимо которых иногда просто проходили, сопоставлялись с имеющимися теперь доказательствами.
Предварительное и судебное расследование по сугубо конкретным делам также давало богатую пищу для анализа, определения оптимальных путей дальнейшей оперативной работы. Удалось составить поучительный портрет предателя, генезис явления предательства как такового.
Стали очевиднее изъяны в нашей кадровой работе. Почти во всех случаях выявлялась одна печальная истина: ущерб мог бы быть значительно меньшим, если бы строго соблюдались установленные нормы оперативно-служебной деятельности, секретного делопроизводства, если бы в учете и обработке информации, а также при ее реализации неукоснительно соблюдались все правила конспирации.
Причины лежали не в самой системе, а в той расхлябанности, небрежности, потере бдительности, которые, к сожалению, проявлялись у многих наших сотрудников. Что и говорить, оценки были нелицеприятными, но должные выводы из них мы сделали.
К числу наиболее ярких оперативных приобретений советской разведки и открывшихся после этого огромных, без преувеличения уникальных возможностей, причем в области исключительных интересов Советского государства, а затем и России, следует, несомненно, отнести Олдрича Эймса. Никакой оценочной шкалой невозможно измерить его значимость, и нет той награды, которая была бы достаточной для того, чтобы достойно отметить труд тех, кто работал с ним за границей и в Центре. Эймс не только был сотрудником Центрального разведывательного управления, он работал на советском направлении, то есть имел прямое отношение к агентурной работе спецслужб Соединенных Штатов в Советском Союзе и к нашей разведывательной деятельности в Америке.
На протяжении длительного времени, в течение, пожалуй, 20–25 лет, в 60-х – начале 80-х годов, советские спецслужбы – контрразведка и разведка – имели, прямо скажем, совершенно неудовлетворительные результаты в борьбе с иностранным агентурным проникновением. Были единичные случаи разоблачений – например, дела полковника Главного разведывательного управления (военная разведка) Пеньковского (1962 год), Ветрова – сотрудника внешней разведки КГБ СССР (1982 год), еще нескольких менее значимых фигур. Однако это было не очищением наших рядов, а скорее еще одним подтверждением наличия довольно разветвленной сети агентуры противника в важных государственных объектах Советского Союза. Разоблачения носили эпизодический, в принципе случайный характер. Получаемые в то время сведения не оставляли никаких сомнений в том, что наш оперативный противник не только внедрился в ряд важнейших государственных объектов, но и продолжал укреплять свои позиции с большим заделом на будущее.
Что особенно настораживало? Необъяснимые провалы в нашей оперативной работе, упреждающие акции противника, утечка сведений, прицельные акции в отношении наших оперативных сотрудников, еще, казалось, ничего не сделавших для своей засветки. Ничем иным, как наличием агентуры зарубежных спецслужб в Министерстве обороны, Главном разведывательном управлении Генштаба, Комитете госбезопасности, Министерстве иностранных дел, Министерстве внешней торговли и ряде других ведомств и учреждений, объяснить все это было невозможно.
Нужно было спасать положение, и тут в общем-то было два выхода.
Первый – тотальная проверка целой армии сотрудников, имевших то или иное отношение к государственным секретам. Но это было бы грубым нарушением закона, прав человека, к тому же на это просто не хватило бы никаких сил и возможностей.
Второй – проникновение в те организации, в те структуры других государств, где находятся оперативные сведения на интересующих нас лиц.
Конечно, Комитетом госбезопасности принимались необходимые меры, в частности, на территории Советского Союза: оперативные игры, проверки для выявления возможных каналов утечки секретов и обнаружения признаков интереса к ним со стороны западных спецслужб. Такие игры и проверки охватывали не только отдельные объекты, но и целые отрасли, значительные территории, были длительными по срокам проведения. Все это требовало большой организаторской работы, значительных сил и средств.
Поступали представляющие интерес сведения, обобщенные материалы, в частности, о положении дел по охране секретов на закрытых объектах, но все-таки конкретных результатов мы не получали, фактов выявления и разоблачения агентуры не было.
В чем заключались основные трудности в приобретении столь нужных нам позиций в спецслужбах противника? Уже сам подход к сотруднику специальной службы – задача со многими неизвестными. Ведь речь идет о профессионале, который прошел соответствующую подготовку и приобрел опыт работы по вербовке агентуры. Он, как правило, дисциплинирован, строго соблюдает режим работы, нормы поведения, осведомлен об устремлениях и практике деятельности противной спецслужбы, и потому весьма затруднительно установить с ним прямой контакт. Профессионал, будь то разведчик или контрразведчик, отчетливо понимает смысл проявляемого к нему интереса и, как правило, немедленно докладывает обо всем руководству. Почти всегда, за редким исключением, даже безобидный контакт с ним может послужить поводом для осложнений, неприятностей на политическом уровне. Поэтому крайне важным, даже непременным условием является добровольность, личное желание сотрудничать с нашей службой. Другое дело – на какой основе. Все зависит от мотивов решения источника работать с нами.
Почти в каждом случае приходится решать проблему материального фактора. Она неизбежно возникает, но далеко не всегда является определяющей и решающей. Обобщая, можно сделать такой вывод: в работе советской разведки материальная сторона не играла первостепенной роли. Нам не удавалось поддерживать прочные связи и добиваться необходимых результатов, если источник не проявлял хотя бы минимального понимания целей и устремлений советской разведки, интересов Советского государства. Только такое понимание создавало положительный морально-политический фон для нашей работы. Судя по всему, у России в последние годы возникли определенные трудности именно в этом отношении. В советское время, даже если источник и был политически и идейно не во всем с нами согласен, он, как правило, в более или менее значительной степени всегда разделял наши взгляды и позиции. На основе многолетнего опыта можно выделить то главное, что сближало политические позиции советского разведчика с источником из числа граждан другой страны. Это социальная политика нашего государства, достойный уровень жизни подавляющей части людей. Иностранцам импонировали общественный порядок, безопасность граждан. Уровень культурной жизни, система образования, доступ к науке вызывали глубокие симпатии. Добрые, равноправные отношения между многочисленными национальностями были предметом нашей особой гордости и вызывали большой интерес за рубежом, где во многих регионах кровавые конфликты на межнациональной почве следовали один за другим. Советский Союз демонстрировал высокие достижения в науке и технике, что было очевидно и признавалось во всем мире. Международные позиции Советского государства отличались прочностью и большим влиянием.
Что предопределило серьезные успехи советской разведки и контрразведки в приобретении в 80-х годах столь нужной нам агентуры в важных объектах за рубежом, и в частности в иностранных спецслужбах? Прежде всего становился более благоприятным политический фон. Ветер перемен в Советском Союзе оказывал свое воздействие на умонастроения людей в других странах. На первых порах речь ведь не шла об отказе от социализма. Провозглашалось обновление общества под девизом: «Больше социализма, больше демократии!» На Западе считали, что Советский Союз усилит свое международное влияние, с чем не смогут не считаться ведущие капиталистические страны. Люди во всем мире потянулись к нам с новым интересом, увидев в грядущих переменах возможность умножения мощи нашей державы, усиления ее влияния на дела в мире. Мало кто думал в 1985–1986 годах, что перестройка обернется другой, негативной, разрушительной стороной и дела в нашей стране и в мире в целом пойдут не так, как представлялось поначалу.
Есть и еще одно весьма важное обстоятельство, которое сопутствовало успехам в нашей оперативной работе. Речь идет о методах, приемах, да и сути оперативной деятельности советской разведки. Они исключали применение насилия, грубого психологического воздействия, вообще использования приемов, унижающих человеческое достоинство. Сотрудники западных и других спецслужб хорошо знали это, хотя буржуазная пропаганда утверждала совсем другое. Сотрудники иностранных спецслужб отлично знали и то, что советская разведка неизменно проявляла заботу о личной безопасности источника. Тот, кто вступал на путь сотрудничества с нами, чувствовал это с первых же шагов. Ни одна операция по связи с агентом, ни одно оперативное мероприятие не проводились, если они таили в себе очевидную угрозу его личной безопасности.
Материальный фактор, конечно, присутствовал, когда это было главным условием сотрудничества агента с нами. Однако даже в тех случаях, когда материальное вознаграждение источнику не выплачивалось, мы старались проявлять ощутимую заботу о нем, особенно после того, когда он уходил со службы на пенсию по выслуге лет или по возрасту. Это было нужно не только источнику, но и нашим сотрудникам, поскольку воспитывало в них гуманный подход и прививало моральную ответственность перед теми, кто какое-то время был с нами вместе.
Короче говоря, для нас агент был прежде всего личностью – как по форме взаимоотношений, взаимодействия, так и по существу. Не были исключением и американцы. Молва гласит, что американцы, мол, исключительно прагматичны, переводят все на чистоган и, кроме денег, ничего не признают. Я убедился в том, что это далеко не так. Почти в каждом из них рано или поздно берет верх думающая личность.
Разумеется, агентурная работа требует соответствующего организационного обеспечения, постоянного анализа, обобщения, учета различных ситуаций при понимании того, что прямых аналогий в разведке нет, а тем более нет готовых рецептов на все случаи жизни. Главным же звеном во всей агентурной работе является оперативник, сам агентурист, имеющий природные и приобретенные данные для занятий именно этим видом деятельности. Конечно, не каждый агентурист обладает достаточно широким политическим кругозором, умением заниматься анализом политических проблем. Хотя идеальным является сочетание хороших аналитических способностей с умением работать с людьми. Но одно несомненно: сотрудник, побуждающий гражданина другой страны работать на свое государство, должен быть интеллектуалом.
Такова совокупность наиболее значимых факторов и мер, из которых исходила советская разведка в работе по приобретению иностранной агентуры. Вместе взятые, они дали свои результаты; именно разумное сочетание политических и оперативных сторон позволило в середине 80-х годов добиться прорыва на этом направлении. Однако в 1988–1989 годах бум прошел, и главная причина состояла в том, что изжили себя те позитивные факторы, о которых шла речь выше. Перестройка не только перестала давать положительный эффект, а наоборот, все более раскачивала обстановку в СССР и порождала за рубежом сомнения в способности сохранить Советское государство. В то время уже мало кто хотел иметь с нами дело. С одной стороны, из-за опасений за свою личную безопасность, а с другой – вследствие непонимания того, что происходило у нас и вокруг нашей страны. Именно тогда мир стал свидетелем, как в Советском Союзе деструктивными силами наносился удар за ударом по армии, органам госбезопасности, по всей системе государственности, как очернялась история, как поднимали руку на то, что не только является святыней для нашего народа, но и признается таковой во всем мире. Я имею в виду прежде всего попытки бросить тень на победу Советского Союза во Второй мировой войне.
Именно на рубеже начала перестройки и завязались наши связи с Олдричем Эймсом. Вскоре мы пришли к выводу, что согласие на сотрудничество с нами было с его стороны осознанным и искренним шагом. Я долго размышлял над побудительными мотивами его поступка и помимо общих причин, о которых сказал выше, пришел к выводу, что немаловажную роль в развитии контактов с ним сыграли личные качества тех, кто, будучи сотрудниками советских спецслужб и других организаций, изменил Родине и стал работать на США. Эймс хорошо знал их и мог составить о них полную картину. Все эти люди были ущербными в морально-нравственном отношении, склонными к злоупотреблению спиртным, меркантильными, исповедовавшими двойную мораль. Для них Родина, родители, близкие, друзья были мало что значащими понятиями. Не скажу, что все эти люди были карьеристами. Если кто-то из них и был подвержен этому, так опять-таки не потому, что испытывал обоснованное чувство ущемленности, а главным образом потому, что не мог без продвижения по службе удовлетворить свои эгоистические устремления. Некоторые из числа разоблаченных бывших сотрудников КГБ и ГРУ были приговорены к высшей мере наказания и расстреляны. На последней стадии рассмотрения их дел им было отказано в помиловании, и ни в суде, ни в комиссии по помилованию при Президиуме Верховного Совета СССР на этот счет ни разу не возникали разногласия. Как-то, уже позже, мне довелось поговорить с судьей, имевшим отношение к рассмотрению дела одного из таких лиц. Я поинтересовался побудительными мотивами столь строгого подхода. Ответ был однозначным: всеми осужденными за измену Родине двигало одно – эгоизм, корыстолюбие. Речь не шла о перемене отношения к советской идеологии, о стремлении изменить социально-политический строй в нашей стране или о коренном несогласии с внутренней и внешней политикой. Нет! Тут сомнений у них не возникало, и свои взгляды на основополагающие ценности они не меняли. Характерно, что каждый из них, анализируя в ходе следствия и суда свое перерождение, не находил для себя оправдания и считал, что весь порочный путь к трагическому финалу проделал по собственной вине.











