Читать онлайн Суринам
- Автор: Олег Радзинский
- Жанр: Современная русская литература
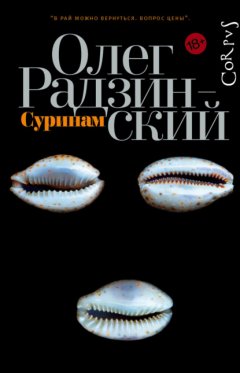
Что там, за занавесью тьмы?
Омар Хайям
НЬЮ-ЙОРК 1
ОТЕЛЬ, куда они ездили ту зиму, был вовсе не отель, а дешёвый мотель; им владела толстая индианка. Мотель был недалеко от дома его женщины, но об этом оба старались не думать.
Когда они приехали первый раз — шёл дождь, и небо пыталось сесть на деревья пониже, — Илья заполнил регистрационные формы на мистера и миссис Джоунз. Номер машины он также записал неправильно, но не потому, что хотел обмануть, а просто не помнил. Выходить же под дождь и смотреть было глупо. «Впрочем, — решил тогда Илья, — у мистера и миссис Джоунз мог быть именно такой номер». Самое интересное — он угадал: от мистера и миссис Джоунз можно было ожидать чего угодно.
С той поры они обжили все комнаты в мотеле — все девять. Их любимой стала шестая. Собственно, от других она не отличалась ничем, кроме номера.
Комнаты были обшиты сосновыми досками, и это, как все деревянное, напоминало Россию. Окна, выходившие на дорогу, были закрыты тяжёлыми шторами, и потому темнота наступала, как только закроешь дверь. От досок темнота казалась коричневатой и раздвигала стены в невидимый простор.
В комнате всегда стояла ночь, и это было важно: ведь других ночей у них не было. Все их ночи случались днем, раз в неделю, и длились четыре часа оплаченного гостиничного времени. Short-rest stay — это было название их любви. Это было название светившейся деревом темноты и скользящих по телу губ. А мимо — по дороге на Филадельфию — спешили машины, проникая в их украденную сосновую ночь шелестом шин и общим безразличием дня.
Перед тем как расстаться — до следующей недели, — женщина плакала. Потом она уходила в ванную и долго, старательно красилась. Илья молчал и ждал, пока они выйдут из номера, оставив позади свою любовь, шёпот незначащих слов и память тел о недавней близости. Ключ они клали на телевизор: за номер Илья платил заранее.
Прощание на станции было коротким: их могли увидеть её знакомые. Илья садился в электричку и ехал обратно в Нью-Йорк, в другую жизнь, домой. А женщина возвращалась в свою жизнь, где ему не было места.
И снова начинало тянуться их параллельное существование — до следующей недели. В этой, отдельной от неё жизни, были другие женщины, появлявшиеся на ночь, на две, редко дольше. Илья говорил им те же слова, что и ей, только по-английски.
Однажды — ещё до того четверга — Илья рассказал Антону о странной несвязности, отдельности своих существований: словно он живёт много жизней за много разных людей. Некоторые жизни жились линейно, одна за другой, но такие разные, такие не имеющие отношения друг к другу, что порой Илье не верилось, будто это происходит с ним одним. Другие жизни жились параллельно, словно в смежных пространствах, и он переходил из одной реальности в другую, сосуществуя в разных своих проживаниях. Антон, живший связно и последовательно, логично живший, советовал Илье подумать, для чего это дано.
— Всё — урок, — говорил Антон; это был период его увлечения каббалой. — События важны не сами по себе, а для осознания урока: что нам пытаются сказать, чему научить.
Отец Антона был известный гурджиевец, ещё с Москвы. По четвергам в их квартире в Граммерси Парк собиралась двуязычная эзотерически настроенная толпа, и люди яростно спорили о давно ненужных вещах.
Антон — младший сын — сидел молча и слушал. Семья не считала Антона умным ребенком. Умным, гениальным даже, слыл его брат, которого Илья никогда не видел. Антон в семье считался красивым, и им был.
Про брата в их доме не говорили, и Илья узнал о нём не сразу. Как-то Антон сказал, что последние три года они жили в одной комнате и молчали. Брат перестал разговаривать, не отвечал, когда к нему обращались, и Антон прекратил попытки пробиться в это отдельное существование; он тоже замолчал. Больше всего, сказал Антон, ему хотелось знать, молчат они об одном и том же или о разных вещах.
Потом брат ушёл.
Родители пытались его отыскать, но постепенно смирились с его отсутствием, как Антон когда-то смирился с тишиной в делимом ими пространстве. Позже выяснилось, что- брат уехал; куда, не знал никто. Просто уехал. В никуда.
— И что, он так ничего и не сказал за три года? — не мог поверить Илья. — Ни слова?
— Ни слова, — подтверждал Антон. — По крайней мере, со мной. Последний год он даже из квартиры не выходил. Сначала читал, а потом и читать перестал. Лежал и молчал. Ел раз в сутки, ночью, когда все спали. Я сначала подсматривал, а потом перестал: ну ест и ест.
Илья любил представлять этого брата: как тот лежал целыми днями и думал о тайных вещах.
Как ждал, когда все уйдут из дома смешиваться с новым ритмом вещей, вдыхать влажный воздух неродины и совершаться, реализовываться в чужой повседневности.
«Что он узнал такое, что сделало слова ненужными, нежелательными, дало возможность от всего отказаться?» — хотел понять Илья. Он видел это знание как тёмную вязкую живую массу внутри брата — тот был без имени, абстрактная отдельность от мира, что требует всё назвать.
Илья вспомнил, как в Лефортовской тюрьме он однажды делил камеру с таким молчуном. Там ещё была третья шконка — напротив двери, но она стояла пустая, и свет от лампочки под потолком тускло прятался в неровностях сварных швов её безматрасной голизны.
Антон соглашался, что брат мог узнать, познать, понять нечто за пределами ежедневного смысла, и это отделило его ото всех.
— Он же гений, — объяснял Антон. — И раньше таким был. Только разговаривал.
О брате Антон всегда говорил по-русски: тот был частью детства, всё ещё продолжавшегося там, в другой, далёкой стране, в другой реальности-нереальности, где когда-то были дача и бабушка.
— Кошка рожала каждое лето, — рассказывал Антон (уже по-английски). — Притом неясно от кого: на соседних дачах котов не было.
У него и теперь жила кошка, делившая его квартиру — узкий пенал студии на Ист 11-й Стрит — с ним и навещавшими его женщинами. Целый день кошка сидела в мутном окне четвёртого этажа и смотрела на жизнь.
Дом был без лифта, и лестница пахла всеми квартирами сразу. Напротив Антона жил сумасшедший старик-поляк; когда к Антону приходили гости, он открывал дверь и мочился наружу. Ночью дед ходил по этажам и разговаривал с призраками, населявшими его одиночество. Призраки сидели на перилах, матово светились и скучали. Старик им надоел, и они ждали, когда он умрёт.
НЬЮ-ЙОРК 2
BCE началось в тот четверг.
Илья жил в Нью-Йорке и пробовал побороть страх, едкий, как запах болезни: а что, если внешний, видимый мир — это всё и нет никакого иного, потаенного смысла за его материальной очевидностью. Верить в такое было невозможно, стыдно даже; где-то, сокрытое ото всех, пряталось тайное, конечное знание, которое нужно обнаружить и заслужить.
Был апрель, Илья точно помнил, что апрель, но не помнил, почему это так важно. Манхэттен цвёл тополями, и швейцары на Парк Авеню грелись на неожиданном солнце перед подъездами, прятавшими богатых от остальных. На улицах и в парках снова поселились бездомные. В городе стало больше света, длинноногих женщин и крыс.
В тот вечер Илья опоздал: он никак не мог закончить отчёт о дневной динамике между иеной и долларом, а его полагалось закончить до семи вечера. В семь по Нью-Йорку открывалась токийская биржа, и трейдеры должны были сформировать взгляд на валюты. На Уолл Стрит это называлось currency view. Илья отвечал за currency view. Обычно он заканчивал к шести и отправлял написанное — три страницы графиков и мнений — в торговый зал. Потом он отвечал на звонки трейдеров, которые требовали объяснений и задавали вопросы. Он знал их только по голосам и никогда не видел. Они жили в телефонной трубке, и Илью это устраивало. Он придумывал им жизни и не верил, что их реальность окажется интереснее его выдумок.
Но сегодня был четверг, и Илья опаздывал в другую реальность — свою собственную. Каждый четверг после работы он приходил в большую бестолковую квартиру родителей Антона, где говорили о неведомом и важном. Из окон их гостиной был виден прямоугольник Граммерси Парк. Граммерси Парк не был парком. Это был маленький сквер с детской горкой и качелями. Названия не соответствовали сути вещей. Особенно на центральном Манхэттене.
В тот четверг собралось до странного мало народу. Обычно приходило человек тридцать, часто больше, но в тот самый четверг людей в пустоватой гостиной Бреславских было много меньше, чем всегда. Илья пришёл последним — время уже лениво двигалось между восемью и следующим часом. Этот отрезок вечера всегда казался Илье самым медленным.
Спор шёл об ангелах. Ангелы как посредники между богом и людьми — зачем? Ави, бруклинский каббалист, много лет живший в Верхней Галилее, к северу от долины Бет-Керем, ёрзал верхом на стуле и кричал. Его черноглазая жена, привезённая из Израиля как трофей, сидела рядом, держа мужа за руку, и смотрела на Антона: она спала с ним последние несколько месяцев, по вторникам. Антону нравилось, что она всегда приносит что-нибудь вкусное для кошки.
— Понятно, откуда ангелы. — Ави проглатывал звуки, так что у него получалось «агелы». Когда речь шла об особенно важном, Ави проглатывал целые слова. — Талмуд ясно говорит, — кричал Ави, — ясно: «Ангелы пришли из Вавилона». До Первого Вавилонского пленения ангелов в иудаизме вообще не было. Ангелы — просто посланники, потому что он не хотел больше с людьми. Вот что важно: почему бог покинул людей. Он ушёл и оставил вместо себя книгу, которую нужно разгадать. Тора — это загадка: где бог? Как призвать обратно? Как сделать, чтобы он к нам вернулся?
Мать Антона меняла пепельницы и предлагала гостям травяной чай. Она оставалась красивой без всяких усилий, и каждый раз, когда они встречались глазами, Илья сознавал, что ей известны его мысли о ней. Это было стыдно, но не очень.
— Ави, — сказал Антон, — чтобы он вернулся, надо понять, почему он ушёл.
Антон сидел на полу: ноги скрещены, прямая спина. Он мог сидеть так часами — не уставая, не двигаясь. Ему хватало движений на работе: Антон преподавал каратэ в маленьком гимнастическом зале на Бауэри, который ближе к полуночи превращался в танцклуб. Хозяин клуба, Лэнни, пожилой танцовщик с синими волосами, безуспешно пытался его соблазнить обещаниями новых ощущений. Антон улыбался и говорил, что подумает. Он не хотел обижать Лэнни. Он просто не верил, что ощущения будут такими уж новыми.
— Я знаю, почему он ушёл. — Ави порывался встать, но жена держала его за руку: она знала, что стоя Ави начнёт кричать ещё громче. — Когда я учился в ешиве, нам рассказывали про Тамид: древние евреи дважды в день сжигали ягнят, утром и вечером. Это, собственно, и была основа их отношений с богом. Они сжигали ягнят, и бог питался дымом, воскурениями. Они кормили бога, и он защищал Израиль. Понимаете? Это и был договор между богом и евреями.
Илья был единственный, кто кивнул. Все остальные то ли не слушали, то ли не понимали. Хотя что тут было не понимать.
— И?.. — Илье хотелось поддержать Ави. — Что произошло?
— После первого разрушения Храма Тамид прервался. — Ави наконец прекратил попытки встать и послушно уселся рядом с женой. — Жрецов-левитов угнали в Вавилон, и некому стало кормить бога. Да и негде. Вся избранность евреев, собственно, и заключалась в этом обряде. А они перестали. И бог нас покинул.
— Да, — вздохнул отец Антона. — Теперь он ест где-то ещё.
Они выдерживали принятый здесь тон дискуссии: без пафоса и мистицизма. Здесь приветствовались лишь новые факты либо новые интерпретации уже известного. Считалось, что самое простое — часто самое верное. Самые парадоксальные вещи должны были произноситься обыденным тоном и несложными словами. Все, кто сюда приходил, уже прошли путь блуждающих в тайном знании и больше не верили в неясные объяснения мира. Тайна должна быть простой: покинул, потому что не кормили.
Илья работал аналитиком на Уолл Стрит и знал, что анализ строится на исключении всех возможностей, кроме одной — верной. Он предсказывал будущее каждый день. Для этого нужно было рассмотреть и исключить всё, что могло противоречить единственно возможной версии событий. Он решил начать с главного утверждения Ави и подвергнуть его сомнению.
— Почему же бог нас покинул? — спросил Илья. — Он продолжает себя проявлять. Надо только уметь читать знаки.
— Именно, — обрадовался Ави. — Теперь он себя проявляет, а раньше являл. И не только евреям. Всем. Почитай любые мифы: он или, скорее, они физически были с людьми. Учили, наказывали. Взаимодействовали. А потом пропали. Ушли.
— А Христос? — Илья пытался вспомнить другие свидетельства физической манифестации бога. Он просто решил начать с наиболее известной. — Бог явился как Христос.
— Вы действительно верите в эту историю? — Человек — он раньше молчал, сидя в углу, задвинутый столом, — был очень высок и как-то странно, неожиданно лыс. — Во что вы там верите?
Илье нравился Христос. Он не верил в него как в Сына Бога; скорее, Христос ему нравился как литературный персонаж. Илья вырос в литературной московской семье, и всё его детство прошло в разговорах о литературе. К родителям приходили друзья, и они говорили о книгах и тех, кто их написал. Больше они ни о чём не говорили. Илье казалось, что они все заблудились в литературе.
— Я верю, что Иисус был Христос, Мессия, Божий посланник, — сказал Илья. Он в это не верил, но ему нужно было выстроить аргументацию. Ему сразу не понравился этот высокий. Тот смотрел на Илью и отчего-то радостно сглатывал. — И не только посланник: он сам был божественен, что доказало его воскрешение. Стало быть, бог продолжал нам являться.
— Замечательно, — обрадовался высокий, — вы совершенно правы. Христианство как религия действительно организовано вокруг этих двух утверждений: Иисус был Христос, и он был распят, но воскрес. Всё остальное — биография, а не догматы веры. Его слово божественно, потому что он был помазан как Мессия. Он сам божественен, потому что был распят, но воскрес. Соответственно, чтобы доказать или опровергнуть эти утверждения, мы должны сконцентрироваться на трёх эпизодах: Помазание, Распятие и Воскрешение. Правильно?
Илья кивнул. С этим было трудно спорить.
— Вот и хорошо, — непонятно чему обрадовался высокий. — Правильно. — Ему нравилось это слово. — К сожалению, у нас нет других свидетельств об этих событиях, кроме Евангелия. Одного этого уже достаточно, чтобы подвергнуть сомнению утверждения христианства, поскольку у нас нет независимых свидетельств. Это я говорю как юрист, — пояснил высокий. — Но я готов работать с тем, что есть.
Он обернулся к матери Антона и попросил принести Новый Завет. Та скоро вернулась с книгой. Она называла высокого Роланд. Теперь у него было имя. Но больше от этого он Илье нравиться не стал.
— Смотрим, смотрим. — Роланд искал нужные страницы. — Ага, здесь. — Илья заметил, что Роланд не глядит в текст, а просто держит книгу раскрытой на нужном месте. — Начнём с помазания. Матфей и Марк указывают дом Шимона Прокажённого в Вифании как место помазания, а Иоанн, например, — Роланд перелистнул страницы, быстро найдя нужное место, — Иоанн утверждает, что это случилось в том же городе, но в доме Лазаря и его сестер Марии и Марфы. Так, что говорит об этом Лука? Смотрите, он соглашается, что помазание произошло в доме Шимона, но не Прокажённого, а Шимона Фарисея, и притом в совершенно другом месте: в галилейском городе Наин, а не в иудейской Вифании. То есть не только в другом городе, но и в другой провинции. Неясно, где же всё-таки Иисус был помазан как Христос.
— Да что Лука? — вмешался Ави. — Лука вообще грек; что он знал? И писал он через семьдесят лет после событий.
— Действительно, — сказал Роланд, — что он знал? Но где было помазание — это не главное. Главное — кто помазал. Кто имел полномочия объявить неизвестного галилейского пророка Мессией? Согласитесь, — Илья не хотел соглашаться, но промолчал, — что уж в этом должна быть совершенная ясность. Важнейший вопрос. Смотрим. — Он быстро пролистнул ненужное, неважное и нашёл, что искал. — Вот, Иоанн — единственный, кто называет имя женщины — Мария, сестра Лазаря. — Больше Роланд не листал Евангелие и говорил по памяти. — У Матфея и Марка она безымянна — просто женщина. А Лука, например, считает её городской блудницей. Безымянной городской блудницей.
— Интересно, — Ави снова попытался вскочить с места, — если она была городская проститутка, как она попала в дом фарисея? Он же пишет, что помазание произошло в доме Шимона Фарисея, а фарисеи в то время были самой благочестивой частью населения. Одно слово: грек!
— Грек, — согласился Роланд. — Я, кстати, ничего обидного в этом не вижу, — добавил он примирительным тоном, — мой дядя был грек.
Выходило, что дядя был грек сам по себе, без всякой связи с остальными родными Роланда. Илья решил не спрашивать: ему было достаточно Иисуса.
— Не важно, что грек, — подтвердил Ави. — Просто что он мог знать о еврейской жизни?
— Именно. — Роланд посмотрел на Илью и снова сглотнул. — Странная история, согласитесь. Где помазан — неясно. Кем — неизвестно. Если виновен в нарушении еврейского закона и осуждён евреями, то почему распят римлянами как государственный преступник?
Он замолчал и, казалось, был теперь далеко — вне беседы, вне комнаты, вне людей.
Где-то, где не было гудящих жёлтых такси за стеклом.
В гостиной томилось напряжение, словно пришло время открыть окна или заговорить о другом.
Но Илья не мог не спросить. Он хотел знать до конца и решил спросить. Ему это было действительно важно.
— А воскрешение? Какие там разногласия?
— Ну. — Роланд мелко засмеялся, словно рассыпали что-то дробное. — Там уже не до текстовых неточностей. Там посерьёзнее. Он воскрес, но последние две тысячи лет его никто не видел. Он живёт только в душах верующих. Знаете, — перестал он смеяться, — пойдите попробуйте заглянуть, что там у каждого верующего в душе.
Когда все расходились — городские фонари расплывались пятнами нечистого света, и ночной город дышал медленнее, но глубже, — Илья очутился у выхода рядом с Роландом. Тот посмотрел на Илью и сказал без улыбки:
— Странная история, согласитесь: в начале времён боги были с нами. И вдруг пропали. Оставили после себя мифы, книги, написанные о них людьми, непонятные законы, ненужную мораль. Почему?
Илья не ответил: он не знал. Роланд вздохнул и сказал куда-то в сторону:
— Нет, Ави прав: бог ушёл. Или умер.
НЬЮ-ЙОРК 3
НЕГР за окном все время оглядывался: не идет ли полиция? Он дорожил этим местом на 14-й Стрит: людная торговая улица, рядом с выходом из метро, прямо перед кафе. Полицейские обычно появлялись со стороны 6-й Авеню и медленно шли в сторону 7-й, в его сторону, проверяя лицензии у стоящих вдоль тротуара уличных торговцев. Это давало время собрать с прилавка — перевёрнутого пластикового ящика из-под пепси — часы, браслеты и прочий товар и спрятаться в табачном магазине рядом с кафе, притворившись одним из покупателей (он платил за это пятьдесят долларов в месяц хозяину магазина, грустному арабу из Йемена).
Негр был из Мали; стройный, высокий, похожий на статуэтку из тёмного лакированного дерева. Он вырос среди болот дельты Нигера, на малярийной земле племени фулани, и его мать была одной из них. По отцу, однако, он был туарег, из того же берберского рода, что и святой Августин. Негр никогда не слышал про Августина; он не читал De Civitate Dei, но не сомневался в благости Бога. Негр продавал ворованные часы и не хотел неприятностей.
Его дед по материнской линии был колдун и умел летать.
Илья смотрел сквозь мутное стекло, как негр озирается в поисках беды, и слушал Антона. Антон ел омлет «Бенедикт»; кофе у обоих давно остыл, но официант делал вид, что не замечает их знаков.
Они не встречались больше трёх месяцев. Лето прошло для них порознь: Антон был занят чем-то, что хранил про себя, а потом Илья уехал с Адри в Европу. Они жили в её большом пустом доме на озере Амстельфейн, поздно вставали и ехали в Амстердам на трамвае.
Однажды вечером, почти без вещей, они прошли весь Дамрак пешком, вышли к Station-plein и сели в парижский экспресс. Они ехали сквозь незнакомые земли за окном, пока на заре следующего дня Gare du Nord не встретил их утренними французскими голосами — как шампанское, что простояло открытым до утра. Они вышли в Париж и были счастливы ещё десять дней.
Впрочем, счастливы они были дольше — с весны. Был весенний семестр; для Ильи — последний в Колумбийском университете, а потом степень магистра и иная, ещё одна жизнь.
Он увидел её на лекции профессора Корнблуха; тот читал курс по политэкономии. Один теоретический курс по экономике был обязателен для тех, кто занимался финансами, и Илья решил, что политэкономия наиболее безобидна. Он ошибся: Корнблух, молодой и радостный дурак, раздражал Илью своим восторженным марксизмом. Илья ничего не имел против марксизма, даже после тюрьмы; он просто не любил восторженности.
Он заметил её сразу: креолка, яркая бабочка, в чёрной мужской рубашке с закатанными рукавами, которая была ей велика. Правда, ей было велико почти всё. Потом Илья узнал, что она любит одежду других: она часто надевала вещи Ильи, если просыпалась у него дома. Странно, но одежда, как бы велика она ни была, сидела на ней хорошо, не скрывая линий тела: Адри двигалась, и одежда двигалась вместе с ней, вдруг облегая грудь, бёдра, соскальзывая с узких плеч и открывая ложбинки у ключиц. Илья любил целовать эти ложбинки, словно там была вода и он её пил. Никогда — а Илья знал многих — он не видел женщины, что так мало заботилась о своей внешности и была так желанна. Иногда она надевала его брюки, высоко подворачивая штанины и оголяя тонкие — как у оленёнка — щиколотки. Брюки не хотели держаться и сползали. Ремень Ильи был ей слишком широк, и Адри, вместо того, чтобы его застёгивать, подвязывала брюки ремнем на поясе, как верёвкой. Пряжка болталась и смешно била её по бёдрам. Она ходила босиком по его квартире и пела испанские песни о чужом.
В тот, первый день она сидела впереди, рядов за десять от Ильи, и он мог видеть только крупные кольца её бесконечных кудрей и ореховую кожу щеки. Но он знал, что она его заметила, и между ними протянулась нить, дрожащая проволока интереса. Им не нужно было встречаться глазами — это для тех, кто не уверен, кому нужно подтверждение: да, и я тоже. Им же было достаточно попадать в периферийное зрение друг друга, и это было как разговор: я здесь, с тобой. Он ещё не видел её лица, но знал, что любит.
После лекции Илья долго собирал книги, чтобы дать ей время уйти. Он боялся. Илья хотел унести с собой то ощущение холодной дрожи внизу живота, что не отпускало его теперь, и жить с ним весь день. Это он не собирался делить ни с кем, даже с ней.
Адри ждала его за дверью аудитории. Она ничего не сказала, не улыбнулась — это было бы приглашением к разговору, а просто пошла рядом. Они шли молча, не глядя друг на друга, и это молчание не тяготило: молчание было с ними заодно. Они прошли первый этаж Института международных отношений (во всех лифтах он почему-то был указан как четвертый) и очутились на юридическом факультете, находившемся в том же здании. Здесь был выход на 116-ю Стрит, угол Амстердам Авеню.
Адри остановилась, и они — первый раз — посмотрели друг на друга. Она была чуть выше Ильи и встретила его взгляд спокойной ровностью чёрных глаз, в которых не было ни улыбки, ни обещаний.
— У меня ещё один семинар, — сказала Адри (он удивился детской звонкости её голоса). — Кончится в двенадцать.
Илья не ответил. Тогда Адри взяла его кисть и написала ручкой свой номер телефона у него на ладони. Цифры расплывчато скакали поперек линий жизни, любви и всех прочих линий, и Илья боялся, что они сотрутся прежде, чем он их перепишет или запомнит. Больше в тот день ничего не случилось, и не случалось ещё два дня, пока Илья не набрал её номер.
С тех пор они были вместе, и Илья постепенно стал забывать время до неё. Адри изменила всё, все правила, рутину его жизни — учёба, работа, любовь в мотеле в Нью-Джерси днём раз в неделю, и случайные ночи с разными другими в промежутках. Адри пришла и забрала его у него самого, пришла, как она сказала в начале их общего времени, чтобы сделать его другим. Он не знал, хотел ли он быть другим, но он хотел быть с ней.
В августе они уехали в Европу и продолжали быть счастливы. Все тридцать дней и все ночи между днями.
Вернувшись в Нью-Йорк — тут ещё было душно, и липкое марево облепляло кожу как полиэтилен, — Илья обнаружил, что его автоответчик, вмещающий двадцать сообщений, заполнен. Три сообщения от Антона, одно от Шэрон, которую Илья не мог вспомнить (хотя она и звала его «беби»), два от телемаркетинговых компаний и остальные четырнадцать от женщины из Нью-Джерси. Илья стер все сообщения, кроме этих четырнадцати, и прослушал их снова, лежа на полу. Дважды.
Потом он позвонил Антону, и тот неожиданно был дома. Они поговорили о Европе, об Адри (она вернулась в Амстердам дожидаться родителей), и Илья спросил, что, собственно, происходит. Антон долго мялся, говорил что-то ненужное, а потом осведомился, помнит ли Илья Роланда. Илья помнил.
— Так вот, — сказал Антон.
После того — апрельского — четверга у родителей Антон начал искать Роланда. Он хотел выяснить, что означали его слова. Антон хотел знать, куда делся бог, если он ушёл от людей. Что всё это значит? Знает ли этот человек что-то, что не знают другие, или он, как и все, кого Антон встречал прежде, ищет, блуждая в околотайновом тумане?
Оказалось, что Роланда привел Ави. Антон, занимавшийся с Ави каббалой раз в две недели, стал добиваться встречи с Роландом, но Ави клялся, что не может помочь.
— Ты не понимаешь, — размахивал руками Ави (он не умел говорить иначе). — Эти люди не раздают свои номера телефонов. Когда им кто-то нужен, они сами его находят. Ты знаешь, кто такой Роланд? Это серьёзный человек, серьёзное эзотерическое подполье.
Жена Ави просила его успокоиться и не кричать: они сидели в их бруклинском доме. Дом был разделён узкой лестницей на две семьи, и соседи не любили шума. Одно из окон смотрело во внутренний двор, где ничего не росло.
— Он не понимает. — Ави бегал по комнате, дёргая себя за бороду. — Он понятия не имеет, что это за люди! Он думает, это так легко — встретиться с Роландом! — Ави остановился и поглядел на жену: — Ну почему он ничего не может понять?
Жена прищурилась и внимательно посмотрела на Антона; ей и самой давно хотелось знать: почему? Но она ничего не сказала, решив, вероятно, приберечь вопросы до вторника.
— Он был почти напуган, — рассказывал Антон. — Знаешь, не как он обычно шумит, волнуется, а действительно напуган. Я даже пожалел, что всё это затеял.
Антон возвращался к расспросам раз в две недели, после долгих бесед о каббале. Ави расстраивался и начинал волноваться, прося оставить его в покое.
— Уже то, что я занимаюсь каббалой с тобой, неженатым, которому даже нет тридцати, не то что сорока, уже это очень плохо, — переживал Ави. — А ты ещё просишь, чтобы я помог тебе найти Роланда!
Антон не хотел расстраивать Ави: тот и так нервничал из-за всего на свете. Ави был его друг, и Антон перестал спрашивать о Роланде. Он почти о нём забыл, пока однажды утром, когда впускал кошку (она покидала его по ночам в поисках любви), не нашёл под своей дверью маленький синий конверт с запиской. Он не мог понять, как конверт туда попал.
Записка была написана от руки, по-русски: «Роланд: в субботу в 12:00 дня. Harry’s Coffee Shop, угол 14-й и 7-й». Подписи под запиской не было. Но Антон знал этот неровный, прыгающий почерк: помнил с детства, с Москвы.
Так писал Марк, его брат.
Антон замолк. Он смотрел по сторонам, вглядываясь в посетителей кафе на 14-й, словно пытался найти тех, кто были в его жизни раньше, а затем перестали быть. Люди вокруг пили, ели, смеялись, безразличные к его поиску, и табачный дым тянулся в сторону их стола из секции для курящих. Дым — как тоска, что должна быть заперта в дальнем, тайном месте души, но расползается, заполняя собой всё, — не хотел подчиняться запретам нью-йоркской мэрии. Дым подчинялся законам диффузии и плыл, ширился, мешаясь с запахами еды, шумом разговоров и неловкостью пауз.
Официант наконец подошёл и долил в их чашки безвкусный машинный кофе.
Они молчали, пока Антон доедал холодный омлет. Илья смотрел в окно, как полицейские, двое патрульных — женщина-латинос и белый мужчина, арестовывают негра с часами. Негр собирал товар в большую сумку с надписью Samsonite. Он встретил взгляд Ильи через стекло и улыбнулся. Илья обдумал ситуацию и улыбнулся в ответ.
НЬЮ-ЙОРК 4
ВЕЧЕРИНКА, где Илья два года назад встретил Антона, была в старом доме на углу Авеню Б и 8-й Стрит, рядом с Томпкинс Парк. В этом доме когда-то помещался еврейский приют для детей-сирот, и на лестничных площадках ещё остались лепные шестиконечные звёзды в человеческий рост. В некоторых местах гипс откололся, и звёзды стали менее узнаваемы, слившись с общей обшарпанностью давно не крашенной лестницы. Илье показалось, будто звёзды понимают, что они больше здесь никому не нужны, и оттого разрушаются сами. Как лепные серпы и молоты его советского детства.
Илью туда привела Мерейжа, девочка-пуэрториканка, которая иногда его навещала. Он никогда не звонил ей сам. Она появлялась, когда хотела: просто вдруг звенел интерком, и её искажённый голос лился звонкой струйкой сквозь треск:
— Кессал, — она любила звать его по фамилии, — я здесь, внизу. Можно зайти?
Илья открывал дверь квартиры и слушал, как она поднимается на третий этаж. Деревянная лестница скрипела, и каждый скрип был шагом, приближающим их друг к другу. Илья слушал шаги, и ожидание отзывалось горячим внутри.
Секс начинался сразу, в длинном коридоре, что вёл в его гостиную с высокими окнами на парк. Секс начинался с её губ, и Илья стоял, прислонившись к неровной стене, и смотрел сверху, как она его целует, откидывая назад свои длинные чёрные блестящие волосы, чтобы он лучше видел. Иногда они не добирались до дивана в гостиной и оставались на полу коридора, путаясь в не до конца снятой друг с друга одежде. Слов между ними почти не было, лишь Мерейжа шептала что-то самой себе на задыхающемся испанском.
Она никогда не оставалась у него ночевать. Ни разу.
Вечеринка была в почти пустом лофте, где жил друг Мерейжи — художник, как и она сама. Лофт был одной огромной комнатой, метров двести. Посреди стояло нечто квадратное, огороженное с четырёх сторон стенками. Стенки не доходили до потолка, и было ясно, что они не являлись изначальной частью помещения. Мерейжа объяснила Илье, что это спальня хозяина квартиры. Его звали Брэндон.
Было шумно, много разного нью-йоркского народа, и Илья быстро потерял Мерейжу.
Он никого здесь не знал и особенно не стремился. Играла музыка, и посреди комнаты какая-то пара танцевала ламбаду. Они танцевали как профессионалы, и их тела лились вместе с песней. Юноша был похож на итальянца-южанина, и даже Илья понимал, как он красив. Его женщина была старше; светловолосая, узкокостная и удивительно длинноногая. Она сняла туфли и танцевала босиком. На ней была длинная юбка, подол которой она завернула наверх и подоткнула за пояс. Юбка вертелась колоколом в ритме танца и еле прикрывала бёдра.
Потом звуков не стало, и они замерли, прижавшись друг к другу. Женщина отстранилась и поцеловала партнёра в губы — быстро, не давая поцелую длиться. Он погладил её по щеке — лёгкий, весёлый, похожий на гибкую трость. Он отошёл в толпу, но не потерялся, а оставался хорошо заметен среди других.
Минут через десять Мерейжа подвела итальянца к Илье. Итальянец улыбнулся и сказал по-русски:
— Ты тоже из the Soviet Union?
Он говорил с сильным американским акцентом, зажимая «т» и произнося «р» глубоко в горле. Его звали Антон, и он жил в Нью-Йорке с девяти лет.
Вблизи Антон выглядел чуть старше. Мерейжа крутилась вокруг, упрашивая Антона с ней потанцевать, и он в конце концов согласился. Илья видел, как после танца она повела его за руку в спальню Брэндона и они затворили за собой дверь. Их не было минут тридцать, наполненных шумом, музыкой и голосами. Илья в это время беседовал со странным человеком, утверждавшим, что он — инкарнация Кришны. Человек был лыс и любил водку с лимонным соком.
Перед тем как уйти, Антон оставил Илье номер телефона и попросил звонить. Илья обещал.
Мерейжа и он поймали такси, и Илья хотел отвезти её к ней домой, но она прижалась к нему в темноте заднего сиденья и шепнула:
— Поехали к тебе.
Илья кивнул, и её тонкие пальцы мучили его весь недолгий ночной путь до Вест Сайд.
Они оба были возбуждены её недавней случайной близостью с другим и в ту ночь — их первую полную ночь вместе — вообще не спали. В их любви появились слова, и Илья шептал ей на ухо всё, что она делала с Антоном там, в спальне, как она это делала, и Мерейжа выгибалась под ним, мешая английские и испанские звуки ни о чём. Потом слова кончились, и во тьме остался лишь её стон, прерывистый, как плач, в такт конвульсиям.
Пламя длинной свечи на подоконнике металось и замирало — хрупкий отблеск оргазма.
Мерейжа ушла до рассвета, когда Илья — пустой от любви — провалился в сон. Больше она не приходила. Она пропала, и Илья её не искал. Он никогда не жалел об ушедших женщинах и не пытался их вернуть. Он вообще мало о чём жалел.
Хотя нет, он грустил, когда потерял свою женщину из Нью-Джерси. Они были вместе долго — без надежды, без будущего, но удивительно счастливы. Их встречи в мотеле раз в неделю, а иногда женщина приезжала в Нью-Йорк. Дома считали, что она навещает родственников; в основном она навещала Илью.
Илье всегда было интересно, что думает её муж, и он часто представлял себя на его месте. Знает, не знает? Догадывается ли по еле заметным знакам — как она замирает, когда звонит телефон, как рассеянно ласкает его ночью, как неожиданно, без повода, вдруг бывает к нему нежна, — что в доме живет измена и делит с ними двумя их постель.
Было интересно представлять себя на месте мужа, и как бы он сам читал эти знаки, и знал бы, знал.
Проблема наступала дальше: ну знал бы — и что? Бросить, уйти, всё переиначить в своей жизни и жизни детей? И из-за чего: что другой касается её тела, владеет им и делает её счастливой? Что другой входит в неё и оставляет в ней частицу себя, нарушая его, данное неизвестно кем, право на исключительность соития?
Что делать? Что выбрать?
Илье нравилось представлять себя её мужем: это давало ощущение победы и оставляло место для великодушия.
Впрочем, он всё реже думал о женщине из Нью-Джерси. Теперь у него была Адри.
Когда — неделю назад — Адри вернулась из Европы в Нью-Йорк, Илья рассказал ей про записку и вообще про всю эту историю, начиная со знакомства с Роландом в тот апрельский четверг. Адри внимательно слушала, ни разу не перебив; они проснулись в двухэтажной квартире Рутгелтов на Линкольн Сквер и ленились вставать.
Адри жила в этой квартире одна: остальные Рутгелты были разбросаны между домом в Голландии, ещё одним в Палм Бич и родовым гнездом в Парамарибо. Илья, до знакомства с Адри не встречавший по-настоящему богатых людей, не понимал, зачем им столько жилья.
Рутгелты нигде не жили постоянно и перемещались по миру, собираясь вместе лишь по праздникам: в Палм Бич на Рождество, в Парамарибо на Пасху. Постоянно в их домах жили лишь оставленные ими вещи, не вошедшие в чемоданы или принадлежавшие именно этой стране и этому климату. Вещи лежали в шкафах и терпеливо ждали хозяев, ненужные в их других жизнях.
Квартирой в Нью-Йорке — с видом на Линкольн Центр, — до того, как Адри перевелась из Йеля в Колумбийский, семья пользовалась три-четыре раза в год, когда Рутгелты прилетали на премьеры в «Метрополитен Опера» или на концерты Нью-Йоркского Симфонического.
Парадное дома напоминало гостиницу: с цветами, фонтаном, пятью швейцарами и блестящими золотыми тележками для багажа. Жильцы то приезжали, то уезжали, и их чемоданы стояли на тележках, ожидая, когда их повезут в аэропорт или, наоборот, распакуют. Илье казалось, что чемоданы не одобряют его визиты, и он старался быть понезаметнее и быстрее проскочить мимо швейцаров, предупредительно открывавших двери подъезда.
Больше всего Илью удивляло, как легко уживаются в Адри привычка к богатству и абсолютное безразличие к его возможностям: каждое утро она покупала яблоко, банан и бутылку воды у уличных торговцев и жила на этом весь день. Её одежда была одеждой других: брата, отца, старшей сестры и теперь Ильи (она утащила у него несколько старых рубашек).
Себе Адри не покупала ничего, кроме книг у букинистов на улицах. Она долго выбирала и никогда не торговалась. Если Адри не соглашалась с ценой, она молча клала книгу обратно и уходила.
Когда Илья первый раз принёс ей цветы, она поцеловала его в губы и сказала:
— Ты купил этот букет в магазине. Если хочешь дарить мне цветы, покупай у продавцов на улице: они в основном нелегальные иммигранты, и им деньги нужнее, чем хозяевам магазинов.
Сейчас, слушая рассказ Ильи о поисках Роланда, она сидела в дальнем конце кровати, прислонившись к стене и вытянув длинные смуглые ноги поверх Ильи. Волосы — они всегда ей мешали, и она часто грозила постричься наголо — Адри завязала его рубашкой. Больше на ней ничего не было.
— Странно, — сказала Адри, — я не очень понимаю. Вы ходите в какое-то кафе каждую субботу и ждёте там человека, о котором ничего не знаете и который, быть может, никогда не придёт? И это всё потому, что вам кажется, будто он знает, куда ушёл бог? Или это потому, что он знает, куда исчез брат твоего друга?
— И то и другое. — Илья смотрел на её блестящую тёмным орехом гладкую кожу, и ему хотелось сглотнуть. — Иди сюда.
— Подожди, я хочу разобраться. Я хочу знать, адекватно ли воспринимает реальность мужчина, с которым я сплю. И ещё говорят, что евреи — умный народ. Нет, эти слухи явно преувеличены.
— Евреи — умный народ? Интересно, чьи предки поставляли рабов в Суринам? — спросил Илья.
— Мои, мои, — признала Адри. — Но не забывай, что другие мои предки были этими самыми рабами. Одна из бабушек, я думаю, просто была красивее, чем другие девочки на плантации, а может, этот еврей Рутгелт выпил в тот день рома больше, чем обычно, или ему стало страшно одному в джунглях. Не знаю, это было триста лет назад. Но с тех пор все Рутгелты женились только на мулатках.
— Не дураки были эти Рутгелты, — согласился Илья. Его ладонь скользила по тёмному шёлку её ног — выше, выше. — Правильно сделали, что поехали в Суринам.
Эту часть истории их семьи Илья уже знал: Суринам был выменян Голландией у Англии на город Новый Амстердам в 1667 году. Чуть позже англичане переименовали это место в Нью-Йорк.
К этому времени Голландия закрыла въезд для испанских евреев, бежавших от инквизиции, но предложила им селиться в колониях: на Нидерландских Антилах и в Суринаме. Евреи поехали, и скоро в Суринаме появилась целая провинция — Joodse Vail, Еврейская Долина. Евреи-рабовладельцы, евреи-плантаторы — это Илье было трудно понять.
После объявления независимости в 1975-м Рутгелты бежали в Голландию. Адри было пять лет, когда она попала в Амстердам, где прошло её детство. Она закончила закрытый интернат для девочек в Швейцарии и каждое лето жила по два месяца в Париже: придумка родителей, чтобы у девочки был правильный французский выговор, ни в коем случае не швейцарский. Впрочем, они могли не волноваться: Адри обладала совершенным лингвистическим слухом, и на всех языках, что она говорила, говорила без акцента. Илья не сразу услышал еле заметный иностранный призвук в её английском — Адри чуть оглушала согласные.
В ней были смешаны звуки разных языков и кровь разных рас — белые, черные, евреи, португальцы, прабабушка китаянка, которой было всего двенадцать, когда старик-креол увидел её на рынке в Парамарибо и купил у родителей за два мешка сахара, чтобы увезти на дальнюю плантацию у красной реки, куда ягуары приходили по вечерам пить тёмную воду. В ней были смешаны ненависть всех рабов и страх всех рабовладельцев, что были её семьей, и память о тех, других, берегах жила вдоль амстердамских каналов. Адри, впрочем, считала себя голландкой.
— Конечно, конечно, — охотно соглашался Илья, указывая на пачку голландского масла, с которой улыбалась круглолицая блондинка. — Не с тебя рисовали?
Но сейчас ему было всё равно. Он хотел быть с ней, в ней, и добавить свою кровь к той, иной, тёмной крови. Адри заметила его возбуждение и как бы случайно задела его там рукой.
— Вот, — она снова его потрогала, — это всё, что тебе от меня нужно.
— Да, — они часто играли в эту игру, и Илья знал свою роль, — это всё, что мне нужно. Только это. И всё.
Адри уже была сверху, тело вдоль тела, и он слышал шёпот её скользящих вниз губ:
— Белый угнетатель порабощённых народов, агент колониализма, подожди же, мы поднимемся на борьбу и тогда…
Илья подождал: он не возражал быть свергнутым и побеждённым. Илья знал: оно того стоит.
Время в комнате жило теперь отдельно от них, не смешиваясь с их дыханием и единым ритмом тел.
Потом они долго лежали рядом, не разговаривая и не касаясь друг друга. Было слышно, как на кухне урчит холодильник.
НЬЮ-ЙОРК 5
НЕГР, продавец часов, был на прежнем месте. Илья порадовался, что с ним ничего не случилось: тот не появлялся несколько недель.
Илья сидел в кафе на 14-й и ждал Антона. Антон опаздывал, что было странно: он всегда приходил вовремя. Илья, опаздывавший везде и всюду, не переставал этому удивляться.
Он заказал кофе и мафин с голубикой. Официант принёс разрезанный пополам горячий мафин, и Илья осторожно ел крошащееся тесто с ягодами внутри. Ягоды были безвкусные, как из резины, но он помнил кисловатую сочность настоящей голубики и наделял эти резиновые ягоды вкусом из своей памяти. Ему — для счастья — обычно хватало воспоминаний.
Они продолжали ходить в это кафе по субботам и ждать Роланда. Уже был октябрь, и они с Антоном приходили сюда каждую неделю и постепенно стали забывать, что приходят в ожидании Роланда. Встречи стали важными сами по себе.
Они говорили о книгах, что уже прочли, о книгах, что ещё не прочли, и о том, что было и в тех и в других. Иногда Антон спрашивал Илью про Адри: они никогда не виделись. Илья обещал как-нибудь её привести. Он хотел сделать это сегодня, но Адри должна была ехать в университет — работать над курсовой. Октябрь неумолимо кончался, и конец семестра, что в сентябре казался далёким, нестрашным, приближался удивительно быстро, словно каждый день теперь пролетал вдвое, нет, втрое скорее. Они расстались утром у Линкольн Центр, и Адри попрощалась с Ильёй до вечера, скользнув по его губам кончиком языка — как обещание.
Антон не появлялся. Илья почти уже съел мафин, и официант дважды доливал ему горький кофе. Он решил подождать ещё минут двадцать, а потом уйти. За окном субботний народ спешил, словно был понедельник. На улице рядом с негром толстый бородатый продавец книг принялся расставлять складные столы, чтобы разложить свой потрёпанный бумажный товар.
Илья любил покупать книги у уличных торговцев. Книги были растерзаны, зачитаны, и, принеся такую книгу домой, он никогда не начинал читать её сразу. Илья долго держал книгу, не раскрывая, как бы знакомясь с ней и её прежним владельцем. Затем он листал книгу, ища пометки, загнутые страницы, следы её прежней жизни. Книги — как женщины, всегда хранили следы тех, с кем были раньше.
Он часто покупал книги у Весли, худого испитого ирландца, который держал два шатких стола на углу Бродвея и 82-й, напротив Барнс&Нобл. Илья не мог понять, почему Весли выбрал именно это место — рядом с самым большим книжным магазином в Нью-Йорке. Но многие люди, выйдя из Барнс8сНобл, останавливались у хромых столов с потёртыми книгами и долго их листали. Илья был одним из таких.
Весли книг не читал и редко мог сказать о них что-то внятное. Весли раскладывал свой товар не по темам и жанрам, а по размерам. Цена соответствовала размеру книги и её состоянию. Содержание и автор не являлись ценообразующими факторами. Когда Илья нашёл — под истрёпанным Кальдероном и полуразорванным Гришемом — маленькую, почти новую книгу о сантерии, всё, что Весли мог ему сказать, было достаточно туманно:
— Это про всякие кубинские штуки, понимаешь? Это про их кубинские штуки. Как они там, на Кубе, понимаешь? Ты знаешь, про что я?
Илья знал. Он знал, что сантерия была смесью привезённого из Африки вуду и навязанного испанцами католицизма. Но он знал мало и решил купить книгу.
Весли показал на обложку и сказал:
— Практически новая. Новая книга. Её до тебя уже спрашивали. Но тебе я отдам за десятку.
— Три доллара. — Илья положил книгу на стол. Он был готов платить десять, но это не имело значения.
— Три? — Весли сделал вид, что не расслышал. — Ты сказал «три» или «шесть»?
— Ладно. — Илья повернулся. — Оставь себе.
— Подожди, подожди. — Весли уже доставал коричневый бумажный пакет, из тех, в какие в маленьких магазинах ставят банки с пивом. — Давай пятёрку, и книга будет твоя.
— Она будет моя за четыре доллара. — Илья не зря учился в Колумбийском университете и собирался стать инвестиционным банкиром. — А за пять она останется твоей.
Он не открывал бумажный пакет с книгой до вечера, положив её на тумбочку около кровати. Завтра было воскресенье, и Илья мог читать сколь угодно поздно. Он не собирался читать слишком поздно. Он уставал за неделю и в выходные старался побольше спать.
Сантерию, прочёл Илья, принесли на Карибы рабы-йоруба. Они верили в творца мира, которого звали Олофи, что просто означало Бог. В созданном Олофи мире не было места для зла отдельно от добра или дьявола отдельно от бога. Всё во вселенной имело хорошие и плохие стороны, и одно и то же могло быть хорошим или плохим в зависимости от обстоятельств. Илью порадовал моральный релятивизм йоруба. Он надеялся, что это помогло им легче пережить рабство.
Олофи, создатель мира, не общался с людьми. Он их создал и, судя по всему, решил, что и так достаточно для них сделал. Возможно, он был ими недоволен. В книге ничего об этом не говорилось. В книге лишь было сказано, что с людьми взаимодействовали оришас, божества-посредники, которые постепенно приобрели черты и имена католических святых — для маскировки.
У оришас были разные функции и разные характеры. Один из самых важных был Ешу — бог перекрёстков. Ешу был строгий учитель; его уроки отличались жестокостью и помогали возмужанию. Он был учитель судьбы, бог несчастий.
Дальше книга рассказывала, что когда люди хотят избавиться от преследующих их несчастий, они заказывают у сантеро, священника-колдуна, фигурку Ешу и проводят с ней обряд. Фигурку надо было отнести в отдалённое место и окропить кровью курицы. Курице полагалось отрубить голову прямо над Ешу, чтобы кровь стекала вниз из отрубленной шеи. Затем, говорила книга, фигурку оставляют в безлюдном месте и вместе с ней там оставляют свои несчастья.
На следующей странице, в центре, была фотография фигурки. Ешу состоял из одной головы, круглой, как колобок. Глаза, нос и рот были из маленьких раковин. Раковины вместо глаз делали Ешу похожим на слепого. На фотографии Ешу не выглядел зловещим; скорее безразличным.
Илья смотрел на изображение Ешу. Ему стало холодно слева, где сердце.
Он поднялся с постели и с книгой в руках пошёл в большую комнату. По пути Илья везде зажёг свет. Страх расплывался внутри, растекался холодным и тяжёлым. Илья подошёл к письменному столу и открыл второй ящик справа. Он достал из ящика маленькую шершавую фигурку из некрашеного цемента с раковинами вместо глаз. Нос отлетел, и Илья не помнил, был ли он раньше. Из макушки Ешу торчал толстый гвоздь.
Он нашёл фигурку больше года назад, в Форт Трайон Парк. Илья поехал туда в дождливое ноябрьское воскресенье посмотреть на единственный нью-йоркский замок — Клойстерс. Замок стоял на скалистом берегу Гудзона, и на другой стороне реки был хорошо виден штат Нью-Джерси.
На самом деле замок был не совсем нью-йоркским: его части привезли из Франции, из разных мест, и собрали на земле, подаренной городу Рокфеллером в двадцатых годах. Илья хотел посмотреть на замок и знаменитые гобелены. На гобеленах рыцари охотились на единорога. Тот был белый и почти от них убежал.
На обратной дороге из Клойстерс к метро Илья заблудился. Парк был большой и запутанный; Илья ошибся и скоро оказался на маленькой дорожке, среди кустов. Казалось, он не в Нью-Йорке, а где-то в лесу. Сквозь жёлтокрасные осенние листья, однако, до Ильи долетала быстрая испанская речь местных наркоманов.
Он увидел фигурку на небольшом расчищенном месте, под неизвестным ему деревом. Илья плохо разбирался в деревьях.
Сначала Илья решил, что фигурка — это большой гриб. Илья подошёл ближе и разглядел, что это было. Впрочем, тогда он не знал, что это было. Илья поднял фигурку, и она ему понравилась. Особенно ему понравился гвоздь, вделанный в цементную голову. В этом было что-то настоящее.
С тех пор Ешу лежал у него в столе. Иногда, ища потерянные вещи, Илья натыкался на его шероховатую поверхность. Тогда Илья доставал Ешу и на него глядел. Потом он клал фигурку обратно и продолжал искать. Чаще всего он находил, что искал.
Илья смотрел на фотографию Ешу в купленной книге и сравнивал с фигуркой на своём столе. Его фигурка была не такой красивой, но более живой. Подпись под фотографией говорила, что каждого Ешу сантеро делает для определённого человека. Взять чужого Ешу означало взять на себя несчастья и судьбу других, для кого Ешу был сделан. Этого Илья не хотел: ему хватало своих несчастий. И он всё ещё надеялся прожить свою судьбу.
Илья часто спал с девочками-латинос и знал, что к сантерии нужно относиться серьёзно. Книга говорила, что если человек хочет избавиться от Ешу, фигурку нужно поставить у выхода и предложить ей угощение, задобрить.
Тогда Ешу уйдёт. Илья отнёс своего — чужого — Ешу к входной двери и поставил в угол. У него не было конфет: он не любил сладкое. Илья поставил перед фигуркой белую тарелку и положил на неё пластинки жевательной резинки. У резинки был мятный вкус, и он не был уверен, понравится ли она богу перекрёстков.
Илья оставил для Ешу свет в коридоре, а сам пошёл спать. Он тут же заснул, и ему — как часто бывало — ничего не снилось в ту ночь.
Утром Илья не сразу заглянул в коридор; он надеялся, что Ешу исчез. Илья был склонен верить в чудесное. Но Ешу остался на месте и не тронул мятную жевательную резинку.
Илья обдумал ситуацию и позвонил своей знакомой; она была из Доминиканской Республики и понимала в этих вещах.
Та встревожилась и объяснила, что делать. Илья обмотал Ешу салфеткой и положил в кожаный рюкзак оливкового цвета. Он купил этот рюкзак случайно, в дождь, когда забежал в маленькую лавку в Гринвич Виллидж спрятаться от воды. Рюкзак ему сразу понравился, и Илья часто жалел, что в него нечего класть.
Он зашёл в газетный киоск на углу и попросил толстого пакистанца разменять деньги. Илье было нужно шестнадцать монет. Достоинство монет не имело значения, только количество — шестнадцать.
Он дошёл до Централ Парк и пошёл вверх, в сторону Гарлема. Было воскресенье, и люди, заботящиеся о своём здоровье, бегали по большому кольцу вокруг парка. Среди них медленно ездили конные кареты с ранними утренними туристами.
Илья дошёл до 97-й и направился к городскому водохранилищу. Вдоль его берегов росли кусты, а выше, в Аптаун, парк становился всё более густым и нелюдным.
Илья нашёл небольшой пригорок, обросший нерослыми городскими деревьями. Он вынул фигурку из рюкзака и поставил на салфетку, в которую та была завёрнута. Ешу смотрел слепыми глазами куда-то мимо Ильи и видел там его судьбу. Или чью-то чужую. В любом случае Илья не хотел рисковать.
Он обложил Ешу шестнадцатью медными пени и отошёл. Затем Илья повернулся к фигурке спиной и сказал формулу:
— Забери, что не моё.
Потом, как его научила подружка-доминиканка — у неё была удивительная манера целоваться: словно она выпрашивала прощение, — Илья пошёл прочь, не оглядываясь. Несчастья и чья-то чужая судьба остались в Централ Парк, недалеко от 102-й Стрит. Илья надеялся, что там их никто не найдёт.
Антон так и не появился. Официант уже несколько раз подходил к Илье и выразительно спрашивал, не хочет ли тот что-нибудь ещё. Официант был новый: Илья его раньше не видел. Обычно их обслуживала тощая тётка с косой. Её звали Мелани, и, услышав однажды акцент Ильи, она сообщила, что тоже полька. Вернее, её дед когда-то приехал из Польши. Илья не стал объясняться: из Польши так из Польши. Они с Антоном всегда оставляли ей хорошие чаевые.
Он расплатился и вышел на улицу. У лестницы, ведущей в метро (из метро?), худой косматый пуэрториканец пытался заинтересовать прохожих громким шёпотом:
— Дурь, дурь, реально крутая дурь.
Шёпот таил в себе обещание побега, которому было суждено не удаться.
Илья остановился у пластикового ящика из-под пепси с разложенными на нем фальшивыми «ролексами». Негр улыбался ему глазами и ртом.
— Оштрафовали тогда? — спросил Илья. Он подумал, что хорошо бы что-то купить, какую-то мелочь, из солидарности.
Негр не отвечал. Он перетасовал часы и браслеты на газете поверх ящика. Негр посмотрел на Илью и снова улыбнулся. Илья хотел улыбнуться в ответ и вдруг осознал, что улыбка предназначена не ему: негр смотрел вверх, словно там был кто-то выше Ильи. Илья оглянулся: перед ним стоял Роланд.
НЬЮ-ЙОРК 6
ИНДОНЕЗИЯ — странное место. Разбросанная на семнадцати тысячах пятистах восьми островах, страна лежит на стыке трёх колоссальных тектонических плит — Тихоокеанской, Евразийской и Австралийской. Плиты смещаются, вызывая частые подводные землетрясения и поднимая цунами. Жить там тревожно и зыбко.
Эта раздробленность существования усугубляется тем, что в Индонезии живут более трёхсот национальных групп, говорящих на семистах сорока двух языках и диалектах. И в этой самой стране, где все отличаются ото всех, где природа так же разорвана на мелкие куски неверной суши, как разрознены и населяющие её люди, родилось самое единое и стройное духовное учение в мире — субуд.
Субуд, объяснял Илье Роланд, сводится к следующему: каждый может вступить в контакт с Высшей Силой напрямую, без посредников. В каждом спрятана исконная суть, которую можно разбудить через процедуру, называемую «латихан».
Процедура эта невообразимо проста: люди, мужчины и женщины раздельно, в разных помещениях, встают в крут, и один из них говорит:
— Начнём.
И всё. Дальше приходит откровение, если ты к нему готов. Или нет, если твоё время не сейчас. Никакой подготовки, никакой духовной работы, никакой организации. Сила сама выбирает тех, с кем хочет вступить в контакт. И являет себя этим выбранным.
Они сидели на татами в гимнастическом зале над Harry’s Coffee Shop. На скудно выкрашенных стенах висели расписания занятий дзюдо и плакаты с людьми в различного типа кимоно.
Говорил Роланд, Илья задавал вопросы; остальные двое слушали молча, как бы сторонясь беседы. Один из них, Саймон, был в носках разного цвета.
— Это не религия, — объяснял Роланд. — Нет никаких предписаний. Нет никаких запретов, кроме тех, что ты определил себе сам. Человек может исповедовать любую религию и делать латихан. Саймон, например, иудей, Джефф — протестант, а я гностик. В субуде нет догматов веры, нет даже центральной фигуры — бога. Субуд — это просто убеждение, что в каждом есть частица Силы, и если он обратится к Силе, Она ответит и поможет.
— Но что-то всё-таки нужно сделать, чтобы Сила выбрала тебя? — спросил Илья. — Если Сила являет себя избранным, значит, что-то делает их избранными.
— Мы не можем знать, почему Сила выбирает тех или других, — сказал Роланд. — Не заботьтесь об этом. Если начнёте думать, то придумаете миллион теорий, и каждая будет неправильной. Все религии построены на таких неправильных теориях о Силе. О том, как Она создала мир, о предназначении человека, о том, что Сила хочет от нас. В субуде нет ни космогонии, ни теологии, ни морали. Только вера, что Сила доступна для контакта, и Она сама скажет, что делать и как. Всё остальное придумано людьми.
Зал постепенно наполнялся мужчинами; они снимали обувь у входа, проходили к узким длинным лавкам, стоявшим вдоль одной из стен, и молча садились, не здороваясь с другими. Многие снимали ремни и часы и клали под лавки. Некоторые сворачивали ремни и засовывали в обувь у входа. Концы ремней торчали из пустых ботинок — как гюрза перед броском.
Между пришедшими было мало сходства: разных рас, возрастов, религий, их, однако, объединяли молчание и чувство цели. В зале сгущалось предчувствие, как перед сексом с женщиной, с которой спишь впервые; знаешь, что произойдёт, но как это будет, как начать, кто первый дотронется, что она любит — всё это пока тайна, которую предстоит раскрыть.
Мужчины сидели вдоль стен без ремней и часов и ждали тайны.
Окна были плотно закрыты. Кто-то зажёг свет, и в высокой пустоте зала повис желтоватый туман. Вокруг ламп на потолке расцвела резная паутина из расплывчатых теней. Худой хасид, что пришёл последним, аккуратно сложил чёрный пиджак и положил на лавку. На нём была белая нечистая рубашка с торчащими из-под неё кистями таллескотна. В каждой кисти было по одной синей нити.
— А как же Антон? — спросил Илья. — Он так ждал этой встречи. Надо позвать его тоже.
— Он не важен. — Роланд поднялся с татами. — Его не было, когда я за вами пришёл, стало быть, он не важен. Сила не хочет его испытать. По крайней мере, в этот раз.
— Неудобно как-то. — Илья старался оттянуть начало латихана. — Он, собственно, всё это начал, искал…
— Он был нужен, чтобы привести вас, — решил Роланд. — Он просто инструмент, который Сила использовала, чтобы привести сюда вас.
Роланд отошел к мужчинам, сидящим на лавках, и стал что-то говорить. Разговор шёл об Илье: они разглядывали его, не прячась. Высокий азиат (кореец?) кивнул Илье в знак приветствия. Илья кивнул в ответ. Кореец неожиданно засмеялся и отвернулся.
Илье стало от этого жутковато. Ему хотелось уйти.
— Страшно, конечно, — вдруг сказал Джефф. Илья увидел, что он уже не сидит, а лежит на полу с закрытыми глазами. — Страшно, а вдруг ты не избранный? Пока не попробовал, есть надежда незнания. Незнание, собственно, это и есть надежда. — Он открыл глаза и уставился в высокий потолок зала. Потом сел и потянулся: — Пора.
Илья заметил, что в центре татами все уже встали в круг. Роланд стоял вместе со всеми, но как бы отдельно. Он позвал Илью глазами. Илья поднялся и занял место в кругу. Было очень тихо.
— Начнём, — сказал Роланд.
Началось сразу. Илья на секунду перестал видеть зал, всё куда-то пропало, а потом появилось вновь, но уже другое и по-другому. Люди теперь не стояли в кругу, а рассеялись по залу. Худой хасид танцевал в углу сам с собой.
Вдруг Илье стало жарко. Он понял, какая он сволочь и сколько он сделал плохого. Он обижал людей. Он лгал. Он был высокомерен. Он никого не любил, кроме себя.
Эти мысли возникали в мозгу сами, нет, их кто-то туда впечатывал.
Кто-то с ним говорил. Кто-то светлый, добрый, кто был готов простить.
Илья заплакал.
Он почувствовал, что уже не стоит на месте. Он двигался, как-то рвано скользил по залу, будто на коньках. Вокруг были другие люди; он знал, что они здесь, но не мог их видеть. Зато он увидел себя, сверху: он сидел на полу, уткнув лицо в колени, и просил его простить. Илье было стыдно и светло. Его простили.
Вдруг он осознал, что стоит и пытается залезть на стену; это было очень важно, самое важное из всего, что с ним когда-то случалось. Он поднимал ноги, сгибал их в коленях и пробовал взобраться на совершенно гладкую стену, схватиться руками за пустоту и подтянуться. Стена не поддавалась, но и не отталкивала. Стена сказала Илье, что он должен, обязан продолжать пытаться, но помощи не будет.
Он видел стену необыкновенно ясно: каждую выбоину, каждую неровность краски. Видел всю сразу и каждую малую деталь.
Потом всё окончилось. Вокруг были люди, в разных позах, кто-то продолжал двигаться, кто-то замер, кто-то лежал на полу. Предметы стали резко различимы, и Илья понял, что вернулся в жизнь. Внутри него разлилась пустота.
Он позвал Силу несколько раз, но ответом была пустота.
Илья сел на пол. Он хотел пить.
Все оделись и как-то быстро ушли, не прощаясь друг с другом и не разговаривая. Илья сидел на полу и ждал объяснений. Никто не обращал на него внимания.
Он увидел, что Роланд идёт к выходу. Илья встал и поспешил за ним, но не успел: Роланд ушёл.
На улице было темно, фонари горели расплывчатыми кругами. Илья заметил Джеффа; тот шёл к метро. Он догнал его и пошёл рядом. Джефф остановился.
— Понял? — спросил Джефф. — Ты понял?
— Нет, — сказал Илья. — Я не понял. Со мной никогда такого не было.
— Это Сила, — объяснил Джефф. — Она говорила с тобой. Тебе много чего предстоит. Много чего. Целая уйма всего.
— Чего? — спросил Илья.
Он хотел объяснений. Он хотел, чтобы Джефф расспрашивал его о том, что случилось.
— Много всего, — повторил Джефф. — Ты многое должен будешь сделать. Тебе ещё скажут.
— А если я не хочу? — спросил Илья.
— Понятно, не хочешь. — Джефф поморщился. — Только кого это ебёт?
ПАРАМАРИБО 1
МИР как неясность, как неизвестность, что каждый миг требует себя разгадать, — ощущение это, раз придя, осталось с Ильей навсегда. Впервые оно появилось не в тюрьме, где всё было твёрдо и осязаемо, а в ссылке, в Сибири. Здесь мир рождался каждое утро заново, и жизнь, зыбкая от его незнания о ней, жизнь, известная до того лишь по книгам, стала явью, и ветер жил за окном, неслышный сквозь снег.
Все годы ссылки он не был ни в чём до конца уверен; старая, знакомая бытность закончилась однажды и насовсем, а в новой, нынешней, мир выявлялся каждое утро из белого сумрака, не враз, а по частям: крыша, окно, край поленницы — все порознь, несвязное друг с другом, будто за ночь мир разбрёлся и пытается сойтись вместе вновь. Сойдётся ли, будет ли всё как прошлый день — того Илья не знал никогда. Так и жизнь его тогда разбрелась по частям и пыталась неуклюже срастись в одно целое на той странной промёрзшей земле, что тянулась неведомо куда, должно быть, до речки.
Эта смутность сохранилась, не ушла и теперь, после стольких лет. Он просыпался с ней каждое утро и лежал, привыкая жить заново.
Глубже в день пелена таяла от предметности дел, мир становился знакомее, явнее и ожидаемее. Вот и сейчас, в это воскресное утро в Нью-Йорке, Илья был почти уверен в прочности и быта и бытия.
Он решил не рассказывать Антону, что случилось. Он просто не мог. Илья думал, что если Роланд говорит правду, Сила найдёт Антона сама. А если Роланд врёт, то и рассказывать нечего. Илья решил вообще никому об этом не говорить. Даже Адри.
Во вторник вечером — марево дождя блестело в фонарном свете и делало Нью-Йорк похожим на фотографию со смазанным фокусом — Адри сообщила, что улетает в Суринам на День благодарения. Рутгелты собирались на праздники в родовом доме в Парамарибо: мистер и миссис Рутгелт прилетали из Амстердама, старшая сестра Кэролайн с английским мужем — из Лондона и младший брат Руди — из Палм Бич. — Ты тоже приглашён, — неожиданно сказала Адри. — Если, конечно, хочешь. Учти, мы не сможем открыто спать вместе. Мама сказала, что папу это может расстроить. Но я буду приходить к тебе ночью, тайком.
Она делала вид, что не ждёт ответа. Илья и не отвечал. Он уже решил, что поедет. Он хотел наконец встретить её семью.
В Парамарибо начальник аэропорта ждал их у трапа. Рядом стояла женщина, которая никак не могла быть матерью Адри: она выглядела максимум лет на десять старше. Она, собственно, и была Адри, только старше, хотя — если приглядеться — они были совершенно непохожи. Их сходство проявлялось не столько в чертах лица, сколько в общем впечатлении.
Миссис Рутгелт двигалась с такой же грацией колеблющейся на ветру тростинки, что вдруг обрела возможность ходить. У неё были Адрины миндалевидные глаза с разрезом, как у рыси (наследство прабабушки-китаянки), такие же высокая грудь и тонкая талия, чуть более светлая кожа и та же способность выглядеть приветливой, не улыбаясь. Миссис Рутгелт была чуть ниже дочери, но не менее длиннонога. Одета она, в отличие от Адри, была тщательно и дорого. Она чем-то напоминала Илье женщину из Нью-Джерси, с которой он больше не виделся и которую вспоминал всё реже и реже.
Адри вышла из самолёта босиком, в джинсах и короткой — по рёбра — майке на голое тело. Она поцеловала мать и затем, не оборачиваясь к Илье, взяла его за руку:
— Вот он, мой русский еврей. С голубыми глазами. — Она повернулась к Илье. — Ты же знаешь, я с тобой только потому, что ты еврей. Семя Авраама, избранный народ. Веди себя хорошо, не как всегда; мама будет тебя оценивать. Как только ты пойдёшь спать, она бросится обсуждать тебя с папой и Кэролайн.
— Адри! — Миссис Рутгелт мягко улыбнулась Илье. — Как вы выносите её болтовню?!
Для Ильи Парамарибо был первыми нетуристическими тропиками; до этого он видел только Сан-Мартин и Вьекес-Айланд, два карибских курорта, куда ездил с женщиной из Нью-Джерси.
Здесь тропики выглядели резче, некрасивее и менее похожими на рекламные фотографии в окнах турагентств. По пыльным улицам ездили старые машины вперемежку с телегами, запряжёнными безразличными осликами и безнадёжно худыми лошадьми. Люди двигались не торопясь и были воплощением всех оттенков чёрного, красного и коричневого. Белых Илья не видел ни одного.
«Ренджровер», который шофёр миссис Рутгелт вёл, не обращая внимания на остальное движение, был странно уместен на этих улицах. Быть может, решил Илья, так кажется, когда сидишь внутри. Или это семейная способность Рутгелтов делать привычные для них богатство и комфорт естественными в любой обстановке.
В машине было прохладно, кондиционер на максимуме; Адри что-то рассказывала матери по-голландски, миссис Рутгелт улыбалась в ответ краями губ, и Леонард Коэн пел о том, что знает каждый. На Илью никто не обращал внимания, и он был за это признателен.
Через час они въехали на засаженную магнолиями, пальмами и олеандрами улицу и остановились у огромных тёмно-серых ворот из кованого железа. С обеих сторон тянулся шестиметровый забор. Ворота открылись, и их встретили два вооружённых охранника в камуфляжной форме с карабинами в руках. Рядом сидел коричневый доберман.
Машина проехала по длинной гравиевой дороге сквозь сад (в нём пряталось множество небольших построек) и остановилась на большом кругу с фонтаном посредине. Отсюда был виден дом.
Дом казался бесконечным; он шёл полукругом, в испанском стиле: с резными башнями по бокам и множеством веранд, опоясывающих дом на каждом из трёх этажей. Веранды были увиты бугенвиллеей, и из центра каждого лилового цветка выглядывал жёлтый глазок-звёздочка. Вдоль дома тянулась высокая каменная изгородь с полукруглыми арочными окнами, в которые были вставлены железные кованые решётки. Сквозь решётки было видно внутренний двор и длинную мраморную лестницу, ведущую в дом. Чтобы попасть во двор, нужно было пройти под аркой, отделанной серым неровным камнем. Рядом с аркой висел большой колокол. У дома было имя — Хасьенда Тимасу. Что это значило, Илья так и не выяснил.
Их встречали. У фонтана стояли двое скудно одетых среднего возраста мужчин и пожилая женщина. Женщина была тоже чёрная, но в отличие от мужчин с азиатскими чертами лица. В руках она держала зонтик от солнца.
Адри обняла женщину, и они застыли, а потом начали целовать друг друга в щёки и протяжно говорить на непонятном языке.
Мужчины сказали Илье что-то дружелюбное и стали доставать из машины багаж. Шофёр в выгрузке багажа не участвовал. Илья хотел взять свою сумку, но его вежливо отстранили, объяснив что-то, что он не понял.
Миссис Рутгелт отдала мужчинам какие-то указания и повернулась к Илье:
— Это Ома, моя тётя, сестра Адриной бабушки, моей мамы. Она всегда жила с нами. Адри — её любимица. Пойдёмте в дом, а то сгорите на солнце. Адри сейчас придёт.
Они прошли через арку с кованой дверью-решёткой (Илье очень хотелось позвонить в колокол, но он не решился) и оказались во внутреннем дворе, с бесконечными клумбами цветов всех оттенков и огромными деревьями, названий которых Илья не знал. Кроны этих неизвестных деревьев полностью затеняли двор. Сквозь них осколками синего редело небо. Рядом с одним из деревьев спал гигантский попугай с кольцом на ноге. От кольца тянулась толстая цепь, которую прибили к неизвестному Илье дереву большим гвоздём.
В доме было прохладно и стоял полумрак. Свет струился внутрь сквозь прорези ставен. Адри куда-то исчезла, и миссис Рутгелт повела Илью через комнаты, заставленные тёмной деревянной мебелью. Он тут же запутался в казавшихся ненужными коридорах и старался держаться к ней поближе. В одной из комнат стояло пианино с резной крышкой и четыре кресла с высокими спинками на очень низких ножках. Больше в ней ничего не было.
В последней комнате было светло и только три стены, а вместо четвёртой — открытый проход на веранду. Здесь под навесом на плетёных диванах и креслах с подушками сидели Рутгелты и, зажимая звуки, говорили по-голландски. В углу висел огромный гамак, прикреплённый толстыми канатами к кольцам под навесом.
В гамаке лежала Адри в обнимку с самой красивой женщиной в мире. Илья увидел женщину и остановился: он не мог поверить, что такая красота действительно существует.
Адри рассмеялась, а потом сказала:
— Не смущайся, она так действует на всех мужчин. Я уже давно не ревную. Это Кэролайн, а там папа и Руди. Очнись же, она никуда не убежит, ещё насмотришься.
Оба, мистер Рутгелт и Руди, были на голову выше Ильи и с их по-семитски тонкими лицами выглядели как эфиопы. Руди был более светлокожим и чаще улыбался. Мистер Рутгелт пожал Илье руку и попросил называть его Эдгар, но Илья сразу понял, что к нему можно обращаться только «мистер Рутгелт». Он был одет в белые полотняные брюки и белую же рубашку навыпуск. Как и все, кроме Ильи, он был босиком.
Разговор перешёл на английский, на котором все Рутгелты, кроме Руди и Адри, говорили с подчеркнуто британским акцентом. Руди и Адри говорили как американцы, как белые американцы. Мистер Рутгелт иногда вставлял голландские слова, но тут же извинялся и переводил сам себя.
Адри выбралась из гамака и залезла в одно кресло с Омой. Она положила ей голову на грудь, и Ома стала что-то тихо напевать не по-голландски (позже Илья выяснил, что это срэнан-тонго, местный креольский диалект, образованный из африканских, голландских и индейских слов).
Кэролайн почему-то извинялась перед Ильёй, что её муж Гилберт не смог прилететь в этот раз. Илья не очень понимал, отчего она считала, что он так ждал этой встречи, и старался не смотреть на её ноги в узкой короткой юбке. Он старался смотреть на цветочные горшки, расставленные вдоль балюстрады, но не знал, насколько это у него получалось.
На веранду вышел огромный тигровый мастиф и недоверчиво обнюхал Илью. Потом мастиф подошёл к креслу, в котором сидели Ома и Адри, и, тяжело вздохнув, лёг и тут же заснул. Ома поставила на него ноги.
Беседа шла ни о чём: как прошёл полёт, что Илья знает о Суринаме, что хочет посмотреть, где ещё был в Южной Америке. Илья, однако, понимал, что все, кроме Омы, его внимательно оценивают. Вопросы скоро иссякли, и жизнь веранды постепенно соскользнула в ритм предвечерних тропиков — с покачиванием гамака, цоканьем кубиков льда в длинных стаканах и шелестом босых ступней по каменному полу.
В саду мягко кричали птицы, и казалось, времени нет и не нужно. Затем сумерки вдруг вылезли из-под верхушек деревьев и заполнили всё вокруг лиловой пеленой. Сам собой включился свет, и появились ночные бабочки. Миссис Рутгелт ушла в дом, и скоро высоко под навесом веранды зазвонил колокольчик: ужин.
ПАРАМАРИБО 2
ЗАВТРАК в доме Рутгелтов был большой, медленной и долгой едой, потому что Рутгелты никогда не обедали и вообще не ели днём. Завтракали на веранде, но не на той, где Илья познакомился с семьёй; та веранда использовалась для разговоров вне еды, семейного времени вместе, лёгких аперитивов перед ужином и называлась «Семейная». Завтракали и ужинали на нижней, примыкавшей к кухне веранде с огромным столом на двадцать человек. Эта веранда так и называлась — «Кухонная». Она была отгорожена от сада каменной балюстрадой, по поверхности которой тянулись встроенные лотки с цветами. В двух дальних от стола углах веранды стояли низкие плетёные столики с креслами, туда мистер Рутгелт и Ома уходили курить после еды. С навеса над верандой свешивались длинные узкие ленты, на них жужжали приклеившиеся мухи. Перед ужином ленты убирали и вешали свежие.
В доме было ещё две веранды: Верхняя — на третьем этаже, куда выходили семейные спальни, и веранда с шестью креслами на крыше. Что делали там, оставалось загадкой; впрочем, Илья на ней никогда не бывал.
Веранды носили голландские названия — Het Terras van de Familie, het Terras van de Keuken, Hoger Terras и het Terras van het Dak, которые Адри перевела для Ильи: Family Terrace, Kitchen Terrace, Upper Terrace и Roof Terrace. Английские названия были короче и радовали понятностью, хотя Илье нравились голландские Keuken и Hoger: в них чувствовались определённость и предназначение.
За завтраком говорили о планах на день и обсуждали отсутствие за столом (и вообще в доме) Руди; это обсуждалось по-голландски, но Адри перевела Илье все замечания мамы и Кэролайн по этому поводу. Мистер Рутгелт не участвовал в обсуждении и расспрашивал Илью о шансах республиканцев на предстоящих выборах в США. Он был удивлён, что Илья не собирается голосовать.
В конце концов все согласились, что самое лучшее — взять катер и подняться по реке к водопаду, где находился песчаный пляж. Появившийся в конце завтрака Руди предложил поехать на Уайт Бич в Домбург, но был высмеян сёстрами за своё «американское» пристрастие к комфорту.
Илье объяснили, что Уайт Бич это искусственный пляж с сетками от пираний, а его отвезут на настоящий дикий пляж у водопада.
— Ведь это то, что Илья хочет, не так ли? — утверждала Кэролайн.
Илья в принципе не возражал против комфорта и защиты от пираний, но, посмотрев в бархатные ночные глаза Кэролайн, решил согласиться. Рядом с ней хотелось быть героем. Рядом с ней вообще хотелось быть.
Мистер Рутгелт остался дома, пожелав всем хорошей поездки. Он стоял на крыльце и смотрел, как они садятся в машины. Мастиф сидел рядом и спал.
Река начиналась недалеко от дома Рутгелтов, но до пристани, где находился катер, нужно было ехать более получаса. Катер был большой, метров пятнадцать, и Руди уверенно вёл его по широкой коричневой реке. Река называлась просто — Суринам.
Они быстро проплыли через город, и по берегам потянулись джунгли с лачугами и мостками для лодок. Чёрно-синие дети плескались в воде, женщины в длинных юбках и платках, закрученных на голове как тюрбаны, занимались домашней работой. Вокруг женщин ходили худые курицы, недовольно клокоча в вязкий тропический воздух.
Становилось жарко; женщины на катере пересели под навес. Ома открыла зонтик, и сёстры пытались её убедить, что зонтик под навесом не нужен. Ома не слушала и крепко держалась за зонтик обеими руками. Руди снял майку и обвязал ею голову; он был сложён так, что каждый мускул можно было видеть отдельно. Он ни с кем не разговаривал, но часто улыбался, единственный в семье. Казалось, Руди не очень знает, о чём нужно говорить с Ильёй и нужно ли.
На корме, отдельно от всех, безразличные к солнцу, курили оба водителя, которые привезли их на пристань. Один из водителей сидел на корточках, и Илья не понимал, как у него не затекают ноги. Изредка водители плевали в воду за бортом, стараясь попасть в белую пену, бежавшую за катером.
Скоро берега стали необитаемыми, и казалось, что никакого города никогда не было и быть не могло. Джунгли густились по берегам реки, не позволяя взгляду проникнуть внутрь, храня свою жизнь от посторонних. Не было видно животных и вообще никаких следов жизни. Только птицы кружились над головой, встревоженные клёкотом мотора, и пытались криками прогнать катер из своего пространства. Несколько раз они проплывали мимо убогих рыбацких лодок, и Руди сворачивал в сторону, чтобы не задеть сети.
Неожиданно река широко изогнулась, и Илья услышал гул падающей воды раньше, чем увидел водопад. Шум приближался, нарастал, словно бежал навстречу. Катер обогнул большой жёлтый буй посреди реки и повернул к песчаному берегу напротив водопада. Руди остановил мотор и бросил якорь.
Их протащило метров шесть назад по течению, потом катер мягко дёрнулся и остановился. Один из водителей спрыгнул в воду, не снимая тёмных брюк, а другой стал подавать ему свёрнутые в рулон брезент и длинные колья. Затем он тоже прыгнул в воду, и они быстро установили на пляже большой тент и вернулись за складными креслами и пластиковыми ящиками со льдом, в которых хранились напитки и еда.
Потом водители перенесли Ому и усадили в одно из кресел под тентом. Пока её несли, Ома продолжала держать в руках зонтик. Когда все Рутгелты и Илья расселись под навесом, водители ушли к дальнему концу пляжа, где росли деревья, не дававшие тени. Здесь они легли на песок и мгновенно заснули.
ПАРАМАРИБО 3
АДРИ пришла к нему только на третью ночь. Все эти ночи они спали отдельно, и даже в течение дня Адри старалась не оказываться рядом. Илье было трудно привыкнуть к ночному одиночеству, но одиночество дневное было ещё труднее и незаслуженнее. В Нью-Йорке они всё время касались друг друга. Были вместе. Илья хотел обратно в Нью-Йорк.
Она скользнула под москитную сетку и прижалась к нему своим длинным узким телом. Илья стал целовать её в шею, затем тронул языком сосок (он не видел в темноте, но знал, что сосок кофейного цвета). Адри отстранилась и, перевернув его на спину, оказалась сверху.
Она шепнула на выдохе:
— Хочу тебя поцеловать. — И через мгновение её мягкие влажные губы были там, где он желал их больше всего, и её пальцы помогали ласкам.
Илья слышал сквозь любовь, как обиженные москиты звенели за сеткой, не понимая, отчего эти двое не хотят, чтобы их кусали. Сетка скоро упала и поймала, опутала их сплетённые мокрые тела словно кокон. Они продолжали переворачиваться и совсем запутались в сетке и друг в друге.
Москиты зудели вокруг, но боялись на них садиться.
Потом Адри повесила сетку обратно, принесла мокрое полотенце и обтёрла Илью и себя. Они расправили простыни и легли — её голова у него на плече, её пальцы продолжали его ласкать, искусно поддерживая возбуждение, которое и так не хотело угасать. В комнате стояла мутно-коричневая ночь, плотная, как туман.
У Адри не было предпочтений в любви. Обычно, если Илья спал с женщиной больше двух раз, он начинал понимать, что и как она любит делать и что она любит, чтобы делали с ней. Он всегда был очень внимателен к женщинам и старался выучить их эмоциональные и физические реакции, узнать их вкусы, чтобы любить их правильно, как им хочется.
Некоторые хотели, чтобы их долго готовили, ласкали и возбуждали, другие — наоборот, чтобы их взяли словно насильно и вошли в них грубо и сразу. Были женщины, что хотели иногда одного, а иногда другого, и это было как игра, где нужно угадать её настроение и быть таким, как ей хочется в этот раз. Но всегда оставалось что-то, что каждая ценила больше всего: кто-то любил сзади, кто-то — быть сверху, одна хотела, чтобы её ласкали языком до конца, а другая — чтобы пальцами внутри, где пряталась та самая точка, шероховатый центр оргазма, что ждал, пока его найдут и начнут трогать, сначала нежно, а потом всё сильнее и сильнее, пока наслаждение не накопится капля за каплей и не взорвётся, заполнив собой низ живота и освободив его от скопившегося ожидания. Некоторые женщины любили, чтобы им говорили слова, чтобы мужчина рассказывал, что он с ними сейчас делает и что хочет делать, а другие желали полной тишины, чтобы они сами могли придумать всё, что мечталось.
Илья сознавал, что для многих женщин он — лишь инструмент их фантазий и в этот момент они не здесь и не с ним. Он не обижался и старался соответствовать их нуждам и знал, что никогда не будет полностью таким, как они хотят, потому что они хотели не его, а другого, которого не было с ними в данный момент, а часто не было и совсем.
С Адри он занимался любовью каждую ночь, и утром тоже, и всё не мог понять, что ей действительно нравится, потому что казалось — ей нравится всё. Илья был достаточно опытен, чтобы знать: так не бывает. Женщины, особенно молодые, были любопытны и хотели пробовать разные вещи, но у каждой было то, что она любила больше, что доставляло наслаждение. Женщины были готовы делать и делали другие вещи тоже, но обычно они делали это, чтобы доставить удовольствие партнёру, и ждали, терпеливо ждали того, что им действительно нравилось.
Любовь была как мелодия, и нужно обладать слухом, чтобы услышать правильную ноту, а всё остальное — аранжировка, остального могло и не быть. Адри же казалась каждую ночь разной, и Илья чувствовал, что ласки, от которых она умирала вчера, её тело отвергает сегодня, что реакция плоти, уже казавшаяся ему безусловной, исчезла и она хочет другого и по-другому. Каждая ночь с ней была первой, и он должен был выучивать её заново, чтобы на следующую ночь всё выученное оказалось неправдой.
Они говорили о вчерашней поездке на катере, и Адри допытывалась, кто лучше выглядел в купальнике — она или Кэролайн.
— Скажи мне правду, — приставала Адри. — Но помни, что я держу в руке. Пусть ответ будет правильным.
Она сжала его чуть сильнее для подтверждения угрозы. Это было немножко больно и очень приятно.
— Сделай так ещё, — попросил Илья.
— Сделаю, когда ответишь. Или вообще перестану трогать.
И перестала, убрав руку. Илья положил её руку обратно и накрыл своей ладонью. Они полежали какое-то время молча, ласки возобновились, и её пальцы стали всё требовательнее. Затем Адри потянула Илью к себе, на себя, в себя, и он взял её, войдя внутрь и чувствуя, что она хочет, чтобы он сделал ей больно. Он прижал её руки к подушке и входил в неё, будто брал насильно. Он чувствовал, что это, как она хочет сейчас, но знал, что в следующий раз всё будет по-другому. Следующий раз с ней снова будет первым.
Когда Илья проснулся, утренний свет уже пробрался сквозь щели ставен и разлиновал стены узкими жёлтыми полосами. Адри не было, но она оставила свою красную ленту для волос, повязав её там, где ночью были её пальцы и губы.
Илья пошёл в душ и долго мылся, не снимая ленту, пока она не стала скользкой от мыла и не упала на шершавый каменный пол. Потом он надел шорты, повязал ленту вокруг шеи как галстук-бабочку и отправился завтракать на Keuken Terras.
ПАРАМАРИБО 4
ЖИЗНЬ в Суринаме напоминала Илье Сибирь, куда он был сослан после тюрьмы. И здесь и там жизнь шла на выживание, и Илья сразу почувствовал, узнал растворённую в здешнем воздухе повседневность беды, что висела над сибирской землёй так же низко, как и скудное тамошнее солнце. Здесь это ощущение было ярким и жгучим, как красное солнце тропиков, что находит человека в любой тени и сжигает дотла. Люди вокруг жили трудно, жили от утра до вечера, без тоски о прошлом, без планов на будущее, без надежды в настоящем. Илья знал эту жизнь; он и сам так жил долгие пять лет заключения, что пролетели удивительно быстро и остались с ним насовсем.
Тюрьма была словно сон, просмотренный фильм, отдельный от его настоящей жизни, хотя никакой другой жизни у него не было. Он помнил, как после освобождения, уже в эмиграции, всё не мог побороть привычку смотреть в чужие тарелки: вдруг там сытнее. Он никогда не жалел, что сидел, и не променял бы это на другое.
Многие сочувствовали, сокрушались, что он провёл в тюрьме лучшие годы молодости — с двадцати трёх до двадцати восьми. Он соглашался, но лишь с тем, что эти годы действительно были лучшие.
После перестройки (и гласности), когда Илья уже жил в Америке, он узнал, что статью, по которой его осудили, отменили совсем. А потом не стало и самой страны, в преступлении против которой он был повинен. Антисоветская пропаганда стала таким же историческим прошлым, как Гражданская война, ведь советской власти больше не было. Не было и Советского Союза, его родины, и вместо неё стала странная, далёкая страна — Россия, настоящая заграница.
Обсуждать эти перемены с Антоном не получалось: Антон совсем не помнил советской жизни; его родиной было его детство. Он с трудом говорил по-русски и не понимал горечи Ильи по утраченному прошлому.
— Ну и хорошо, — успокаивал он Илью. — Не стало, и хорошо. Теперь там всё будет по-другому, как здесь. И сажать никого больше не будут.
Антон все-таки был безнадёжно американец.
Как ни странно, Адри понимала Илью лучше. Жизнь её семьи была так же разделена на две части, до и после. До — это до независимости, в Суринаме, и после, в Голландии. Независимость заставила их покинуть родину, и память об этом жила в семье рассказами и воспоминаниями о бегстве. Сама Адри никогда не жила плохо, ни здесь, ни там, да и никто из Рутгелтов плохо не жил.
Семья, однако, как и Илья, прошла через опыт подчинения личной судьбы ходу истории, и это их объединяло. Илья, правда, поначалу не мог понять, почему они вообще должны были бежать.
— Вы же не колонизаторы, не белые, — удивлялся Илья. — За что вас-то?
— Ты не понимаешь, — объясняла Адри. — Раса здесь вообще ни при чём. Это всё экономика. Знаешь, бразильцы говорят: «Деньги делают тебя белее». Богатый в третьем мире — уже белый.
Только здесь, в Суринаме, он полностью понял, что Адри пыталась ему объяснить.
Сейчас они бродили по парамарибскому рынку; Ома с ними, зонтик крепко зажат в руке.
Вокруг кипел людской хаос, и на длинных досках, поставленных на пустые бочки, были разложены овощи и фрукты, которых не могло существовать в природе. Из дальнего конца крытого зала несло густым сырым запахом свежей рыбы. Какие-то люди спали на земляном полу, среди гнилых овощей, объедков и прочего мусора, и покупатели переступали через них, наступали на них, а те лишь сворачивались в клубок и продолжали спать, словно ничто не могло их заставить верну ться в эту реальность.
Адри шла сквозь толпу, окутанная своей привилегированностью, как коконом. И хотя многие здесь были светлее её кожей, не возникало сомнений, кто был раньше хозяином, а кто рабом.
Они остановились около лотка с фруктами. Ома долго приглядывалась к длинным плодам папайи (таких больших Илья никогда не видел в Нью-Йорке), гладила их жёлтую кожу и наконец выбрала шесть плодов. Она также купила какие-то незнакомые Илье фрукты. Продавщица отложила всё купленное в сторону, и они пошли дальше.
— А фрукты? — не понял Илья.
— Их принесут домой, — сказала Адри. — После рынка.
— А как они знают куда?
— Найдут. — Адри посмотрела на растерянного Илью и пожалела его. — Здесь все знают, кто мы и где живём. Когда я шлю Оме письма, то никогда не пишу адрес. Просто «Суринам, Парамарибо, Ома Ван Меерс». Или «Суринам, Хасьенда Тимасу». И всё.
Они вышли наружу, и воздух облепил кожу липким жаром. Солнце било красным в глаза. Илья зажмурился. Это не помогло; солнце пробралось сквозь сжатые веки и начало плавить зрачки. Во рту пересохло, и хотелось пить.
Вокруг лежала широкая пыльная улица без тени. Илья ступил ближе к стене, надеясь найти тень от здания, но тени не было. Солнце стояло прямо над головой и светило без жалости и снисхождения к его белой коже. Илья почувствовал свою чужесть здесь, в этом месте, в шести градусах к северу от экватора.
Неожиданно он оказался в тени: это Ома накрыла его своим зонтиком. Он взял у неё зонт и поднял повыше, чтобы тени хватило для двоих. Они пошли рядом, держась близко друг к другу. Адри ушла вперёд; она всегда очень быстро ходила, и Илья следил, как поля её белой парижской шляпы плывут сквозь толпу.
Ома сказала Илье что-то по-голландски, и он кивнул в знак согласия. Было хорошо под зонтиком и сознавать, что скоро они вернутся в большой, устроенный дом, который здесь все знают и который даже не нуждается в адресе. В этом знании были надёжность и ощущение принадлежности.
Они завернули за угол, следуя за белой шляпой, и увидели Адри. Она стояла перед странным сооружением, похожим на театральную декорацию: задняя и боковые стены, сколоченные из листов фанеры, крышек ящиков и кровельного железа, заканчивались открытым пространством. Передней стены не было вовсе, словно смотришь из зрительного зала на декорации комнаты на сцене.
Внутри комнаты стояло несколько ящиков; на одном сидел старый мужчина с иссиня-чёрной кожей, в длинных брюках и фетровой шляпе с дырками по бокам. Больше на нём ничего не было. Мужчина курил длинную самодельную сигару. Над ним кружился рой мух.
У задней стены лежали пустые мешки, на которых спали трое голых детей. Посреди комнаты была железная бочка с прорезанным квадратным отверстием посередине. В отверстии горел огонь, на бочке стояла большая жестяная банка; в ней молодая женщина в длинном жёлтом платье варила еду.
Крышей — такой низкой, что женщина стояла пригнувшись — служили листы кровельного железа. На крышу были закинуты пустые мешки, которые, понял Илья, ночью спускались вниз и использовались как четвёртая стена, отделяя жильё от улицы. На одном из мешков Илья прочёл полустёртую надпись: Sucre.
Адри о чём-то расспрашивала женщину на срэнан-тонго; та показала на детей и засмеялась. Адри говорила очень медленно, неуверенно, поправляя себя, и обрадовалась, что пришла Ома. Ома села на один из ящиков внутри комнаты, и женщина молча налила ей воды из большой зелёной бутылки в банку из под пепси с отрезанным верхом. Она посмотрела на Илью и что-то сказала мужчине.
Тот и сам уже глядел на Илью с интересом. Илья подумал, что, может, они никогда не видели белых, но решил, что это ерунда. Неожиданно разговор изменился: оба, мужчина и женщина, стали в чём-то убеждать Ому, показывая на Илью время от времени. Женщина оставила готовку и шагнула к Илье. Теперь она стояла рядом, почти вплотную, и казалось, смотрела мимо него и что-то там видела.
Старик встал и тоже подошёл к Илье. Они были одного роста, хотя старик казался выше из-за шляпы. У него росла жидкая борода одного цвета с кожей. Старик был очень мускулист и совершенно не стар. От него пахло потом, давно не мытым телом и крепкими сигарами. Он тоже смотрел мимо Ильи. Потом старик повернулся к Оме и начал говорить, долго и протяжно, описывая руками окружности в воздухе.
Илья заметил, что он часто повторяет одно и то же слово, которое Илья не мог разобрать, что-то похожее на нсеке.
Женщина бросилась к детям и закрыла их собой, будто пыталась защитить от Ильи. Затем она показала на Адри и сказала Оме что-то быстрое, как брошенный в окно камень.
Ома сидела спокойно, словно не могла слышать сказанных ей слов. Вдруг она резко поднялась. Старик замолчал. В наступившей тишине было слышно, как, лопаясь, булькало варево в жестяной банке на самодельной плите. Ома поставила воду на ящик и пошла к выходу. Она раскрыла зонтик и коротко позвала Адри. Та молча взяла Илью за руку и, не оглядываясь, повела его прочь.
Через несколько шагов, придя в себя, Илья обернулся, чтобы попрощаться с этой странной семьёй. Он увидел, что оба, мужчина и женщина, смотрят им вслед. В вытянутой руке, отставив её как можно дальше, женщина держала банку, из которой пила Ома. Затем она размахнулась и выбросила банку на улицу. Банка долго летела, и из неё белесым веером — белее, чем воздух — выплескивалась вода.
Ома шла почти бегом, так что Адри и Илья еле за ней поспевали. Никто не разговаривал, хотя Илья заметил, что Адри несколько раз улыбнулась. Она всё ещё держала его за руку.
— Что случилось? — спросил Илья. — Я их чем-то обидел? Может, вернуться и извиниться?
Адри лишь сжала его руку. Скоро они были у машины. Ома села на переднее сиденье и сказала шофёру одно слово:
— Хасьенда.
— В чём всё-таки дело? — продолжал спрашивать Илья. — Кто эти люди?
— Подожди. — Адри заговорила с Омой по-голландски. Она явно что-то спрашивала или просила. Ома лишь мотала головой и говорила: «Nr, niet nu». Илья уже знал, что это значит: «Нет, не сейчас». Наконец Ома сдалась и махнула рукой, как бы говоря: «Делай что хочешь».
Адри повернулась к Илье. Она внимательно смотрела на него, разглядывая, словно видела в первый раз. Потом потянулась и поцеловала в губы.
— И?.. — спросил Илья. — Что это было?
— Эти люди — маруны. — Адри погладила Илью по щеке. — Они сказали, что ты нэнсеке. Оборотень.
ПАРАМАРИБО 5
ИЛЬЯ не знал, кто такие маруны. Адри объяснила, что так в Южной Америке — от испанского cimarones, непокорённый, — называют бежавших с плантаций африканских рабов и их потомков. В Суринаме в старое время наказание за побег было простым и варьировалось лишь в зависимости от настойчивости беглеца: на первый раз беглому рабу ампутировали левую руку, на второй — обе ноги. Третьего раза, как правило, не бывало: с ампутированными ногами бежать нелегко.
Все маруны были колдуны; это знал каждый суринамец. Они продолжали жить в мире незримого, неявного, скрытого. Они умели летать и управлять природой. Они могли убивать врагов без оружия. Их обряды оставались тайной, скрытой от чужих. Их верховный бог, Гаан Гаду, не являл себя людям; он использовал меньших богов, Куманти, для манифестации своей воли. Если шаман служил одному из Куманти, он мог становиться животным, подвластным этому божеству.
Так, прадед мистера Рутгелта, сын пойманной девочки-марунки и плантатора-португальца, был человеческим медиумом Куманти-Джебии и, когда возникала необходимость, превращался в пуму. Когда необходимости не было, он помогал отцу управлять плантацией и предпочитал светлые шляпы с лентами.
Ома собрала всю семью на Семейной террасе, как только они вернулись. Илья сидел в дальнем конце веранды отдельно. Он пил холодный домашний лимонад. Лимонад был настоящий: в нём плавала мякоть лимона. Лимонад приносили в длинном кувшине и разливали в высокие матовые стаканы с монограммами. На серебряном подносе рядом с кувшином лежали стеклянные трубочки дымчато-синего цвета; один конец у трубочек был чуть сплющен, другой круглый. Пить полагалось из сплющенного конца.
Разговор шёл по-голландски. Сначала Адри переводила, потом перестала, и Илья сидел, бесполезно вслушиваясь в поток «х» и «г» голландской речи, заполнившей веранду.
Он знал, что Ома требовала показать его Ам Баке, который, как объяснила Адри, был семейным колдуном Рутгелтов.
Семейный колдун, сказала Адри, это как семейный врач: он «смотрит» каждого члена семьи и проводит для него те обряды, что нужны лично ему. Раз в год он проводит общий обряд для всей семьи, чтобы её не покинули здоровье, богатство, удача. С ним советуются во время сомнений и трудностей, к нему приходят в болезни. Ам Баке был марун из племени бони, что жило вдоль границы с Французской Гвианой. Он пришёл оттуда в Парамарибо, когда Ома была маленькой. Ам Баке оставался такого же возраста, как и был, только растолстел и женился.
Илья сидел и слушал чужую речь. Ему было хорошо на этой веранде. Он не очень понимал, из-за чего весь переполох и что тут обсуждать, но его никто и не спрашивал. Из тёмной, прохладной глубины дома вышел мастиф, который хотел лечь на своё обычное место рядом с креслом Омы, но Ома оттолкнула его босой ногой, словно это он был оборотень. Мастиф шумно вздохнул и побрёл в дальний угол веранды, к Илье. Он безразлично взглянул на Илью и тяжело лег на пол из светлого камня. Неровные каменные плиты были испещрены оспинами дыр, и сквозь них было видно структуру горной породы.
Говорила Адри. Она стояла посреди террасы — высокая, тонкая, длинноногая, в коротких белых шортах; своя — и такая недоступная. Илья всё ещё не мог привыкнуть, что он физически владеет её телом. Что имеет на неё право. Он подумал о тех вещах, что она делает с ним по ночам, и желание жаркой дрожью скользнуло в низ живота.
Адри — для Ильи — говорила по-английски. Она была против визита к Ам Баке. Она говорила что-то, что Илья не мог понять. Но что она не хочет, чтобы его показывали колдуну, Илья понял.
Илью удивляло, что все серьёзно обеспокоены тем, что сказали никому не известные люди на рынке. Маруны они или нет, что им верить. И почему оборотень? Он решил вмешаться в беседу.
— Адри, что происходит? Вы что, серьёзно думаете, что я оборотень? И в кого я оборачиваюсь? Ерунда какая-то.
Все посмотрели на Илью, словно он только вошёл и они не понимали, кто он и откуда. Ома что-то сказала по-голландски. Ей никто не ответил.
Кэролайн повернулась к Адри:
— А он вообще что-нибудь знает про Уатта-Водун?
— Нет, — сказала Адри. — Он со своими интеллектуальными друзьями в Нью-Йорке ищет эзотерическую мудрость. А про Уатта-Водун он не знает ничего.
— Эзотерическую мудрость? — Мистер Рутгелт по-британски протяжно акцентировал слова. Он повторил: — Эзотерическую мудрость? И какого сорта?
— Папа. — Адри нашла глазами Илью и отвернулась. — Обычного сорта. Того сорта, что ищут люди, начитавшиеся разной эклектической чепухи. Тамплиеры, исторический Иисус, Грааль. Мир как иллюзия, как обещание чего-то ещё.
— Чего же? — Мистер Рутгелт повернулся к Илье. — Что же, вы думаете, вас ожидает за этой дымкой иллюзии? Что там спрятано?
Он был явно заинтересован: мистер Рутгелт действительно хотел знать мнение Ильи о мире как обещании.
Илья решил принять вызов. Он не боялся; он просто хотел, чтобы Адри была на его стороне. Илья не знал уровня информированности мистера Рутгелта о предмете и потому начал с базовых вещей.
— Так называемый реальный, видимый мир — это не всё. Я совершенно уверен. Имеется куча свидетельств паранормальных явлений, которые наука не может объяснить. Вы же не будете это отрицать.
— Не буду, — согласился мистер Рутгелт. — И вам не советую. Но позволю себе процитировать Ньютона: «Ни один закон природы не может даже на мгновение перестать работать». Например, закон гравитации: притяжение Земли не позволяет телам с определённым удельным весом подниматься в воздух и находиться там продолжительное время без внешнего воздействия. Что же происходит, например, в случае левитации? А ничего любимого вами паранормального: мы присутствуем при работе другого закона природы, который пока неизвестен науке. То есть закон гравитации остаётся в силе, но работает и другой закон, пока науке неизвестный. А кто-то его знает и использует. Вот те, кто эти законы знают, и есть маги. Как если бы кто-то включил карманный фонарь во времена керосиновых ламп. И это не паранормальные, а вполне нормальные явления. Ничего паранормального вообще нет. Есть лишь то, что наука пока не узнала.
Илье стало скучно: мистер Рутгелт говорил очевидные вещи, и в этих вещах не было тайного знания. Магия Илью не интересовала. Его интересовало тайное знание, что поможет ему обрести понимание всего. Он попытался это объяснить. Все слушали молча, только Кэролайн тихо переводила для Омы.
— Вот почему так, например, важен исторический Иисус, — закончил Илья. — С ним связана тайна Грааля, тайна, которую пытались раскрыть все секретные общества на протяжении веков. Кем он был в действительности, зачем пришёл, кем послан. Это определило мировую культуру на протяжении двух тысяч лет. Это, а не люди, живущие на парамарибском рынке и толкующие об оборотнях.
Какое-то время все сидели молча. Свет начинал редеть по краям, и небо стало сворачиваться лиловым. Затем кто-то из Рутгелтов рассмеялся. Илья поднял голову; смеялся Руди.
— Прости, — сказал Руди. — Всё, что ты говоришь, так глупо. Ты живёшь в плену иудео-христианских символов, которые люди придумали сами. Они сами выдумали эти мифы и делают вид, что это было дано свыше и требует разгадки. Они сами написали тексты своих священных книг и теперь пытаются разгадать тайну этих текстов. А ничего тайного и сакрального в этом нет: просто образы-символы, придуманные самими людьми. И всё. Ты здесь ничего не разгадаешь: нечего разгадывать. И не во что верить.
— Илуша. — Он научил Адри этой форме своего имени; она любила так его звать, но ей никак не давалось мягкое «л». — Руди прав. Ты любишь мистику, потому что она не имеет конечного решения и не требует действия. А в магии нет ничего мистического: магия — это практика, это действие, это то, как мир работает на самом деле. Особенно Уатта-Водун. Не путай, — продолжала Адри, — не путай африканскую магию с другими. Многое, что известно как магия, просто мистификация: зритель видит то, что ему внушается. Законы реальности при этом не меняются; лишь временно меняется наше видение этой реальности. Нам кажется, что белое становится чёрным, но оно остаётся белым. В Уатта-Водун, напротив, маг манипулирует не восприятием реальности, а её тканью, её составными элементами. Он действительно летает, действительно меняет форму, действительно исчезает. Понимаешь? Исчезает, а не становится невидимым.
— О’кей, о’кей. — Илья устал. — Я понял: исчезает. А почему ты тогда против того, чтобы меня повезли к вашему колдуну?
Ответа ждали все, не только Илья. Адри помедлила, а потом сказала тихо, словно для себя:
— Потому что я не хочу знать, чей ты оборотень. Я не хочу знать, кто ещё в тебе живёт.
Какое-то время опять все молчали. Затем мистер Рутгелт сказал:
— Мы едем к Ам Баке. — Мистер Рутгелт остался сидеть в кресле, но произнёс это так, будто он уже встал и идёт к машине. — Сегодня. Сейчас.
ПАРАМАРИБО 6
БЫВАЕТ — не всегда, не часто даже, но случается, что проснешься, и мир вокруг целый. Не нарезанный окнами на прямоугольники внешней жизни — кусок стены напротив, чужое проживание в кадре оконных рам через колодец двора, а твой, весь твой. И небо над тобой целое, сколько хватит взгляда, и лодка несет тебя по реке, а над головой — большие, невиданные ранее птицы. Мир в такие дни целен, и хочется верить, что он такой всегда. Или должен всегда таким быть.
«Однако что мир, — думал Илья. — И мира-то никакого нет, одна иллюзия». Он открыл глаза посмотреть, так ли это. Мир был всё тот же — джунгли по обеим сторонам густокоричневой реки, неясной сквозь клочья белесого утреннего тумана. Мир был ранний — видать, сам только проснулся.
Руди и миссис Рутгелт сидели под дальним, кормовым концом брезентового навеса и разговаривали с Ам Баке. Их речь долетала обрывками, клочковатыми, как туман. Казалось, что солнце взойдет и съест и их разговоры, и белесую мглу над рекой.
Шум мотора сглатывал слова, и Илья подумал, как всё это похоже на фильмы Ромера: сидят люди и говорят, говорят, а фон в кадре сам по себе; выключи звук — и ничего не изменится.
Он вспомнил, что перед отъездом в Суринам — в другой, далёкой теперь жизни десять дней назад — читал в «Нью-Йорк тайме» статью о Ромере. Оказывается, звали того вовсе не Эрик Ромер, а как-то совсем по-другому, Жан-Клод что-то, и был он родом из Эльзаса.
Илье стало интересно, и он начал придумывать Ромеру другую биографию. Например, не отвоюй французы у немцев Эльзас в свое время, Жан-Клод родился бы в Германии вместо Франции.
Илья зажмурился от удовольствия — жизнь Ромера представала теперь во всём блеске абсурдности новых вариантов. Случись так, Ромер мог стать не кинорежиссером-новатором, снимающим чувственные фильмы про девичьи колени, а нацистским офицером, методичным и сентиментальным садистом, поверившим в спесь арийской крови и свою личную миссию быть частью общего муравейника Фатерланд. Дальше выходило ещё интереснее: во время войны этот Ромер, то есть не тот Ромер, а новый Ромер, фашист, стоит в оккупированной немцами Франции; у него завязывается роман с местной женщиной, она рожает сына, и тот становится знаменитым французским кинорежиссером.
«Интересный сюжет, — подумал Илья. — Жаль только, что Ромер родился, кажется, в двадцать девятом и никак не мог воевать». Ему стало грустно, что жизнь всё придумала по-другому.
Они плыли всю ночь, покинув Парамарибо в темноте, — так решил Ам Баке. Илья было начал спорить, что ему нужно вернуться в Хасьенду, взять с собой вещи и попрощаться с Адри, но миссис Рутгелт сказала, что ничего этого не надо. Она и Руди отправились с ним, также без вещей, без подготовки, просто в ночь, где их ждала чёрная река. Ома осталась в большом, нелепо построенном доме Ам Баке, полном ниоткуда возникающих женщин и разного возраста детей.
Всё происходящее казалось настолько нереальным, что Илья решил не сопротивляться. Вещи теперь случались сами собой, никто не готовил следующий шаг, не обдумывал, не планировал; люди и события двигались от одного решения к другому. Илья чувствовал чужую волю, но не мог понять, откуда она исходит. Это было как ветер; а как спорить с ветром? Он просто должен перестать дуть.
Ам Баке жил на юго-западе Парамарибо, в районе со странным названием Хаф Флора.
Его дом был длинным, одноэтажным и отчего-то казался плоским. Внутри дома было легко потеряться: комнаты становились коридорами, коридоры оканчивались ничем, и скоро Илья перестал ориентироваться. Он понял, что дом постоянно достраивали, без определённого начального плана, каждый раз, когда возникала необходимость в новом пространстве. Постепенно дом образовал круг, соединившись сам с собой и ограничив свой непрерывный рост. В кольце стен под навесом находилась кухня.
С Ильёй к Ам Баке поехали Ома, миссис Рутгелт и Руди. Обе сестры остались дома, с отцом.
Когда они приехали, их никто не ждал. Маленькая толстая девочка с тремя короткими косичками открыла ворота и, не сказав ни слова, исчезла в темноте двора. Ома шла впереди, держа закрытый зонтик перед собой, как держат лозу, когда ищут воду.
Внутри дома им встретилось множество женщин, которые беззвучно появлялись и исчезали вдоль коридоров, ведущих в другие коридоры. Дом не хотел заканчиваться чем-то осмысленным. Он продолжался бесконечными переходами и комнатами без дверей. В некоторых комнатах оказалось неожиданно много мебели, другие стояли почти пустые, словно в них никто не жил.
Ам Баке выглядел не очень старым, не старее Омы. Он был совершенно лыс, с чёрным лицом, настолько чёрным, что Илья не мог разобрать его черты в полумраке тесной пустой комнаты, где было лишь два низких табурета. Ам Баке сидел на полу и спал. Ома и миссис Рутгелт сели на табуреты. Руди и Илья остались стоять в коридоре: в комнате для них не было места. Ома потрогала Ам Баке зонтиком, и тот тут же открыл глаза. Он не мигая смотрел на Илью, пока миссис Рутгелт и Ома говорили на рокочущем и щекочущем уши срэнан-тонго, ни разу не перебив и не задав ни одного вопроса.
Когда они закончили, Ам Баке что-то коротко крикнул в заполненную чужой жизнью темноту дома, и почти сразу в коридоре появилась молодая высокая женщина. В руках она держала большую коробку из-под обуви. Ам Баке взял у неё коробку и поманил Илью войти и сесть рядом с ним на пол. Илья еле протиснулся внутрь.
Ам Баке открыл коробку и достал оттуда свёрнутую жёлтую тряпку. Он развернул тряпку, расстелив её на полу. Внутри тряпки было множество маленьких светлых раковин и две старые монеты. Одна монета была квадратной. Ам Баке собрал раковины и монеты в горсть, потряс и бросил на тряпку. Затем он разровнял их ладонью.
В комнате не было окон, но в воздухе тонко зудели неизвестно откуда взявшиеся москиты. Ам Баке смотрел на расположение раковин и монет. Все остальные смотрели на Ам Баке. Илья пересчитал раковины на тряпке. Их оказалось тридцать две.
Ам Баке покачал головой и что-то сказал Оме. Ома закрыла рот рукой и отодвинула свой табурет к стене, подальше от Ильи. Ам Баке повторил процедуру. Он внимательно посмотрел, как легли раковины и монеты, и остался доволен. Затем он убрал несколько раковин в сторону и снова оценил положение остальных предметов на тряпке.
Илье было скучно. Он боялся, что москиты его покусают и он заболеет малярией.
Неожиданно Ам Баке хлопнул в ладоши. В комнате настала полная тишина. Илья почувствовал: что-то изменилось, что-то было теперь по-другому. Он оглядел комнату и людей; нет, всё так же. Вдруг он понял: в комнате больше не зудели москиты. Они куда-то исчезли.
Ам Баке снова убрал несколько раковин в сторону и, не помедлив ни секунды, смешал остальные и собрал их в ладонь. Он потряс их, как и первые два раза, но бросил на тряпку не сверху, а веерообразным движением. Затем он отложил ещё несколько раковин и одну монету в сторону. Ам Баке долго глядел на оставшиеся раковины и квадратную монету на жёлтой тряпке. Затем он начал говорить. По-голландски.
Ома и миссис Рутгелт внимательно слушали. Илья взглянул на Руди; тот темнел в дверном проёме, чуть склонив голову — рост не позволял ему распрямиться. Илья ожидал, что кто-нибудь переведёт то, что говорилось о нём, но Рутгелты слушали, не перебивая и не задавая вопросов. Им было всё ясно.
Ам Баке кончил говорить и повернулся к Илье. Он поднял свечу высоко над головой; на потолке образовался жёлтый круг с дрожащим язычком пламени внутри. Ам Баке смотрел мимо Ильи, как маруны на рынке, и что-то там видел. Илья чувствовал, что колдун действительно что-то видит над его левым ухом. Илья потрогал рукой своё ухо и воздух над ним; там ничего не было.
— Когда ты родился, — вдруг сказал Руди, — ты должен был умереть. Ты родился очень больной и должен был умереть.
Это была правда: мать много раз рассказывала Илье, что он родился мёртвый — пуповина обвилась вокруг шеи, и он перестал дышать. Мать лежала на родильном столе и плакала. Стол был вплотную подвинут к окну, шёл дождь и заливал роженицу. Она плакала, и капли дождя у неё на лице опресняли слёзы.
Искусственное дыхание не помогало. Тогда врач-армянин (мать не помнила его имя, только то, что он был армянин) взял Илью за ноги и поднял вниз головой. Он шлёпнул его несколько раз по спине, и неожиданно Илью вырвало прозрачной кашицей прямо на плачущую мать. Илья начал дышать. Он стал жить.
— Когда ты родился, ты сразу умер, — пояснил Руди. — Твой дух покинул тебя, потому что твоё тело умерло. И тогда в твое пустое тело вселился дух одной из Куманти, женский дух, дух Куманти-женщины. Ты не принадлежишь себе, ты принадлежишь ей. Она принимает решения и живёт свою жизнь. В тебе.
— В каком смысле «свою жизнь»? — спросил Илья. Он не совсем понимал, что Руди пытается ему сказать. Ему показалось, что комната стала меньше и темнее. Словно здесь теперь был кто-то ещё.
— Куманти — малые божества. Как ангелы. Или демоны. Когда им нужна человеческая форма, они ищут пустое тело и вселяются в него. Например, бывает, что человек находится при смерти, а потом выздоравливает. Часто он выздоравливает потому, что в него вселился Куманти, которому нужно временное тело. Все говорят: вот, после болезни он стал другим человеком. Конечно другим, ведь в нём теперь живёт чужой дух, дух божества.
— Я сам принимаю решения о своей жизни, — твёрдо сказал Илья. — И никто во мне не живёт. Херня всё это.
Миссис Рутгелт стала переводить для Ам Баке, но тот прервал её на середине и что-то долго говорил, показывая время от времени на раковины, по костяной поверхности которых отблёскивала свеча.
Миссис Рутгелт повернулась к Илье:
— Он говорит, что твой собственный дух вернулся, когда ты ожил, но место уже было занято. Твой настоящий дух — сильный дух: он решил остаться. Он сильный, но Куманти сильнее, и твой дух прячется от неё, лишь изредка проявляясь в твоей воле. Он скрывается от Куманти, и иногда ему удаётся дать тебе ощущение твоей собственной жизни. Но редко. Вот почему ты не можешь ничему отдаться до конца. Ты ничего и никого не любишь без меры. Ты только наполовину полный. Ты — не свой. Ам Баке сказал, что очень редко, когда в одном теле живут два духа. Маруны на рынке увидели двоих и решили, что ты оборотень, нэнсеке. Но ты не оборотень: ты наполовину ты, а наполовину Куманти. Наполовину — ты малый бог.
Из коридора неожиданно появилась девочка, не та, что открыла им ворота, а ещё меньше. Она несла зажжённую свечу в пустой консервной банке, оберегая пламя рукой. Она отдала свечу миссис Рутгелт. Та поднялась и поставила банку со свечой на свой табурет. Табурет она осторожно подвинула к Ам Баке.
Ам Баке снова открыл коробку из-под обуви и достал прямоугольное зеркало и маленькую склянку. Склянка была почти доверху набита мелкой белой пудрой.
Колдун свернул тряпку с раковинами, завязал концы и отложил в сторону. Её место заняло зеркало, на которое Ам Баке насыпал пудру.
Затем он принялся водить по пудре указательным пальцем левой руки, чертя прямые линии.
Линии не пересекались и узко блестели чёрным, как проталины в весеннем снегу. Вдруг Ам Баке остановился и смёл пудру ладонью на пол. Он насыпал новый слой пудры и повторил процедуру.
Было тихо. Илья слышал, как в дальних комнатах кто-то поёт; звуки песни доходили до него будто сквозь толстый слой ваты. Затем песня оборвалась. В глубине дома заплакал ребёнок.
Неожиданно Ам Баке высоко поднял свечу и встал, повернувшись к стене. Все в комнате повернулись вслед за ним. Ам Баке взял зеркало и сильно дунул на пудру. Пудра закружилась белым маревом в пламени свечи на фоне стены. И тут Илья увидел змею. Змея свернулась кольцами в воздухе и была хорошо видна среди оседающей пудры. Змея как бы состояла из пудры и в то же время была отдельным образом; она была настоящей. Пудра кружила, а змея, не двигаясь, висела в воздухе. Вдруг свеча в руке у Ам Баке погасла, ни от чего, сама, и всё пропало. Илью начало мутить, как при морской болезни.
Он помнил, что Руди вывел его из комнаты и они очутились во дворе, внутри сомкнувшихся стен дома. Старая женщина, с лицом словно из тёмного полированного дерева, поила его водой, держа железную кружку в руках и не позволяя её взять. Она заставила его выпить три кружки подряд, и Илью вырвало на землю. Женщина засмеялась и что-то сказала на срэнан-тонго; она была довольна.
Илья понял, что рядом с ним стоит Ам Баке; старая женщина куда-то пропала. Ам Баке что-то ему говорил, но Илья не мог понять, он даже не мог понять, на каком языке тот к нему обращается. Во дворе были другие люди, но Илья не мог их видеть; казалось, эти люди сотканы из пудры, без лиц.
Ам Баке продолжал говорить. Илья хотел спать. Он хотел, чтобы все ушли и оставили его одного.
Илья почувствовал, как Ам Баке и Руди подняли его на ноги и стали водить по двору, от стены к стене. Илья не хотел двигаться, он хотел лечь и спать. Он не мог двигаться и пытался об этом сказать, но язык перестал его слушаться. Внутри Ильи больше не было воздуха.
— Не спи. — Голос Руди доносился глухим низким рокотом. — Не спи, умрёшь. Если ты заснёшь, уже не проснёшься. Нужно ходить, ходить, ходить.
Илья увидел дом изнутри; он не видел, что происходит в комнатах, он просто видел дом как живое. Внутри дома был свет, который пульсировал. Свет пульсировал только для него. Вдруг сон отступил, и Илью снова вырвало. Кто-то дал ему воды. Он не мог пить: зубы были крепко сжаты и не хотели открываться. Он почувствовал, что ему вылили воду на голову. Потом ещё. И ещё. И ещё.
Затем они ехали в машине, и миссис Рутгелт объясняла Илье, что им нужно плыть по реке к месту, где его будут чистить. Илья пытался сказать про одежду, про Адри, но его не слушали. Нужно покинуть Парамарибо прямо сейчас, сказала миссис Рутгелт. Прямо сейчас.
Прямо сейчас.
ГЕШИКТЕ ПЛААТС ВАН МАХТ 1
В СЕРЕДИНЕ дня они причалили к берегу. Низкий мужчина с узким серым лицом, который вёл лодку и ни с кем не разговаривал, повернул в одну из тысячи узких речушек, примыкавших к большой реке, и направил лодку вниз по течению. Скоро он нашёл, что искал: пологий берег в небольшой заводи. Лодка мягко ткнулась носом в илистую землю и остановилась.
Вокруг были джунгли, поросшие мелким, негустым подлеском. Водитель Рутгелтов Дези начал очищать площадку для лагеря длинным широким тесаком с деревянной ручкой. На конце тесак был не острый, а полукруглый; он назывался «котлас». Дези срубал тонкие стволы под корень. Он двигался по большому кругу. Внутри круга Ам Баке и Руди делали то же самое, держась в разных концах периметра, чтобы не задеть тесаками друг друга. Никто не командовал и не давал указаний: каждый знал, что делать, и делал.
Серый мужчина — оказалось, его зовут Ваутер — стал выгружать на берег свёрнутые гамаки и брезентовые рулоны. Часть этих вещей уже была в лодке, ожидавшей их ночью на пристани в Парамарибо, а остальные привёз Ам Баке, приехавший туда вслед за ними на мотоцикле с коляской. Мотоцикл был похож на милицейские мотоциклы из советского детства, и Илья проникся к нему доверием. Своей знакомостью мотоцикл гарантировал нормальность происходящего.
В джунглях было темновато и странно прохладно. Миссис Рутгелт обвязала голову красной майкой своего сына и выглядела не менее элегантно, чем всегда. Она оставила свои красивые жёлтые туфли в лодке и босая ходила вслед за мужчинами, рубившими мелкие деревья и кусты, и складывала липкие тонкие стволы в кучи. Кучи топорщились голыми ветками. Она посмотрела на Илью и улыбнулась.
Через час лагерь был готов: внутри большого очищенного от растительности круга были натянуты брезентовые тенты, а под ними повешены гамаки. Для Ильи — вдали — поставили отдельный тент у самого края площадки. Это был единственный тент со стенками, которыми служили три других тента, повешенные вертикально. Между этими тентами был проход внутрь, где стояла мягкая зеленоватая темнота, и пахло резиной. Там на двух кольях висел узкий цветной гамак.
Дези развёл костёр и стал готовить лепёшки, достав муку, сахар и разную кухонную утварь из огромного рюкзака неопределённого цвета.
Ваутер пошёл к реке и зачерпнул воды в чёрный чугунный котелок. Он повесил котелок над костром, и когда вода закипела, высыпал туда полную пачку листового чая. Вода продолжала кипеть, мелко пузырясь заваркой.
— Почему мы остановились именно здесь? — спросил Илья у Руди. — Это место силы?
Руди засмеялся.
— Нет, — сказал Руди. — Места силы — это у Кастанеды, для особо эзотерически одарённых. А это просто удобное место у воды.
Он посмотрел на Илью и снова засмеялся:
— Что, недостаточно таинственно? Хорошо, пусть это будет место силы. Geschikte Plaats Van Macht. Удобное место силы. Гешикте Плаатс Ван Махт. Так лучше?
Ам Баке не разрешил Илье есть. Чая ему тоже не дали. Ам Баке достал сложенный квадратом большой кусок материи зелёного цвета с узором разводами, похожими на баклажаны, и показал Илье, что тот должен снять шорты и обернуть материю вокруг бёдер. Это теперь будет его одежда. Майку Илье тоже пришлось снять.
Ам Баке принёс из лодки пустую железную бочку и белый холщовый мешок. Он поставил бочку у края очищенного пространства, в стороне от тентов. Ам Баке развязал мешок и высыпал оттуда в бочку сухие листья и корни. Корни поросли узлами и гладко блестели в солнечных лучах, проникавших сквозь кроны высоких деревьев, нависавших над очищенной от мелкой поросли площадкой лагеря. Потом Ам Баке взял пустой мешок и ушёл в лес, а Дези и Руди стали носить ведрами из реки воду и наполнять бочку. Ваутер убрал у костра и пошёл к реке мыть посуду.
Ам Баке вернулся через час с мешком полным листьев и маленьких веточек. Он мелко порубил их котласом и бросил в бочку, теперь уже полную воды. Затем Ам Баке зашёл за ближайшие кусты и, особенно ни от кого не прячась, помочился. Он вернулся, лёг в свой гамак и сразу уснул.
Илью разбудили утром, когда свет еле пробивался с бледного неба. Дези подвёл его к бочке, где стояли Ам Баке и Ваутер. Миссис Рутгелт и Руди остались у костра и пили чай, не обращая внимания на происходящее. Все, кроме Ильи, были одеты в свою обычную одежду, и только он стоял в этом странном лесу, обёрнутый в зелёную тряпку. Тряпка была большой, и Илья смог обмотать её вокруг тела два раза.
Ваутер тихо запел. Он не причитал, не говорил речитативом, а пел, действительно пел. Песня была до удивления знакома Илье, хотя он точно знал, что не слышал её раньше. Ваутер пел, Ам Баке и Дези молча слушали. Илья тоже слушал. В джунглях плачуще кричали птицы, и изредка доносился резкий визг обезьян. Было по утреннему зябко.
Ам Баке взял бутылку с темной коричневой жидкостью, стоящую у его ног, и сделал большой глоток из горлышка. По запаху Илья понял, что это алкоголь, ром. Ам Баке неожиданно прыснул ромом Илье в лицо. Жидкость обожгла кожу и попала в глаза. Илья закрыл лицо руками. В это время Ам Баке вылил на него первое ведро воды из бочки.
На Илью лили воду весь день. Бочку наполняли мутноватой водой из реки, ждали несколько минут, а потом начинали опрокидывать на Илью ведро за ведром. Илья был весь облеплен листьями и мелкими ветками, попавшими на него из бочки. Он стоял с закрытыми глазами, перестав реагировать на воду. Больше никто не пел.
В середине дня все сели обедать рисом с бобами. Миссис Рутгелт повторила Илье, что ему нельзя есть и пить ничего, кроме воды. И рома. Она также сказала, что во время процедуры нельзя заниматься сексом. Илья не собирался. Он устал и хотел спать.
Цель ритуала, сказала миссис Рутгелт, в том, что Ам Баке решил обмануть Куманти, вселившуюся в Илью. Ам Баке делает вид, будто он не знает, что это Куманти, и просто проводит процедуру очищения, как если бы в Илью вселился обычный дух кого-то из умерших людей. Дух, ищущий новое тело. Ам Баке надеется, что Куманти удивится: кто это её тревожит, и выйдет из Ильи посмотреть. Тогда Ам Баке закроет ей вход и не даст войти в Илью обратно.
— А чем это плохо, если она там, внутри? — спросил Илья. Он устал от воды, и ему было всё равно. — Она же мне не мешает.
Миссис Рутгелт и Руди переглянулись. Потом Руди сказал что-то по-голландски. Его мать продолжала молчать.
— Илья. — Руди старательно подбирал слова, будто Илья мог не понять его даже по-английски. — У Куманти свои планы. Она живёт свою жизнь и просто использует твоё тело. Если она не уйдёт, ты никогда не узнаешь себя — кто ты на самом деле. Какая у тебя личная судьба.
Илья подумал, что, может, это и есть его личная судьба — быть телесной оболочкой для малой богини. Он не стал говорить это вслух.
— Задача каждого — прожить свою жизнь, узнать, кто он на самом деле, — продолжал Руди. — Твоя Куманти — змея, ты же её видел. Ты не знаешь, что она хочет или собирается сделать. Ты не контролируешь её, и это опасно. Для тебя и других.
Видел её? Когда? Илья не понимал, о чём тот говорит. Руди решил пояснить:
— Ты помнишь, вчера ночью Ам Баке заставил Куманти показаться. Это Папавинти, Куманти-змея. Это опасная Куманти. Вот почему тебе было так плохо: твоя Куманти не любит тебя. Ты для неё просто тело. Если бы она хотела добра, тебе бы не было плохо.
Всё это звучало как-то слишком примитивно. Илья не стал спорить: он помнил висящую в воздухе змею и как он потом не мог дышать. Он не хотел, чтобы это повторилось. Илья кивнул.
— Кроме того. — Миссис Рутгелт налила себе ещё чаю. — Кроме того, Ам Баке сказал, что если её не изгнать, то она не подпустит к тебе ни одну другую женщину. Она не позволит тебе иметь ни с одной женщиной длительные отношения. Как с Адри.
— А что она сделает? — спросил Илья. — Поссорит нас?
— Нет, — сказала миссис Рутгелт. — Папавинти слишком велика, чтобы ссорить влюблённых. Она — опасная Куманти. Если Адри ей будет мешать, она её просто убьёт.
ГЕШИКТЕ ПЛААТС ВАН МАХТ 2
МЕСТО, где стоял лагерь, было недалеко от одной из плантаций Рутгелтов. Плантация называлась Оуд Плаатс, Старое Место, и в семье к ней было особое отношение: там родилась миссис Рутгелт.
После серии военных переворотов в Суринаме в начале 80-х было неясно, кто и чем теперь владел. Рутгелты жили в Голландии и не могли получить никакой информации о своей собственности. Плантации перестали работать, жившие на них люди разбрелись кто куда или остались на земле, чтобы обрабатывать её для собственных нужд. Но Оуд Плаатс продолжала функционировать, и бананы на лодках свозились в Новый Амстердам, чтобы оттуда на корабле плыть в Амстердам старый.
Управляющий плантацией однорукий Йохан посылал хозяйке письма с отчётами об урожае и выручке. Письма он диктовал своей постоянно беременной дочери, так как сам писать не умел. Йохан диктовал на срэнан-тонго, и дочь записывала по-голландски, наполняя серую бумагу колонками цифр и пояснениями, что было выращено и кому и за сколько продано. Она клала письма в большие конверты, оставшиеся ещё с колониальных времён, и Йохан, не веривший в стойкость фабричного клея, мазал конверты едкой смолой дерева мелагори, которая клеила всё и навсегда. Как-то внезапно, не болея, он умер в одно жаркое утро, после чего наступили молчание и неизвестность.
Ситуация изменилась в 90-м: в Суринаме прошли выборы, восстановилось подобие демократии, и семья приехала обратно, первый раз за пятнадцать лет. Для Адри и Руди это стало открытием страны, о которой каждый вечер вспоминали их родители и рассказами о которой, как запахом пряной креольской еды, было пропитано их детство.
Первым, что сделала миссис Рутгелт, была поездка в Оуд Плаатс вместе с детьми. Мистер Рутгелт остался в Парамарибо; ему предложили пост в правительстве Роналда Венетиаана, которое предпринимало всё, чтобы восстановить хорошие отношения с бывшей метрополией и получить кредиты. Им были нужны люди с происхождением и связями, старая кость. Мистер Рутгелт от поста отказался, но с тех пор стал неофициальным советником президента.
Оуд Плаатс производила странное впечатление места, откуда все ушли, но забыли закрыть за собой двери. Остатки семей рабочих продолжали жить вокруг большого хозяйского дома и выращивать еду для себя. Связь с миром прекратилась после смерти однорукого Йохана, и старая пристань, откуда раньше уходили гружённые бананами лодки, казалось, больше никого не ждала. Берег заилился, и перед тем, как причалить, команда полезла в мутную красную воду и расчистила проход для катера.
Жители плантации наблюдали за их стараниями, но помогать не спешили; они не помнили миссис Рутгелт, которую в детстве здесь знали как Миккуде Бойере.
Большой дом стоял открытый; мебель растащили по лачугам или порубили на дрова. У одного из наделов, рядом с рядами чахлых банановых деревьев темнело старое пианино де Бойерсов с оторванной крышкой. Чёрный лак почти сошёл от дождей, и пианино удивительно хорошо сливалось с окружающими джунглями. На клавишах спала рыжая кошка, положив гладкую лапу на полусъеденную зелёную птичку. Когда кошка двигалась, клавиши издавали пустой звук.
Но не запустение расстроило миссис Рутгелт; она знала, что всё можно восстановить и насытить жизнью, если имеются воля и деньги. Во дворе большого дома, где когда-то был фруктовый сад, теперь стоял маленький деревянный сборный дом, из тех, что можно заказать по почте и собрать на своём участке. Дом стоял, заявляя о присутствии на её родовой земле кого-то ещё, кто проявил решимость отобрать у миссис Рутгелт память о детстве, о девочке Микке де Бойере и её давнем счастье. Такое допустить было нельзя.
Загадка выяснилась скоро: её школьная подруга Имме после объявления независимости осталась в Суринаме и вышла замуж за финансового советника самого Дези Бутерзе, военного диктатора, тайно и явно правившего страной с конца 70-х. Она продолжала жить в Парамарибо, и теперь её звали фро Куммер, по мужу. Муж был голландец, бухгалтер, приехавший в Суринам после объявления независимости, потому что новому правительству были нужны люди, понимавшие, как хранить и легализовывать украденные и вывезенные из страны деньги. Он был высок, молчалив и любил ананасы. Его звали Эрнст Куммер; всякий раз, когда он вспоминал Гаагу, ему неудержимо хотелось онанировать.
Однажды фро Куммер решила, что Рутгелты никогда не вернутся, и, посоветовавшись с мужем, заказала сборный деревянный дом в каталоге американского магазина «Воллмарт». Дом привезли на грузовом корабле из Майами, и фро Куммер послала его в Оуд Плаатс вместе с шестью солдатами. Солдаты вырубили фруктовый сад, собрали дом, заперли его и уехали обратно. Дочь однорукого Йохана грустила, что не успела забеременеть от одного из них, толстого весёлого мулата с рваным ухом. Мулат громко смеялся и умел петь по-английски, отчего все в поселке думали, что он начальник.
С той поры фро Куммер чувствовала себя хозяйкой старой плантации.
Миссис Рутгелт приняла решение мгновенно.
Они вернулись в Парамарибо, и через два дня большая лодка с прикреплённой к ней плоской платформой отправилась вверх по реке к Оуд Плаатс. Дом, не разбирая, погрузили на платформу, и он, запертый, как и прежде, отправился вниз по течению. Дом плыл мимо индейских посёлков, и красные араваки смотрели на него, не удивляясь и не желая. Над домом кружили птицы, которым до конца путешествия удалось свить на жёлтой крыше не очень удобное гнездо.
В парамарибском порту дом поставили на большой открытый грузовик, оборудованный подъёмным краном. Утром, точно в шесть часов, как просила миссис Рутгелт, в ворота Куммеров позвонили. После недолгих препираний со служанкой фро Куммер разбудили, и она появилась у входа в тот момент, когда дом, её дом, что должен был стоять в Оуд Плаатс и означать её право на эту землю, висел в воздухе, опутанный канатами, и четверо чёрных мужчин маневрировали верёвками, пока дом не встал посреди её богатой улицы, перегородив движение и заняв собой всё видимое пространство. Мужчины отцепили канаты, а один из них, самый чёрный, подошёл к фро Куммер и, поздоровавшись, протянул уведомление о доставке. Фро Куммер автоматически расписалась, все ещё не веря в происходящее.
— Что это? — спросила фро Куммер. — Зачем?
— А это фро Рутгелт прислала обратно ваш дом. — Мужчина улыбнулся; теперь можно было сказать заранее выученную фразу: — Здесь он будет лучше смотреться.
Первый раз Илья слышал эту историю от Адри; они лежали на ковре в её квартире на Линкольн Сквер, радостные и пустые от только что случившейся любви. Осень кружила за окном пока ещё тёплым ветром, но в ранних сумерках уже таилось обещание смены сезонов. Теперь, в пересказе Руди, здесь, в джунглях у тёмной реки, где лица сидящих вокруг освещались лишь капризом костра, история о доме фро Куммер почему-то казалась невероятнее, чем на углу Бродвея и 63-й.
Илья был немного пьян: он ничего не ел уже около трёх дней и по вечерам, как сейчас, пил ром, запивая его горячей водой. Это притупляло ощущение голода, и ром разливался внутри теплом, как горячая кровь.
Сегодня после десятичасового обливания Ам Баке объяснил ему, что завтра — последний день процедуры. Они стояли перед почти пустой бочкой — Дези, как обычно, справа от Ильи. Ам Баке поставил ведро на землю; внутри мокро блестели прилипшие листья.
Ам Баке что-то спрашивал Илью, но тот не мог понять. Ам Баке оглянулся и позвал Руди. Выяснилось, что перед завтрашним концом процедуры он хочет знать, имеются ли у Ильи жалобы на здоровье. Физическое здоровье, пояснил Руди. Он улыбался.
Илья сказал, что много лет — с тюрьмы — его мучит гайморит, вызывающий сильные мигрени. Илья показал на лоб. Ам Баке кивнул. Затем он взял из бочки короткую ветку, почти без листьев, и запел. Ам Баке пел хуже, чем Ваутер: его песня была как хриплое дыханье, в котором угадывались слова. На полуноте Ам Баке прервался и окунул ветку в бочку. Он сказал что-то короткое и хлёстко ударил Илью веткой по переносице. И ещё раз.
Было больно и как-то особенно мокро, хотя на Илью и так лили воду весь день. Илья почувствовал, что у него в переносице начался пожар, словно горячий воздух, столп горячего воздуха неизвестно откуда устремился туда снизу. Стало жарко, а потом эта струя превратилась в поток, ещё шире и горячее, и вдруг у Ильи как будто выскочила из переносицы пробка, и горячий воздух прошёл в лоб и заполнил там всё ровным жаром. Было приятно, и Илья знал, что больше у него никогда не будет мигреней.
Сейчас, хмельной от рома и голода, Илья смотрел, как костёр догорал и поленья превращались в угли, покрытые красным налётом. Все, кроме него и Ам Баке, устроились на ночь в гамаках. Илья встал, пошатнулся, кивнул Ам Баке и пошёл к своему тенту. Ам Баке пошёл за ним.
Процедура была простой и совершалась каждый вечер, с первого дня на реке: Илья забирался под свой тент, а Ам Баке расставлял чуть поодаль вокруг тента большие речные камни. Затем он укладывал толстый просмолённый канат внутри образованного камнями круга. Потом Ам Баке шёл к костру и приносил огонь. Он поджигал канат, и они оба смотрели, как тот горел внутри круга камней, чадя в лиловую ночь джунглей. Ам Баке стоял и смотрел на тлеющий во влажной темноте канат с внешней стороны круга, а Илья — с внутренней. Оба молчали; что тут скажешь?
В первый вечер Илье объяснили, что он не может выходить из круга до утра, пока Ам Баке не уберёт все камни. Почему-то было важно убрать все камни, а не просто отодвинуть пару из них для прохода. Илья должен был оставаться внутри всю ночь, и никто не мог пересекать линию круга. Почему — Илья так и не понял. Он лишь понял, что это важно. Важнее всего.
Илья забрался в гамак и накрылся тряпкой, не дававшей тепла. Для уюта. Он следил сквозь щель между двумя кусками брезента, как догорает канат, и чувствовал, что становится всё пьянее. В лежачем положении ром действовал сильнее, наполняя голову лёгким туманом. Всё вокруг казалось расплывчатым и чуть кружилось. Неожиданно темнота надвинулась на него из тёмных брезентовых углов, и Илья уснул.
Он проснулся глубокой ночью, оттого что был не один. Кто-то узкий лежал рядом в гамаке, где и одному было тесно, лежал, прижавшись к Илье и обняв его. Другое тело лежало почти на нём, места-то не было. Илья не испугался; однако знал, что это не сон.
Илья попытался отодвинуться и встать. Но руки вокруг него сомкнулись сильнее, и он почувствовал тепло мягких губ у себя на лице.
— Тш-ш, — шепнула Адри. — Тш-ш. А то всех разбудишь.
ГЕШИКТЕ ПЛААТС ВАН МАХТ 3
ТЕМНОТА внутри тента была неровной и почему-то казалась серее в углах. Самое тёмное место было там, где висел гамак, и Илья не мог видеть Адри. Вдвоём в гамаке было неудобно, но они не жаловались; они сжались в одно и разговаривали, шепча друг другу глупые слова ни о чём.
— Скучал? Скучал? — шептала Адри между поцелуями. — Нет, скажи, как скучал.
Она уже была сверху и взяла его в себя, но оба не спешили двигаться, наслаждаясь знакомым ощущением проникновения. Это чувствовалось как возвращение домой.
— Скажи, что страдал без меня, — требовали её губы. — Если не страдал, я сейчас уйду.
И она прижималась ещё сильнее, позволяя ему проникать всё глубже, и скользила на нём, ища оптимальный угол соития в качающейся над земляным полом брезентовой темноте. Потом слова кончились; их заменило дыхание, что теперь жило в тенте вместе с ними.
Было слышно, как в ночи растут джунгли.
В заключении Илья провёл без женщин пять лет. Он был вечно голоден, и это чувство пересиливало, забивало, убивало остальные желания. Он всегда хотел есть и мало думал о чём-то другом. Жизнь до тюрьмы вспоминалась всё меньше, жизнь после тюрьмы не казалась реальной. Прошлое стало будто сон, будущее таилось вдали. Настоящее же было тут, рядом; неотступное, как подъём поутру, постылое, как холод по ночам. Илья жил настоящим и хотел есть.
В ссылке, в Сибири Илья попал на ЛЗП «Большой кордон». Кордон был не очень большой: шестьсот семьдесят человек ссыльных, особняк да строгий. ЛЗП, лесозаготовительный пункт, стоял посреди тайги, и их возили на работу — на повал — без конвоя, что для Ильи было ново. Однажды он спросил старого зэка по кличке Чекмарь, отчего начальство не боится побегов. И почему никто не бежит.
— Куда? — удивился Чекмарь. — Всюду одно.
Чекмарь не знал свободы: он сидел с малолетки, привычно меняя зоны и меряя судьбу от этапа до этапа. Ему было можно верить.
Раз в два, порою три месяца к ссыльным приезжали проститутки. Они устраивались в сушилке, тёмном жарком закутке, куда обычно вывешивали мокрую одежду и где хранили валенки. В бараке стояло радостное оживление, какое бывает перед амнистией. Зэка помоложе глупо смеялись и толкали друг друга локтями. Те, кто постарше, продолжали играть в карты и посматривать на дверь сушилки, пропускавшую внутрь и обратно ждущих и уже дождавшихся мужчин. Те, кто постарше, не ходили и вообще делали вид, что их это не касается. Разве что курили жаднее.
День, когда приезжали проститутки, зэка называли «мокрый день».
Проститутки были бывшие зэчки, что освободились из местных зон и не могли вернуться домой. Они ездили по ссыльнопунктам и дарили радость всем этим убийцам, ворам, грабителям, всем, кто их ждал. Они брали недорого, и если не было денег, можно было расплатиться чаем или хорошими рукавицами.
Один раз Илья пошёл, от скуки. В сушилке было так темно, что он не видел женщину под собой. Он понял — на ощупь, — что она одета сверху в какую-то кофту и голая от пояса вниз. Женщина была толстой и называла его «братишка». Илья ей не понравился: он никак не мог кончить и занимал больше времени, чем ему отводилось. Все его попытки быть нежным она немедленно пресекала: это противоречило её профессиональной этике. Наконец Илья устал и сделал то, что обычно в такой ситуации делают женщины: он сымитировал оргазм. Женщина обрадовалась и прижала его к себе сильными пухлыми руками. Она поцеловала его в шею. Женщина гладила его по голове, как ребёнка, а он вжимался в неё и делал вид, что продолжает кончать. Потом он встал, снял презерватив, и она обтёрла его влажной тряпкой, которой до него обтирала других. Илья заплатил, поцеловал ей руку и ушёл.
Больше он не ходил в сушилку по «мокрым дням».
Сейчас, в джунглях, в плотной темноте тента, Илья снова был с женщиной, которую не мог видеть, и он вспомнил ту встречу. И тут же прогнал воспоминание, стёр его, как мокрой тряпкой стирают со школьной доски. Он не хотел никаких воспоминаний о других, другом, иной жизни; его жизнь была здесь, рядом с ним, в этой влажной ночи недалеко от экватора. Его жизнь жарко дышала рядом и скользила по телу, заставляя наслаждение проникать повсюду и дрожать там, вибрируя и оставаясь. Его жизнь была его настоящим; прошлого больше не было, а будущего он не хотел.
Потом, после того, как мир сначала пропал, а потом раскололся на миллионы частиц, потом, когда Адри перестала зажимать ему рот своими жаркими губами, чтобы поглотить в себя его стоны, они долго лежали молча, слушая ночь, пока Илья не догадался спросить, как она сюда попала. Как она их нашла и кто её привёз.
— Приплыла, — сказала Адри. — Села в лодку и приплыла.
Илья уже достаточно её знал, чтобы понять: других объяснений не будет. И за это спасибо. Илья вдруг вспомнил важное и встревожился:
— А ты знаешь, что никто не может приходить ко мне ночью? — Он старался говорить строгим тоном. — Ты знаешь, что Ам Баке ограждает меня каждый вечер защитным кругом, сквозь который никто не должен проходить? Или случится плохое.
— Очень хорошо, пусть никто и не ходит к тебе по ночам, — согласилась Адри. — Нечего им здесь делать.
— А ты?
— А я не боюсь. — Она поцеловала Илью в грудь. — Я не боюсь нарушать. Я не боюсь магии.
Они замолчали. Было хорошо лежать вместе, чуть покачиваясь в темноте. Вместе с ними не спали лес и странные звуки ночи вокруг. Илья прижал Адри к себе.
— Глупая, ты же веришь во всё это, сама говорила. А что, если теперь действительно случится что-нибудь плохое? Из-за того, что ты пришла?
— Без «если», — сказала Адри. — Обязательно случится. Но я не боюсь: я же не Кэролайн.
— А что, Кэролайн боится?
Адри засмеялась.
— Когда Кэролайн было тринадцать, Ам Баке ей сказал, что один из Куманти, Джаджаа, дал ей такую красоту, потому что сам хочет на ней жениться. Ам Баке сказал, что она не должна ни с кем спать, иначе Джаджаа заберёт красоту, а её накажет. Он должен быть первый, он станет её мужем. И она так боялась, что отказывала всем мальчикам в школе, а потом в колледже. Ей уже исполнилось двадцать, а она так ни с кем и не спала. Потом Ам Баке бросил керри, раковины, и увидел, что она должна выйти замуж за человека с цветком. Джаджаа вселился в этого человека, только тот об этом не знал. Кэролайн должна выйти за него замуж и объяснить ему, что он — приют из плоти для Джаджаа. В этом её смысл. Больше он ничего не сказал.
Адри замолчала. Илья ждал. Адри взяла его руку, на которой лежала её голова, и положила себе на грудь; та полностью помещалась в его ладони. Илья чуть сжал шёлк кожи у себя под рукой и стал медленно водить пальцем вокруг торчащего соска по часовой стрелке. И обратно.
— Кэролайн в то время училась в Лондоне, — продолжала Адри. — У неё было много знакомых мужчин, за ней все ухаживали, но она только целовалась, а с двумя из них у неё был оральный секс. Но им она ничего не позволяла с собой делать. Ей самой нравился один датчанин, но у него не было цветка. Он был очень скромный и так никогда до неё и не дотронулся. Кэролайн рассказывала, что всякий раз, когда он прощался с ней у подъезда, ей хотелось его ударить. Когда мужчина дарил ей цветы, она звонила Оме, чтобы та спросила Ам Баке, тот ли это. Наконец Ам Баке сказал, что когда будет тот, ей не нужно будет звонить: она сама всё поймёт.
— И что? — Илья чувствовал, как сосок набухает под его пальцами. Его свободная рука скользнула по её упругому плоскому животу вниз. — Поняла?
— В Лондоне Кэролайн жила в пентхаусе, и у неё на балконе было много цветов. Один раз летом, после сильного дождя, к ней пришла соседка снизу, молодая китаянка, которая сказала, что один из горшков сбросило вниз, к ней на балкон. Они поговорили, понравились друг другу, и та пригласила Кэролайн на вечеринку в субботу. Когда Кэролайн к ней пришла, прямо в прихожей она наткнулась на мужчину. Это был Гилберт. Она взглянула на него и увидела Джаджаа. Тот сидел внутри Гилберта, маленький и чёрный. Он посмотрел на Кэролайн и поманил её к себе. В тот же вечер она пригласила Гилберта в гости.
— И?..
— И всё. На следующий день Кэролайн позвонила Оме и сказала, что она встретила своего мужа. Он ей не понравился, но она обязательно выйдет за него замуж. Она хотела знать только одно: может ли она теперь спать с другими мужчинами, после того как Джаджаа был первым.
— Иди сюда. — Его пальцы знали, что Адри готова, и он потянул её к себе.
Гамак наконец не выдержал, развязался, и они оказались на земле. В этот раз Илья был сверху, и Адри, обвив его длинными тонкими ногами и руками, шептала что-то жаркое прямо в ухо.
— А я не боялась, — различил Илья. — Я не боялась и хотела сделать ей больно. Я спала со всеми, с кем не могла спать она; это было единственное, как я могла её победить.
— Ты спала со всеми, со всеми.
— Да. Со всеми мальчиками, которые ей предлагали, со всеми, кто её хотел. Потом я рассказывала ей, как мне было с ними хорошо, а она смеялась. Затем она уходила к себе и плакала.
Темнота под тентом стала сгущаться, и воздух сделался ощутимо плотнее. Илья боялся, что не удержится, и переменил дыхание: теперь он выдыхал каждый раз, когда двигался внутрь. Он вычитал это в книге о тантре и часто практиковал, чтобы продлить эрекцию. Илья хотел перестать двигаться вовсе, чтобы обмануть влажный ком жара, копившийся внизу живота. Он хотел, чтобы Адри тоже перестала двигаться, чтобы они оба замерли и переждали этот прилив. Но Адри не останавливалась, и постепенно он поддался ей, её ритму, словно дал унести себя морской волне. Теперь они двигались вместе, и Илья больше не пытался ничего продлить.
— Когда я навестила её в Лондоне, я переспала с Мартином, её датчанином, — шептала Адри, извиваясь под ним. — Ночью я позвонила ей из его квартиры, пока он был в душе, и всё рассказала. «Знаешь, Кэрри, он очень милый, жалко, что тебе нельзя». Утром я приехала домой и легла спать. А она плакала у себя в комнате. Она думала, что я сплю, и позволила себе плакать громко.
— Ты с ним спала.
— С ним, с другими, со всеми. Я спала со всеми подряд. Со всеми, кто её хотел. Я была ею. А она боялась.
Илья почувствовал, что время выйти, разъединиться, но Адри обвила его ногами и прижала к себе ещё сильнее:
— Нет, останься. Пожалуйста, останься. Хочу, чтобы ты остался во мне.
— Как? А если… — Илье было трудно себя контролировать. — А тебе можно?
— Можно, можно. — Адри прижималась к нему всем телом. — Мне теперь всё можно.
Она поглотила его конвульсии, содрогаясь вместе с ним. Их губы долго не могли разомкнуться после того, как всё кончилось. Илья чувствовал, как её плоть отзывается внутри.
— Ты поверил? — вдруг спросила Адри. — Поверил?
Илья не знал, что ответить. Он молчал. Адри высвободилась из-под него и повернулась к Илье спиной. Илья не знал, что говорить и говорить ли вообще. Теперь они лежали вместе, но порознь.
— Ни с кем я не спала, — сказала Адри. — Потому что дура. А надо было. Надо было сделать ей больно. Надо было не бояться делать больно и всё нарушать.
— Для чего?
Она повернулась к Илье и долго смотрела на него, пытаясь разглядеть в темноте. Потом села и заплела длинные непослушные кольца волос в косу.
— Или спала? Ты как думаешь, когда я врала — сейчас или до этого?
— Не знаю, — сознался Илья. — А какая разница — спала, не спала? Какая разница?
Адри рассмеялась:
— Руди прав: ты ищешь тайну там, где её нет. Ты ищешь тайну, а находишь загадки. Знаешь, в христианстве самое главное не кто был Иисус и не кто был Христос. В христианстве самое главное, что там есть за что умереть. Вот почему я не боюсь магии: там не за что умереть.
— А зачем умирать? — спросил Илья.
— А зачем тогда жить, если не за что умереть? — Адри снова легла рядом, но Илья чувствовал, что сейчас она не с ним и не здесь.
Снаружи начало сереть, и Илья мог смутно видеть её лицо.
— Ты прав, Илуша. — Адри привстала и оперлась на локоть. — Спала, не спала — какая разница. Вот так и магия: нет разницы, что ты делаешь. Важно только, что ты решил это делать. И решил не бояться.
— А если не бояться, то что, не случится ничего плохого? — Илья был потерян; он вспомнил, что Адри прошла через круг, через который никому нельзя было проходить. Ему вдруг стало страшно. Впервые он плохо её понимал.
Адри уже стояла в раздвинутом створе тента. На ней было короткое платье, схваченное резинкой на талии, платье-фонарик. Адри надела его на голое тело.
— Смотри. — Адри поманила Илью рукой.
Они вышли из-под тента. Снаружи было светлее, но границы видимого плыли в предутреннем тумане. Было зябко. Илья вспомнил, что он совершенно голый.
Адри повернулась и пошла к запретному кругу из камней. У круга она оглянулась и поманила Илью рукой ещё раз. Илья сделал шаг вперёд.
— Пойдём со мной, — сказала Адри. — Реши не бояться.
— И что, тогда не случится ничего плохого? — снова спросил Илья. Он хотел закрыть глаза. Он чувствовал беду.
— Конечно случится. — Адри тихо засмеялась. Она стояла у магического круга из камней, такая тонкая и хрупкая, что Илье хотелось броситься к ней и взять на руки. — Обязательно случится. Просто ты будешь это знать и не будешь бояться. Просто реши не бояться. Магию нельзя остановить, но её можно не бояться.
И она переступила через камни. Теперь Адри была по другую сторону круга, другую сторону жизни и другую сторону страха. Илья хотел пойти за ней, но не мог. Неожиданно он просто не мог двинуться с места. Всё вокруг, кроме Адри, вдруг стало плохо различимо. Он не чувствовал больше своего тела. Он был пустой.
Адри стояла и, улыбаясь, глядела на Илью. Она сделала два шага назад, оставаясь к нему лицом. Теперь она стояла на границе серого марева тумана, что скрывал реку. Сквозь край тумана чернела масса джунглей. Начинали петь первые птицы.
— Ты — моя любовь, — вдруг сказала Адри. — Жалко.
Она повернулась к нему спиной и шагнула в туман. Потом остановилась и, почти невидимая, оглянулась назад.
— Мне теперь всё можно, — прилетело из серой мглы. — Я беременна.
ГЕШИКТЕ ПЛААТС ВАН МАХТ 4
ИЛЬЯ повесил гамак обратно, закрепив его на кольях, лёг и решил не спать. Утро уже белело, и джунгли наполнились резкими криками мелких обезьян, встречающих мутный диск солнца, медленно проступавший на всё ещё сером небе. Илья лежал и думал, как он будет говорить с Адри, когда Ам Баке позволит ему выйти из защитного круга. Он вдруг вспомнил, что так и не спросил, выкладывается ли круг для его защиты или для защиты от него. Илья прогнал эту мысль и снова стал думать об Адри и будущем ребёнке и что это означает для их жизней.
Он лежал и не спал, перебирая слова, которые для неё готовил, ожидая, когда Ам Баке позволит ему выйти из-под тента.
Затем Илья проснулся и сразу понял, что уже поздно: брезент нагрелся, и нечем было дышать. Илья лежал и удивлялся, отчего его никто не разбудил, и только потом вспомнил про Адри и всё, что произошло ночью. Он встал, обернулся зелёной тряпкой и вышел наружу.
Солнце пробивалось сквозь высокие кроны почти вертикально сверху: близился полдень.
Странно, подумал Илья: обычно его поднимали затемно и начинали поливать водой.
У костра никого не было, лишь чернело выгоревшее пятно. Камни вокруг тента были разобраны; Илья был свободен идти.
Илья пошёл к гамакам, чтобы найти Адри, и вдруг понял, что гамаков больше нет. Тента, под которым спали миссис Рутгелт, Руди и остальные, тоже не было. На земле, рядом с чёрным пятном от костра, лежали свернутые рулоны брезента. Рядом стоял чайник. Илья поднял чайник; тот был холодный. Илья хлебнул заварки из носика и окончательно проснулся.
Он был один; все уехали. Илья побежал к реке и шумно, радостно выдохнул: лодка качалась, привязанная на своём месте. В ней, аккуратно сгруженные, лежали свёрнутые гамаки, на корме бесформенным комом стоял рюкзак с посудой. Посреди лодки кто-то поставил бочку; сверху, с берега Илья мог разглядеть белевшие в ней ведра.
Илья вернулся к лагерю; здесь было пусто.
Он походил вокруг, зовя Адри, пока ему не стало стыдно за свой страх. Илья отошёл к кустам и помочился. Было непонятно, зачем отходить к кустам и хорониться, если вокруг никого нет. Он побрёл к дальнему краю лагеря, где раньше стояла бочка, но что-то, какое-то — нет, даже не чувство, а преддверие чувства заставило его оглянуться.
У разбросанных камней защитного круга стоял Ам Баке.
Илья обрадовался и, улыбаясь, повернулся поздороваться. И сразу, без всякого всматривания, не глазами, а внутри — грудью — Илья понял: это не Ам Баке. Это было что-то почти неживое, что выглядело как Ам Баке, но это был не он. Илья попятился в джунгли. То, другое, продолжало стоять и молча смотреть мимо Ильи.
Илья увидел, что у Ам Баке нет лица: на его месте расплывалось, как нефть на воде, чёрное пятно переливающейся мути. Илья понял — надо бежать.
Он повернулся и, не разбирая дороги, бросился прочь. И тут же ударился во что-то твёрдое, чёрное и большое. Илья остановился и отступил на шаг.
Перед ним стоял Ам Баке. Он был больше, чем всегда, и очень твёрдый. Он был твёрже, чем камень. Всё тело Ильи гудело от боли, как если бы он с разгона налетел на стену. Илья почувствовал на лице что-то горячее, что ползло к губам. Он высунул язык и по солёному терпкому вкусу понял: у него по лицу течёт кровь.
Илья попятился и обернулся, чтобы бежать назад. Там, где и раньше, у камней стоял Ам Баке. Илья хотел посмотреть, на месте ли другой, о которого он ударился; Илья всё ещё отказывался верить, что их два. Но что-то подсказало ему это не делать, и Илья бросился прочь, наискосок сквозь джунгли.
Ветки хлестали по лицу и голой груди, босые ноги кололо острое подтравье, но тёмная вязкая масса страха внутри гнала Илью вперёд. За ним никто не бежал, он был уверен, что его не преследуют, но не мог остановиться.
Он бежал долго, прочь, прочь от того, что выглядело как Ам Баке, но было не им. Он бежал, не видя пути, пока сердце не отказалось колотиться, и острая боль в подреберье прошла в лёгкие и разорвала их на куски. Илья упал, больно ударившись о землю, и лежал лицом вниз, хватая ртом воздух. Потом он поднял голову, и сердце, которое только начало биться вновь, сделалось холодным от страха.
Он знал, что должен быть далеко в джунглях. Но нет, Илья лежал у своего тента, внутри тщательно восстановленного круга из камней. По периметру кто-то уже уложил и поджёг толстый канат, который медленно тлел. Илья заставил себя подняться и шагнуть к камням. Вдруг он понял, что день кончился и стоит темнота, которая наступила сразу, чёрным без серого. Что-то темнее, чем ночь, густилось за каменным кругом вязкой холодной массой и ждало Илью.
От каната шёл странный дым, чад, причём не ровно, а порывами, словно через равные промежутки дул ветер. Неожиданно чад приобрёл запах, сначала сладкий, и Илье это понравилось. Илья сел на землю и увидел птиц, что кружились над рекой. Там, где они кружились, было светло и стоял день. Он пытался следить за ними, но птицы превратились в облака, которые стали приближаться к земле, заполняя собой всё видимое пространство.
Неожиданно Илья знал, что должен выйти из круга. Он знал, что там, за кругом, он сразу погибнет, но всё было лучше того, что ждало его здесь, внутри. Илья попытался встать, но не смог: тяжесть, больше чем небо, прижимала его к земле. Илья пополз к белёсому мареву вдоль камней.
Темнота за кругом сгустилась ещё плотнее и ждала его. Ему было не важно, что там случится, хотя втайне Илья надеялся, что смерть будет скорой, без боли. Главное сейчас было уйти из круга. Главное было выползти. Илья полз, слизывая кровь с разбитого лица. Это помогало.
У камней ему стало страшно: темнота теперь была совсем рядом — живая, холодная. Она клубилась за кругом и ждала Илью. Чад от тлеющего каната пропал, и Илья мог ясно видеть темноту за камнями.
Вдруг он понял, что на нём больше нет зелёной тряпки: он лежал у камней голый. У него теперь не было никакой защиты от мира. Страх сразу пропал, и вместе с ним ушла прижимающая к земле тяжесть. Илья встал, не чувствуя себя, и шагнул через круг, в ждущую его темноту.
Здесь мир кончился, и Илья перестал видеть.
Сознание возвращалось толчками, сквозь вязкую провальность, из которой Илья не мог выбраться. Первое, что он ощутил, ещё с закрытыми глазами, было движение — мягкое, скользящее, рассекающее реку. Лодка неожиданно накренилась правым бортом, и Илья, подчинившись новому углу пространства, съехал вниз по деревянной решетке, крывшей днище. Под решеткой плескалась вода: лодка текла, но не сильно.
На корме сидел Ваутер. Он увидел, что Илья очнулся, и, наклонившись за борт, зачерпнул сложенными горстями речной воды и плеснул Илье в лицо. Илья хотел закрыться, но понял, что не может пошевельнуться. Вода скатилась по лицу, но он её не чувствовал: его кожа потеряла чувствительность. Последнее, что он видел, перед тем как снова провалиться в мягкую сероватую мглу, было небо, небо, небо.
Он просыпался ещё дважды, один раз в темноте: вокруг была ночь, и они плыли вниз по реке. Ему снилась пустота, заполненная ещё большей пустотой. Илья смотрел, как звезды пытаются упасть в лодку, но ему было не страшно. Он лежал и улыбался духам ночи; внутри было так больно, что он хотел им понравиться и умереть до утра.
Он очнулся, когда вокруг уже стояла влажная дневная жара. Свет пытался пробраться сквозь сжатые веки, и Илья осознал, что окончательно проснулся. Он лежал пустой от голода: Илья потерял счёт дням без еды. Он не знал, сколько времени они плыли по реке. Он чувствовал себя совершенно здоровым, лишь в голове клубился сизый туман.
Ваутер сидел на корме, в той же синей майке, что была на нём всегда. Было хорошо снова различать цвета. Илья осмотрелся в лодке: они были вдвоём. Посреди лодки стояла бочка. Илья лежал под тентом; он помнил, что, когда очнулся первый раз, тента не было.
Илья был рад, что в лодке нет Ам Баке. Поначалу он боялся, что Ам Баке прячется за рулонами брезента или вдруг вылезет из-под сваленных на носу лодки гамаков. Нет, они были вдвоём, Ваутер и он. Да река за бортом и джунгли вдоль берегов.
Белые птицы над головой перекликались со стрекотом мотора, но о чём — хранили про себя.
Ваутер позвал Илью к себе на корму и налил ему еле тёплого чая. Затем он достал из-под скамьи котелок и отложил Илье в жестяную миску немного риса с бобами. Ваутер посмотрел на Илью, подумал и добавил ещё две ложки.
После еды Илья попытался расспросить Ваутера про Рутгелтов. Куда они делись? Миссис Рутгелт, Руди и, главное, Адри. Ваутер качал головой, говорил что-то невнятное на срэнан-тонго и показывал рукой вперёд. Илья ничего не понял. Про Ам Баке он решил не спрашивать.
Из объяснений Ваутера стало лишь ясно, что они плывут в Парамарибо. Берега становились всё населённее, всё чаще им встречались индейские посёлки с красными детьми у красной реки. На воде появились другие лодки, а после излучины река стала шире, и они увидели первые грузовые баржи. На баржах был сгружен боксит.
Затем появились настоящие здания — склады, длинные и серые, как везде. Они подплывали к порту.
Ваутер развернул лодку, чтобы зайти в гавань под широким углом. Он что-то сказал Илье и, когда тот не понял, показал на свёрток, лежавший на дне. Илья узнал этот свёрток. Он развернул грязную желтоватую тряпку и нашёл внутри свои шорты, майку и сандалеты.
Он понял, что всё это время был совершенно голый, и стал смеяться. Ваутер покачал головой и показал Илье, что пора одеваться.
Они причалили у того же деревянного помоста, от которого в той, другой теперь жизни отплыли в ночь. Ваутер закрепил лодку двумя швартовыми канатами за железные тумбы и показал Илье, что тот должен вылезти. Илья выпрыгнул из лодки; у него не было вещей, кроме одежды на нём. В кармане шорт он нашёл свои часы.
У конца причала их ждал Дези. Он кивнул Илье и что-то спросил у Ваутера. Ваутер показал на лодку. Дези снова кивнул и жестом позвал Илью за собой. Илья повернулся попрощаться с Ваутером; он хотел сказать что-нибудь хорошее, поблагодарить за заботу, но не мог. Они постояли немного, молча, глядя друг мимо друга. Ваутер повернулся и пошёл обратно к воде.
В «ренджровере» их никто не ждал. Илья расстроился: он надеялся, что там будет Адри. Ничего, подумал Илья, сейчас они приедут в Хасьенду, и он её увидит. Илья сидел рядом с Дези и думал обо всём, что он ей расскажет и как страшно это было. Он думал о них двоих и как их теперь будет трое.
Они ехали уже минут сорок, но город всё не начинался; вдоль асфальтовой полосы лепились развалюхи. Дорога стала шире, и Илья заметил, что они едут мимо лётного поля, мимо аэропорта. Вдруг Дези повернул к длинному одноэтажному зданию, на котором Илья прочёл: Johan Adolf Pengel International Airport.
Машина остановилась, Дези выключил мотор и вышел, оставив Илью одного.
Илья подумал, что они кого-то встречают. Кого? Дези открыл багажник, и Илья увидел, что тот достаёт его сумку, которая осталась у Рутгелтов. Илья вышел из машины. Дези поставил сумку на землю, расстегнул большой накладной карман своей рубашки-сафари и вынул американский паспорт с вложенным в него билетом. Даже не глядя, Илья знал, что это его паспорт. И его билет.
Дези сказал что-то по-голландски и махнул в сторону здания. Он показал на часы и отдал Илье паспорт и билет.
— А где Адри? — спросил Илья по-английски. — Внутри?
Дези покачал головой. Он снова показал на здание терминала и ткнул чёрным крючковатым пальцем в билет.
— Адри? — Илья махнул рукой в сторону входа. — Адри? Там?
Дези пожал плечами. Он повернулся и пошёл к машине.
Илья догнал его:
— Адри? Миссис Рутгелт? Где все?
— Begrijp niet, — сказал Дези. — Ik begrijp om het even wat niet.
Илья пожал плечами: он ничего не понимал. Дези сел в машину и завёл мотор. Он высунулся из окна «ренджровера» и показал Илье на здание аэропорта. Затем Дези сымитировал звук взлетающего самолёта и ткнул пальцем в часы у себя на запястье. Потом Дези уехал.
Илья был потерян. Где Адри? Где Рутгелты? Почему его привезли в аэропорт одного? После всего, что с ним случилось?
Он взял сумку и отошёл в тень, где под навесом, сидя на корточках, курили суринамцы в белых рубашках. Илья сел на сумку и достал билет.
Кто-то поменял дату отлёта: на месте прежней даты был вклеен маленький цветной ярлык. На ярлыке стоял круглый штамп. Кто-то, пока он был в джунглях, взял его билет и поменял дату на сегодняшнюю. Илья посмотрел на число и вскочил на ноги: по билету выходило, что сегодня первое декабря. Этого не могло быть: Илья точно знал, что они уплыли из Парамарибо вечером двадцать девятого ноября. Стало быть, тридцатого они разбили лагерь на реке. Они пробыли в джунглях четыре дня, да ещё минимум день он и Ваутер плыли обратно. Выходило, что сегодня должно быть шестое число. И это не учитывая время, которое Илья пролежал в джунглях после того, как на него напал Ам Баке.
Куда-то делись пять дней. Илья помотал головой. Вдруг он всё понял и успокоился: конечно же сегодня шестое, просто билет поменяли на первое число, а он всё это время был в лагере на реке. Оставалось только неясным, зачем поменяли дату билета. Кто это сделал? И зачем его привезли в аэропорт с просроченным билетом?
Но теперь, когда он во всём разобрался, его снова волновало только одно: где Адри? Он хотел её видеть, сейчас, немедленно. Илья взял сумку, кивнул сидящим на корточках мужчинам и прошёл внутрь здания. Или Адри ждала его там, или она улетела в Нью-Йорк и они встретятся дома.
Аэропорт состоял из большого зала, длинного прямоугольника со стендами, где продавалась еда. Стенды назывались «Кафе». Илья прошёл сквозь привычную суету расставаний и встреч и не нашёл Адри. Ему стало тревожно. Только теперь он догадался посмотреть на табло.
Было первое декабря. Палочка первого числа светилась на табло отлётов и прилётов, отрицая весь смысл времени. Илье стало жарко; он не мог понять, что происходит: как пять дней могли уместиться в один.
Он пошёл к стойке регистрации нью-йоркского полёта, надеясь найти Адри там. Сейчас ему был нужен кто-то, кто ему всё объяснит.
До отлёта оставалось три часа, но множество людей уже бессмысленно толпились у стойки с надписью «Майами». Илья помнил, что самолёт садится в Майами по пути в Нью-Йорк, и то, что хотя бы это осталось прежним в его теперешней зыбкой реальности, обрадовало Илью.
Адри здесь не было. Илья обошёл толпу ещё раз, надеясь, что он её просто пропустил. Он подумал и — негромко — позвал её по имени. Несколько человек обернулись; Илье стало неудобно, и он отошёл к стендам с едой.
Хотелось пить. Илья знал, что его бумажник лежит во внутреннем кармане сумки. Он расстегнул молнию и достал бумажник; деньги можно было не менять, в Суринаме все и везде принимали доллары.
Вместе с бумажником из сумки выпал ещё один билет. Илья знал, чей это билет, не смотря. Это был билет Адри; он забрал его у Адри в Нью-Йорке, когда увидел, что она просто сунула билет в карман джинсов. Илья боялся, что она его обязательно потеряет.
Если билет был здесь, то и Адри была здесь; она ещё не улетела из Суринама, по крайней мере, она не улетела в Нью-Йорк. А если Адри не улетела в Нью-Йорк, то и ему было незачем туда лететь. Он должен был её найти и понять, что происходит. Илья взял сумку и пошёл на улицу.
Он остановился у курящих на корточках суринамцев и, махнув рукой куда-то в сторону, сказал:
— Парамарибо.
Один из них плюнул на асфальт и потушил в плевке сигарету. Окурок он засунул за ухо, встал и пошёл к старой, без определённого цвета машине.
Сиденья обжигали кожу, и нечем было дышать. Водитель обернулся и посмотрел на Илью. Илья вдруг осознал, что не знает адреса Хасьенды.
— Рутгелты, — попросил Илья. Он помнил, что их тут все знают. — К Рутгелтам, пожалуйста, — добавил он по-английски.
Водитель пожал плечами. Он не знал Рутгелтов.
— Рутгелты, — повторил Илья. — Рут-гел-ты. Водитель что-то сказал, но Илья даже не понял, на каком языке. Водитель покачал головой.
И тут Илья вспомнил:
— Хасьенда Тимасу. Хасьенда Тимасу. Ома Ван Меерс.
Водитель кивнул и завёл мотор. Машина тронулась рывком. Илья откинулся на неудобное рваное сиденье и закрыл глаза: он ехал домой. Там ему всё объяснят. Там Адри.
ПАРАМАРИБО 7
АЭРОПОРТ, обслуживающий Парамарибо, на самом деле находится в другом городе — Зандериж, в сорока километрах к югу от столицы. Путь вроде и не долгий, но скоро начался несильный дневной дождь, и машины выстроились гуськом на север.
Парамарибо, бывший торговый пункт, основанный голландцами в шестнадцатом веке, был оккупирован Британией в 1630-м. Он оставался британским ещё тридцать семь лет, пока Голландия не согласилась обменять на свою потерянную колонию принадлежащий ей маленький остров в Северной Америке, который голландцы называли Nieuw Amsterdam. Позже остров стал известен во всём мире под своим нынешним именем — Манхэттен.
Парамарибо в то время звался Форт Зеландия и рос сперва вдоль реки Суринам, давшей впоследствии имя всей стране, а затем вокруг Onafhankeligkheidsplein, площади Независимости. Машина, что везла Илью, объехала эту площадь и двинулась мимо Палментуин Парк на восток.
Скоро они въехали в тенистую короткую аллею, которая заканчивалась знакомыми Илье воротами Хасьенды, единственного дома на всей улице.
Охраны в камуфляже, всегда — как помнил Илья — дежурившей у ворот, сейчас не было. Он попросил водителя погудеть, но никто не появился. Илья расплатился, взял сумку и посмотрел, как привезшая его машина пропала за углом.
Он остался один.
На воротах не было звонка. Илья обыскал ворота два раза и не нашёл никаких следов звонка или интеркома. На верхней раме красивых кованых ворот были установлены камеры, по одной с каждой стороны. Илья помахал в камеру слева, затем повернулся направо. Камеры безжизненно смотрели в ответ стеклянными дулами объективов. Илья сделал шаг назад. Камеры остались безучастны.
Такой возможности Илья не предусматривал: в доме всегда кто-то оставался, всегда было много народа, обслуживавшего сад и прочее хозяйство. Ситуация, при которой в Хасьенде может никого не быть, казалась невероятной. Илья отошёл в тень незнакомого ему дерева и сел на сумку.
Он понимал, что кто-нибудь обязательно появится, не может не появиться. Охрана должна охранять, значит, должна быть у ворот и просто отошла на несколько минут. Садовые рабочие должны работать в саду и через какое-то время обязательно его заметят. Если Рутгелты сейчас не дома, они вернутся домой позже. А если дома, то кто-нибудь увидит Илью и скажет мистеру Рутгелту; Илья почему-то надеялся на него больше всего.
Его рассуждения были совершенно правильны: в них не было изъяна. Однако охрана не появилась ни через двадцать минут, ни через час. Несколько раз Илья подходил к воротам и кричал, звал в густую тенистость сада, но крик его глушился деревьями и умирал в самом начале длинной гравиевой дороги, ведущей в дом. Никто не приезжал, и никто не выезжал из Хасьенды.
Скоро полил сильный дождь.
Илья встал под дерево; ему почему-то казалось, что стоя он промокнет меньше, чем сидя. Он взглянул на часы; его самолёт только что взлетел или должен был взлететь: он больше ни в чём не был полностью уверен. Всё, что ранее казалось незыблемым, стало призрачным. Его действительность, его представления о реальности были разрушены нереальностью последних дней.
После тюрьмы Илья относился к себе с доверием: он мог рассчитывать на себя в любых, самых тяжёлых ситуациях, но всё это осталось в той, другой жизни — неделю назад, где параметры физической реальности были определены и не менялись, где люди были понятны, а законы обитаемого пространства ясны.
Он подозревал, хотел даже, чтобы мир оказался иным, чем являл себя, но Илья ожидал интеллектуальную тайну, а не нарушение всех правил существования, всех договорённостей о жизни. Он ожидал, что мир будет тайным, но объяснимым. Пока всё получалось наоборот.
Он не знал, что делать: он не мог докричаться до людей внутри, он не мог вызвать такси, чтобы поехать в гостиницу, он не мог отойти, потому что боялся, что именно в этот момент кто-нибудь появится. Всё, что ему оставалось, это мокнуть под деревом, название которого он не знал. Он мог встать и идти пешком; было лишь неясно — куда.
Илья снова подошёл к воротам. Неожиданно он осознал, что видит кованый узор; он заметил его в первый раз. До этого он смотрел на ворота и видел только, что они закрыты. Ворота были поделены на квадраты, и в каждом — навстречу друг другу — стояли на задних лапах два льва. В верхнем же левом квадрате почему-то были не львы, а грифоны. Илья задрал голову, чтобы посмотреть, не ошибся ли он. Нет, это действительно были грифоны. Он протянул к ним руку, чтобы потрогать и удостовериться, что они не львы. В ту же секунду ворота кликнули и начали медленно распахиваться в стороны. Илья бросился было за своей сумкой, не спуская с ворот глаз, и остановился: он боялся, что ворота закроют. Илья махнул сумке рукой — как обещание, что он за ней вернётся, — и вбежал в ворота.
Он быстро шёл, сдерживая желание бежать, по гравиевой дорожке сквозь деревья, удивляясь, что в саду нет работающих людей, хотя время было рабочее. Сад почему-то казался светлее, чем раньше. Скоро Илья дошёл до круга с фонтаном.
У фонтана стояла незнакомая машина — «тойота-лендкрузер». Илья знал, что у Рутгелтов в Парамарибо были «ренджровер» и «лексус», на котором в основном ездили Руди и Кэролайн; Адри не любила водить машину. «Гости, — подумал Илья. — Поэтому они меня и не заметили».
Он прошёл в каменную арку и поднялся по высокой мраморной лестнице в холл. Ему никто не встретился. Обычно в коридорах дома Илья постоянно наталкивался на женщин в одинаковых тёмно-синих передниках, которые непрестанно что-то подметали, натирали, скребли и мыли. Илья улыбался им, они улыбались в ответ и неспешно, как-то очень значимо продолжали свою работу. Сейчас же в длинных полутёмных коридорах стояла ровная пустота. В комнатах были открыты ставни и окна, и влажный воздух дождя наполнял дом. Дождь стучал по листьям в саду и заплёскивался в тишину комнат. Крышка пианино в музыкальной комнате была поднята, и белые клавиши напоминали пасть кашалота из детских книжек.
Он вышел на Семейную террасу.
Пусто.
Никого.
Илья решил спуститься в кухню, на Кухонную террасу. До ужина ещё далеко, но всё же. Он повернулся, чтобы идти, и услышал тяжёлые шлёпающие шаги; кто-то шёл в его сторону. Сердце застучало быстрее, и Илья приготовился быть спокойным, как если бы ничего необычного не происходило. Он повернулся вполоборота от двери, словно никого не ждал.
На террасу нехотя вышел мастиф. Он увидел Илью и остановился. Илья присел на корточки, чтобы выглядеть поменьше, не угрожающе, и протянул к нему руку. Он хотел дать собаке себя обнюхать и вспомнить. Мастиф — его звали Гроот, Большой, — не двинулся с места. Илья позвал его по имени, приговаривая по-русски какую-то глупость: «Хорошая собака, иди сюда, хороший пёс»; он старался, чтобы выходило ласково. Мастиф продолжал внимательно смотреть на Илью, затем сел у выхода с террасы; он не рычал, не скалился, а просто неотрывно смотрел на Илью круглыми тёмными глазами. Илья двинулся к выходу, пытаясь казаться как можно более безразличным. Мастиф немедленно встал и чуть подался вперёд. Он был явно намерен не выпускать Илью с террасы. Самым угрожающим в его поведении было молчание.
Илья отошёл к креслу Омы и сел. Мастиф тоже сел. Он продолжал следить за Ильёй и совсем не напоминал сонного тюфяка, каким казался Илье раньше. Неожиданно Илья заметил, как тот мускулист и широк, но совсем не толст. Мастиф подождал несколько минут и лёг. Он не заснул, как обычно, а продолжал неотрывно смотреть на Илью.
Дождь вдруг кончился, и солнце вернулось в сад. Илья смотрел на цветы в горшках, расставленные по периметру террасы, и думал, что делать. Мастиф был настроен серьёзно, и Илья не хотел рисковать. Он решил подождать.
Дождь полил снова, без предупреждения, и Илья закрыл глаза. Он слушал шорох капель в саду и удивлялся равномерности звука. Постепенно интервалы между каплями становились всё короче, и вскоре шум дождя слился в один непрерывный шелест воды.
Когда Илья проснулся, вокруг было темно, лишь в саду горели большие фонари, окружённые дымкой пара. Собаки не было. Илья осмотрел террасу ещё раз перед тем, как встать; нет, он был один.
Илья осторожно прошёл в дом. Он свернул в коридор, вдоль которого тянулись спальни.
На стенах, с двух сторон горели рожки ламп. Кто-то зажёг в доме свет.
Илья постучал в дверь первой комнаты; он помнил, здесь спала Кэролайн. Тишина. Он нерешительно повернул круглую ручку двери и надавил от себя.
Комната не была заперта. Илья открыл дверь.
Темно. Он нашёл выключатель рядом с дверной рамой и включил свет. Пусто. С кровати сняли бельё, и сверху лежали розоватый матрас и подушка без наволочки. Москитной сетки над кроватью не было. Илья вошёл в комнату.
Уже перед тем, как он последовательно, один за другим открыл все ящики комода, Илья знал, что ничего не найдёт. Ящики были пусты и ровно светились жёлтым деревом в вечернем свете люстры. В шкафу понуро висели пустые вешалки. Словно исполняя какой-то непременный ритуал, Илья осмотрел всё, что можно было найти, всё, что могло таить разгадку исчезновения Рутгелтов.
Он заглянул под кровать.
Ничего.
То же повторилось и в двух других спальнях, Руди и Адри. Их двери были открыты, и комнаты, совершенно пустые, не хранили никакого указания ни на прежнее присутствие людей, ни на причину их нынешнего отсутствия. Спальню Адри он осмотрел дважды; она показалась ему особенно пустой.
Илья прошёл в другое крыло дома, здесь была его спальня. Он хотел пройти мимо, но заметил, что внутри горит свет. Илья открыл дверь.
Его кровать была застелена и ожидала его. На комоде стояла сумка, его сумка, которую он оставил у ворот и про которую уже забыл. На кровати лежали два аккуратно сложенных синих полотенца, большое и маленькое. По краям полотенец шла белая каёмка.
В комнате горели две лампы: настенная над кроватью и большая с зелёным абажуром на вишнёвом комоде. Москитная сетка была опущена, и под потолком медленно крутились деревянные лопасти большого вентилятора.
Его ждали.
Илья сел на кровать. Было ясно, что в доме кто-то есть, но почему-то этот кто-то не спешит показываться.
Илья не понимал, что происходит; Рутгелты были люди серьёзные и никогда не стали бы играть в глупые игры, вроде той, что игралась сейчас. Адри бы не поступила с ним таким образом. Да и за что? Илья покачал головой.
Неожиданно темнота за раскрытым окном стала желтее. Кто-то включил свет в одной из комнат противоположного крыла дома. Илья выглянул в окно: свет горел в комнате на третьем этаже. Он там не никогда был; Илья знал, что на третьем, верхнем этаже дома находятся спальня родителей и ещё какие-то помещения. Нужно было пойти и выяснить, что происходит.
Оставалась проблема с мастифом. Илья огляделся в поисках защиты и ничего не нашёл. Он подумал и взял с кровати подушку. На подушке была бежевая в полоску наволочка.
В крайнем случае, подумал Илья, от собачьих зубов можно прикрыться подушкой.
В коридорах никого не было, хотя везде вдоль стен горел свет. Илья, оглядываясь и держа подушку перед собой, прошёл в другое крыло дома и поднялся по широкой деревянной лестнице на третий этаж. Посреди ступенек лежала ковровая дорожка. На стене через равные промежутки горели полукруглые лампы, вставленные в неглубокие ниши. Они давали ровный жёлтый свет, отражавшийся в бронзе перил.
Дверь комнаты в конце коридора была открыта, там горел свет. Илья пошёл к свету, старательно громко ступая по паркетному полу, чтобы объявить о своём присутствии. Он волновался. Илья надеялся, что там будет мистер Рутгелт, который всё объяснит. Мистер Рутгелт означал возвращение нормальности.
В коридор тяжело выскочил мастиф. Он остановился и — в первый раз — зарычал на Илью. Илья замер, забыв выставить перед собой подушку. Он просто стоял, стараясь не шевелиться. Он даже не дышал.
Мастиф двинулся к Илье. Он был таким большим, что заполнял собой весь коридор. В ту же секунду кто-то внутри комнаты негромко свистнул и позвал:
— Гроот, Гроот.
Мастиф вздохнул и остановился. Он стоял в нескольких шагах от Ильи, готовый в любую секунду напасть; Илья это чувствовал.
В проёме двери появился мужчина. Это был не мистер Рутгелт: мужчина был белый, невысокого роста и старый. У него были короткие седые волосы и борода.
— Гроот, — сказал старик. — Сюда!
По-английски.
У него был неожиданно молодой и высокий голос. Мастиф немедленно повернулся и, обойдя старика, сел у его левой ноги. Старик кивнул Илье, словно был совершенно не удивлён его появлением. Затем он просто скрылся обратно в комнате. Мастиф последовал за ним.
Илья остался один. Он стоял посреди длинного коридора, ошеломлённый происходящим. Затем Илья пошёл к освещённой двери. Он поравнялся с проёмом и встал, осматривая комнату; это был кабинет.
Старик сидел у длинного стола вполоборота ко входу. Стол был придвинут к раскрытому окну, на столе горели две большие лампы. Рядом с книжным шкафом у стены напротив горел высокий торшер. С другой стороны торшера темнел широкий кожаный диван с круглыми подлокотниками. На диване лежало несколько книг. Почему-то было ясно, что их читают все сразу.
Мастиф, лежавший у стола, увидел Илью и вскочил.
— Нет, Гроот, — сказал старик, не оборачиваясь. — Лежать, лежать. Я кому сказал — лежать.
Мастиф лёг. Судя по акценту, старик был американец.
— Простите. — Вдруг Илья понял, что не знает, что спросить. Ситуация казалась абсурдной.
Илья помолчал и задал абсолютно идиотский вопрос: — Вы говорите по-английски?
Старик повернулся к Илье и неожиданно улыбнулся.
— Время от времени, — весело сказал старик. — Время от времени.
Мастиф глухо рокотал, лёжа на полу: ему не нравилась эта беседа.
— Тихо, Гроот, — одёрнул собаку старик. — Вам необязательно прижимать к себе подушку, — обратился он к Илье. — Гроот вас не тронет. По крайней мере, пока я здесь.
Илье стало неудобно. Он ещё сильнее прижал подушку к животу.
— Скажите, вы не знаете, где все Рутгелты? — спросил Илья.
Он старался говорить спокойно.
— Рутгелты. — Старик снова улыбнулся. — Да кто где. Кроме того, они вовсе не Рутгелты.
ПАРАМАРИБО 8
КОГДА Илье было пять, его мать рассталась с отцом. Причин ему никто не объяснял, да он, будучи слишком мал, чтобы понять, почему отца больше нет в доме, ничего и не спрашивал. Отец, впрочем, и раньше бывал дома не часто.
Через год — было лето, и Илья с детским садом жил за городом — мать приехала навестить его с другим мужчиной. Тот был молод и худ. Его лицо состояло из углов, а длинная прямая чёлка почти падала на глаза. Он не знал, как вести себя с детьми, но не старался подделаться и не улыбался глупой, беспричинной улыбкой, как многие взрослые, когда говорят с маленькими. Мужчину звали Марат. Просто Марат, без «дядя».
Илью отпустили с ними гулять, и они пошли сквозь лес, в котором стояли двухэтажные оранжевые корпуса. На детской площадке — в самом конце территории — Марат покачал его на качелях, а потом покачался сам. Мать сидела на краю песочницы и смотрела на них; в тот день она неожиданно много молчала.
У Ильи тогда была любимая игрушка, маленькая плюшевая собака, Кутя. У собаки был кожаный, а не пластмассовый нос, что в глазах Ильи делало её более настоящей. Ночью Илья клал Кутю на подушку и укрывал одеялом.
Днём он носил его всюду с собой и иногда пытался кормить. Кутя не ел, но продолжал оставаться весёлым.
В тот день они покачали Кутю тоже, а потом начался сильный июльский дождь, ливень. Рядом с детской площадкой стояла беседка, куда они бросились прятаться. Мать и Марат обсуждали, как они теперь, под дождём, доберутся до электрички, чтобы ехать в Москву, а Илья весело бегал по беседке.
Вдруг мать вспомнила, что Илья должен обязательно вернуться в корпус к пяти часам — полдник. Они побежали через мокрый лес, Илья на руках у Марата. От Марата пахло табачным дымом, и Илье это нравилось. Он хотел, чтобы Марат не уезжал и продолжал носить его на руках.
И тут Илья понял, что Кутя остался в беседке.
Они уже были у корпуса, где жила его группа. Илья начал плакать и звать Кутю. Дождь усилился, мешаясь со слезами, и Илья рвался обратно в беседку. Воспитательница, выбежавшая на крик, подозрительно смотрела на Марата. Мать волновалась, что они опоздают на электричку. Она пыталась успокоить Илью, но тот был безутешен.
— Он убежит в лес и заблудится! — кричал Илья. — Там волки, волки, а он маленький!
— Глупости. — Мать устала и боялась опоздать на поезд. — Никуда он не убежит: он не настоящий.
— Настоящий, настоящий! — захлёбывался в слезах Илья. — Его волки съедят!
Мир, как он был раньше, кончился. Мать не понимала его и не жалела Кутю. Воспитательница держала Илью за руку и тянула в корпус, называя по фамилии. Илья их всех ненавидел.
Тогда Марат потушил сигарету и, наклонившись к Илье, сказал:
— Я за ним сейчас пойду. Жди здесь.
Он повернулся и пошёл в шумящий дождём лес. Одежда мокро облепляла его, и он казался ещё худее, чем был.
— Марат, ты что? — позвала мать Ильи. — Опоздаем на электричку, эта — последняя. Да поплачет и успокоится. Они завтра пойдут гулять и найдут его игрушку.
— Доберёмся, — сказал Марат, не оборачиваясь. Он стал быстро не виден в темени деревьев.
Илья сразу замолчал. Он тут же поверил этому незнакомому мужчине, от которого пахло сигаретами. Он знал, что тому можно верить во всём и всегда. Потом, все пятнадцать лет, которые они прожили вместе, когда Марат женился на его матери, Илья продолжал ему верить и никогда об этом не жалел.
Кутю, однако, Марат не нашёл, и детство в тот день кончилось. Илья плакал, пока не заснул у Марата на руках, и ему нравилось, что тот его крепко держит, и Илья старался плакать ещё больше, даже когда слёзы уже прошли.
Мать сидела на стуле напротив и молча глядела на них. Электричка давно ушла, и было некуда спешить.
Много лет после этого Илья был уверен, что Кутю съели волки.
Сейчас, в полуосвещённом коридоре Хасьенды, это чувство — что знакомый мир кончился и что-то невозвратное, окончательное изменило всю жизнь — вернулось и заполнило Илью. Он поверил старику сразу, как когда-то сразу поверил Марату. Он знал, что старик говорит правду. Знал и не хотел.
— Что значит «не Рутгелты»? — Илья шагнул в комнату. Мастиф зарычал сильнее, но Илье сейчас было не до него. — Кто же они, если не Рутгелты? И кто — вы? Что вы вообще здесь делаете?
Старик несильно ударил мастифа по широкой круглой шее и приказал молчать. Тот недовольно засопел, но послушался.
— Я — хозяин дома, — сказал старик. — Позвольте представиться: Оскар Кассовский. Люди, которых вы знали как Рутгелтов, мои друзья и гости. Как и вы были моим гостем всё это время.
Он говорил легко, свободно и весело смотрел на Илью. Тот не знал, что ответить. Одно было ясно: Кутю снова съели волки. Ему хотелось ударить Кассовского.
— Вы голодны? — Кассовский встал. — Вы же не ели ничего с самого утра. Ваутер, должно быть, вас в лодке кормил всякой дрянью.
— Откуда вы знаете Ваутера? — Илья тут же пожалел о вопросе. Теперь было окончательно ясно, что старик не лжёт. Илья вдруг почувствовал, что очень голоден. Он и вправду не ел весь день, но как-то об этом забыл.
Старик улыбался. Он не собирался отвечать на глупые вопросы. Он улыбался и ждал.
— Где Рутгелты? — спросил Илья. — Где Адри? Что вы с ними сделали?
Старик рассмеялся. Странно, он говорил высоким звонким голосом, а смех был низкий, хрипловатый смех-баритон.
— Это вы на самом деле хотите спросить, что они с вами сделали, — сказал старик. — С Адри всё в порядке, — заверил он Илью. — И с другими тоже. Их здесь нет, вот и всё. Сейчас самое лучшее, если вы примете это как данность: их здесь больше нет.
Илья молчал. Он не знал, что сказать.
— Были Рутгелты, и нет, — засмеялся Кассовский. — Как в сказке. Жили-были… А теперь нет.
Ему было весело.
— Я сейчас пойду в полицию, — сказал Илья.
Он знал, что никуда не пойдёт, но должен был что-то сказать.
— Конечно, конечно, — заторопился Кассовский. — Хотите, я распоряжусь, чтобы вас подвезли? А то вы ведь, должно быть, и не знаете, куда идти.
Он подошёл к книжному шкафу и, не глядя, достал с полки книгу и протянул Илье. Книга была в твёрдом тёмно-зелёном переплёте, и на ней золотым тиснением надпись: De Officiele Folder van de Regering van Suriname. Это был справочник министерств Суринама. Кассовский открыл его на странице с надписью: Ministerie van het Binnenland en Politie. Он ткнул пальцем в какую-то тройную голландскую фамилию и дружелюбно сказал:
— Это комиссар полиции, мой приятель. Можете позвонить ему прямо сейчас и задать все вопросы. Он ещё в офисе, я с ним говорил минут двадцать назад. Скажите дежурному, что звоните от меня, а то комиссар не возьмёт трубку.
Илья уставился в справочник. Всё казалось бесполезным. Он хотел, чтобы всё как можно быстрее кончилось. Он хотел проснуться.
— Смотрите, — сказал Кассовский, — ваш самолёт уже улетел, следующий самолёт в Нью-Йорк только через три дня. Билет я вам поменяю, не беспокойтесь. Вы, конечно, можете поехать в гостиницу, если хотите, но, поверьте, у меня вам будет лучше. Вы же были моим гостем всё это время, оставайтесь ещё.
— А кто же эти люди, если не Рутгелты? — Илья спросил просто так, чтобы соглашаться не сразу.
— Они мои друзья, прекрасные люди, но совсем не Рутгелты. Они вообще не родственники.
— А Адри? — спросил Илья. Он понимал, что это звучит глупо.
— И Адри не Рутгелт, — развеселился Кассовский. — Уж кто точно не Рутгелт, так это Адри. Да успокойтесь вы, — заверил он Илью, — никаких Рутгелтов вообще нет; я их просто придумал.
— Для чего? — спросил Илья. — Для чего всё это?
Он начинал злиться, и Кассовский это почувствовал. Илье хотелось его ударить и бить, бить, пока тот не отдаст ему прежнее. Илья шагнул к старику. Мастиф немедленно вскочил на ноги.
— Гроот, место, — приказал Кассовский. — Смотрите, Илья. — Он первый раз назвал его имя. — Сейчас вы всё равно ничего не поймёте: вы слишком расстроены. Почему бы вам не принять душ, переодеться, и мы обо всём поговорим за ужином. Мне кажется, так будет лучше.
Кассовский смотрел на Илью, щурясь и улыбаясь. Илья вдруг ощутил, как он грязен — после четырёх дней в джунглях, где его поливали водой с листьями и порубленными корнями, после лодки, где он лежал в забытьи неизвестно сколько. Он провёл рукой по волосам: те были необычно жесткими на ощупь и напоминали шерсть терьера. На ладони у Ильи налипло крошево листьев. Первый раз за сегодня Илья ощутил свой запах — запах немытого тела и высохшего пота. Он захотел смыть с себя всю эту грязь и весь этот день. Илья повернулся и, не говоря ни слова, пошёл прочь.
— Приходите на Keuken Terras, — крикнул вслед Кассовский. — Будет рыба по-креольски. И ваши любимые жареные платанос.
Даже это он знал.
Пока Илья больно соскребал с себя грязь под душем, он продумал все вопросы, которые задаст Кассовскому. Илья составил список вопросов, очень хитрых, которые загонят Кассовского в ловушку, и тот будет вынужден признаться, сказать всю правду. Какую, Илья пока не знал. Главное, он должен будет сказать Илье, где Адри.
Он услышал шум мотора, когда вытирался. Илья выбежал в комнату и увидел в окно, выходящее на фонтан, отъезжающий джип, «тойоту». Илья натянул на ещё мокрое тело шорты и сбежал на первый этаж, на кухню. Он уже знал, что случилось, но не хотел себе в этом признаться.
На кухне было темно и пусто, но на Keuken Terras горели лампы под потолком и стол был накрыт. На одного человека. Илья посмотрел на затянутые сетками от мух тарелки, и ему захотелось плакать. Все его вопросы теперь было некому задавать.
Он не стал есть. Илья нашёл на кухне ром и, взяв бутылку, пошёл на Семейную террасу. Неизвестно откуда взявшийся мастиф плёлся за ним и нестрашно ворчал. Илье было всё равно; сейчас он даже хотел, чтобы мастиф на него набросился, он хотел хоть какого-то выхода чувств. Он хотел драмы. Но мастиф был настроен вполне дружелюбно и лишь порыкивал для порядка.
Илья лежал в гамаке и пил ром из горлышка широкой бутылки. Звёзды заполнили южное небо, не давая ему остаться одному. Илья пил ром и ни о чём не думал. Он не боялся москитов: те не кусали людей с алкоголем в крови. Илья смотрел в небо и слегка покачивался. Внизу, тяжело дыша, спал мастиф.
ПАРАМАРИБО 9
УТРО в тропиках наступает сразу: лиловый ночной воздух вдруг светлеет оранжевым, и небо — без всякого перехода, не давая миру подготовиться к новому дню — обрушивается на землю яростной синевой. Солнце — красный диск — неожиданно оказывается прямо над головой, и всё, утро, и надо жить заново. Шорохи ночи — неуверенные, вкрадчивые — в мгновение меняются на резкие звуки дня, и некуда, некуда, некуда укрыться от пронизывающего всё вокруг света. Утро наступает сразу и навсегда.
Солнце нашло Илью под навесом и заставило открыть глаза. Илья чувствовал, что всё ещё пьян и что весь мир пропах ромом. Он попытался задремать, провалиться в полусон, но знал, что это бесполезно: в тропиках не бывает переходных состояний — всё случается сразу и навсегда.
Он был один: пустой сад молчал, и дом — нежилой, неживой — не звал внутрь. Мастиф куда-то делся, и Илья, выбравшись из гамака, пошёл вниз на Keuken Terras. Здесь всё было по-прежнему: под навесом горел ненужный свет, и ужин, не съеденный вчера, стал его завтраком. Илья потушил свет. Он ел всё, как было, холодным: лень подогревать.
Он нашёл в холодильнике фрукты и кучу прочей еды. Можно было не бояться умереть с голоду. Илья тщательно вымыл за собой посуду: он не терпел беспорядка. Тарелки он поставил на металлическую решётку рядом с раковиной. Он пожалел, что посуды было так мало — всего-то три тарелки; теперь, когда механическая деятельность кончилась, нужно было принимать решение — что делать дальше.
Илья сварил себе кофе в итальянской медной турке с надписью Magnificaffe и пошёл на террасу. Он сел за маленьким столиком в углу, рядом с цветами. Здесь, на специальной металлической подставке, стояли собачьи миски — одна с водой, другая пустая. Илья сменил мастифу воду и насыпал сухой корм из тяжёлого пакета в углу. Он огляделся и — с сожалением — не нашёл других причин отвлекаться от главных мыслей. Илья стал пить кофе и думать о будущем и о прошлом.
Его самолёт улетал через два дня. Можно было пойти в гостиницу, можно было остаться у Кассовского (Илья отметил, что сразу стал думать о Хасьенде как о доме Кассовского). Он решил остаться: была надежда, что появится кто-нибудь, кто всё объяснит. Кто-то, кто восстановит прежнюю жизнь и вернёт ему Адри. Втайне Илья понимал, что вернуться она может только сама.
Если Рутгелты были не Рутгелты, то кто они? Зачем, для чего они устроили весь этот спектакль с богатой креольской семьёй, живущей на трёх континентах? Что было им нужно от Ильи? Он знал, что у него нет ничего, что бы он мог им дать и что бы они не могли получить сами.
Он не мог понять, не мог даже отдалённо представить цель этого представления. Никакой корысти у Рутгелтов — Илья продолжал их так называть — быть не могло: у него не было ни денег, ни знаний, которыми он мог бы с ними поделиться. Они не производили впечатление душевнобольных; наоборот, разумные, серьёзные, интеллигентные люди. И Адри? Ведь она его любит. Тогда почему? Почему?
Ответов не было. Илья сварил ещё кофе и снова уселся в глубокое удобное кресло. Мастиф уже был на террасе и шумно, неаккуратно ел, порыкивая на Илью. Потом он полакал из миски с водой, лёг неподалёку и тут же заснул. Илья понял, что больше можно не бояться.
Он решил искупаться. В коридоре, по пути в свою комнату за плавками, Илья захотел ещё раз зайти в спальню Адри. Он тронул дверь: закрыто. Илья подёргал ручку: закрыто. Он проверил все комнаты на этаже; все спальни, кроме его комнаты, были заперты. Илья пошёл на третий этаж, где вчера встретил Кассовского. Он уже знал, что все комнаты там будут тоже закрыты, но упрямство заставило его подняться и методично подёргать все дверные ручки. Всего на третьем этаже было семь комнат.
Илья обошёл дом. Он подсчитал, что в доме двадцать девять комнат, включая кухню, и семнадцать из них заперли. На втором этаже была открыта только его спальня — единственная из всех, а также музыкальная комната и большая гостиная перед Семейной террасой. Весь первый этаж был открыт, кроме библиотеки. Об этом Илья пожалел больше всего.
Он вернулся к себе, надел плавки и пошёл к бассейну. На деревянных шезлонгах лежали толстые синие непромокаемые матрасы, в тон голубой воде. Илья постоял на трамплине, смотря в воду; он умел красиво прыгать и сейчас жалел, что было не для кого. Подумав, Илья всё-таки прыгнул, почти без плеска, и долго плыл под водой. Когда он вынырнул у дальнего края бассейна, его ждал мастиф.
Рядом с бассейном было небольшое здание, отделанное терракотовой плиткой, где хранились матрасы, шезлонги, были душ и холодильник. Во встроенных стенных шкафах Илья нашёл множество чистых сложенных полотенец. В холодильнике стояли бутылки с водой и лежало забытое кем-то яблоко. Илья взял одну бутылку и лёг на шезлонг.
Ему было решительно нечего делать. Он понимал, что Кассовский уехал, чтобы дать ему перегореть, охладиться; такой же тактикой пользовались следователи в КГБ. Иногда подследственного вдруг переставали водить на допросы, и он через пару дней начинал волноваться, томиться, придумывать всякие объяснения и — главное — ждать, ждать. Когда в конце концов его вызывали, тот был счастлив и готов рассказать многое, чтобы это томительное ожидание, эта неизвестность больше не повторились. Илья знал их тактику и знал, что она работает. «Поэтому он и библиотеку запер», — подумал Илья. Кассовский хотел истомить его бездействием, ожиданием. Но для чего? Для чего?
Он решил не мучить себя вопросами, на которые у него всё равно не было ответов. Нужно было сконцентрироваться на стратегии: если Кассовский его для чего-то выдерживает, значит, он вернётся. Значит, ему от Ильи что-то нужно. Значит, надо быть готовым к этому «что-то». То есть ко всему.
Оставалась проблема с Адри: почему она заодно с другими, против Ильи? Как многие мужчины, Илья был готов поверить во что угодно, но не в неискренность своей женщины. Он начал выдумывать объяснения: может быть, её прячут? Илья покачал головой: Адри не из тех, кого можно держать насильно, — себе дороже. Да и Рутгелты не казались ему способными на такое. Ответов не было, и Илья нырнул в воду, чтобы смыть с себя дурную бесконечность размышлений и липкую испарину дня.
После купания Илья обошёл сад; там было пусто. Обычно в саду работали люди, подстригая ветки, распыляя какие-то жидкости и делая всю ту большую работу, что после радует глаз. Сейчас сад стоял пустой, и клумбы ярких, словно нарисованных цветов заполняли пространство тщательно продуманным узором. Илья дошёл до ворот и, наконец, потрогал грифонов. Они и вправду были не львы.
Ворота стояли открытые; Илья мог идти куда угодно. Он уже знал, что никуда не уйдёт и будет дожидаться возвращения Кассовского. Тот, судя по всему, тоже это знал и, оставив ворота открытыми, показывал Илье свою власть: Илью никто не удерживал в Хасьенде, он сам не мог уйти.
На полпути назад Илья встретил мастифа. Тот поджидал Илью, сидя на гравиевой дороге и загородив собой путь. Илья решил не обходить пса и пошёл прямо на него. Мастиф не пошевелился, лишь собрался в литой ком мускулов. Пришлось обойти. Илья понял, кто здесь настоящий хозяин.
В доме было прохладно. Илья попробовал взломать дверь библиотеки, но не смог. Он обошёл все этажи ещё раз, но не нашёл никаких инструментов. На кухне были щипцы для сахара — сахар в Суринаме продавали большими коричневыми неровными кусками, прямо с плантаций, но для вскрытия тяжёлых дверей из твёрдого тропического дерева щипцы не годились.
Он был оставлен один, наедине со своею тоской. Никого. Только мастиф, что жил какой-то странной, параллельной жизнью, появляясь и исчезая по одному ему ведомому расписанию.
Вечером, когда Илья снова лежал в гамаке на Семейной террасе, он попробовал поговорить с мастифом, но тот мгновенно заснул. Илья обиделся и пошёл к себе в комнату. Мастиф тут же проснулся и поплёлся за Ильёй, тяжело вздыхая. Он улёгся за дверью, и было слышно, как он там сопит.
Утром Илья долго лежал в постели, разглядывая свою комнату через дымку москитной сетки. Он искал любые причины, чтобы не вставать и не встречаться со своим одиночеством. Оставаясь в комнате, можно было представить, что там, за дверью, его ждёт дом, полный людей. На самом деле, понимал Илья, его там ждёт только мастиф.
Следующий день был повторением вчерашнего. Илья похватал какой-то еды из холодильника и съел её стоя, прямо на кухне: он не хотел возиться с посудой. Затем Илья сделал себе кофе и пошёл на террасу. Он поменял воду и насыпал новой еды для мастифа. Он не знал, что ещё можно сделать. Илья громко позвал пса по имени, но тот не пришёл.
День тянулся долго, мучительно, жарко. Влажная духота быстро наполнила воздух, оттеснив любую надежду на прохладу до вечера. Купаться было лень. Ходить было лень. Даже спать было лень, но эту лень Илья поборол и заснул посреди дня, под навесом у бассейна, прямо на мокром синем матрасе, который он стащил с лежака в тень.
Он проснулся скоро, сон получился некрепкий и какой-то тревожный. По сну метались тёмные тени и что-то хотели от Ильи. Потом лицо Ам Баке, то есть другое лицо — но это был он, Илья знал, что он, — заполнило собой всё и опустилось на Илью сверху. Илья испугался и проснулся. Он прыгнул в бассейн и долго плавал под водой, изредка высовываясь наружу глотнуть воздух.
День переломился, и вечер — мгновенно, без теней — резко упал на землю. Илья побродил по пустому дому, зовя мастифа: он не видел того весь день.
Илья вышел в сад и долго ходил по гравиевым дорожкам, крича имя пса в жаркий тёмный воздух, но того нигде не было. Вдруг Илье стало страшно, и он вернулся в дом. Он подумал и решил запереть все двери в дом изнутри; эти дни дом стоял открытый.
После душа Илья полез в сумку за чистыми шортами. Они лежали сверху: сумку укладывал не он, он бы положил шорты вниз, а сверху рубашки. Илья вытащил шорты и замер: прямо под ними лежала красная лента, которую Адри оставила у него после их первой ночи в Парамарибо.
Как был, голый, Илья сел на кровать. Он знал, что ленту в сумку положила Адри. Он смотрел на ленту и пытался разгадать её смысл: надежда, обещание, прощание? Не забывай меня? Забудь? Миллионы догадок проносились у него в голове, сменяясь новыми, а те — другими.
Илья вспомнил ночь, когда она оставила ленту, и другие их ночи и дни, и тоска, что Адри нет рядом, ввинтилась внутрь и стала засасывать в себя всё его существо. Он вдруг обессилел и должен был лечь на кровать. Он не мог без неё, и это нельзя было ничем подменить.
Илья не хотел оставаться в комнате, где они были вместе, один. Он взял ленту и пошёл на Семейную террасу. Ему нравилось идти голым в тёмноте дома: в этом была свобода, как в ночном купании.
Илья нашёл недопитый ром и лёг в гамак. Он позвал мастифа. Тот не пришёл. Илья позвал ещё раз, и ещё, и ещё и слушал, как имя собаки с двумя долгими, гулкими «о» улетает в пустоту ночи. В саду цокали цикады, но им Илья не мог рассказать об Адри.
Он покачивался, отпивая душистый ром из горлышка и пытаясь рассмотреть в темноте ленту; было не видно. Тогда Илья повязал ленту туда, где Адри оставила её в их первую ночь. Он подумал и сделал бант. Было жалко, что в темноте он не мог видеть, как это выглядит.
ПАРАМАРИБО 10
НИКТО по-настоящему не знает, зачем человеку сон. Отдых, путешествие в другие миры, переживание и интерпретация дневного опыта — все эти объяснения были выдвинуты и опровергнуты многими и многократно. Всё, что известно доподлинно, — это как мы спим, но до конца не ясно — зачем.
Илья редко помнил сны; он знал, что они ему снятся, но, проснувшись, не мог вспомнить их суть. Были сны, впрочем, которые он помнил всю жизнь.
Один, приснившийся, когда Илье было пять, Илья помнил особенно хорошо: он в маленьком самолёте — у него был такой игрушечный, но во сне самолёт был настоящий, — и вместе с ним в самолёте корова. Потом он стоит на земле, под самолётом и смотрит, как корова падает на землю. Корова чёрная, с белыми пятнами, и она заполняет собой всё небо. Корова падала спокойно и как-то задумчиво. Было не страшно на это смотреть.
Смысл этого сна Илья пытался понять много лет, но безуспешно. В детстве он лично не знал никаких коров, не был знаком ни с одной. На самолётах он тогда не летал; они с мамой ездили к морю на поезде, двое суток, и Илья любил эти поездки. Он никогда не видел падающих с неба коров — ни до сна, ни после. Но сон, однажды приснившись, остался в памяти навсегда. Глупый сон, ей-богу.
Сейчас Илья проснулся в гамаке посреди ночи от чувства, что был не один. Сегодняшнего сна он не помнил; не помнил даже, был ли сон. Он лишь знал, что не один, знал ещё до того, как открыл глаза и увидел свет под навесом террасы. В ровном галогеновом тумане лампы над креслом, где обычно сидела Ома, кружилась кутерьма насекомых. Илья приподнялся в гамаке посмотреть; там с книгой в руках сидел Кассовский.
«Снится», — была первая мысль. Потом Илья понял, что нет, он проснулся и Кассовский настоящий. Илья обрадовался, что кончилась неизвестность и теперь Кассовский объяснит ему, что произошло. Продолжает происходить.
Будет происходить.
Он сел в гамаке, и осторожность, зэковская закалка, окатила его холодным внутри: не показывать радости, подумал Илья. Он ведь этого и добивался, чтобы я его ждал, был рад видеть. Играли мы в эти игры.
Илья встал. Кассовский поднял голову и улыбнулся. Илья посмотрел в ответ без улыбки.
Вдруг он ощутил, как что-то струится у него по ногам. Илья поглядел: он стоял голый, как лёг, и красная лента развивалась внизу, завязанная большим бантом там, где он её завязал. Илья представил, как он выглядит со стороны, и рассмеялся. Кассовский тоже рассмеялся.
— Держите. — Он бросил Илье его шорты. — Я позволил себе зайти в вашу комнату и принести их сюда на случай, если вы захотите одеться. Впрочем, в этом нет необходимости: меня ваш вид совершенно не смущает. Если хотите, можете оставаться как есть.
Илья не хотел. Он натянул шорты прямо на ленту, и потом пришлось их снова расстёгивать, чтобы её развязать. Илья подошёл поближе к Кассовскому и сел в низкое кресло, что так любила Кэролайн. Было удобно.
Кассовский положил книгу на пол. Он поднял сетчатый купол, закрывавший поднос на узком ратановом столике, и предложил Илье сыр, фрукты и крекеры. Затем он встал и принёс бутылку белого вина из маленького холодильника в углу. Илья отметил, что на подносе уже стоят два бокала.
Кассовский налил вино и протянул Илье его бокал. Илья отрицательно покачал головой: он был не намерен есть и пить с Кассовским, пока тот не начнёт объясняться по сути. Илья решил вести себя по тюремным правилам: если ешь с человеком, то принимаешь его и всё, что он делает. По-тюремному это называлась «семейка». Ешь с блатными — значит, должен жить как блатной. Ешь с «ссучившимися» — значит, место тебе в сучьем бараке. Илья решил перемолчать Кассовского и не спрашивать ничего про Рутгелтов, пока тот сам о них не заговорит. А там поглядим, кому какой фарт.
Кассовский, ничего не сказав, поставил бокал Ильи на столик и взял свой. Он сделал маленький глоток и взял с большой квадратной тарелки виноград. «Странно, — подумал Илья, — откуда у него виноград?» В холодильнике на кухне винограда не было, это Илья помнил точно. Да и вообще, виноград в Суринаме не рос.
Они продолжали молчать, но как ни странно, это было не тягостно, не тяжело. Молчание неожиданно получилось лёгким, как игра. Кассовский сумел сделать его таким, понял Илья. Кассовский наполнил молчание улыбками и сделал его общим, а не молчанием одного Ильи. Молчание теперь связывало их, соединяло; это было молчание близких людей, которым даже не надо говорить: и так всё понятно. Внутри этого молчания было удобно.
Илья закрыл глаза, чтобы показать: он больше не участвует в этом молчании. Сквозь паутинки ресниц он видел, что Кассовский взял с пола книгу и принялся снова читать. У него было занятие, которое могло продолжаться бесконечно, а у Ильи не было. Кассовский его переиграл.
Можно было не притворяться; Илья открыл глаза и прочёл название книги: «Шаманизм», Мерсиа Элиаде. По-английски. Илья заметил, что на полу рядом с креслом лежат ещё две книжки, но не было видно — какие. Он обдумал ситуацию и решил атаковать. Может быть, это выведет Кассовского из равновесия и он скажет Илье что-нибудь важное.
— Готовитесь к очередному ритуалу с Ам Баке? — спросил Илья. — Изучаете теорию перед тем, как заманить и напугать следующего гостя?
Кассовский отложил книгу. Он посмотрел на Илью каким-то тяжёлым, мутным взглядом, который Илье не понравился. В этом взгляде не было и следа той светскости и подчёркнутой вежливости, с которыми Кассовский раньше обращался с Ильёй. Это был плохой взгляд, от которого хотелось отвести глаза. И вообще побыстрее уйти.
— Вы действительно считаете, что вас специально пугали? — спросил Кассовский. — Правда так думаете?
Илья кивнул. Внутри он не был до конца в этом уверен, но решил не сдаваться. Он хотел разозлить Кассовского. Но он не хотел, чтобы тот на него так больше смотрел.
— Вы знаете, весь этот бред про оборотней, про живущий во мне дух какой-то малой богини… Можно было придумать что-то поинтереснее. Посложнее. Поубедительнее.
Кассовский смотрел на Илью без улыбки. Его взгляд очистился и стал ясным, без тяжести и давящего страха, которые хлынули на Илью несколько минут назад. Взгляд стал ясным, но не таким лёгким, как раньше.
— Илья. — Кассовский замолчал. — Вы хоть представляете, кто такие оборотни на самом деле? — спросил Кассовский. — Вы же читали Тору? Помните, как начинается глава «Ной» в Книге Бытия? Сразу после главы «Берешит»?
Этого Илья не ожидал: при чём тут Тора? И при чём тут Книга Бытия? Он не знал, что сказать.
— Я вам напомню. — Кассовский сидел прямо, чуть подавшись вперёд. Свет от лампы падал ему на лицо и ложился жёлтой широкой полосой посреди открытого лба. Он цитировал на память: — «И увидели сыны Господни, что дочери человеческие хороши собой, и стали брать их в жёны. И их дети стали великими людьми». Понимаете?
— Нет. — Илья был совершенно потерян. — При чём тут оборотни?
Кассовский откинулся назад и закрыл глаза.
Они помолчали. Илья подумал и взял свой бокал. Вино было лёгким и хорошо утоляло ночную жажду.
— Вы думаете, про какого бога здесь говорится? — спросил старик, не открывая глаз. — Вы, может быть, думаете, что про бога Библии, про Творца? Про Демиурга?
— А про какого же? — удивился Илья. — Их что, было несколько?
Кассовский рассмеялся. Он продолжал сидеть с закрытыми глазами, чуть покачиваясь в кресле, как молятся евреи. Затем Кассовский открыл глаза и посмотрел на Илью.
— Возьмите сыр, — посоветовал Кассовский. — Хорошо с вином.
Илья кивнул: больше не было смысла сопротивляться.
— Слушайте, — Кассовский подался к Илье, — здесь одно из тех мест в Писании, где говорится не про бога Библии, Демиурга. Здесь говорится про истинного бога — Бога Света. Прабога..
Илья кивнул. Он начинал понимать, куда Кассовский его ведёт.
— Бог Света, Прабог, которого наш друг Ам Баке зовёт Гаан Гаду — Большой Бог, не был Богом-Творцом, — сказал Кассовский. — Он был богом энергии и существовал в космосе, Плероме, в окружении малых богов.
— Куманти? — перебил Илья. Кассовский был прав: с сыром вино приобретало другой вкус.
— Их называют по-разному: греки звали их «архоны», древние евреи «нефилим», а в Уатта-Водун их называют «Куманти». Иногда их называют «ангелы».
Кассовский замолчал. У него была странная манера делать паузы там, где люди слушают внимательнее всего. Илья уже понял, что Кассовский излагает гностическую концепцию возникновения мира, но при чём тут оборотни? Он решительно ничего не помнил про оборотней в гносисе.
— Я знаю, — сказал Илья. — В Плероме — космическом вакууме — всё было энергией, материи же не было вообще. Там также были пнеумы, наши исконные сущности, наш дух. Пнеумы, как и всё вокруг, были чистой энергией. Они были всегда.
— Именно, — согласился Кассовский; он был рад, что Илья знаком с гносисом. — Всегда. Просто искорки света, часть космоса. Часть самого Прабога. Но когда Демиург, Творец, создал материальный мир, он предложил пнеумам материю, плоть, — продолжал Кассовский. — Он, Создатель, ложный бог, предложил им выбор: остаться искорками света в Плероме или обрести новое существование в материальном мире. Стать людьми. Испытать новое. Понимаете? Просто испытать новое. Об этом и есть библейская история об изгнании из рая, из Плеромы. Он — Творец — их обманул. Или сам не знал, что случится.
— А что случилось? — спросил Илья.
Кассовский отпил вина. Помолчал.
— Многие согласились, соблазнённые новыми ощущениями, которые дают временность и смертность. Расплатой за это была утрата знания о том, кто они на самом деле. Чем больше пнеум выбирали материю, тем больше увеличивалась плотность мира, и постепенно пнеумы перестали помнить, кто они. Мы забыли, кто мы. И откуда.
Он снова сделал паузу. Илья уже привык к его манере говорить. Мотыльки обжигались о лампу, но продолжали лететь на свет.
— Энергия — лёгкая, — каким-то пустым, потерянным голосом сказал Кассовский. — Понимаете, лёгкая. А материя очень тяжёлая. Очень плотная.
— Ну и что? — спросил Илья. Он потерял нить рассуждений Кассовского, но чувствовал, что объяснение близко. Он огляделся, не появился ли мастиф; того нигде не было.
— А то, — сказал старик, — что в начале времён, пока материальный мир был ещё не так плотен, архоны — малые боги, ангелы — могли спускаться к нам и общаться с людьми, включая секс. То есть не секс в материальном, плотском понимании, а энергетическое оплодотворение. Вот отсюда и память о том, как боги стали брать в жёны дочерей человеческих. Помните античные мифы? Все герои — дети богов. Как и в Торе. Вот это о чём. Помните непорочное зачатие? Вот это о чём.
— А почему они перестали? Куда они подевались?
— А-а. — Кассовский допил вино. — Это-то и есть главное: чем больше количество материи, тем она энергетически тяжелее. Чем больше становилось людей — плоти, тем плотнее становился материальный мир. Затем плотность мира стала так велика, что энергетические существа — боги — или умерли, как бы задохнулись среди этой плотности, или предпочли прекратить общение с миром. Просто ушли и оставили нас одних, среди нашей тяжести. Но также они оставили на земле своих наследников, в которых живут их пнеумы. Как гены на материальном уровне.
Илья молчал. Он никогда не представлял себе всё это так буквально. «Неужели правда? Неужели я действительно?..» Он взглянул на Кассовского.
Кассовский смотрел на него в упор. Он хотел, чтобы Илья осознал важность того, что сейчас будет произнесено.
— Эти люди — наследники богов, или нэнсеке, — сказал наконец Кассовский, — люди особой энергетической конфигурации. В таком человеке как бы живут две пнеумы: одна — его собственная, а вторая — божественная искра, которая всегда готова к возвращению в Плерому. Которая — помнит. Поэтому маги видят их как двойное существо. Из двух энергетических сфер.
Кассовский откинулся назад. Он снова сделал паузу. Илья не хотел её прерывать.
— Вот вам и оборотни, — странно безразличным, пустым голосом сказал Кассовский. — Вот вам и оборотни.
Было неподвижно в ночной тиши сада. Даже цикады молчали, словно прислушиваясь к их беседе.
«Есть логика, — подумал Илья. — Если это правда, понятно, почему царские династии обычно оправдывали право на престол своим божественным происхождением. Понятны античные мифы. Понятно непорочное зачатие». Сейчас, однако, его интересовало другое.
— А как можно вернуться в Плерому, если вспомнить свою сущность? Это что, буквальное возвращение?
Кассовский поморщился. Темнота вокруг перестала быть лиловой, проступил сиреневый свет, и было ясно: сейчас — сразу — наступит утро.
— Рано об этом. — Кассовский встал с кресла. Он говорил не в своей обычной книжной манере — полными фразами, а отрывисто, ломаным языком: — Это когда будем о хаосе. Это тогда, а теперь рано. Сейчас важно помнить: пнеумы, в каждом из нас, должны вернуться домой, в Плерому. Должны вспомнить, кто они. Кто мы и откуда. А материя мешает. Слишком плотная. Слишком много плоти.
Илья тоже встал. Он пытался ощутить свою материальность как отдельное от себя качество, но не мог. Это было несколько стыдно. Его божественность не хотела себя проявлять. Ему было и так хорошо.
— А где Адри? — спросил Илья. Он думал, что сейчас Кассовскому всё равно и тот скажет правду. Что скрывать, когда мир так плотен.
— Адри? — Кассовский улыбнулся и стал собой, прежним. Светский, интеллигентный старик. Илья навидался таких среди профессоров в Колумбийском университете.
— Адри вернулась к себе домой, — сказал Кассовский. Он был готов рассказать Илье всё, всё, что тот хотел слышать.
— В Нью-Йорк? — Самолёт завтра, и он сможет её увидеть, из аэропорта сразу поехать к ней. Радость заполнила Илью тёплым, ровным чувством.
— Почему в Нью-Йорк? — удивился Кассовский. — Квартира на Линкольн Сквер — моя квартира. А Адри уехала к себе домой, в Сипалвини.
Кассовский посмотрел, понимает ли его Илья. Тот не понимал.
— Это на юге Суринама, — пояснил Кассовский. — Далеко на юге. Правда далеко.
— Ну и что. — Илья попытался сказать это как можно твёрже. — Я её всё равно найду.
Кассовский улыбнулся, не снисходительно, а радостно, как бы одобряя Илью. Он посмотрел на ленту у Ильи в руках.
— Завтрак в девять. — Кассовский повернулся, чтобы идти. — В девять. — Он вздохнул: — А можно и попозже.
ПАРАМАРИБО 11
В TO УТРО Хасьенда зажила старой жизнью.
В доме снова появились тихие женщины в тёмно-синих передниках, которые что-то мыли, скребли и натирали. Было слышно, как в саду работают люди. В дом вернулись звуки. Илья шёл к себе в спальню сквозь привычную, приглушённую активность большого места, о котором нужно постоянно заботиться. Он потрогал дверные ручки всех спален, так, на всякий случай; двери были всё ещё заперты.
В его комнату кто-то заходил и навёл порядок: на кровати лежали свежие полотенца, и одежда, вынутая им вечером из сумки, была аккуратно сложена на тёмном комоде. На подушке его ждала книга с закладкой. Илья взял книгу и прочёл английское название: «Республика Суринам: история и география страны». Он открыл книгу на заложенном месте. Это была глава о Сипалвини.
Сипалвини, прочёл Илья, самая большая провинция Суринама. Больше, чем остальные девять провинций вместе. Провинция была создана специально, чтобы объединить все не используемые страной земли на юге. Там даже не было административной столицы. Там вообще ничего не было, кроме джунглей, через которые текли длинные реки. Да ещё горы, горы, горы.
В Сипалвини, на территории в 130 567 квадратных километров, жило меньше чем 30 000 человек. Илья посчитал: i человек на 4,4 квадратных километра. Или 0,3 человека на квадратный километр. Как ни считай, получалось, что Адри ему не найти.
Илья посмотрел на книгу: Кассовский ещё раз показал, что он на шаг впереди. А может, и не на один. Илья лёг на кровать, закрыл глаза и стал думать об Адри.
Мысли мешались с тем, что ему ночью рассказывал Кассовский. Если Адри беременна его ребёнком, значит, в ней теперь тоже живёт божественная пнеума, думал Илья. Ему стало интересно, что бы Кассовский сказал по этому поводу. По его логике, Адри не должна была рожать, поскольку это лишь увеличивало количество плоти, количество материи в мире. Надо уточнить, решил Илья. Он стряхнул с себя навязчивый круговорот мыслей и пошёл умываться перед завтраком.
Keuken Terras была пуста, он пришёл первым. Сначала Илья испугался, что Кассовский снова уехал и бросил его наедине со всеми так и незаданными вопросами, но, увидев на столе три прибора, успокоился. Кто третий? Надежда как тошнота поднялась из желудка к горлу. Он знал, что это не Адри, но надеялся всё одно.
Кухарка была та же самая, что и при Рутгелтах, худая тихая женщина с вечной жёлтой креольской повязкой на голове. Её звали Алоизия, и— Илья этого не знал — она добавляла ему в еду кислые травы ирдэни, что заставляют мужчину терять память о прошлых вещах. Её никто не просил это делать; Алоизия сама решила, что так будет лучше для Адри: ведь своих мужчин она предпочитала без памяти.
По вечерам, у себя в комнате, где тревожно пахло гиацинтами, Алоизия раскладывала на большой деревянной доске длинные мешочки куриных кишок и подолгу смотрела на них, пытаясь понять, почему на ней никто не хочет жениться. Часто в первую треть ночи к ней в дверь стучались мужчины, что днём работали в саду. Алоизия никому не отказывала, ничего не требуя взамен и не спрашивая имён.
По воскресеньям она всегда ходила в церковь.
Кассовский появился скоро, одетый в голубую льняную рубашку с длинными рукавами и длинные белые брюки, тоже льняные. Рукава рубашки были закатаны, и Кассовский выглядел моложе, чем ночью. Его борода была аккуратно подбрита, и от него пахло тонким сладким одеколоном. Он был босиком. Илья, которого женщина из Нью-Джерси научила разбираться в таких вещах, понимал, что кажущаяся небрежность, с которой одет Кассовский, стоит больших денег. Сам Илья был в тех же старых шортах, что ночью принёс старик.
Он пожалел, что даже не надел майку.
Алоизия выкатила на террасу большую деревянную тележку с фруктами, свежими соками в стеклянных кувшинах и кучей всего.
Илья был голоден, но медлил брать еду: он ожидал, что появится кто-то ещё, для кого поставлен третий прибор. Кассовский, однако, налил себе кофе и, ничего не сказав, набрал полную тарелку крупно нарезанных кусков папайи и манго. Илья решил не спрашивать, не показывать интерес — он не хотел выглядеть слабым — и принялся за сладкие, похожие на длинные чёрные кабачки, фрукты, названия которых он не знал. У фруктов был вкус клубники с лимоном. Илье нравилось, что их можно нарезать круглыми ломтями и есть как арбуз.
Алоизия налила Илье жидкую горячую овсянку в круглую белую чашку без ручек. Она пододвинула к нему блюдце с горьким имбирным мёдом и ушла с террасы.
Кассовский сидел молча, не притрагиваясь ни к чему на своей тарелке. Он пил густой чёрный кофе и вертел в пальцах травку, которой Алоизия декорировала тарелку с сырами. Иногда Кассовский нюхал травку и закрывал глаза, словно погружаясь в воспоминания, принесённые этим запахом. Изредка он откусывал от мохнатого зелёного кончика и долго жевал.
Скоро пошёл дождь.
Они сидели молча, не тяготясь друг другом, и каждый был в своей жизни. Дождь звенел по навесу, каждая капля отдельно, словно ксилофон. Вдруг Кассовский рассмеялся. Илья посмотрел ему в лицо, ожидая объяснений. Кассовский улыбнулся.
— Знаете, Илья, — он любил начинать фразы с обращений к собеседнику, — я вспомнил, что когда я появился в Суринаме сорок лет назад, тоже шли дожди. И вы приехали в сезон дождей. Интересно.
Ничего особенно интересного Илья в этом не находил. Интересно было другое, и об этом Илья хотел знать:
— А как вы вообще здесь очутились? Вы же американец.
Кассовский покачал головой:
— Не придумывайте себе никаких категорий. Я — не американец, не суринамец, не белый, и, — он помолчал, — даже уже и не еврей. Я — это я, и в настоящий момент меня зовут Оскар Кассовский. А вы — это вы; не старайтесь группировать людей по внешним признакам, не имеющим смысла: вы только ещё больше запутаетесь. Вам кажется, что так легче, а на самом деле деление на группы только отвлекает от главного, от сути.
— Почему? — не понял Илья. — От чего отвлекает?
— От сути, — медленно, как для не очень смышленого ребёнка повторил Кассовский. — Каждый раз, когда вы видите человека, сколько времени, сколько усилий, сколько энергии вы тратите на отнесение его к разным категориям?! Зачем эта бессмысленная работа, что отнимает столько времени и сил?
— Не понимаю. — Илья действительно не понимал. — Какие категории?
Кассовский развеселился. Он махнул рукой в сторону кухни.
— Например, вы видите Алоизию. Посмотрите, сколько лишней работы проделывает ваш мозг. Он идентифицирует Алоизию как: а) женщину, б) негритянку, в) средних лет, г) суринамку, и прочие никому не нужные вещи, которые вы о ней знаете или предполагаете.
Когда вы видите меня, вы думаете: «Мужчина, белый, старый, американец», и уж не знаю, что ещё вы обо мне думаете. И это каждый раз, со всеми людьми. Со всеми миллионами людей, которых вы встречаете в жизни. На улицах, в магазинах, везде. Вы тратите время и силы на автоматическое определение, классификацию всех этих людей. Зачем?
— He знаю. — Илья никогда об этом не думал. — Подсознательно, должно быть.
— Ерунда. — Кассовский пожевал травку. Дождь принёс из сада голоса людей, и они растаяли в молчании, заполнившем террасу. Кассовский вздохнул. — Ничего подсознательного здесь нет. Нас просто с детства приучили так делать. А это отвлекает от того, чтобы вспомнить, узнать свою суть. Важно не то, что вы мужчина или женщина, белый или чёрный, а кем вы были до того, как всем этим стали. И как это вернуть. Вот что важно.
— А кем вы были до того, как попали сюда? — Илья решил не отступать. — И как вы здесь очутились?
Алоизия вышла на террасу убрать посуду. Она составила всё ненужное на тележку и снова ушла. Неиспользованный, третий прибор она, однако, не тронула, и он остался на столе между ними как незаданный вопрос. Илья посмотрел на Кассовского, ожидая, что тот объяснится. Кассовский не заметил его взгляда. Он жевал травку.
Затем Кассовский заговорил:
— Моя семья — из радзинских хасидов.
Он посмотрел на Илью, понимает ли тот, и, посмотрев, решил объяснить.
— Радзинские хасиды — это отдельная хасидская община из Радзина Подласского, маленького городка в Польше. Они отличаются от других хасидов тем, что красят одну из восьми нитей в каждой кисти таллескотна специальной синей краской. Дело в том, что секрет изготовления этой краски — тхейлет — утрачен более двух тысяч лет назад. Её приготовляют из особого моллюска хилозон, и секрет этот заново открыл лишь в конце девятнадцатого века раби Гершон-Ханох из Радзина. Мы с ним родственники по материнской линии.
Они погрузились в одну из обычных двухминутных пауз, которыми Кассовский так любил прерывать беседу. Дождь усилился, и уже нельзя было различить отдельные капли; в воздухе стоял слитный гул воды.
— Кстати, радзинские хасиды — не единственные, кто приняли рецепт раби Гершон-Ханоха, — вдруг громко сказал Кассовский. Он вызывающе взглянул на Илью: — Ижбицкие хасиды тоже им пользуются.
Он посмотрел, не будет ли Илья спорить. Илья кивнул: он ничего об этом не знал, и ему было всё равно. Он хотел, чтобы Кассовский говорил о другом.
— Я родился в Радзине, но помню его плохо, — продолжал Кассовский. — Позже, когда я увидел картины Шагала, я решил, что это и есть Радзин Подласский, что таким он и должен быть. Так что мой Радзин — это Витебск Шагала. Я взял его родину и сделал её своей.
Они помолчали. Илья ждал.
— В тридцать девятом, перед войной, отец успел отправить меня, младшего из пяти детей, к своему брату в Нью-Йорк. Мне было шесть, и я только помню, что ехал с чужой семьёй, тоже хасиды, но не из Радзина. Мы плыли из Гданьска до Копенгагена, оттуда до Амстердама, а потом в Нью-Йорк. На корабле я потерялся, зашёл в чужую каюту. Там стоял красный диван и висело зеркало. В нашей каюте были лишь две узкие кровати — одна над другой, и одеяла на полу, где спали дети. Я сел на этот красный диван и решил не возвращаться. Но меня нашли, отвели к чужим хасидам, не радзинским, и так я доплыл до Нью-Йорка. — Он улыбнулся Илье: — Так я стал американцем.
Илья слушал. Он пытался представить Кассовского маленьким хасидским мальчиком: с пейсами, в чёрном сюртуке и штрамл — высокой меховой шляпе польских хасидов, но у него плохо получалось. Кассовский, сидящий перед ним в своей дорогой льняной одежде, со своими книгами, своей манерой говорить, был слишком светским, слишком универсальным. Его трудно было отнести к какой-либо узкой категории. Кассовский мог быть кем угодно — и был.
— Я хотел стать раввином, — снова заговорил Кассовский. — Когда перед бар-мицвой наш раби Исхак спросил меня, что я буду делать со своей жизнью, я знал ответ: я буду раввином, как вы, раби Исхак. И все будут приходить ко мне за советом. Я женюсь на Хане, своей двоюродной сестре, и буду жить в Бруклине, в Боро-Парк. Раби Исхак был доволен. Он дал мне конфеты, горсть карамели и две шоколадные. — Кассовский замолчал; казалось, он слушает дождь. Он не глядел на Илью. — Половину карамели я отдал Хане, — сказал Кассовский. Он снова посмотрел на Илью: — А шоколадные съел сам. Обе.
Он ожидал от Ильи реакции. Илья кивнул; он понимал, что для Кассовского это всё ещё было важно.
— И что, — решился прервать молчание Илья, — вы стали раввином? Вы — раввин?
Кассовский посмотрел на него без улыбки.
Этот взгляд был не такой страшный, как ночью, но какой-то неуютный, и хотелось отвести глаза.
— В каком-то смысле, — засмеялся Кассовский, — в каком-то смысле я раввин.
— В каком? — не отставал Илья. — К вам приходят за советом? Вы живёте в Боро-Парк?
Кассовский задумался. Он вдруг стал старше, и его лицо сделалось худее, чем секунду назад.
— В том смысле, что я женился на Хане, — сказал Кассовский. — Но живу я не в Боро-Парк.
Боро-Парк был район Бруклина, где селились ортодоксальные евреи — хайредим, и хасиды, в основном из Польши и Литвы. Илья проезжал его на машине несколько раз и хорошо помнил фигуры мужчин в чёрных сюртуках и белых рубашках и женщин в платках с кучей детей разного возраста. Илья ещё раз попытался представить себе Кассовского среди хасидов и не смог.
— Вы ходили в таких узких брюках, заправленных в носки? — спросил Илья. — Вы были таким?
— Нет, — сказал Кассовский, — эти носки, хойзн-зох, носят только хасиды общины Гер. Я такие не носил. Я был обыкновенным хасидом, но одна из восьми нитей в каждой кисти моего таллескотна была выкрашена синей краской тхейлет: ведь я был из Радзина. Я был из Радзина, куда никто не вернулся после войны, их всех отправили в Собибор. Никто, ни один человек. Все радзинские хасиды погибли в Собиборе, Лагерь № 3.
Он улыбнулся.
— Знаете, — сказал Кассовский, — там, в Лагере № 3, были большие железные ворота с шестиконечной звездой. Ворота были украшены искусственными цветами. Евреев, всех вместе — женщин, детей, мужчин, — гнали к воротам голыми, между двумя рядами колючей проволоки. Они думали, что их ведут в душ, так им говорил обершарфюрер Херман Михель, который всегда надевал белый халат, чтобы они думали, что он доктор. Прямо за воротами был спуск в газовые камеры, которые выглядели как душевые. Дверь закрывали, и украинец Эмиль Костенко включал мотор. Потом другие евреи, которых ещё не отравили, вынимали тела и сжигали их в печах крематория. Но перед этим они должны были заглянуть каждому трупу в рот — вдруг там золотые коронки.
Он замолчал. Алоизия возилась на кухне. Дождь ровным гулом лил в мокром саду. Было хорошо от дождя.
— Я учился в ешиве до самой женитьбы на Хане. Мне было девятнадцать, ей двадцать два. Хана была некрасивая, с каким-то кривым ртом и глазами разного цвета. У неё, впрочем, был удивительный голос, и мы с ней всегда говорили по-английски, чтобы родители не понимали. Дядя Рувим говорил только на идиш.
Это и решило мою судьбу. Когда я женился, мне сказали, что у семьи нет денег, никто не может ждать, пока я стану раввином. Нужно работать. Хасиды тогда только начинали открывать ювелирные магазины на Манхэттене, и туда нужны были люди, говорящие по-английски. Друг дяди, реб Шломо, тоже из Радзина, отвёз меня в магазин, и я получил работу. Я должен был встречать покупателей-гойим, не евреев, и говорить с ними по-английски. У нас были низкие цены и дешёвые бриллианты, поэтому к нам шли. Бриллианты привозил молодой хасид из Антверпена; всю войну он выдавал себя за фламандца. Постепенно он начал повышать цены, и наш хозяин, грустный горбун, решил, что нам надо начать самим покупать бриллианты напрямую у тех, кто их добывает. Где, мы не знали.
Мы говорили с ним часами, вырабатывая разные планы: он собирался послать меня в Антверпен, Амстердам, Лондон, но не было гарантии, что там мы сможем купить камни дешевле, чем в Нью-Йорке. Нужно было искать место, где их добывают. Мы, конечно, знали про Африку и Де Бирс, но было понятно, что Де Бирс не будет нам ничего продавать напрямую: они работали только с большими оптовыми покупателями, которые потом продавали малые партии розничным торговцам, как мы.
В конце концов я пошёл в Нью-Йоркскую публичную библиотеку на 5-й Авеню и стал читать. Я привык искать информацию и её анализировать, я постоянно делал это в ешиве. Мне нужно было найти, где, кроме Африки, добывают алмазы и где их можно покупать по разумной цене. Через два дня я нашёл, что искал: Гайана, Южная Америка.
Кассовский отпил кофе и поморщился: кофе был холодный. Он отставил чашку и продолжал:
— Бриллианты делятся не только по размеру, но также на цветные и бесцветные. Камни из Гайаны были небольшими, от o,i карата до трёх каратов, но цветные гайанские бриллианты светились редчайшим ярким ультрамарином, цветом моря. Таких больше не было нигде.
Я узнал, что промышленной добычи в стране не существует, лишь отдельные партии вдоль рек, в отдалённых районах.
Кассовский снова замолк. Дождь неожиданно перестал, как выключили. Сад осветился оранжевым светом и заблестел. Как цветные бриллианты, подумал Илья.
— Это был наш шанс, — сказал Кассовский. — Близко к дому, в Южной Америке, слабая конкуренция и население, говорящее по-английски.
Что могло быть лучше, проще, вернее? Нужно было ехать в Джорджтаун, найти местных скупщиков и договориться о поставках. Наш план был следующим: мы будем скупать все бесцветные камни больше 0,5 карата и все цветные от 0,1 карата. Математика простая: в стране тогда официально добывали около пятидесяти тысяч каратов в год, а неофициально в два раза больше. Мы хотели покупать одну треть всей добычи, тридцать тысяч каратов, в среднем по сорок долларов за карат. Набавьте расходы на путешествия и обработку, ещё десять долларов. Итого, наша себестоимость должна была не превышать пятидесяти долларов за карат. Розничные цены в Нью-Йорке в то время были приблизительно около семидесяти долларов, что означало более двух миллионов чистой прибыли в год. Мой хозяин предложил мне треть, и я сказал «нет». Я хотел половину. Он подумал и предложил мне сорок процентов. Я подумал и согласился.
Кассовский пожевал травку. Он был сейчас далеко. Илья не хотел его тревожить. Илья лишь хотел знать, для кого третий прибор.
— И что, — спросил Илья, — вы поехали в Гайану, скупили бриллианты и разбогатели? А потом переехали в Суринам?
Кассовский согласно покачал головой.
— Почти, — сказал Кассовский. — Почти так всё и было.
«Сейчас хороший момент спросить, для кого третий прибор, — подумал Илья. — И про Рутгелтов, кто они на самом деле».
Он стал обдумывать, как лучше начать разговор, но Кассовский уже продолжал:
— Когда я добрался до Джорджтауна — на корабле, через все Карибы, с недельной остановкой на Тринидаде, — я был болен. Я был болен от впечатлений. Всё вокруг было слишком: слишком синее море, слишком буйная зелень, слишком жаркое солнце и слишком чёрные люди. В портах нас ждали женщины всех оттенков. Многие из них приходили вместе с детьми, которых было некуда деть, и дети играли у трапа, пока мать поднималась на корабль, чтобы продать себя за несколько долларов. Я был хасидский мальчик из Боро-Парк, который только что женился на своей некрасивой двоюродной сестре, и секс между нами напоминал игру в песочнице. Я лежал у себя в жаркой, душной каюте, которую делил с двумя канадскими инженерами, и пытался представить, что происходит в других каютах, куда заходят женщины.
Кассовский опять замолчал.
— Кроме того, — как-то обиженно сказал Кассовский, — было невозможно достать кошерную пищу. Евреев на корабле не было ни одного, то есть только один, я. В конце концов я решил, что в путешествии разрешено нарушать кашрут, и стал есть всё.
Наш план был установить отношения с местными хасидами и договориться, чтобы они скупали для нас камни. В первый же день я выяснил, что в Джорджтауне нет синагоги.
И нет евреев. Люди вокруг говорили на странном языке, который вроде бы был английским и не был. Поначалу я ничего не мог понять: их речь была похожа на песню, душистую, тягучую и долгую, как тропический день. Я был чужим, в чужом месте, среди чужих.
Кассовский посмотрел на Илью. Илья ждал.
Он решил ничего не спрашивать: пусть всё расскажет сам.
— Понимаете, — улыбнулся Кассовский, — на самом деле я был не из Нью-Йорка, самого большого города в мире, где живут люди отовсюду. Я был из Боро-Парк и до семнадцати лет ни разу не бывал на Манхэттене. Ни разу. Никогда. Всю жизнь я провёл среди одних и тех же людей, говорящих на одном и том же языке. И об одном и том же. Среди людей, которые одинаково выглядели, одинаково ели и одинаково думали. Всю жизнь я жил в гетто, где наибольшим различием было, хасид ты или ортодоксальный еврей, и следуешь ли ты Раби Шломо из Бельцов или Раби Менахему из Винницы. И оттуда я попал в тропики, где ничто не было похоже на Бруклин. И мне нужно было вернуться домой с бриллиантами.
Я обдумал новый план. Я пошёл в большой ювелирный магазин на Риджент Стрит, недалеко от Стаброек Маркет, и спросил, где они берут бриллианты. Магазином владел старый индиец из Калькутты. Всеми ювелирными магазинами в Гайане владели индийцы, которые или там родились, или приехали из Индии. Индийцы не хотели мне ничего рассказывать. Я обошёл все магазины, но везде говорили одно и то же: камни привозят покнокерс, добытчики. У каждого был свой поставщик, и никто не хотел делиться информацией. Они были правы: я мог предложить более высокие цены и подорвать их бизнес. Я был опасностью. Но сам я это ещё не понимал.
Было ясно другое: чтобы купить камни до того, как они уйдут в индийские магазины, нужно ехать в джунгли и найти там покнокерс. Это я и решил сделать. Я знал, что алмазы в Гайане добывают вдоль рек, самые крупные встречались в районе Массива Рораима, вдоль границы с Венесуэлой. И я решил ехать.
Удивительно, но Илья знал про Рораима: в детстве он читал «Затерянный мир» Конан Дойла, где в предисловии было написано, что подобные изолированные плато встречаются только в Гайане, в районе Массива Рораима. Динозавров там не было, хотя, допускали авторы предисловия, там могут водиться странные животные и расти странные растения. Эволюция в этих местах остановилась миллионы лет назад, и с тех пор жизнь текла изолированно, как в Боро-Парк. Кроме затерянных плато, где росли растения, что не росли нигде больше, и водились животные, которых нигде больше не было, там, в реках и ручьях, лежали цветные алмазы, за которыми и отправился хасидский юноша Оскар Кассовский. Он доехал-таки из Радзина Подласского до Массива Рораима.
Рамчаран, владелец магазина на Риджент Стрит, наконец согласился познакомить его со своим поставщиком. За услугу он попросил два процента от всех камней с первых трёх партий. Кассовский согласился и скоро на открытом грузовике поехал в маленький городок Бартика, чтобы оттуда отплыть в лодке на юг. Его вёз Ллойд, весёлый красный индеец из племени патамуна, который работал на Рамчарана. С ними ехал ещё один индеец: ему было по пути. Кассовский сидел под навесом грузовика в своём хасидском костюме и глядел на джунгли по сторонам. Он ждал бриллиантов и думал, как вернётся в Нью-Йорк. Он вспоминал про Хану, лишь когда ел.
Их маршрут был прост: доплыть по Мазаруни Ривер до большого речного порта Иссано и там скупить алмазы у покнокерс, которые приносят камни с юга, от Пакараима Маунтэн. Эта гора была частью Массива Рораима, и вокруг текли миллионы рек и речушек, в чьих красных водах таились голубые алмазы. Если камней будет мало, сказал Ллойд, они могут спуститься чуть ниже и устроить скупку в одном из торговых посёлков, куда покнокерс приходят за рисом и мукой.
Они закупили продукты и отправились вверх по реке. Они плыли по красной воде, день за днём, и ничего не менялось. Иногда — редко — им попадались индейские посёлки, где их никто не ждал. На третий день Кассовский снял пиджак. Ещё через день он снял рубашку и остался в таллескотне. В каждой кисти таллескотна было по одной синей нити, окрашенной специальной краской тхейлет. Краска была приготовлена из моллюска хилозон. Кассовский смотрел в мутную воду реки и думал, водятся ли там эти моллюски. У таллескотна был секретный карман, где он прятал зашитые туда деньги.
Иногда, по утрам, он не сразу мог вспомнить, что он хасид.
Кассовский не понимал, почему они плывут так долго. У него была карта, и по ней выходило, что они уже давно должны быть на месте. На шестой день он спросил Ллойда, и тот ответил, что завтра днём они будут в Иссано. Последние два дня они плыли по маленьким речкам и в двух местах должны были переносить лодку через пороги. Так быстрее, сказал Ллойд. Short-cut.
В тот вечер они остановились на ночлег у пустынного берега; впрочем, посёлков они не видели давно. Обычно Кассовский и Ллойд спали в лодке, а другой индеец, которому было по пути, спал на берегу. У него был гамак, и он спал в гамаке. Кассовский никогда не спал в гамаке. Он вообще никогда не видел гамаки до этой поездки: в Боро-Парк никто не спал в гамаках.
Они легли как всегда, лишь зашло солнце. Кассовский обдумывал цены, по которым он начнёт скупать камни в Иссано. Он надеялся управиться за неделю и вернуться в Джорджтаун. У него уже третий день была дизентерия, и он старался ничего не есть. Он думал, что дизентерия послана ему как наказание за то, что он не соблюдает кашрут. Он хотел помолиться, но было лень. Он решил, что снова начнёт молиться в Иссано. И заснул.
Он проснулся, потому что его куда-то несли. Сначала он думал, ему это снится, но потом Кассовский открыл глаза и осознал, что его несут с лодки на берег. Его несли Ллойд и другой индеец. Они положили Кассовского на землю. Вокруг была ночь.
— Куда мы? — спросил Кассовский.
Ллойд улыбнулся и ударил его коротким деревянным веслом по голове. Второго удара Кассовский не помнил. Внутри ночи наступила ещё одна ночь.
Он лежал на земле до утра, проваливаясь в счастливые сны, где вокруг был Радзин и родители, живые, словно никогда не было Лагеря № з. Других детей, его братьев и сестры, во снах не существовало; он был один, один ребёнок в семье. Он играл во дворе их дома на Коштенице, и их толстая кошка вдруг начала визгливо кричать, как никогда не кричат кошки. Так кричат только бабуины, и они кричали вокруг, возвращая его из неслучившегося детства в гайанские джунгли, потому что уже наступал свет, и утро, и надо жить.
— Когда я очнулся, было почти темно, — продолжал Кассовский. Алоизия принесла два серебряных кофейника со свежим горячим кофе и поставила их на стол. — Лодки не было. Мой пиджак, под которым я спал, тоже пропал. Сумку с вещами они забрали. Я ощупал голову; руки покрылись липким — кровь ещё сочилась, хотя уже и не кровь, а сукровица. Но кипа была на месте.
Кассовский улыбнулся Илье.
— Знаете, — сказал он, — было совершенно не больно. До этого меня никогда не били по голове, меня вообще никогда не били, но было совершенно не больно. Больно стало потом, когда я встал и попытался идти.
Кассовский помыл в реке лицо, руки и постирал кипу. В красной воде крови видно не было, но ниже по течению сразу появились пираньи. Кассовский знал про пираний: Ллойд ловил их на удочку по вечерам и рассказывал про них страшные истории. Пираньи были вкусные; было хорошо их есть и радоваться, что не наоборот.
Он нашёл свою Тору на берегу, раскрытую, переплётом вверх. Рядом, на ветке дерева, к которому вчера была привязана лодка, висели его тефиллин — два кожаных ремешка, прикреплённые к крошечным деревянным коробочкам с текстами Торы; евреи повязывают их на руку и вокруг лба, когда молятся. Бархатный чехол от тефиллин Ллойд забрал. Зато он оставил таллит — четырёхугольную накидку с кистями на углах, которую набрасывают на плечи во время утренней молитвы. Ллойд не взял ничего, что могло иметь отношение к чужим богам: он не хотел с ними ссориться.
Кассовский намотал на левую руку тефиллин, закрепил второй на лбу, накинул таллит, взял в руки Тору и попытался угадать, где восток. Он встал туда лицом и начал молиться, благодаря Бога за избавление от смерти и прося прощения. У него за спиной текла красная река, в которой пираньи ели его кровь, перед ним бессмысленно сплетались лианы, и с неба, через высокие кроны незнакомых ему деревьев, доходил свет раннего солнца тропиков. Кассовский решил, что его простили, и начал разматывать тефиллин.
И только тут он вспомнил про деньги. Таллескотн был на нём, но денег не было: Ллойд вырезал ножом кусок ткани, где они были зашиты.
Из одежды у него остались только брюки, чёрные, тяжёлые, непригодные для джунглей. Обувь тоже забрали, он должен был идти босиком. Он не знал куда.
— Я помнил — где-то читал, что если человек потерялся в лесу, надо держаться воды, — сказал Илье Кассовский. — Вода всегда выведет к жилью. Я только не знал, в какую сторону ближе.
Он пошёл против течения, держась берега красной реки. Он решил не снимать тефиллин — было некуда положить — и оставил их обвязанными вокруг левой руки и на лбу. Он шёл, босиком, с таллитом на плечах, держа в руке Тору. Кассовский был уверен, что продержится максимум до вечера, а потом его кто-нибудь съест.
Он продержался четыре дня, пока не вышел к посёлку. Он боялся рвать плоды, что находил в джунглях, потому что не знал, можно ли их есть. В реке было много рыбы — Ллойд ловил её каждый вечер, но у него не было блесны и крючков. Один раз он попробовал закинуть в реку таллит, как невод, но рыба не хотела заплывать внутрь странной тряпки с кистями. У берега можно было найти мелких крабиков, и Кассовский ложился на живот у воды и ждал, пока они перестанут его бояться. Потом он хватал их, сколько мог, и засовывал в рот вместе с илом и речным песком. Крабики скрипели на зубах, но если съесть несколько горстей, сосущее чувство голода пропадало.
Он старался не думать, что они не кошер. Он вообще не много думал в те дни.
Страх перед джунглями ушёл в первую ночь. Он не мог спать, обмотав голову таллитом, слушая звуки ночи. Он ждал, что его съедят. Он не знал, кто именно, но боялся. Потом он проснулся, и вокруг было почти светло. Вокруг были джунгли, и это было не странно. Надо было идти, и идти, и идти.
Он порезал босые ноги в первый же день о какие-то острые корни. Он никогда раньше не ходил босиком, даже дома. На второй день он понял, что так не дойдёт. Кассовский снял таллескотн, разорвал его надвое и обвязал вокруг ступней, как чехлы. Когда он шёл, кисточки таллескотна болтались у щиколоток.
Таллескотна хватило на два дня. Затем ткань изорвалась в клочья. К тому времени ему уже было всё равно: его лицо распухло от укусов москитов, он плохо видел и плохо ориентировался.
Он не сразу вставал по утрам и долго лежал под высокими деревьями, вспоминая, где он и зачем. Он пил воду, что собиралась на широких мохнатых листьях папоротников. Пить из реки он боялся.
В последний день он шёл мало, часто останавливаясь и засыпая на земле посреди дня. Внутри головы у него горело и гудело, как водопад. Он спал под дождём, больше не прячась от струй воды.
Однажды он видел узкую длинную лодку у другого берега, но не было сил кричать. Он потерял Тору и остался к этому равнодушен. Тефиллин, что был обмотан вокруг левой руки, тоже куда-то делся. Но второй, на голове, с чёрной деревянной коробочкой между глаз, всё ещё держался, и Кассовский иногда его трогал, чтобы проверить, там ли он.
Он больше не молился.
На четвёртый день он вышел к посёлку марунов. Он плохо видел лица людей, но понимал, что они не индейцы. Его окружили, о чём-то спрашивали на чужом языке, но он только повторял:
— Иссано, Иссано.
Потом двое мужчин взяли его на руки и понесли под навес. Его положили на циновку и дали пить. Затем пришёл маленький лысый старик; он посмотрел Кассовскому в лицо и что-то сказал. Кассовский его понял и сразу заснул.
Маруны лечили его много дней, он не знал сколько. Времени больше не было, он постоянно спал и во сне чувствовал, как ему натирают лицо чем-то горьким. Опухоль спала, жар уменьшился, и его начали кормить.
Старик приходил дважды в день, но Кассовский был не уверен, тот же ли это старик или их несколько. Он вообще больше ни в чём не был уверен.
Однажды ночью он проснулся и понял, что здоров. Он мог сам сидеть. Он смог встать и дойти до кустов, куда его носили мочиться. Он стоял у кустов и мочился. Рядом не спали какие-то дети. Кассовский слушал их голоса. Неба не было, лишь кроны деревьев над головой. Он дошёл до своей циновки. Что-то неудобно болталось и било по шее. Кассовский потрогал: это была деревянная коробочка тефиллин.
Утром он попытался узнать, где он и как далеко до Иссано. Никто не знал Иссано. Кассовский показал на реку:
— Мазаруни Ривер. Иссано.
Высокий негр с рваной губой и гребнем в волосах покачал головой:
— Ни, — сказал негр. Он махнул рукой в сторону реки: — Ни Мазаруни. Корентин Ривер. Корентин.
Этого не могло быть. Кассовский помнил карту: Корентин Ривер текла на востоке Гайаны, вдоль границы с соседней страной, Суринам. Она, собственно, и была границей. Она текла на востоке страны, а они плыли по Мазаруни Ривер на юго-запад, к Венесуэле, в противоположную сторону. Кассовский не мог понять, как он здесь очутился. Он махнул рукой по течению и спросил:
— Джорджтаун? Туда?
Никто не ответил. Маруны поговорили между собой, и затем высокий сказал, показывая на реку:
— Корентин Ривер. Корентин.
Это всё, что он смог добиться. Никто не знал, где Джорджтаун. Кассовский взял ветку и нарисовал на земле карту Гайаны. Все собрались вокруг и с интересом смотрели. Он нарисовал Мазаруни Ривер, что текла к венесуэльской границе. Наверху, у океана, он положил камень и сказал:
— Джорджтаун.
Затем он написал это по-английски. Он показал на карту и сказал:
— Гайана.
Маруны шумно заговорили между собой, тыкая пальцами в карту на земле. Они явно о чём-то спорили. Потом высокий махнул рукой, и все замолчали. Он показал на карту и повторил:
— Гайана.
Он обвёл рукой вокруг и сказал:
— Суринам. Суринам. Корентин Ривер.
— Позже, когда я попал в Парамарибо и снова имел возможность посмотреть карту, я понял, что случилось. — Кассовский предложил Илье фрукты, но тот отказался. — Дело в том, что в Бартика, откуда мы отплыли, встречаются две реки: Мазаруни, что течёт на запад, к Венесуэле, и Эссекибо, что течёт на юг, к Бразилии. Ллойд сразу поплыл по Эссекибо, он и не думал отвозить меня в Иссано. А потом они прошли маленькими речками, что соединяют Эссекибо и Корентин. Они перевезли меня в Суринам и бросили там. Убивать не стали: они знали, что я сам никогда не выйду из джунглей живым.
Он остался и жил с марунами, пока не кончились дожди. Он не считал дни. Жизнь была простой и приятной. Боро-Парк был как сон и вспоминался всё реже и реже. Была река, где ловили разную рыбу, были джунгли, куда ходили охотиться на свинок пекари, и был очищенный участок земли рядом с посёлком, где рос батат. Маруны ничего от него не требовали — ни разговоров, ни помощи с рыбалкой. Он окреп и мог залезать на высокие деревья. Маруны с удивлением смотрели, как он туда лез: там не было ничего съедобного.
Иногда они ели обезьян.
Старик был колдун. Он жил посреди посёлка с двумя женщинами, и Кассовский не мог понять, жёны они ему или дочери. Старик ещё долго приносил ему какие-то мелко нарезанные листья и советовал их жевать. Листья были кисловатыми, и Кассовский послушно жевал. Он не чувствовал от листьев никакого эффекта, но не хотел обижать старика.
Несколько раз старик вопросительно указывал на коробочку тефиллин, которую Кассовский теперь постоянно носил на лбу. Кассовский показывал наверх. Старик кивал головой и соглашался. Иногда старик что-то рассказывал Кассовскому и тоже показывал на небо, а потом на реку. Кассовский понимал, что речь идёт о боге. Ему было неинтересно.
Ночью он спал под навесом, завернувшись в свой изорванный в джунглях таллит.
Однажды вечером старик превратился в пуму. Солнце уже почти зашло, и они сидели в джунглях, недалеко от посёлка, куда старик взял его собирать какие-то корни. Старика звали Ва Оджи, и у него не хватало мизинца на левой руке. Было не похоже, чтобы мизинец отрубили или откусили; его просто не было там, где обычно растут мизинцы.
Они собрали корни, и Ва Оджи разжёг огонь внутри пня упавшего от грозы дерева. Пламя ело ствол изнутри, и они долго смотрели, как оно сжигает само себя. Затем старик подложил в огонь несколько кореньев, из тех, что они собрали. Он показал пальцем на коробочку тефиллин на лбу у Кассовского. Кассовский привычно показал наверх.
Старик кивнул и начал что-то петь. Он пел негромко, сидя на корточках и не в такт постукивая ладонями по земле. Затем он повернулся вокруг себя, и на секунду Кассовскому показалось, что на месте Ва Оджи закрутился белый туман. Туман исчез, и Кассовский увидел пуму.
Она была совсем рядом, и он знал, что это Ва Оджи. Хотя сам Ва Оджи никуда не пропал; он тоже был здесь, его просто не было видно.
— Я до сих пор не знаю, как объяснить это ощущение. — Кассовский развёл руками, призывая Илью на помощь. — Старик никуда не исчез, он остался на месте, я знал, что он сидит, где сидел, но его не было видно. Он стал пумой и остался собой, но невидимым. И оба — и он и пума — были настоящие.
Кассовский не знал, сколько времени это продолжалось. Потом он снова увидел Ва Оджи, сидящего рядом с ним на корточках. Тот был мокрый, будто его только что вытащили из воды. Пумы больше не было.
Старик не пел и смотрел на Кассовского без улыбки. Он показал на тефиллин у того на лбу, потом махнул рукой туда, где раньше стояла пума. Он что-то объяснял Кассовскому, и тот наконец понял, что старик хочет.
Он просил, чтобы Кассовский показал ему, на что способен его бог. Что он может делать. Ва Оджи мог превращаться в пуму. Он мог лечить листьями. У него в мешочке из кожи пекари лежали маленькие речные раковины, керри, и они говорили ему, кто чем болен и как нужно лечить. Его боги говорили с ним напрямую и были в его жизни каждый день. Они знали, когда время идти на охоту, а когда лучше остаться дома и выкапывать батат.
Кассовский потрогал тефиллин; Яхве не мог помочь ему охотиться на пекари. Яхве был далеко и занят своими делами. Кассовский вдруг понял, как бесполезен его бог. Он был богом книг, которые написали о нём люди. Он требовал поклонения и веры. Боги Ва Оджи были настоящие боги: они помогали людям добывать пищу и жить.
Кассовский развязал кожаный ремешок, снял со лба тефиллин и протянул старику. Кассовский покачал головой: он ничего не мог, не умел. Его бог был бесполезен.
Старик понял. Он взял тефиллин и попробовал его на ощупь. Его чёрные пальцы гладили чёрное дерево, внутри которого лежали слова ни о чём. Затем Ва Оджи сказал что-то короткое и бросил тефиллин в огонь. Он встал и пошёл прочь, не оглядываясь и не зовя Кассовского следовать за собой.
Кассовский остался у пня. Он смотрел на огонь, пока тот не превратился в серые угли.
Утром старик разбудил Кассовского и повёл к реке, над которой висел сиреневый предрассветный туман. Там их ждала лодка. В ней сидели двое молодых марунов. Они улыбались Кассовскому. Ва Оджи показал на лодку и махнул рукой вниз по течению. Кассовский всё понял. Он не стал спорить и сел на корме. Лодка развернулась и поплыла вниз. Кассовский обернулся, чтобы помахать старику на прощание, но того уже не было на берегу.
Через два дня они приплыли в торговой посёлок, куда раз в неделю приходила большая лодка с товарами. Кассовский сидел на пристани, завёрнутый в таллит, и слушал, как маруны что-то объясняют толстому весёлому креолу.
Креол владел магазином, и в этом магазине — маленькой комнате, заставленной ящиками и мешками, — Кассовский прожил три дня. Креол дал ему майку и старые, отрезанные по колено брюки. Ещё он дал Кассовскому резиновые пляжные тапочки с перепонкой между пальцами. При ходьбе перепонка больно впивалась и мешала идти.
Потом пришла лодка, и его повезли вниз по реке, пересаживая на всё большие и большие суда. Они плыли на север, и Корентин Ривер становилась всё шире и шире.
Одним утром они приплыли в большой порт, и дальше на север не было земли, только вода. Капитан баржи, китаец, показал на воду и сказал:
— Океан. Атлантика.
Порт назывался Ниеюв Никери, Новый Никери. Здесь Кассовского в первый раз допросил полицейский, который дежурил в порту. Полицейский говорил по-голландски, а Кассовский на идише. Полицейский понял, что Кассовский прибыл из Гайаны. Полицейский сказал, что он должен отправить Кассовского в столицу, Парамарибо. Кассовскому было всё равно: его бог ничего не мог для него сделать.
Он прожил в порту неделю, прямо в полицейском участке. Потом пришёл паром, и Кассовского отвезли в Парамарибо.
— Тогда это ещё была голландская колония. — Кассовский дожевал свою травку, и ему было нечего вертеть в пальцах. — Из столичной полиции меня сразу отвезли в американское консульство, где я рассказал, как потерялся, когда путешествовал по Гайане. Никаких особых формальностей тогда не было: у меня просто спросили номер моей социальной карточки и предложили заполнить форму для восстановления паспорта. Консул дал мне денег и посоветовал дешёвую гостиницу. Через день мне выдали временный паспорт, и я мог возвращаться в Нью-Йорк. Я поблагодарил консула, сказал, что зайду завтра, и ушёл. Весь день я бродил по Парамарибо, среди яркой незнакомой толпы, чужой среди чужих, и был счастлив. Я не хотел возвращаться в Боро-Парк к своей бледной, немощной Хане, к Торе, молитвам, чёрным шляпам и словам о далёком боге, который живёт только в книгах. Я хотел остаться здесь и служить другим богам. Я хотел научиться превращаться в пуму.
Он сделал паузу и посмотрел на Илью. Солнце стояло высоко в саду, высушив шарики дождя на листьях. В воздухе висел пар, и пахло терпкими цветами.
— Так я очутился в Парамарибо, — сказал Кассовский. — И до сих пор здесь живу.
Илья кивнул. Он посмотрел Кассовскому прямо в глаза.
— Интересная история. — Илья встал. — Только как, после всего, что со мной тут случилось, я знаю, что это правда? Как я могу вам теперь верить?
Кассовский улыбнулся:
— Никак. Это — правда сейчас. Это — моя история обо мне сейчас. Но это не значит, что завтра или даже сегодня я не расскажу вам о себе совершенно другую историю.
Кассовский тоже поднялся, и они молча стояли рядом, глядя друг другу в глаза.
— Всё, что мы знаем о мире, — сказал Кассовский, — это рассказанные другими истории.
ПАРАМАРИБО 12
ОДНАЖДЫ Илья тонул.
Когда ему было три года, его неожиданно увезли из Москвы в Аше, маленький черкесский аул под Сочи. Врачи нашли у Ильи астму, и было велено менять климат: ему прописали жить у моря.
В Москве стояла поздняя осень — октябрь, и когда после двух суток в поезде Илья вышел на перрон, где светило солнце и росли странные южные деревья, он был ошеломлён обилием света. Мама побыла с ним неделю, а потом оставила на бабушку и вернулась в Москву. Илья не мог понять, почему кто-то может хотеть отсюда уехать.
Они сняли комнату у черкесской семьи с шестью дочерьми. Хозяев звали дядя Ислам и тётя Фатима. Они говорили на странном русском языке, которого Илья до того не слышал: их русский дыбился гортанными кавказскими звуками, как горы вокруг. В саду рос инжир, и Илья был счастлив.
Через пару месяцев Илья уже понимал по-черкесски, а весной стал говорить свободно. Его друзья, Сулейман и Мусса, ходили босиком до конца ноября, и скоро он тоже перестал надевать носки, а потом и обувь. Они бегали по посёлку с большими мохнатыми собаками и искали коз, которые постоянно терялись, и родители посылали детей пригнать коз обратно. По вечерам становилось холодно, но они оставались на улице и играли в темноте, пропитанной терпким дымом, поднимавшимся из труб белевших в ночи домов.
Старшие мальчики ездили в ночное пасти лошадей. Илья тоже хотел с ними, но бабушка его не пускала. Сулейман был большой, ему исполнилось пять, и он ездил с десятилетним братом, сидя на одной лошади. У Ильи не было братьев: он был один ребёнок в семье, и некому было взять его с собой.
Летом в Аше появились туристы. Их называли «дикари» и ждали их приезда. Бабушка стала жаловаться, что цены на фрукты поднялись, но все вокруг были довольны. У них в доме, в комнате, где раньше жили три хозяйские девочки, поселилась семья из Ленинграда. Девочки теперь ночевали в большой комнате, где стоял телевизор. Старшую звали Мадина, и ей только исполнилось пятнадцать.
Местные не купались в море до августа, а иногда не заходили в воду до сентября. Купались туристы. Они лезли в море в любую погоду, и когда накатывала волна, женщины громко визжали и жались к мужчинам. Но из воды не вылезали.
В то лето вода обещала быть тёплой с июня: так сказали старшие мальчики. Они знали о мире всё, и даже когда лучше воровать хурму у дяди Рафата, который никогда не спал и охранял свою хурму, чтобы продать её туристам. Сулейман, Мусса и Илья начали ходить на море пробовать воду.
Чтобы попасть на берег, нужно было перейти железнодорожные пути, что тянулись вдоль всего побережья. Илья приехал по этим путям из Москвы и помнил, как гулко они стучали и откидной столик в купе мелко вторил им в такт. Часто пути были свободны, но иногда там стояли грузовые составы, ожидающие, пока Сочи примет их к разгрузке. Тогда надо было пролезать под составом, и делать это быстро, потому что никто не знал, когда он тронется.
Когда бабушка увидела, как Илья пролезает под составом, она поймала его и долго била, прямо на берегу. Илья кричал, плакал, и люди вокруг старались вмешаться. Бабушка била его молча, стараясь ударить побольнее, а потом начала плакать. Илью, чтоб не убежал, она держала за рукав рубашки, на которой были нарисованы умывающиеся котята. В семье эту рубашку называли «кисочки-мурысочки».
После этого Илье запретили ходить на море без бабушки.
Днём, в жару, бабушка спала. Она закрывала окно их маленькой комнаты, где стояли её кровать и раскладушка Ильи, и ложилась спать в духоте. Солнце не проникало в комнату, но снаружи палило вовсю, и в это время все местные дети шли на море. Илье было нельзя, но он хотел пойти со всеми.
Однажды, когда бабушка уснула, он попросил Мадину взять его с собой. Та согласилась, и они пошли на Санитарный пляж.
На самом деле пляж назывался Санаторный, но местные жители звали его Санитарный, так повелось. Пляж этот не отличался от других ничем, кроме одного: в этом месте в море впадала горная речка Аше. Она врывалась узким потоком, бурля, всё ещё неспокойная после горных порогов, через которые Аше прорывалась к морю. Мальчишки прыгали в реку у самого выхода в море, и струя горной воды выносила их далеко в широкую синеву, метров на двести от берега. Илья ещё никогда это не пробовал.
В тот день Мадина сидела на берегу с солдатом. Никто не знал, как он появился и откуда, но он уже ждал Мадину на пляже, когда они пришли. Мадина и солдат о чём-то смеялись, и она часто била его по голым рукам и плечам, от чего оба смеялись ещё громче. Илья не понимал, что их смешит, и ему было с ними скучно. Сулейман и Мусса ныряли, соревнуясь, кто вытащит самый большой камень со дна, а их старшие братья прыгали в реку, и их несло далеко в море, откуда они приплывали, тяжело дыша и долго отдыхая на берегу. Они громко кричали, когда прыгали, но Мадина на них всё равно не смотрела: она смотрела на солдата и смеялась непонятно о чём.
Илья решил прыгнуть.
Собственно, решения не было: он смотрел, как река несёт неровные кольца воды в море, и вдруг прыгнул. Это случилось само, помимо его воли, он даже не понял, как это произошло.
Он осознал, что сделал, уже в воде.
Поток перевернул его вниз головой и ударил лицом о дно. Было мелко, и Илья видел камни дна близко: они быстро проносились под ним. Иногда он задевал их лицом, но было не больно: Илья не чувствовал боли под водой.
Затем ему стало нечем дышать, и он попытался перевернуться. Вода была сильнее его, она крепко держала Илью, обнимая его маленькое тело плотным кольцом. Словно кто-то очень сильный держал его в руках и не давал вырваться.
Затем Илью снова перевернуло, и он глотнул воздух. Что-то потащило его на дно, но он успел крикнуть, и ещё раз, а затем ушёл под воду. Поток вобрал его в себя и не хотел отпускать. Вода вокруг, ничего, кроме воды, и он сам стал её частью.
Илья чувствовал, что он был водой и это он нёсся внутри моря и становился морем. Он чувствовал, что борьбы уже нет: он просто стал частью этой силы, которая была больше, чем он. Его несло под водой с открытыми глазами, и ему теперь не нужно было дышать. Ему захотелось спать, и он перестал стараться подняться к солнцу, проникавшему в темень воды. Ему стало спокойно.
В последнюю секунду он увидел рядом длинную тень, как большую рыбу, и кто-то больно схватил его за руку. Его вытащили наверх, но он выскользнул и тяжело пошёл на дно; он был очень тяжёлый, тяжелее, чем всегда. Он не понимал, почему ему не дают спать, но тень нырнула за ним, нащупала его голову, затем плечо и больно потащила наверх. Он увидел солнце, вдохнул и закричал. Дышать было больно.
Солдат плыл, загребая одной рукой, а другой держа Илью. Илья смотрел на небо и не понимал: это тоже вода? Затем его вынесли на берег, и плачущая Мадина, и все мальчишки вокруг, и люди, что прибежали с пляжа. Мадина трясла Илью и плакала, а потом бросилась целовать солдата. Тот прыгал на одной ноге, пытаясь попасть в сапог, и говорил с сильным южным акцентом:
— Дурной малой, от дурной.
В слове «малой» он делал ударение на «о».
Сейчас, оставшись на Keuken Terras после того, как Кассовский извинился и ушёл наверх, Илья снова чувствовал, что стал частью потока и уже не его несёт неведомо куда, а он сам несётся — маленькая частица сверкающей массы воды. Как и тогда, в детстве, происходящее с ним было сильнее его, и он не хотел больше бороться: он хотел раствориться в не своей воле и стать её частью. Но тюремная выучка — годы борьбы против чужой силы и своей слабости — не давали это сделать. Он должен был выбраться из потока, и не только; он должен был остановить поток.
Он так и не успел спросить Кассовского, для кого накрыли третий прибор.
Илья решил найти мастифа. Того не было видно уже два дня, и почему-то Илье казалось, что его нужно найти. Ему казалось, что это важно.
Илья бродил по мокрому саду, свистя и крича:
— Гроот! Гро-о-т!
Люди, подрезающие кусты, опрыскивающие деревья чем-то кислым, выравнивающие гравиевые дорожки между линиями высоких цветов, смотрели на него с удивлением и отводили глаза. Илья спрашивал их о собаке, но они лишь качали головами, и их незнание отзывалось в скрипе его шагов по гравию. Илья дошёл до ворот; здесь снова дежурили охранники в камуфляжной форме, словно не было двух дней одиночества и перемены во всём.
Бассейн только закончили чистить, и Илья лёг в тени на деревянный лежак из дорогого тика, покрытый толстым ярко-синим матрасом. Купаться не хотелось. Он понимал, что Кассовский что-то готовит, что у него есть какой-то замысел в отношении Ильи, но не мог даже отдалённо представить себе, что это. Кассовский был кукловод: он дёргал за ниточки, но Илья хорошо знал Адри и не мог поверить, что в мире существует хоть один человек, способный заставить её подчиняться. Он пытался понять источник власти Кассовского над ней и наталкивался на стену непонимания, невозможности, нереальности, и мысли — от бессилия найти ответ — начали расплываться в серую массу обрывков и мешаться, мешаться, мешаться.
Солнце стало клониться к западу — красный шар над мокрой землёй, и всё вокруг притихло, затаилось до вечерней прохлады. Илья заставил себя не заснуть; он встал и пошёл в дом.
Он нашёл Кассовского на Семейной террасе — с книгой в руках, другие три книги рядом, на каменном шершавом полу. Тот пил что-то холодное и, не сказав ни слова, кивнул Илье и продолжил читать. Но Илья не был намерен позволить ему делать вид, что ничего не происходит.
— Я считаю, что пришло время ответов, — сказал Илья громко. Он сел в кресло напротив Кассовского. — Я думаю, мы должны объясниться. Сейчас.
Кассовский поднял глаза. Он вздохнул и с сожалением снял очки. Было видно, что он хотел бы продолжить чтение.
— Илья. — Кассовский замолчал, словно не знал, что сказать дальше. — Будете что-нибудь пить? — Он потянулся к витому шнурку звонка под навесом. Он старался быть хорошим хозяином.
— Не буду. — Илья не узнал свой голос, так твёрдо он то сказал. — Не буду ничего пить.
Кассовский кивнул. Он закрыл книгу и положил её на пол, названием вниз. Илье было интересно, что он читает.
— Я хочу услышать от вас объяснение всему, что здесь происходит, — сказал Илья. — Кто такие люди, выдававшие себя за Рутгелтов, и для чего они это делали. Кто вы такой. Зачем вы заманили меня в Суринам. Что вам от меня нужно. И как со всем этим связана Адри.
Кассовский молчал. Он смотрел Илье в глаза, не отводя взгляда, ожидая, будет ли тот продолжать. Илья тоже ждал.
— Это всё? — спросил Кассовский. — Это все ваши вопросы?
— Нет, — сказал Илья. — Ещё я хочу знать, куда делся мастиф.
Кассовский рассмеялся. Он смеялся искренне, громко, и его бледные глаза смеялись вместе с ним. Кассовский закашлялся от смеха и должен был сесть прямо. Он отпил из своего длинного узкого стакана и посмотрел на Илью.
— Не обижайтесь, — Кассовский кивнул Илье, — я смеюсь от того, как хорошо Адри вас знает. Она меня предупреждала, что, когда вы начнёте наконец задавать вопросы, вас больше всего будут интересовать не тайны, а загадки. Ну, знаете: кто есть кто, кто куда подевался и прочая чепуха. Нет, нет, не думайте, — он увидел в глазах Ильи боль: — Она вас любит. Действительно любит. Просто она вас очень хорошо знает.
Он замолк, и Илье на секунду показалось, будто на террасе стало холодно. Кассовский сидел, не замечая Илью, погруженный в свои мысли о тайнах, мысли, где не было места загадкам. Потом он поднял глаза.
— Да и все мы вас любим, — улыбнулся Кассовский. — Правда.
— Кто — вы? — Нельзя было дать себя запутать. — Кто вы все?
— Все, кого вы здесь встретили. Те, кого вы знали как Рутгелтов. Я, Ома… — Кассовский замолчал. — Ома — нет. Она вас не любит. Но она вообще мало кого любит. — Он посмотрел на Илью очень серьёзно. — Ома, пожалуй, единственная, кто вас здесь не любила. Она единственная, кто не желала вам добра.
Илья был ошеломлён. Ома? Ома?! Старая добрая бабушка Ома с её глупым зонтиком, с её круглой утячьей походкой и желанием всех накормить? Ома, над которой посмеивалась вся семья? Его вдруг резануло: да ведь они вовсе и не семья. Почему я продолжаю так о них думать?
— За что Ома меня не любила? — спросил он Кассовского. — У меня создалось другое впечатление. Она всегда… — Илья не знал, что сказать.
— Вас кормила? — подсказал Кассовский. — Вам улыбалась? Звала вас de jongen van Audrey — «Адрин мальчик»?
Он всё знал. Он всё знал. Он знал всё, что здесь происходило все эти дни. Илья кивнул.
— Смотрите. — Кассовский был снова серьёзен. — Как легко вас отвлечь. Вот я сказал, что Ома вас не любит, и вы сразу отвлеклись, забыли, о чём спрашивали. Что вам Ома? Вы не видели её прежде и, возможно, никогда больше не увидите. Но тот факт, что она вас не любит, заставил вас забыть обо всех остальных вопросах, которые вы так тщательно готовили. Отчего так?
Илья пожал плечами. Он не знал.
— Так и мир, — сказал Кассовский, — так и мир. Весь мир выстроен так, чтобы отвлечь нас от главного, от сути. Всё, что мне нужно было, чтобы зацепить ваше внимание на ненужных вещах, это попросить Алоизию поставить на стол лишний прибор и запереть собаку в гараже на два дня. Вы смотрели на этот прибор всё время, пока мы завтракали, и ждали, ждали. Так просто. Подумайте же теперь, сколько уловок у Демиурга, вашего бога, когда он — она, оно? — расставляет свои ловушки. Любовь, власть, деньги, наслаждение, знание — всё это игры Демиурга, ложные важности, чтобы отвлечь нас от осознания, кто мы на самом деле. И что мы должны, обязаны сделать, чтобы вернуться и снова стать чистой энергией. Назад, в Плерому.
Кассовский посмотрел в свой стакан. Тот был пуст; лишь обтаявшие кубики льда и долька апельсина на дне.
— Илья, — он произносил его имя чисто, с мягким «л», как говорят русские, — вас ждут вопросы более серьёзные, чем где прячется моя собака и кто такие мои друзья, представившиеся вам Рутгелтами. Или зачем они это сделали. Вам никто не желает зла, и сейчас для вас это более чем достаточно знать. Адри вас любит. — Кассовский замолчал; он смотрел куда-то мимо Ильи, потом вздохнул и встретил его глаза. — Хотя с Адри, по правде, всё не так уж и просто.
Он взглянул на Илью, ожидая вопроса. Илья молчал.
— Слушайте. — Кассовский положил очки в футляр. — Сейчас вы должны быть со мной. Вы мне нужны в одиночестве, без Адри, без других, только вы и я. Мне нужно ваше внимание. Мне нужно, чтобы вы не отвлекались. Понимаете?
— Для чего? — Илья сказал это как можно более лениво. — Что вам от меня нужно?
Кассовский засмеялся. Он был доволен.
— Вы хитрый. — Казалось, он радовался хитрости Ильи. — Вы всё ещё думаете о своих ненужных вопросах. Как получить от меня ответы. И не понимаете, что я вам уже ответил. Ответил, что можно было ответить сейчас. Остальное — узнаете потом.
— Когда? — Илья старался казаться спокойным. — Я завтра улетаю.
— Потом. — Кассовский собрал свои книги с пола. Он на секунду задумался, затем посмотрел на Илью и улыбнулся: — Послезавтра.
ПАРАМАРИБО 13
ПОСЛЕЗАВТРА? Значит, Адри в Нью-Йорке, и он её там увидит, и всё снова станет ясно, понятно и по-прежнему? Так просто? Илья взглянул на Кассовского и решил прекратить расспросы: всё равно тот не скажет больше, чем скажет. И скажет это, когда захочет.
Кассовский тем временем предложил показать Илье окрестности города.
— А то уедете и не увидите Суринам. — Футляр с очками почти соскользнул со стопки книг у него в руках, но в последний момент Кассовский успел его поймать. — Я знаю, Парамарибо вы уже видели, но, поверьте, здесь и вокруг есть что посмотреть. Сядем на катер и съездим вверх по реке. И поговорим обо всём, наконец.
Он ушёл, оставив Илью на террасе.
«Интересно, — подумал Илья, — он тоже не ест днём. Как Рутгелты». Илья понимал, что неправильно думать об этих людях как Рутгелтах, но ему нужно было для них коллективное имя. Ему нужно было как-то их называть.
Адри была отдельно. Даже когда он думал, что они одна семья, он всё равно думал о них как о Рутгелтах и Адри. Ему хотелось знать, что не «так просто» с Адри и связано ли это с её беременностью. И знает ли об этом Кассовский. Наверное, знает. Судя по всему, у Адри не было от него секретов. Илья надеялся, что когда-нибудь — послезавтра — он будет знать объяснение всему, всем загадкам. А там уж недалеко и до тайн.
У фонтана — вместо «тойоты» — снова стоял «ренджровер». Дези кивнул Илье, словно они недавно расстались, и завёл мотор. Всё было как при Рутгелтах. Илья уселся на заднее сиденье рядом с Кассовским, и они поехали от дома, скребя колёсами по гравию.
Была вторая половина дня: свет уже казался более хрупким, и тени вокруг — длинные, тонкие, готовые расплыться, чтоб стать ничем в тропических сумерках.
Илья хорошо знал эту пристань: он уже не раз здесь бывал. Катер — тот самый, на котором Рутгелты возили его к водопаду, — стоял зачехлённый, и Дези начал возиться с мотором, пока Илья и Кассовский снимали брезент.
У выхода из порта им пришлось остановиться, чтобы пропустить жёлтую баржу с рядами бочек вдоль обоих бортов. На барже играла креольская музыка, и толстая чёрная женщина на палубе долго махала им платком.
Илья сидел впереди, ближе к носу, а Кассовский на корме рядом с Дези. Илья ждал, что Кассовский пересядет поближе, чтобы разговаривать. Кассовский смотрел на воду и, казалось, видел там что-то, что заставляло его молчать.
Постепенно река стала шире, с обеих сторон начались притоки. Там, где меньшие речки вливались в главную воду, обычно стоял посёлок. Они начали держаться ближе к западному берегу реки, и Илья уже решил, что они должны пристать к одному из посёлков, когда Дези неожиданно повернул катер в какой-то приток.
Они оставили главную реку и плыли теперь по её рукаву, который был уже, и вода в нём, казалось, течёт быстрее, словно хочет убежать от безлюдья своих берегов. Они обогнули длинный мыс, где новая река сужалась, и вышли в широкую воду.
Здесь, метрах в ста вверх по течению, посреди реки их ждал гидросамолёт.
Самолёт был хрупкий, с огромным пропеллером на носу. Он был выкрашен в жёлтый цвет с синими полосами по бокам фюзеляжа. У самолёта были белые крылья, с двумя поперечными синими полосками. Ближе к хвосту Илья мог разглядеть написанный красной краской номер — R-349. Он посмотрел на Кассовского. — Не волнуйтесь. — Они уже подплыли совсем близко и теперь огибали самолёт с левой стороны, где из открытой кабины спускалась лестница. — Это надёжный. DHC-3. — Кассовский встал на корме и вытянул руку, чтобы зацепиться за перила. — А если что, мы всегда дотянем до воды.
Он кивнул молодому креолу в овальном проёме. Креол улыбался. Кассовский полез по лестнице в кабину. Затем он скрылся внутри самолёта. Илья посмотрел на Дези. Тот держал катер на нейтральной скорости, что позволяло ему маневрировать около лестницы. Илья чувствовал, что их сносит течением на самолёт.
Он встал и взялся за поручни.
Внутри самолёта было узко и темно, словно в короткой широкой трубе. Сидений было два: одно для пилота, другое прямо за ним. Кассовский сидел на полу, на каком-то ящике. Он указал Илье на мешки рядом с собой и сказал креолу что-то на голландском. Тот потянул дверь на себя, и она захлопнулась со странным звуком, словно лопнула большая шина. Креол сел в пилотское кресло и включил мотор. Илья увидел удаляющуюся корму катера в мутноватое стекло иллюминатора. Казалось, стекло имеет увеличительный эффект.
— Куда мы? — повернулся он к Кассовскому.
Тот устраивался поудобнее, подложив под себя какие-то мягкие вещи.
— На юг, куда же ещё? — удивился Кассовский. — Только на юг.
Илья понимал, что сейчас происходит что-то очень важное: это было видно по нарочитой лёгкости, с которой себя вёл Кассовский. Что-то самое важное из всего, что пока случилось.
— А мы успеем вернуться домой к ужину? — спросил Илья.
— Нет, — сказал Кассовский. — Возвращаться мы не будем.
Он смотрел Илье в глаза и не старался их отвести. Он смотрел серьёзно, без смешинки в зрачках. Илья начал понимать, что происходит.
— У меня завтра самолёт. — Он хотел услышать объяснение Кассовского. — Мне завтра лететь.
— Так вы уже летите, — сказал Кассовский. Он показал рукой вниз, словно хотел, чтобы Илья в этом сам убедился.
Они и вправду были в воздухе, держась на юго-запад. Серая блестящая река скрылась из виду, и под ними зелёным густились джунгли, сколько хватало глаза. Далеко впереди клубился дым: там были горы.
Илья посмотрел на Кассовского. Он не сердился, он просто хотел, чтобы тот объяснился.
— Почему? — спросил Илья. — Почему вы не хотите меня отпустить?
— Слушайте. — Кассовский подложил под спину мешок с парашютом и откинулся назад. — Мне рассказывали, будто вы всё время страдали, жаловались, что живёте не свою жизнь. Так вот, теперь вы живёте свою. Она у вас такая.
Он ждал реакции. Илья не мог понять, откуда он всё это знает. Откуда он вообще знает про него столько вещей. Кассовский знал вещи, которые Илья не рассказывал даже Адри. Откуда?
Самолёт покачивался, вибрировал, когда его било ветром в бока. Было страшно. Пару раз они теряли высоту, не удержавшись в потоке воздуха. Никакой воды под ними не было: лишь тёмная зелень внизу.
— Что такое вы? — вдруг спросил Кассовский. — Сумма всех ваших переживаний и воспоминаний? Что отличает вас, Илью Кессаля, от других? Что вы и что не вы?
— Пожалуй. — Илья обдумал слова Кассовского перед тем, как ответить. — Сумма опыта, которая уникальна у каждого.
— Представьте, — Кассовский подался вперёд, — что кто-то стёр все ваши воспоминания. Чистый лист. Это всё ещё вы или кто-то другой? Убил он этим актом вас, Илью, или нет?
Илья задумался. Было сложно ответить.
С одной стороны, если не было воспоминаний о прошлом опыте, памяти о себе, то не было и себя. С другой стороны, он как ёмкость нового опыта оставался, готовый принять его в себя, и, стало быть, жил. Но оставался ли он при этом Ильёй Кессалем или становился кем-то другим, кем-то, кто будет сформирован новым опытом новой жизни?
Он объяснил Кассовскому свои сомнения.
— Вот видите, — Кассовский устроился поудобнее, — вы как вы — это просто канва, на которую наносится опыт переживаний, ощущений, чувствований. Вы одновременно и сумма этого опыта, и стержень, на котором он оседает. Уничтожь опыт — стержень останется, готовый принять новую сумму переживаний, которые сформируют новую личность. Но сам стержень — дух — так же важен, как и то, что на него нанизывается в ходе проживания.
— А что может убить дух? — спросил Илья. Он хотел знать, говорит ли Кассовский о бессмертии.
Кассовский удивлённо посмотрел на Илью. Он покачал головой. Казалось, он был расстроен.
— Когда смерть приходит к животному, животное умирает. А когда смерть приходит к человеку, в нём умирает только животное.
Пилот повернулся к ним и что-то сказал. Он показал рукой вниз. Илья посмотрел в иллюминатор: под ними, сколько было видно, вырастали огромные зубцы синих гор.
— Наш дух, пнеума ускользает, — продолжал Кассовский. — Но не полностью, не совсем. Наш дух может вернуться в Плерому, откуда Демиург заманил нас в мир, только если при жизни мы осознали кто мы, вспомнили кем были до материи. Если же этого не произошло, пнеума недостаточно легка, чтобы покинуть материальный мир, и она возвращается в материю, в плоть.
И материя множится, и мир становится всё тяжелее, и круг перерождений цепко держит нас в этом тяжёлом мире. Какие-то отдалённые воспоминания, проблески живут в каждом из нас; мы стремимся обратно, верим в бесполезных богов из написанных нами самими книг, но не можем, не можем сократить расстояние между Прабогом и собой. Понимаете? Все религии — это попытки сократить это расстояние. Религии возникли потому, что люди осознали: рядом больше нет Бога.
— А магия? — Илье казалось, он понимал, что Кассовский хочет ему объяснить. — Вы считаете, что магия сохраняет эту связь? Как ваш друг-марун, который превращался в пуму? Как Ам Баке?
Кассовский поморщился.
— Слушайте. — Он наклонился к Илье, стараясь перекрыть шум мотора. — Я выучил свой урок о магии — заняло годы — и надеялся, что вы выучили свой, когда поняли, что нужно выйти из защитного круга. Магия — это не о близости к богу. Магия — как наука. Цель науки — использовать материю, заставить её покориться.
Цель магии — использовать энергию, чтобы обеспечить свои потребности в миру, в материи. В магии нет ничего мистического, потустороннего. Это очень практичная вещь. Набор практик на самом деле. Вы правы: магия сохраняет связь с Плеромой, с миром энергии, но не ставит себе задачу покинуть этот, материальный, мир. Наоборот, она использует тот мир для этого, энергию для материи.
Он помолчал.
— А материю надо разрушить, — вдруг тоненько сказал Кассовский. — Разрушить. Только тогда у духа не будет пути назад.
Они снижались. Самолёт сделал круг и ещё один. Илья посмотрел вниз: под ними темнела река. Самолёт сделал ещё один круг, уже ниже, и полетел над водой, снижаясь всё больше и больше. Наконец они коснулись воды — нежно, легко — и помчались по реке против течения, постепенно гася скорость. Затем самолёт остановился, они развернулись, и пилот направил машину к берегу.
Их никто не встречал.
Вокруг были джунгли, и слева открывалась большая заводь, к которой почти отвесно спускалась гора. Они подплыли к берегу, и пилот выключил мотор. Он что-то сказал Кассовскому и посмотрел на часы. Кассовский повернулся к Илье:
— Пойдёмте на берег, разомнёмся.
Они спрыгнули в тёплую воду — здесь было по пояс — и зашагали к берегу, неся гамаки в высоко поднятых руках. Наступали сумерки, и джунгли уже подёрнулись синей тьмой. Илья выбрался на песчаный берег первым и сел на ствол таинственного упавшего дерева подождать Кассовского.
Тот сел рядом, и они смотрели, как самолёт заскользил вдоль реки, потом оторвался и скрылся из виду. Быстро темнело.
— Смотрите. — Кассовский показал на кружащихся у воды маленьких прозрачных стрекоз со слюдяными крыльями. — Это подёнки. Они рождаются, чтобы прожить лишь один день — отложить личинки. Всего день. У них даже нет ротового отверстия, они не могут есть. Всё, для чего они приходят в мир, это отложить личинки, умножить материю. Они парят, танцуют, кружатся, откладывают личинки и умирают. Всё в один день. — Он помолчал. — Даже рта у них нет.
Он посмотрел на Илью:
— И вы так хотите? Быть подёнкой?
— Ладно, — Илья ковырнул носком песок, — у нас-то с вами есть рты. Что мы будем здесь есть?
— А мы не будем, — сказал Кассовский.
КОППЕНАМЕ РИВЕР 1
СУРИНАМ — речная страна. Дороги кончаются у Брокопондо, в ста тридцати километрах к югу от столицы. Дальше — только джунгли, и ничего больше; только джунгли, объединённые в провинцию Сипалвини. Добраться с одного места до другого можно лишь реками, и то не всюду: вода течёт с гор, и каменные пороги пытаются остановить её нагромождением глыб и застрявших в них колоссальных стволов деревьев. Вся жизнь юга течёт по речным водам: на север, на север, на север.
Река, на которой они проснулись в то утро, называлась Коппенаме Ривер. Она текла сверху, с горного массива Вилхемина, становясь всё шире и спокойнее. Коппенаме Ривер была, собственно, соединением трёх рек: Левой Коппенаме, Правой Коппенаме и Средней Коппенаме. Они объединялись в единую воду чуть выше водопада Тонкенс, стремясь на север, чтобы влиться в илистое прибрежье Атлантики.
Илья проснулся от ощущения, будто в привычный утренний шум джунглей — крики птиц, визг обезьян и беззвучие реки — вклинился странный, чужой рокот. Он лежал с закрытыми глазами, слушая далёкое стрекотание, что становилось всё ближе, ближе. Он лежал с закрытыми глазами и знал: к ним шла лодка.
Они свернули гамаки, и Илья пошёл умыться к реке. Вода, красная, мутная, была чуть прозрачнее у берега. Маленькие рыбы бросились врассыпную, когда он вошёл в реку, но затем вернулись и начали кружить у его ног. Кассовский умываться не стал.
Их забирал молодой индеец. Он всё время улыбался. Илья присмотрелся и понял, что впечатление это возникает от того, что его нижняя челюсть выдвинута много дальше верхней. Можно было видеть его жёлтые нижние зубы.
Он постоянно жевал верхнюю губу. Он выглядел как дебил.
Индеец поздоровался с Ильёй первым, пожав ему руку, и затем начал что-то объяснять Кассовскому на странно звучащем посреди джунглей голландском, показывая на синюю гору вниз по течению. Кассовский выслушал, ничего не сказал и пошёл к лодке. Илья взял свой гамак и отправился за ним.
Индеец развернул лодку, и они поплыли меж гор, что сдавливали реку с обеих сторон. Вчера Илья их не заметил: когда они прилетели, уже темнело и горы сливались с вечерним воздухом и полутьмой джунглей вокруг. Сейчас же, в тонком утреннем свете, где ещё не было теней, горы виделись во всей резкости их рельефа — как на картинках из детской книжки. Илье казалось, что они могут упасть в реку.
Они плыли к синей горе.
Воздух вокруг тоже был синий, утренний воздух воды. Солнце лишь начало свой путь по синему небу, и синяя темь джунглей густилась вдоль речных берегов. Они плыли по странному синему миру, и лишь вода, что скользила вдоль бортов лодки, была мутно-красной. Солнце — всё ещё бледно-оранжевый диск — поднялось выше, и прозрачный свет утра наполнился его жаром. Словно солнце впитывало в себя красный цвет реки и становилось всё ярче, яростнее. Илья начал жалеть, что на лодке нет тента.
Они плыли молча — Илья на носу, Кассовский на корме рядом с индейцем. Илья не хотел больше допытываться, выспрашивать, куда и зачем они плывут. Им владело ощущение сложившейся судьбы, где он часть, а не чужое, как было раньше, — всегда, много лет после детства. Он был частью красной реки, тёмных джунглей, ломкого утреннего света, и большие, невиданные ранее птицы кружились над быстрой водой. Он понимал движение воды, и сам был водой, и знал, что далеко в джунглях уже проснулись ягуары и начали медленный путь к реке.
Птицы в небе гортанно кричали, объявляя наступление нового мира. Джунгли неожиданно посветлели: в них проникло солнце. Воздух стал ощутимо плотнее от красного света, и мелкая мошкара роилась у тесно поросших берегов. День окончательно утвердился на этой земле, и их лодку несло вниз по реке, вслед за солнцем.
Илья первым увидел дым. По крайней мере, если его спутники и заметили дым раньше, то ничего не сказали. Они уже плыли несколько часов, и синяя гора впереди становилась всё больше, вреднее в деталях, но никак не ближе. Дым поднимался с левого берега, над неровной кромкой высоких джунглей, и было трудно поверить, что там люди. Индеец что-то сказал Кассовскому, тот кивнул, и Илья почувствовал, как лодка изменила курс.
Теперь они держались слева от середины реки. Скоро Илья мог разглядеть посёлок и людей у воды. Индеец повернул лодку к берегу, и они пошли поперёк течения. Их болтало так сильно, что Илье приходилось держаться за борт.
Люди на берегу были индейцы. Их красные лица блестели в дыму большого костра, у которого они ждали лодку. Вокруг бегали собаки и коренастые голые дети. Когда лодка подошла ближе к берегу, Илья заметил, что все стоявшие у костра были мужчины. Женщины остались у маленьких домов на сваях, где они делали что-то нужное, лишь изредка поглядывая на реку.
Солнце уже высоко встало в небе, и воздух начал подёргиваться мутной плёнкой от его жара.
На берегу дном вверх лежали пироги из коры больших деревьев. Сзади пироги были открыты, словно взяли кусок коры и сложили его в длину, как бумажный самолётик, только без крыльев. Илья понял, что если вода зальётся в пирогу сзади, она тут же должна вылиться обратно, потому что там осадка ниже: ведь на корме стоит рулевой с шестом. Он никогда раньше не видел такие лодки вблизи.
На одной из пирог верхом сидела девочка лет тринадцати. На ней было короткое белое платье на пуговицах спереди, как халат. Илья мог видеть, что под платьем ничего нет. Когда их глаза встретились, она улыбнулась. Девочка сказала что-то протяжное и показала на один из домов на сваях. Там толпились люди. Кассовского нигде не было видно. Илья пошёл к дому.
Индейцы расступились, пропуская Илью. Кассовский сидел на круглом обрубке дерева у крыльца. Перед ним на земле лежал маленький мальчик. Кассовский держал мальчика за руку, считая пульс. Илья протиснулся ближе, и ему стало слышно, как мальчик тонко хрипит, и дыхание вырывалось из его губ капельками жёлтой жидкости, оседая вокруг рта грязной пеной. Кассовский поднял голову и увидел Илью. Илье показалось, что тот его не узнал.
Кассовский встал и что-то сказал на голландском парню, который их привёз. Парня звали Хенк. Он кивнул и начал переводить.
Хенк в основном обращался к индейцу со странно высохшим лицом; тот сидел на корточках рядом с мальчиком. Индеец слушал молча, не перебивая и не задавая вопросов. Затем он поднял мальчика на руки и понёс к лодке.
Илья догнал Кассовского у самой воды.
Тот рассеянно взглянул на Илью и покачал головой.
— Малярия, — сказал Кассовский. — Плохое дело.
— Куда мы его повезём? — спросил Илья. — В Парамарибо? Может быть, лучше вызвать самолёт?
Кассовский покачал головой.
— Илья, — сказал Кассовский, — мы в джунглях, в Суринаме. Здесь нет телефонов. Здесь нельзя набрать 911. Здесь вы сами по себе. Вы и река.
Они посмотрели, как индейцы укладывают мальчика на корме. Тот, что его нёс, с высохшим лицом, должно быть, отец, сел на дно лодки рядом с ребёнком.
— Ничего. — Кассовский повернулся к Илье. — Тут неподалёку живёт доктор. На моторке дойдём часа за три. А на пироге больше дня пути. Здесь, хоть и по течению, а вода не быстрая.
Кассовский повернулся к обступившим их индейцам и начал что-то медленно говорить по-голландски. Через каждые две фразы он делал паузы, давая Хенку возможность перевести свои гортанные голландские слова на протяжный аравак.
Одна из тощих собак, что кружились у потушенного костра, вдруг начала лаять, заглушая Кассовского. Старый индеец, опиравшийся на большую сучковатую палку, шикнул на неё, и она отскочила прямо в горячие угли и визгливо взвыла от боли. Кассовский замолчал. Из-за собачьего воя его не было слышно.
Старик шикнул на собаку ещё раз и махнул в её сторону палкой, чтобы прогнать. Та, от боли безразличная к страху перед человеком, истошно выла и, наоборот, жалась к людям. Старик коротко размахнулся и ударил её палкой по голове. Собака тонко взвизгнула и упала на живот, уткнувшись носом в землю. Её череп раскололся, и было видно, что там внутри. Собака дёрнулась и вытянулась в струну. Над ней сразу стали кружиться мухи.
Старик свистнул мальчишек, играющих в воде, и, показав на собаку, что-то сказал. Двое младших, голые и блестящие, как начищенная медь, вылезли, взяли собаку за лапы и понесли в реку. Они положили её на воду и толкнули вниз по течению. Вода подхватила четвероногий труп и понесла вниз. Илья смотрел, как он плывёт, чуть покачиваясь, становясь всё меньше и ненужнее.
На земле, где раньше лежала собака, теперь была маленькая жёлто-ржавая лужица, над которой роились мухи. К лужице с трёх сторон ровными струйками текли рыжие муравьи.
Кассовский закончил говорить, пожал двум ближним индейцам руки и пошёл к лодке.
Илья им кивнул, стараясь не смотреть на старика с палкой, и повернулся к воде.
Хенк оттолкнул лодку от берега, запрыгнул на корму и включил мотор. Лодка медленно заскользила по воде, и голые индейские мальчишки плыли за ней, стараясь догнать и крича что-то в синий воздух реки. Скоро они отстали, и посёлок начал расплываться среди общего безразличия джунглей. Лодка набрала ход и пошла всё быстрее посреди красной воды.
Илья повернулся и только теперь заметил индейскую девочку в белом платье, сидящую на дне лодки рядом с Кассовским. Тот что-то тихо говорил ей по-голландски, и она улыбалась ему, как раньше улыбалась Илье. В левой руке она держала резиновые пляжные тапочки с перепонкой посредине.
Девочка почувствовала взгляд Ильи и встретила его глаза. Казалось, у неё нет зрачков. Кассовский заметил, что она перестала слушать, и повернулся посмотреть, на что она отвлеклась. Он сказал Илье:
— Это Дилли, знакомьтесь. Дилли, dit is Ilya. Zeg: «Hello».
— Hello, — сказала Дилли. Она внимательно смотрела на Илью, вернее, куда-то мимо него. Потом Дилли что-то спросила Кассовского. Тот кивнул.
Дилли засмеялась и неожиданно, зачерпнув воду за бортом раскрытой ладонью, плеснула ею на Илью. Кассовский тоже рассмеялся. Отец больного мальчика, дремавший на корме рядом с сыном, поднял голову посмотреть, что случилось.
— А почему она с нами в лодке? — спросил Илья. — Зачем?
Кассовский перестал смеяться. Он удивлённо посмотрел на Илью.
— Что значит «зачем»? — сказал Кассовский. — Мы за ней сюда и ехали.
КОППЕНАМЕ РИВЕР 2
ТОТ год был его первый год в Нью-Йорке, первая осень после первого липкого нью-йоркского лета. Город стал остывать, и влажность постепенно осела в Гудзон, очистив воздух от капелек влаги, смешанных с запахами бензина и гниющего мусора. Город вымыло летними ливнями, и холодный канадский ветер, как всегда в конце августа, принёс прохладу и избавление. Можно было больше не включать кондиционер каждую ночь. Илья, впрочем, не включал его и раньше: у него не было кондиционера.
В тот день он заблудился в Бронксе. Он сел на поезд № 2 и не сошёл вовремя, на Манхэттене. Поезд пересёк Гарлем Ривер, и тут Илья понял, что он в неправильном месте: его река была Гудзон, и здесь она не текла.
Он вышел на Проспект Авеню и стал ждать поезда обратно. Он был единственный белый на перроне, но Илью это мало беспокоило: он жил в Нью-Йорке лишь несколько месяцев и пока плохо разбирался в тонкостях здешних расовых отношений. После тюрьмы он вообще мало чего боялся.
Поезд в нужную сторону не приходил, ни второй, ни пятый, и Илья решил найти такси.
Он тогда не знал, что такси не дежурят у станций метро в Южном Бронксе. Ему предстояло многое выучить о жизни в этом городе, который позже стал ему дорог, как никакой другой.
Был день, середина дня, но люди никуда не спешили. В Южном Бронксе вообще мало кто спешил. Чуть поодаль стояла группа чёрных подростков в широких штанах и ненужно тёплых куртках. Они оглядели Илью с интересом, но, посовещавшись, решили не связываться: он был белый и смотрел на них без страха. В Южном Бронксе в те годы это означало, что Илья или переодетый полицейский, или продавец наркотиков, который пришёл свести счёты с кем-то из местных. И то и другое могло окончиться стрельбой. На самом деле Илья просто искал такси.
Он не сразу заметил старика, вернее, вообще не заметил, пока тот не подошёл к нему совсем близко. Старик стоял рядом с лестницей, ведущей в метро, и продавал что-то ненужное.
Потом, всякий раз, когда Илья пытался вспомнить, что это было, он не мог. Он помнил, знал точно, что старик стоял там не просто так, а чем-то торговал, но никак не мог вспомнить чем. Через годы, когда он стал думать про старика, он вспомнил и ящик, на котором тот держал свой мелкий товар, но не мог, не умел вспомнить, что это было. Это оказалось единственным, что Илья не помнил из их встречи.
Старик был латинос, морщинистый и весёлый. Он подошёл к Илье и засмеялся. Затем старик быстро заговорил на рокочущем испанском. Иногда он смеялся и трогал Илью за рукав, как бы проверяя, действительно ли тот стоит там, где стоит. Илья там и стоял. Он надеялся, что скоро приедет такси.
Старик осознал, что Илья его не понимает.
Он заговорил медленнее, иногда тыкая в Илью пальцем. Илью старик не интересовал; он просто хотел оттуда уехать. Он спросил по-английски, знает ли старик, где можно найти машину. Старик обрадовался, что Илья с ним разговаривает, и снова зарокотал. Он часто произносил узкие слова с длинным «р».
Такси не было, и Илья решил спуститься в метро. Старик не пытался его задержать и какое-то время молча шёл рядом, иногда трогая Илью рукой. Не сойдя вниз и до половины, старик отстал, вдруг перестал быть там, где был. Илья не обратил на это внимание: он искал монеты и не мог найти.
Он забыл старика сразу, в ту же секунду и не вспоминал о нём до того разговора с Антоном. Прошло более трёх лет с сентябрьского дня в Южном Бронксе, и мир вокруг был другим, потому что другим стал Илья. Нью-Йорк не таил больше секретов, как в первые годы, и его жизнь перестала быть просмотром бесконечного фильма о загранице.
Он больше не был зрителем в этом месте: Илья уверенно жил в едином ритме со стуком колёс вагонов метро: быстрее, быстрее, быстрее.
Теперь у него в квартире стоял кондиционер.
В тот день они сидели в кафе в Сохо — поздний бранч — и говорили о невозможности мира быть, как он видится. Оба склонялись к тому, что за этим прячется нечто тайное, сокрытое от непосвящённых. Нужно было проникнуть за завесу повседневного, открытого, явного.
— Наше незнание — от привычки видеть то, что нас научили видеть, — говорил Антон. — Но иногда нам даётся помощь, и Сила, — он произнёс это слово с большой буквы, — пытается указать путь. Открыть глаза. Помочь увидеть. Если мы ещё способны увидеть.
Он отпил остывший чай и посмотрел на Илью. В зелёных глазах Антона отражался жёлтый свет лампы у них над головой. Илье вдруг стало холодно. Он не сразу понял, что творится, просто вокруг стало очень холодно. Антон смотрел на Илью, словно ожидая чего-то, но не слов.
И тут Илья понял: старик из Бронкса. Он понял — сразу, как прыжок в воду, — что пропустил посланника силы, кого-то с той стороны. Холод, чувство утраты — как после смерти любимой собаки — заполнили его, и он встал со стула. Антон смотрел на него без удивления, словно ожидал нечто подобное.
Позже Илья старался много раз вспомнить всё о той встрече. У него выработалась целая процедура, последовательность воспоминаний. Он начинал с перрона метро на Проспект Авеню, и как он поднимался по выщербленной каменной лестнице на улицу, и стая мальчишек из гетто; их короткие стрижки, их голоса, их плевки на асфальт. Илья хорошо помнил лицо старика: сеть морщин на смуглой коже и его длинную полуседую чёлку.
У старика были большие весёлые глаза странного жёлтого цвета. Он помнил его одежду — тёмную куртку на молнии и грязно-светлые брюки, помнил всё, каждую деталь, надеясь, что это поможет понять главное: о чём говорил старик. Илья думал, что это и есть главное. Он думал, что старик приходил что-то ему сказать. Мир для Ильи был словами и объясним лишь сквозь слова.
Одного Илья не мог вспомнить: чем старик торговал. Он видел перевёрнутый ящик, но никак не мог увидеть, что на нём лежит. Каждый раз, когда Илья пытался разглядеть этот мелкий товар, взгляд его памяти — как объектив камеры — шёл дальше, и что-то совсем другое оказывалось в его поле зрения. Илья никак не мог вернуться обратно и посмотреть, что лежит на ящике.
Антон считал, что это и было главным.
В этом и было задание, ключ, путь туда и отсюда: увидеть, чем торговал старик.
— Концентрируйся только на этом, — советовал Антон. — Забудь всё остальное: пытайся увидеть, что на ящике. Попроси, чтобы тебе это приснилось.
Илья пытался и просил. Он ничего не видел, и старик никогда ему не снился. В путешествиях памяти предметы на ящике ускользали, и Илья возвращался в предметную реальность, где было лишь то, что видно. Скрытое оставалось скрытым, ожидая, пока Илья сможет его распознать.
Сейчас, в их быстрой лодке на Коппенаме Ривер, Илья смотрел на Дилли, которая, позабыв о нём, снова погрузилась в тихую голландскую речь Кассовского, и знал, что её появление для него так же важно, как и старик из Бронкса. Илья понимал — в груди, не через слова, — важно даже не то, что она появилась, а другое, что случилось тогда же. Что-то, что он не увидел, не заметил и потом никогда не сможет вспомнить.
Он просмотрел внутри себя их встречу на берегу, как она сидела верхом на перевёрнутой пироге, и вдруг понял, что там, рядом, было что-то ещё, что-то тёмное. Илья оглядел лодку в надежде это найти. Нет, в лодке были лишь люди да мелкая вода под решёткой на дне.
Илья знал, что Кассовский не прав: они ехали сюда не за Дилли. Они ехали, чтобы Илья увидел то тёмное рядом. А он это пропустил.
Он никогда не узнает, чем торговал старик.
Мальчик застонал во сне, и его отец с высохшим лицом, на котором не было ни жалости, ни ожиданий, заново намочил тряпку в убегавшей за бортом реке и положил сыну на лоб. Мальчик трудно дышал, и Илья подумал, что его нужно положить повыше, что-то подложить под него, но не знал, как объяснить это без слов. Он нашёл свёрнутый гамак под своей скамейкой и протянул индейцу, показав, что гамак нужно подложить под спину. Индеец смотрел мимо Ильи и, казалось, не видел его. Илья поглядел на гамак в своей протянутой руке, подумал и вернул его под скамейку.
Индеец не хотел ссориться с бородатым. Бородатый был оборотень, опиа, и ссориться с ним не имело смысла. Надо было делать вид, что его просто нет, и тогда беда не случится. Он сталкивался с опиа и раньше и помнил, что, когда сам был маленький — меньше, чем его умиравший рядом сын, — такой оборотень часто сидел у поваленного дерева посреди их посёлка по вечерам. Все мальчишки знали, что с опиа нельзя заговаривать и даже смотреть на него нельзя. Оборотень иногда играл сам с собой в камешки. Он был тихий и никому не мешал.
Однажды один из старших, Чакетэ, поднял откатившийся в сторону камешек; на следующий день он онемел и ходил по посёлку, никого не узнавая, безнадёжно тихий и равнодушный к жизни вокруг. Чакетэ бродил по речному берегу, зажав камешек в кулаке, — он даже спал вместе с ним и что-то искал, но не мог найти. Внутри него теперь медленно ворочалось большое зелёное, и оно росло в Чакетэ быстрее, чем рос он сам. Вскоре он пропал, не вернулся из леса, и опиа ушёл вместе с ним. Мать Чакетэ надеялась, что им там хорошо.
Синяя гора, что раньше никак не хотела приближаться, вдруг оказалась совсем рядом; река изогнулась, и они повернули, следуя её изгибу. Илья почувствовал, как лодка изменила курс: они теперь держались ближе к левому берегу. Скоро стало видно залив по правому борту.
Джунгли здесь были вырублены, и на берегу, чуть поодаль от воды, стоял длинный одноэтажный дом. Дом был окружён диким садом, и в глубине проглядывались другие постройки. Посреди залива была выстроена деревянная пристань, у которой с обеих сторон качались лодки. Среди них было много пирог.
Хенк повернул лодку носом в залив и под широким углом пошёл к пристани. На деревянном помосте их ждали двое индейцев. Они пришвартовались, и индейцы сразу забрали мальчика, положив его на развёрнутую широкую тряпку. Отец шёл сзади. У конца мостков он обернулся и что-то сказал Кассовскому. Дилли засмеялась и в притворном испуге закрыла лицо руками. Илья понял, что сказанное было о ней.
— Здесь живёт ваш доктор? — Илья не знал, сразу ли они поплывут дальше или останутся здесь на какое-то время. Спросить прямо он не решался.
Воздух начинал сереть: скоро вечер. Он вспомнил, что сейчас, в это самое время, должен был прилететь домой, в Нью-Йорк. Сейчас, в это самое время, Илья должен был ехать из Кеннеди на такси по Трайборо Бридж, пересекая реку из Квинса на Манхэттен. Илья посмотрел вокруг: тёмные, предночные джунгли и странный дом у совсем другой реки. Мысль о Нью-Йорке была настолько неуместной здесь, у синей горы, что он рассмеялся.
Кассовский посмотрел на Илью и, казалось, понял, о чём тот смеётся. Он взял свой гамак и, ничего не сказав, шагнул из лодки на пристань. Кассовский протянул Дилли руку, но та легко — одним движением — выпрыгнула на деревянный помост и побежала к дому, высоко поднимая босые ноги. Добежав до середины пристани, она остановилась и подождала Кассовского. Девочка мягко пошла рядом, держась одной рукой за гамак.
Илья ещё раз посмотрел на быстро темнеющую воду. Он нашёл резиновые тапочки Дилли, которые она забыла в лодке, и отправился вслед, за её белым платьем.
КОППЕНАМЕ РИВЕР 3
ДОМ был выстроен просто — один этаж. Его тайна открывалась строен полукругом, точно повторяя линию залива. Из-за этого дом казался частью ландшафта. Перед входом — без крыльца, прямо с земли — был разбит сад, которым никто не занимался. Посаженные деревья уже оплели лианы, и джунгли, когда-то вырубленные ближе к реке, украдкой возвращались обратно. Глубже в лес стояли другие одноэтажные постройки, и между ними и домом были прорублены тропинки. В доме было много дверей. На окнах висели сетки от комаров.
Их никто не встречал.
Илья нашёл Кассовского в большой комнате слева от входа. Дилли бегала по дому, открывая двери во все комнаты. Она что-то кричала и смеялась, и казалось, словно она находится повсюду одновременно. Илья положил её тапочки и свой гамак на пол, рядом с гамаком Кассовского. Тот достал из тёмного буфета большую тарелку с каким-то странным треугольным печеньем и предложил Илье. Было ясно, что он хорошо знает дом и бывал здесь не раз.
— Что с мальчиком? — Илья понимал, что Кассовский не мог знать больше, чем он сам, но ему хотелось начать разговор после многих часов молчания на реке. — Его смотрит доктор?
Кассовский сидел в глубоком плетёном кресле с высокой спинкой. Тарелку с печеньем он поставил себе на колени. Дилли промелькнула в комнате, схватив одно печенье, и унеслась в глубину дома. Было слышно, как она смеётся и поёт что-то самой себе.
— Беспокоитесь за ребёнка? — спросил Кассовский. — Вам будет грустно, если он умрёт?
— Вам нет?
— Мне будет грустно, бесконечно больно, если он умрёт, — сказал Кассовский, — но только если он умрёт, не успев осознать свою суть, свою связь с другим миром, Плеромой. Если же этот мальчик уже знает, интуитивно догадывается, как часто бывает у детей, что он, как и все люди, здесь по ошибке и что его задача вернуться туда, откуда нас заманили в этот мир, его смерть прекрасна. Это — смерть-избавление, смерть-освобождение. Это — смерть-праздник. Я буду радоваться его смерти.
— Никто не может жить в мире ваших абстракций ни о чём. — Илья начинал злиться. Он был голоден, и печенье не помогало. — Мы живём и страдаем в этом, материальном, мире и живём по его условиям. Никакое абстрактное рассуждение не поможет отцу этого ребёнка примириться с его смертью. Вам легко рассуждать: у вас нет детей.
Кассовский не отвечал. Он поставил тарелку с печеньем на низкий столик рядом и откинулся назад. Столик был тоже плетёный, но из другого, более светлого ратана.
— Вы правы, — сказал Кассовский. — Мне легко рассуждать. Моя маленькая дочь погибла давно, и я пережил свою муку и злость на мир. Мне уже не больно. Но не потому, что моя боль утонула во времени. Мне не больно потому, что её смерть дала мне смысл и путь.
За окном кричали ночные птицы. Стемнело, и не было видно воду. Илья не знал, что сказать. Он решил извиниться.
— Не стоит, — ответил Кассовский. — Это давняя история. — Он помолчал. — Впрочем, вам всё равно нужно её знать.
Он не объяснил почему, и Илья не стал спрашивать. Кассовский смотрел в тёмное окно на реку и видел там своё прошлое.
— Когда я поселился в Парамарибо почти сорок лет назад, Суринам был другой страной. Маленькая колония, принадлежащая маленькой метрополии, которая к тому времени потеряла все свои большие колонии. Голландцы не могли оправиться от потери Индонезии и поэтому всячески обхаживали суринамцев. Жизнь была лёгкой, свободной и беззаботной, по крайней мере для белых. Никто не говорил по-английски, и это заставило меня быстро выучить голландский.
В Парамарибо тогда жило много евреев; они жили в стране веками, и большинство из них смешались со старыми креольскими семьями.
Меня быстро заметили: все знали всех, и слух о молодом белом еврее из Нью-Йорка облетел город мгновенно. Меня стали всюду приглашать и скоро предложили работу.
Я снял маленький, плохо покрашенный дом на Стоелманстраат, недалеко от кладбища Свалмберг. Там было тихо и, казалось, никого никогда не хоронили. Казалось, в городе никто никогда не умирал.
По воскресеньям я любил гулять по кладбищу и читать надписи на могилах. Я придумывал умершим новые жизни и проживал эти жизни вместе с ними. Мёртвые были моей семьёй, моими любовницами, моими врагами.
Я не искал общества живых и лишь изредка ходил в маленький публичный дом на углу Буренстраат. Его держала китаянка из Джакарты с двумя дочерьми. Дочери были от разных отцов и мало похожи друг на друга. Их мать, Йинг, была красивее своих дочерей и готовила вкусные китайские супы.
Иногда я приходил к ней вечерами после работы, и она кормила меня на маленькой кухне.
Она учила меня есть палочками и смеялась по-китайски, когда я всё ронял. Мы подолгу сидели у неё на кухне и слушали звуки платной любви её дочерей за стеной. Когда клиенты уходили, дочери приходили к нам поесть. Они тоже учили меня есть палочками и разным другим вещам.
Мой хозяин, ещё не старый сефардский еврей Соломон да Кошта, нанял меня из-за английского языка. Мало кто торговал с Америкой в те дни: Голландия была по-прежнему основным рынком, но Соломон понимал, что Голландия потеряет все привилегии в тот момент, когда потеряет Суринам. В том, что это случится, и в будущей независимости страны он не сомневался ни секунды. Голландия была далеко, Америка близко. Он хотел наладить торговлю с Америкой и быть первым. Поэтому Соломон да Кошта установил у себя в офисе телефон.
Целыми днями я сидел у этого телефона и звонил в разные американские компании, предлагая лес, боксит и рыбу. Ничего этого у нас не было — Соломон владел баржами и занимался речными перевозками. Но он знал, где в Суринаме всё это можно купить, знал цены, и у него был собственный транспорт. У Соломона да Кошта было шесть пальцев на левой руке, и один глаз видел во все стороны сразу.
Соломон оказался прав: скоро мы стали получать заказы, в основном на лес и боксит. Соломон удвоил мне зарплату и подолгу сидел рядом, пока я беседовал с Америкой по телефону.
Я был его единственной ниточкой, протянувшейся от Парамарибо к огромной северной стране, которая соглашалась платить три цены плюс транспортные расходы. Его внутренний бизнес быстро отошёл на второй план. Скоро баржи да Кошта стали работать только на перевозки наших американских заказов до Ниеюв Никери и Ниеюв Амстердам. Оттуда товар грузили на большие корабли, и они уходили на север, где были Нью-Йорк и Боро-Парк.
Получив заказ, Кассовский должен был составить контракт на двух языках, один для клиентов, другой для да Кошта. Он много работал, целыми днями, оставаясь в офисе по вечерам.
В синагогу он больше не ходил, наслаждаясь свободой от бога и его слова, Торы. Соломон и сам не был религиозен, но всегда постился на Йом Кипур.
Религиозной была его жена, Летиция, красивая высокая креолка, которая радостно перешла в иудаизм при замужестве. Она прошла гиюр у хромого раввина в португальской синагоге на Гравенстраат и считала себя еврейкой. Летиция зажигала свечи на Шаббат и часто заходила в офис, чтобы спросить у Кассовского, как нужно исполнять тот или иной обряд.
Иногда Кассовский приходил к ним домой на субботнюю трапезу, но обычно он предпочитал супы китаянки Йинг. Секс с ней и её дочерьми был лёгким, радостным и лишённым всякого эмоционального подтекста. Секс с ними был как еда — удовлетворить потребность и получить удовольствие. И как еда, он не опустошал, а питал.
— Дочери были не похожи друг на друга. — Кассовский зажёг свет в ожидании доктора и его жены, которые, как он объяснил, были в госпитале — длинной розоватой постройке чуть дальше в лес, куда унесли больного индейского мальчика. — Йинг родила их от разных мужчин. Мне нравилась старшая, Махсури. Её отец был малаец, и она родилась на грузовом корабле недалеко от Африки, когда Йинг плыла из Индонезии в Суринам. Махсури была похожа на мать — с таким же мягким азиатским лицом, но более тёмной кожей. Она много смеялась и во время любви никогда не закрывала глаза.
Йинг выглядела моложе своих дочерей. Каждое утро она натирала своё тело жгучей травой киласи, чтобы убить старую кожу, и втыкала себе в голову и ступни длинные тонкие иглы из серой стали. Потом Йинг выливала на себя масло горного ореха и сидела в пустой ванне, единственной на весь дом, ожидая, когда высохнет её молодое тело. Ванна была выкрашена в красный цвет, и Йинг становилась похожей на мокрого китайского дикобраза в пустой красной ванне. Часто я сидел на краю ванны и наблюдал всю процедуру, с начала до конца. Я смотрел на неё и учился ничего не стесняться.
Кассовский замолчал. Дилли снова пронеслась сквозь комнату, крикнув что-то весёлое на голландском. Словно ворвался радостный, шумный сквозняк.
— Махсури никогда не ходила в школу, но умела читать и писать. Её научил один клиент, пожилой негр, который работал на складе в порту.
Он приносил с собой букварь своей уже выросшей дочери и учил Махсури буквам. Йинг не брала с него денег. Он приходил дважды в неделю и перед уходом всегда оставлял Махсури домашние задания. Она звала его «А-Бэ-Цэ». Махсури нравилось, что во время секса — после урока — он не снимал очки.
Младшая дочь, наполовину креолка, которую Йинг родила уже в Суринаме, мне нравилась меньше. В ней азиатская лёгкость матери и сестры была обожжена недобрым суринамским солнцем. Она казалась тяжелее — и внешне и внутренне; не угрюмой, но менее радостной. Она ходила в школу — ей только исполнилось четырнадцать. Когда я оставался с ней спать, я видел, как утром она надевала школьную форму и гладко зачёсывала волосы назад. У неё были белые гольфы, с синей полоской на боку. Она стирала их каждый вечер, чтобы надеть утром, и гольфы сохли на железной спинке кровати, покачиваясь в такт нашей любви. Она была более страстной, чем Йинг и Махсури, и часто просила, чтобы я сделал ей больно. Я не умел, и она учила меня, как это с ней делать.
Я тоже не очень ей нравился. Но в те ночи, когда её мать и сестра были с другими мужчинами, а она свободна, я оставался с ней.
Однажды утром я проснулся в её постели от голосов по-китайски. Я лежал и слушал, как женщины спорят. Мне было пора вставать на работу, и я пошёл в ванную.
Йинг, голая, с торчащими из головы иглами, скользкая от орехового масла, сидела в пустой красной ванне и говорила с младшей дочерью. Та стояла перед ней — в форме, с сумкой в руках, готовая идти в школу. Они увидели меня и умолкли. Затем Йинг сказала что-то резкое, как надтреснутый колокольчик. Ома повернулась и вышла, не сказав ни слова.
— Ома? — переспросил Илья. — Это была наша Ома?
Кассовский кивнул. Дилли больше не пела, и в ночном воздухе было слышно, как за оконной сеткой звенят москиты.
— Это была наша Ома. Йинг объяснила мне, что Ома беременна, и беременна от меня. В те дни мало кто предохранялся, и в ванной у Йинг на белом крючке висела большая синяя грелка с длинным резиновым узким шлангом, на который был надет катетер. На полу в углу стояла стеклянная банка с раствором марганцовки. После секса женщины шли в ванную и промывали себя, чтобы не забеременеть и не заболеть. Они знали, в какие дни не могут забеременеть, а в какие вероятность велика. Ома была ещё маленькой, не такой опытной, а может быть, просто один раз поленилась пойти и засунуть в себя катетер на синем шланге.
Или я наконец сделал ей так хорошо, что она лежала и сохраняла в себе то ощущение, когда женщина чувствует себя одновременно и наполненной, и звонко пустой. Не знаю. Она мне так никогда и не сказала. Но она забеременела и поняла это лишь тогда, когда было поздно делать аборт. Она боялась говорить матери, пока уже нельзя было скрывать.
Она спала с другими мужчинами тоже, с разными каждый день, но я не сомневался, что ребёнок мой. Я поверил сразу: ей не было смысла врать.
В тот день я первый раз за много лет вспомнил Хану, свою жену. Я почти никогда не вспоминал о ней и своей тусклой жизни в Боро-Парк. Я думал о Хане и представлял — если бы у нас был ребёнок. В мыслях Хана казалась мне намного красивее.
Днём я ушёл с работы, сказав Соломону, что мне нужно к доктору. Он обеспокоился и хотел куда-то звонить, но я отговорился и ушёл.
Я пошёл к школе, где училась Ома, и ждал, пока закончатся уроки. Она вышла, в толпе других девочек, такая же, как они, все в белых гольфах до смуглых коленок. Никто не знал о её тайной жизни и тайной жизни внутри неё. Мне казалось, она не заметила меня, и я пошёл за ней по жаркой дневной улице. На углу Ома остановилась подождать, пока я её догоню. Она ничего не сказала и просто пошла рядом.
Она ничего не сказала, когда мы повернули ко мне, на Стоелманстраат. Она ничего не сказала, когда я привёл её к себе, и она молча обошла весь мой маленький дом, заглянув в каждый закуток. Она открыла все шкафы на кухне и долго смотрела в холодильник. Она никогда прежде не видела холодильник. Она думала, что я засовываю туда голову прятаться от жары.
Вечером я пришёл к Йинг и долго ждал, пока она освободится: у неё был обычный в тот день клиент, толстый ливанец со свёрнутым носом. Йинг его очень ценила, потому что он разбирался в золоте и иногда дарил ей мелкие украшения.
Я объяснил Йинг, что Ома будет жить у меня, пока не родит ребёнка. Мы договорились, сколько гилдеров в месяц я буду платить за то время, что Ома остаётся со мной. Я отсчитал купюры с красивым лицом королевы Джулианы и поцеловал Йинг и Махсури. Йинг закрыла двери дома, и мы втроём сели есть вкусный суп из рыбы с рисом и смеяться, как было всегда.
Когда я уходил, Йинг дала мне сумку с вещами Омы и её учебниками для школы. Махсури пошла со мной; она несла завёрнутую в лиловую тряпку кастрюлю с супом. Она хотела видеть мой дом.
Утром Кассовский всё рассказал Соломону да Кошта. Тот выслушал его молча, не задавая вопросов. У Летиции не было детей, и раз в полгода она ходила к слепому колдуну-боно лечиться от бесплодия. Тот давал ей круглую сладкую траву, которую Летиция жевала перед тем, как Соломон ложился к ней в постель. Летиция сплёвывала траву в жёлтый горшок у кровати и брала Соломона в себя. Под подушкой у неё лежали высушенная лапка бабуина и деревянная резная кукла с большим животом. Живот куклы больно давил Летиции на затылок, но она терпела, пока её муж не проливался внутрь горячей липкой спермой. Тогда Летиция, как учил колдун, брала комок жеваной травы из горшка и засовывала его туда, где только что был Соломон. Она вынимала куклу из-под подушки и клала её Соломону между ног. Потом Летиция на всякий случай молилась на плохом школьном иврите, прося далёкого непонятного бога о ребёнке. Соломон молча лежал рядом, зажав деревянную беременную куклу своими толстыми бёдрами. Дети у них так и не рождались.
Ома перестала ходить в школу через месяц, когда уже нельзя было скрыть растущий живот. По утрам она вставала раньше Кассовского и готовила ему завтрак. Они жили в разных комнатах, и теперь Кассовский приходил домой каждый вечер. Ома боялась впускать его в себя: она не знала, может ли это повредить ребёнку. Спросить у матери Ома почему-то стеснялась.
Иногда их навещала Йинг, принося еду в завёрнутой тяжёлой посуде. Поговорив с дочерью, Йинг уводила Кассовского в его спальню, и секс с ней был привычно радостным и беззаботным, пока Ома ела в кухне приготовленную матерью еду. Больше всего Ома любила жареный рис с маленькими речными креветками.
Махсури не приходила к ним никогда.
Соломон да Кошта рассказал всё жене, и они упросили Кассовского познакомить их с Омой. Ома отказалась куда-нибудь идти — у неё не было хорошего платья, а оба старые были теперь малы. Кассовский объяснил это Летиции. Та выслушала, кивнула и ушла.
Вечером, когда Кассовский пришёл домой, он обнаружил там Летицию и её кухарку Патти. Они принесли сумки с продуктами, и Патти гремела посудой на кухне, напевая креольские песни о плохих ушедших в море мужчинах.
Испуганная Ома в новом жёлтом платье с цветком в волосах сидела на стуле в большой комнате, не касаясь спинки. Её большой живот лежал у неё на коленях. В углу комнаты стояла деревянная голубая кроватка для ребёнка, рядом с которой хлопотала Летиция. Она производила много шума и всё время смеялась. Ома её боялась и взглядом просила Кассовского не уходить.
Летиция стала приходить каждый день, и постепенно Ома к ней привыкла. Когда Летиция узнала, что Кассовский ещё не водил Ому к врачу, она ворвалась в офис и устроила шумный скандал обоим — ему и своему мужу. Соломон вздыхал и чувствовал себя виноватым.
Он повысил Кассовскому зарплату и нанял ему в помощь старую индианку из Бомбея печатать бумаги по-английски.
Ома родила в августе, в большом госпитале на Гравенстраат. Ей оставалось несколько дней до пятнадцати, и молодой врач-голландец потребовал, чтобы пришла её мать. Йинг появилась днём, в красивой соломенной шляпе, с завёрнутой кастрюлей в руках, и никто в больнице не верил, что Ома её дочь.
Летиция была в госпитале с утра, шумно ругая тихих чёрных медсестёр, скользящих по светлым больничным коридорам. С Омой всё было в порядке, но Летиция продолжала кричать и требовала, чтобы ей показали ребёнка. Она не верила, что Ома родила девочку.
Через неделю Ому отпустили домой. Летиция приходила теперь каждый день, с утра, и оставалась до позднего вечера. Иногда она приводила с собой Патти, которая готовила вкусную тяжёлую креольскую еду, от которой у Омы болела голова. Еда пряно пахла, и вечерами Кассовский долго стоял на пороге кухни, вдыхая этот терпкий протяжный запах. После этого ему всегда хотелось женщину.
Девочку назвали Алиса. Так её назвала Ома, которая читала в школе книгу Кэрролла. Ей нравилась история о том, как можно провалиться в заячью нору, а там другой мир, где всё по-другому. Она надеялась, что так случится с её маленькой дочерью. Потом Кассовский часто думал, что это и накликало беду.
Первой, что с Алисой что-то неправильно, заметила Йинг. Она увидела это на третий месяц, когда помогала Оме её купать.
Кассовский только вернулся домой и сидел в большой комнате, которая теперь стала детской. Ома спала прямо здесь, на диване, рядом с маленькой голубой кроваткой. Йинг держала девочку одной рукой и что-то говорила Оме по-китайски, показывая на ребёнка. Ома молча слушала. Они обтёрли Алису полотенцем, и Ома стала её кормить.
Йинг смотрела на дочь и внучку и качала головой. Затем она пошла с Кассовским в его спальню и как-то рассеянно довела его до оргазма. Когда Алиса начинала плакать, Йинг замирала, прерывая любовь, и внимательно слушала её плач.
В ту ночь Ома первый раз пришла к Кассовскому в комнату. Он проснулся оттого, что она была рядом, в постели, почувствовал её упругий требовательный язык, а потом она взяла его сверху. Кассовский ещё наполовину спал, но Ома продолжала скользить на нём, и постепенно они начали двигаться вместе. Ей было больно — внутри ещё не зажило до конца, и ей нравилось, что было больно. Потом она резко вскрикнула — от боли? от наслаждения? — и упала на Кассовского, прижавшись к нему всем своим маленьким телом. Он почувствовал её горячие слёзы у себя на лице.
— Что? — спросил Кассовский. — Что случилось?
— Мама сказала, что Алиса больна, — шептала Ома мокрыми губами ему в шею. — Она сказала, что Алиса не такая, как другие дети.
Утром они понесли ребёнка к врачу, который ничего не обнаружил. Ома недоверчиво его слушала, успокаиваясь всё больше и больше.
Она рассказала это Летиции, и та начала кричать, что Йинг ничего не знает, что девочка совершенно здорова и, когда вырастет, выйдет замуж за принца.
Ома и Кассовский по субботам ходили в гости к да Кошта, где Соломон закрывал все окна в доме, чтобы на Алису ничего не попало. Он сделал Кассовского партнёром, отдав ему двадцать пять процентов всего бизнеса.
Алиса росла, и Летиция каждый день гуляла с ней в Палментуин Парк, гордо везя перед собой розовую коляску. Ома шла рядом, одетая и причёсанная как кукла. Летиция собиралась осенью послать её в Швейцарию, в колледж для девочек. Кассовский считал, что Летиция просто хочет остаться с Алисой одна.
Когда Алисе исполнилось два года, уже нельзя было отрицать, что с ней не всё в порядке. Она хотела надевать одно платье — голубое в белый горошек, которое ей купила Летиция. Когда на нее пытались надеть что-то другое, Алиса начинала надрывно кричать и кататься по полу. По утрам она укладывала все свои мелкие игрушки в прямую линию — в строго определённом порядке — и впадала в истерику, если хоть одну сдвигали на миллиметр. Алиса могла часами сидеть на полу и бить ладонью по полу в одном ритме. На прогулке она хотела идти только по одной стороне улицы, останавливаясь всегда в одних и тех же местах. Алиса не смотрела взрослым в глаза и вообще мало реагировала на окружающих. Она жила, погрузившись в свой мир раз и навсегда заведённых привычек и установлений.
— Алиса была аутичка, — сказал Кассовский. Он посмотрел на Илью, который уже доел все печенья с большой тарелки. — Ничего, скоро будем ужинать.
Со стороны реки кто-то прошёл вдоль стены дома и открыл входную дверь. Илья встал, чтобы встретить высокого худого светлокожего креола в зелёной одежде, что в больницах носят хирурги. У него было красивое нервное лицо и продолговатый череп, покрытый мелко свёрнутой чёрной проволокой волос. Он был немолод, но из-за худобы казался без возраста, от тридцати до пятидесяти.
Креол улыбнулся и протянул Илье руку:
— Алонсо. Извините, что пришлось ждать.
У нас сегодня трое новых больных, один операционный. Потерпите ещё немного, меньше чем через час будем есть. Моя жена скоро освободится и придёт к нам.
Доктор Алонсо обнял Кассовского без слов и сел на низкую деревянную скамеечку у стены.
Он согнул длинные ноги и положил подбородок на колени. Доктор Алонсо был похож на большого породистого добермана; казалось, он готов в любую секунду распрямиться и вытянуться в дрожащую струну.
Кассовский отреагировал на появление хозяина едва заметным кивком; он был погружён в свою историю и отказывался возвращаться в настоящее. Он был там — со своей маленькой девочкой, которая хотела ходить только по одной стороне улицы, в одном и том же голубом платье в белый горошек и в одни и те же места. Он был там, где лежали её игрушки, вытянутые в одну линию, в одном и том же порядке, раз и навсегда.
В комнату ворвалась Дилли и остановилась, увидев Алонсо. Тот внимательно её оглядел, затем посмотрел на Кассовского. Кассовский утвердительно кивнул. Доктор Алонсо что-то сказал Дилли на аравак. Та сразу притихла и села на пол, там, где стояла. Она поджала ноги и села на пятки, похожая на маленькие сидячие индейские статуэтки из тёмного дерева. Илья заметил, что на её белом платьице-халатике не хватало двух пуговиц.
— Ома не поехала учиться в Европу, — продолжал Кассовский. — Она никак не могла согласиться с тем, что Алиса больна, и часами сидела рядом, пытаясь с ней играть. Алиса никого не замечала и позволяла себя трогать лишь во время еды. Причесать её было невозможно: она кричала и вырывалась; она была очень сильная.
Алиса говорила, но её речь не была связана с общением. Иногда она часами повторяла одну и ту же фразу. Один раз она сидела всю ночь в кроватке и спрашивала:
— Ное te aan de markt te krijgen? Как пройти на рынок?
Она услышала это от кого-то на улице. После каждого третьего предложения она начинала смеяться. Почему-то этот смех был невыносимее всего.
Я лежал у себя в спальне и слушал её вопросы про дорогу на рынок и её страшный смех. Вдруг Алиса начала кричать — жутко, истошно. Я выскочил в большую комнату и увидел, как Ома бьёт девочку верёвкой для сушки белья. Ома била её молча, сосредоточенно, и маленькая Алиса металась по кроватке, пытаясь укрыться от ударов, и кричала, кричала.
Я вырвал у Омы верёвку и вытолкал из комнаты, в свою спальню. Я хотел взять Алису на руки, но она — мгновенно успокоившись — стала снова складывать в одну линию разбросанные по кровати игрушки. Я знал, что в такие моменты её лучше не трогать.
Когда игрушки были сложены, Алиса села посреди постели и стала смеяться. Она не смотрела на меня, словно я не сидел рядом с ней на полу, и просто смеялась, звонко и радостно. Затем она начала снова спрашивать, как пройти на рынок. Я ничего не мог для неё сделать и ушёл в спальню.
Ома просидела всю ночь в углу комнаты, глядя в одну точку перед собой. Мы не разговаривали и не спали. Всю ночь мы были порознь, вместе, слушая, как за стеной наша дочь произносит одну и ту же фразу, одну и ту же фразу, одну и ту же фразу, одну и ту же фразу. Она смеялась после каждого третьего предложения.
Я лежал на кровати и в уме каждый раз объяснял ей, как пройти на рынок. Когда начало светать, я заснул под её смех.
Я проснулся поздно: вокруг уже стояла липкая дневная жара. Омы не было в комнате, и я быстро собрался и пошёл на кухню. Алиса ещё спала, рядом с игрушками, выложенными в одну линию. Я спустился вниз, где меня ждал накрытый сеткой от мух завтрак, но Омы не было и там. Я не мог уйти, оставив Алису одну, и сел её ждать. Ома не пришла обратно в тот день и вообще больше не пришла.
Ома вернулась домой, к своей матери Йинг. Все мои уговоры, обещания, просьбы остались без ответа. Ома выслушивала меня молча, не встречаясь глазами, словно это она жила в своём отдельном от всех мире. Она никогда не спрашивала про Алису и никогда её не навещала. Она оставила все свои новые вещи у меня в доме, и даже одно своё старое платье — любимое, светло-лиловое, с завязками вокруг шеи — она тоже оставила в шкафу в моей большой комнате, где уже три года жила наша с ней дочка, которую Ома хотела забыть.
Йинг была довольна её возвращением: Ома быстро вернула своих постоянных клиентов, включая маленького старика-ветеринара, навещавшего её с двенадцати лет. Старик, голландец, жил за рекой и приезжал в Парамарибо каждый третий вторник. Он приходил к Оме днём, всегда после обеда, и шёл в её угловую комнату с закрытыми ставнями, чтобы туда не проникла тяжёлая вязкая жара.
Ома раздевалась и ложилась на спину, на пол. Она зажимала в зубах деревянную палочку, чтобы не кричать от боли, и старик доставал из кожаной сумки мелкие железные инструменты.
Он долго и медленно её мучил — всегда внутри, чтобы на теле не оставалось следов, и она крутилась на кафельном полу, сжимая в искривлённом от боли рту изгрызенный кусочек мягкого дерева. Старик расстёгивал брюки, и Ома, слепая от боли, одной рукой возбуждала его, пока старик не сгибался от оргазма. Затем она обтирала его и себя приготовленным мокрым полотенцем. Старик садился отдыхать на кровать и смотрел, как она моет его окровавленные железки в белом эмалированном тазике.
Он всегда платил за любовь чуть больше, чем другие мужчины.
Кассовский нанял для Алисы няню, большую синюю негритянку, но она скоро ушла, не выдержав муки с больным ребёнком. Летиция нашла другую женщину, но и та продержалась лишь две недели.
Летиция теперь проводила с Алисой все дни; она растолстела, но продолжала оставаться красивой. Она никогда не говорила с Кассовским про Ому, словно той никогда и не было.
Летиция не верила в болезнь Алисы. Она считала, что доктора ничего не понимают, что Алиса просто странный ребёнок и с возрастом всё пройдёт. Удивительно, но ей Алиса позволяла брать себя на руки и сажать на колени. Она охотно ходила к да Кошта, где у неё теперь была своя комната, с точно таким же набором игрушек, как дома. Летиция купила ей такую же маленькую кроватку и четыре одинаковых платья.
Алиса обычно ночевала у да Кошта несколько дней в неделю. Здесь ей разрешалось всё: её не заставляли причёсываться, умываться, и она целыми днями бегала голая по их большому тёмному дому, заглядывая во все комнаты в одной и той же последовательности, снова и снова, снова и снова.
Часто Алиса приходила к Патти на кухню и начинала выкладывать из ящиков ложки и вилки прямо на каменный пол. Ей никто не мешал, и она составляла странные фигуры — ложки отдельно, вилки отдельно. Фигуры всегда были одни и те же, и Летиция запрещала Патти их убирать, пока Алиса не теряла интерес и на середине, не докончив выкладывать очередную фигуру, убегала из кухни. Ножи прятали от неё наверх, в большой дубовый комод, который запирался на ключ.
— Летиция считала, что Алиса гениальный ребёнок. — Кассовский сидел рядом с лампой, круг света — жёлтым пятном на стене за его головой. — У Алисы была совершенная музыкальная память: она могла прослушать двухчасовую симфонию и потом пропеть её, ни разу не ошибившись. Летиция заводила выписанный из Майами проигрыватель, они садились с Алисой на пол и слушали музыку, а потом Алиса воспроизводила всё по памяти. Летиция даже наняла ей учителя, но Алиса стала кричать и вырываться, когда тот попробовал усадить её за пианино. Учитель был уволен, но каждое утро, когда Алиса ночевала у да Кошта, Летиция открывала чёрную крышку инструмента и оставляла его открытым весь день, надеясь, что Алиса сама подойдёт и начнёт играть. Та не обращала на пианино внимания. Она хотела слушать пластинку, всегда одну и ту же. Это был Шуберт, Неоконченная симфония си минор.
Неожиданно доктор Алонсо встал и, чуть заметно кивнув Кассовскому, направился к двери. Воздух вокруг него был другим, более плотным, словно Алонсо был окружён защитным полем от рассказа Кассовского и всего лишнего, что он не хотел в себя впускать.
Алонсо вышел. Дилли не сводила с Кассовского взгляда, как если бы понимала его английскую речь. Её тень вдоль стены была много длиннее, чем она сама.
— Алиса уходила в себя всё больше и больше, — продолжал Кассовский. — Когда она ночевала у меня, между нами не было контакта: она не встречалась со мной взглядом, не реагировала, когда я звал её по имени, не брала протянутую ей игрушку. Она часами сидела на полу, неумытая, непричёсанная, и повторяла одну и ту же фразу. Иногда она пела Шуберта, всю Неоконченную симфонию с начала до конца.
По ночам она плохо спала и часто кричала, просыпаясь от своих криков. Спокойной она бывала только с Летицией, в большом доме да Кошта на Ван Рузевелткаде. Дом выходил окнами на канал, Соммелсдаксекрик, и через узкую воду была видна зеленая масса Палментуин Парк. Алиса больше туда не ходила: она вообще теперь мало выходила из дома, оставаясь в комнатах весь день, лишь изредка выбегая в прохладный фруктовый сад. Летиция ей во всём потакала и даже вечером в пятницу, перед тем как зажечь свечи на Шаббат, не заставляла её одеваться.
Она учила Алису зажигать свечи, и той нравилось чиркать спичкой о коробок и потом подносить огонь к чёрному фитилю, который вспыхивал красно-жёлтым и становился живым. Алиса смеялась и зажигала обе свечи. Летиция пела субботнее благословление «Барух ата Адонай елохейну Мелех хаолам ашер кидшану…» и ставила на стол ещё одну свечу, как положено — за ребёнка в семье. Алиса её тоже зажигала и радовалась огню.
Соломон смотрел на неё и пытался улыбаться: он любил Алису чуть ли не больше, чем Летиция, и давно смирился с её болезнью. Он упрашивал меня жениться и родить ещё одного ребёнка. Я всегда приходил к ним в пятницу, и мы садились вокруг праздничного стола, слушая Шуберта, и моя маленькая пятилетняя дочь, голая, с нерасчёсанной копной волнистых чёрных волос, чиркала спичками о коробок, продолжая зажигать уже горящие свечи.
Она была очень красива — с тёмнооливковой кожей и глубокими карими глазами с длинным разрезом, как у кошки. По вечерам она любила долго сидеть в ванне, и Летиция должна была поливать её из игрушечного красного ведёрка. Алиса никогда не вытиралась и мокрая выпрыгивала из ванны и бежала в постель.
После ужина в пятницу свечам давали догореть и зажигали ещё одну длинную свечу, которую ставили в специальную тарелку с водой, оставляя на ночь. Это делали, только когда Алиса засыпала, потому что она не позволяла ставить свечу в тарелку: она начинала плакать и рваться, чтобы вынуть подсвечник и поставить на стол. Летиция уходила в спальню, а Кассовский и Соломон да Кошта подолгу сидели в длинной тёмной гостиной и молчали обо всём на свете. Им было хорошо друг с другом. Они никогда не разговаривали в субботнюю ночь.
В тот вечер Кассовский хотел забрать Алису домой, чтобы провести с ней выходные. Алиса начала отбиваться, кричать и бросала на пол предложенное ей платье. Летиция уговорила его оставить Алису ещё на одну ночь и прийти утром. Она пообещала сама умыть и одеть Алису к его приходу. Летиция сказала, что уговорит Алису пойти с ними в парк.
— Меня разбудили под утро, громкий стук в дверь с улицы. — Кассовский помолчал, затем улыбнулся. — Я помню свой сон в ту ночь, он часто мне снился. Когда внизу стали стучать, я не сразу понял, что это не во сне, и продолжал лежать, пытаясь найти обрывки своей ночной жизни. Затем я осознал, что стучат в дверь, и пошёл вниз; там стояли двое полицейских и наш управляющий, старый Бастиан. Бастиан был весь мокрый и какой-то бледный, несмотря на черноту кожи. Он не мог ничего сказать, лишь открывал рот и снова закрывал. Он был похож на большую чёрную рыбу, которая пытается дышать воздухом.
Позже, когда проводили расследование, пожарные и полиция так и не смогли прийти к единому выводу. Скорее всего, решили они, свеча, стоявшая в тарелке с водой, упала на стол, загорелась скатерть, и так начался пожар.
Пожар тушили много часов, но паркет дома да Кошта был покрыт лаком, и в ту ночь сильный ветер с реки дул в их открытые окна, взбрасывая пламя высоко в безлунную ночь. Пожарные не могли подступиться к огню и сдались к утру, ожидая, пока сгорит всё, что может сгореть. Удивительно, но пожар ограничился домом, и сад остался целым, лишь деревья ещё целый год стояли чёрные от копоти и золы.
Они все сгорели в ту ночь: Летиция, Соломон, Патти и Алиса.
Кассовский остановился. Он говорил ровным тоном, пережив эти страшные слова много раз и много лет назад. Илья тоже молчал, не решаясь нарушить наступившую тишину. За окном начался дождь, ровный, несильный, на всю ночь.
— Я был единственный человек, кто знал, что случилось. — Кассовский сказал это неожиданно громко. — Летицию и Соломона, вернее, что осталось от них, нашли в их спальне на втором этаже. Патти тоже была у себя в постели, скорее всего, они так и не проснулись и задохнулись от дыма. Они все сильно обгорели, но там, по крайней мере, было что хоронить.
Кассовский снова остановился. Где-то в глубине дома стали слышны неразборчивые женские голоса.
— От Алисы же не осталось почти ничего: кучка детских обгорелых костей, которые нашли внизу, в гостиной, где начался пожар. Вы знаете, что она сделала? Я догадался сразу, когда мне сказали, где её нашли. Она проснулась ночью и спустилась в комнату, где горела свеча. Она вынула подсвечник из тарелки с водой, поставила его на накрытый скатертью стол и стала чиркать спичками, роняя их на скатерть. Обычно, если её не остановить, она изводила весь коробок. Скатерть загорелась, сквозняк из окна, там было много деревянной мебели, а потом огонь соскользнул на лакированный пол. Но Алиса не ушла, не убежала; она осталась там, где был огонь. Я думаю, она делала то же, что делала всегда, когда видела пламя: она стала смеяться и танцевать, моя голая, нерасчёсанная маленькая дочь, которая всегда ходила по одной и той же стороне улицы. Она танцевала посреди огня, пока сама не стала огнём.
За окном надрывно, словно не могла вынести эту историю, прокричала ночная птица. Илья отчего-то знал, что эта птица белого цвета.
— Я снова остался один, — сказал Кассовский. — После похорон я целыми днями сидел в офисе и думал о боге. Я не мог его понять. Что двигает им и почему он так старательно наказывает меня и за что? Он отправил моих родителей в газовую камеру в Собиборе, Лагере № 3, он бросил меня в гайанских джунглях с разбитой в кровь головой, и теперь он сжёг мою маленькую неразумную дочь и моих единственных друзей, что стали мне как семья.
Я сидел в офисе и вспоминал все людские несчастья, о которых только знал. Я считал его ответственным за всё.
Я помнил Тору: бог всесилен и благ. Если он всесилен, думал я, то всё от него. Зачем же тогда он допускает зло, несчастья, страдания? Значит, он не благ? Или это не от него? Или в мире есть другая, равная ему сила и это она душит людей в газовых камерах и сжигает маленьких детей? Но тогда бог не всесилен, тогда не всё в его власти. Я сидел в офисе перед звонящим телефоном и пытался его понять.
Выходило, что бог или не всесилен, или не благ. Он не мог быть и тем и другим и допускать то, что допускалось на земле. В любом случае, решил я, на него больше нельзя рассчитывать. Наверное, он знает что-то важное, что заставляет его убивать детей и допускать людские страдания. Наверное, если не уничтожить миллионы людей на никому не нужной войне, то через двести лет растают льды и нас всех затопит. Наверное, он знает эту связь, что невидима, неведома нам. У него, должно быть, есть свой план, свой замысел, но он забыл им поделиться с людьми, со мной лично. И потому я отказываюсь оставаться частью замысла, о котором мне ничего не известно.
Я решил, что сам стану богом.
Кассовский посмотрел на Илью; в его взгляде читалось ожидание вопроса. Илье было нечего спрашивать: он хорошо понимал, что хотел сказать старик.
Кассовский решил, что не может больше рассчитывать на чужую, верховную волю и теперь будет сам отвечать за гармонию на земле, в меру собственных сил и ресурсов. Ему больше не надо было думать о повседневной жизни: у да Кошта не оказалось родственников, и весь бизнес остался ему как совладельцу. У него теперь было больше денег, чем он когда-либо рассчитывал заработать. И никаких личных потребностей.
— Моя идея была простой: я буду по мере сил помогать всем, кому нужна помощь. Я начал с детей. Было ясно, что я должен начать с детей, после того, что случилось с Алисой.
Я купил большой дом на Джессурунстраат и открыл приют для беспризорников. Дом стоял у моста через канал, и я назвал наш приют «Мост Надежды». На голландском De Brug van hoop. Скоро все в городе стали звать его просто — De Brug, мост.
Ома появилась на следующий день после похорон Алисы. Её не было на похоронах, хотя Йинг и Махсури пришли. Махсури громко плакала и прятала красивые глаза с горячим туманом в зрачках за чёрной кружевной вуалью. Йинг, как обычно, с прямой спиной, без слёз в раскосых рысьих глазах все короткие похороны простояла молча, не сказав мне ни слова. Перед тем как уйти, она повернулась ко мне и склонила голову, сложив вместе ладони и прижав к груди. Я тоже поклонился в ответ. Потом я узнал, что китайцы всегда молчат на похоронах детей.
Утром другого дня я проснулся, и в доме была Ома. Она приготовила завтрак и дожидалась меня у стола. Она ничего не сказала про Алису. Она вообще ничего не сказала, словно не было трёх лет разлуки. Мы мало говорили, но с тех пор она всегда была рядом, всегда.
Однажды вечером, когда я вернулся домой, я не нашёл Ому на кухне, где она обычно меня ждала. Я поднялся по лестнице на второй этаж и увидел, как Ома собирает игрушки Алисы в прямую линию на полу, где прежде была маленькая голубая кроватка. Она точно помнила порядок, в котором Алиса выкладывала свои игрушки. Потом Ома села на пол, спиной к дверям, где стоял я, и долго смотрела на эту прямую линию, словно пытаясь понять, куда та ведёт.
Я тихо закрыл дверь и спустился вниз, к давно остывшему ужину. Был сезон дождей, и струйки воды за окном просились в закрытое тепло кухни.
С той поры как Ома вернулась, между нами ни разу не было любви. Все ночи мы спали отдельно, но дни, дни мы были вместе. Утром Ома приходила в приют и оставалась там до вечера. Она купала детей, их кормила, помогала убирать комнаты и вообще помогала всем и везде.
Я появлялся в De Brug только после обеда, когда были приняты все деловые решения о перевозках товаров и можно было оставить офис на строгого Бастиана. Он следил, чтобы наши баржи шли, куда надо, и привозили оттуда, что нужно. Он держал наших капитанов в страхе бесконечных проверок и знал по имени начальников всех портов в Суринаме. Я мог спокойно оставить на него выполнение заказов и идти в приют, где жили собранные нами по городу дети.
Детей было не так много: в основном те, что жили вокруг рынка. Мы их кормили, лечили и учили читать и писать, дотягивая до уровня их школьного возраста. Затем они начинали ходить в нормальную школу, но по вечерам к ним приходили частные учителя, которым я платил отдельно.
Я хотел, чтобы наших детей учили музыке и рисованию, и сам учил их английскому. Я хотел, чтобы они не просто получили то, что не смогли получить из-за его равнодушия, а больше, больше. Я ведь был богом, благим и всесильным.
Кассовский занялся больными детьми. Он ходил по городским больницам — их было всего четыре, и объяснял врачам, что готов платить за лечение детей, которых те не могут лечить.
Это были по большей части дети с врождёнными дефектами — церебральным параличом, тяжёлым костным туберкулёзом или умственно отсталые. Детей приносили в приют только из Парамарибо и окрестностей: если такой ребёнок рождался дальше от города в джунглях, он долго не жил. Таких детей не лечили, и кормить их было накладно. Они лежали в своих маленьких лесных хижинах, глядя на мир, где им было не суждено жить. Им не дали шанса, но Оскар Кассовский был богом, благим и всесильным.
Он хотел помочь всем.
Маленькая дверь в углу комнаты отворилась, и доктор Алонсо прошёл к своей низенькой скамейке и сел, отдельный от всего в комнате, мир в себе.
— Чем больше я отдавал, — продолжал Кассовский, — тем больше было нужно отдать. Несчастья копились, и через какое-то время я осознал, что причина страданий — плоть. Наша плоть страдала от болезней, с которыми мы не могли бороться, от голода, который не могли насытить, от желаний, которые было не дано удовлетворить. Когда в приюте умирали тяжелобольные дети, все радовались их смерти как избавлению. Нанятые воспитательницы просто говорили: «Отмучился», — и спешили помочь другим, ещё живым, которым пока не так повезло.
Он начал читать гностиков и нашёл, что искал. Этот мир был проклятием, ловушкой, и единственная возможность избежать страданий таилась в отказе от его материальности. Кассовский, благой и всесильный, мог облегчить страдания некоторых, но не мог помочь всем. Это означало, что он не так уж всесилен и нет у него власти над счастьем и несчастьем даже тех нескольких, что были рядом, в пределах досягаемости его ресурсов. Каждый день он должен был решать, делать выбор: содержать ли безнадёжно парализованного ребёнка или потратить эти деньги на воспитание здорового беспризорника. Его решения означали жизнь и смерть.
Он стал богом, но перестал быть благим.
Больше всего он злился на умственно отсталых детей: они были физически здоровы и могли жить бесконечно долго, отказываясь умирать. Они не страдали, не болели, но их нужно было кормить, обмывать и держать под присмотром в течение всей жизни. Они требовали времени, денег, сил и оставались безнадёжно привязаны к этому миру, не желая его покидать. Он не мог их оставить, но и не мог их любить.
— Понимаете? — Было неясно, кого Кассовский спрашивает: он смотрел в сторону. — Понимаете — так и бог. Он должен с нами возиться, и мы для него как эти несчастные идиоты, что тянут своё бессмысленное, никому не нужное существование в этом мире. Бог не любит нас, поверьте. Я знаю: я был богом.
Все в комнате молчали. За сеткой окна зудели москиты, жалуясь, что их не пускают внутрь. Вдоль коридора прошелестели шаги лёгких босых ног.
— Наконец-то. — Доктор Алонсо встал. — Это моя жена, сейчас будем ужинать.
Дверь отворилась, строго очерченный квадрат света без тени и жалости.
— Илуша. — Адри улыбнулась и, помедлив, сначала подошла к Кассовскому. — Здравствуй, папа.
КОППЕНАМЕ РИВЕР 4
ПЕРВЫЙ раз — по-настоящему — Илья дрался в пятом классе. До этого все стычки во дворе и школе оканчивались вознёй, пока один не сдавался. В лицо старались не бить из страха. Бить в лицо — означало перейти черту, за которой тебя ждал взрослый мир. Там жили по другим правилам, и туда никто особенно не стремился.
Первого сентября — мальчики в серых суконных формах, жарких не по погоде, — они пришли в школу после лета и на торжественной линейке обнаружили, что с ними будет учиться Юра Конкин. Его все знали: Конкин был хулиган, которого постоянно наказывали и обсуждали на педсоветах. Конкин уже однажды учился в пятом классе, но учителей это не убедило, и его оставили на второй год. Конкину было всё равно: он водился с большими ребятами и курил.
На третьей, длинной перемене Конкин собрал всех мальчишек вокруг себя. Он был не выше остальных, но как-то шире в плечах. Его форма была старой, прошлогодней, и от неё пахло. Конкин не носил пионерский галстук: он был исключён из пионеров.
— Значит, так. — У него был хрипловатый, приятный голос. — Всем на обеды деньги дают?
Давали всем, кроме Саши Капитаненко: его мать была алкоголичка, и Сашу в школе кормили по специальному талону, который он раз в неделю получал в учительской. Остальным давали по сорок копеек: пятнадцать на суп, пятнадцать на второе и десять на компот и булку.
— Значит, так. — Когда говорил, Конкин немного брызгал слюной. — Сегодня ешьте, а завтра все принесли мне по десять копеек.
Соберу на большой перемене.
— На что? — поинтересовался один из них, длинный и худой Ермолаев. — На что собираем?
— Ты чё, мудак, что ли? — Конкин не понижал голос, когда говорил матом, как делали другие мальчики в классе. — В ебло захотел? Сейчас оформлю.
Ермолаев не хотел. Другие тоже решили не интересоваться и разошлись тихо, размышляя, от чего лучше отказаться — от супа или от компота.
Илья не совсем понял, что произошло, и решил посоветоваться с отчимом, Маратом. Он звал его «папа». Папа Мара.
Тот не удивился и выслушал всё достаточно спокойно. Он оглядел Илью как-то по-новому и затем, подставив открытую ладонь, попросил Илью ударить в неё со всей силы.
— Зачем? — не понял Илья. Обычно они обсуждали, где находятся какие столицы, какая страна с кем граничит, или говорили о любимых и не очень писателях. Все интересы семьи, как и профессии его родителей, были связаны с литературой и театром. Раньше в их семье никто никого никогда не бил по ладоням.
— Хочу посмотреть, какой у тебя удар, — сказал Марат.
Илья замахнулся и ударил. Получилось звонко и как будто сильно.
— Плохо, — сказал папа Мара. — Будем учиться.
Марат рос во время войны, и когда его отца — известного советского инженера — расстреляли в конце тридцатых, а мать отправили в лагерь, он попал в детский дом для детей врагов народа. Нравы там мало отличались от тюремных, и Марат выжил, потому что научился драться, и драться жестоко.
Он показал Илье, как правильно ставить ноги перед ударом, как отталкиваться и разворачивать бедро, чтобы ударить всем весом, а не просто рукой. Он учил его бить коротко и без замаха. Он учил его бить куда больнее.
— Завтра, — сказал Марат, — когда ваш второгодник подойдёт к тебе за деньгами, ты ему скажи, что от тебя пусть денег не ждёт. Он начнёт качать, — это Илья не понял, но слушал внимательно, — и тут сразу бей. Старайся попасть в подбородок, чтобы он потерял равновесие, а потом в нос, чтобы в кровь. Бей, не бойся; с мамой я поговорю.
Илье почему-то казалось, что матери Марат так ничего и не сказал.
Утром перед школой Илья стал нервничать. Он не хотел драться и надеялся, что Конкин не придёт в школу. Потом Илья решил, что проще не ходить в школу самому. Он пришёл в родительскую спальню и сказался больным.
— Глупости. — Мать потрогала его лоб сухими со сна губами. — Ничего у тебя нет. Абсолютно здоров.
Илья пошёл на кухню, и туда сразу вышел Марат. Он сел напротив и молча смотрел, как Илья ест гречневую кашу с молоком. Затем Марат сказал:
— Не бойся, все через это проходят. Если сейчас побежишь, всю жизнь будешь бегать.
Илья не понял, что он хотел этим сказать.
На большой перемене все собрались вокруг Конкина в дальнем углу и сдавали ему по десять копеек. Ермолаев отдал первым и остался стоять рядом, кивая каждый раз, когда очередной мальчик протягивал деньги. Илья не пошёл. Он ушёл в другой конец коридора, ближе к учительской, и надеялся, что Конкин про него забудет.
Тот отыскал его сам. Он был в хорошем настроении и не собирался конфликтовать.
— Гони гривенник, — сказал Конкин, не глядя на Илью. — Я после географии сваливаю.
— Нет. — Илья не услышал свой голос.
— Чего — нет? — удивился Конкин. — Тебе что, на обед не дают?
— Мне дают. — Илья поставил ноги параллельно и чуть согнул колени, как учил папа Мара; он понимал, что отступать некуда. — Это я тебе не даю.
Конкин наконец на него взглянул. Он стоял в фас, чуть сбоку, удобно под правую руку. Он смотрел на Илью и не знал, что сказать. Илья не мог больше ждать.
Он ударил прицельно, точно в центр подбородка с правой руки, правильно перенеся вес на левую ногу; он вчера отрабатывал этот удар больше часа. Затем Илья тут же ударил слева боковым и снова с правой прямым, но оба удара ушли в воздух. Илья остановился: он не понял, что произошло.
Конкин лежал на полу. Он упал после первого удара и стукнулся затылком о пол. Илья не знал, что делать: такую возможность они с Маратом не обсуждали. По плану, Конкин должен был оставаться на ногах, чтобы в него можно было бить сериями, сдвигаясь в сторону после каждых трёх ударов, чтобы тот терял время на разворот. Но Конкин лежал на полу и никуда не разворачивался.
Их уже обступили, и где-то совсем недалеко были слышны голоса взрослых. Конкин медленно поднялся на ноги, странно помотал головой из стороны в сторону и молча бросился на Илью. Он сбил его с ног, и они покатились по полу. Конкин старался освободить руки и ударить в лицо, но Илья цепко держал пальцы замком, не давая тому вырваться. Затем их обоих — за воротники пиджаков — поднял учитель физкультуры, и всё кончилось.
Илью особенно не ругали и ни о чём не спрашивали: всем в учительской было ясно, что виноват, как всегда, Конкин. Тот грозил Илье кулаком за спиной. Илья старался это не видеть. Его скоро отправили в класс, а Конкина оставили до прихода завуча. В классе все глядели на Илью с удивлением, а Ермолаев долго крутил у виска пальцем.
Они ждали его после уроков, на узкой тропинке, что вела от школьного двора к гаражам. Их было трое: Конкин, худой шестиклассник по кличке Аким и Ермолаев. Когда Илья их увидел, он хотел — он ещё мог — свернуть в сторону и пройти между домами. Но он вспомнил слова Марата и решил не бежать.
Всё равно завтра в школу.
Ему мешал портфель. Илья думал, куда деть портфель. Конкина он теперь не очень боялся, но их было трое. Он решил, что портфелем можно будет закрыться как щитом.
Первым его ударил шестиклассник. Этого Илья не ожидал: он ждал нападения справа, от Конкина. Они набросились на Илью и стали бить с двух сторон. Илья успел ударить в ответ пару раз, но не сильно, без прицела, мажа и не причиняя вреда. Конкин и Аким прижали его к стене гаража, держа за руки, и Конкин кивнул Ермолаеву. Тот всю драку прыгал вокруг и махал длинными руками, выкрикивая что-то на выдохе.
— Давай, — сказал Конкин. — Дай ему, Ермола.
Ермолаев съёжился и, странно взвизгнув, ударил Илью по лицу раскрытой рукой. Аким засмеялся. Конкин плюнул Илье на портфель и сказал:
— Ещё раз прыгнешь, изуродую, блядь. Ты мне теперь рубль должен.
Вечером, когда мать начала допытываться, Илья соврал что-то про велосипед. Мать хотела намазать его зелёнкой, но Илья не дал. Ему было больно, но с зелёнкой на лице он не мог пойти в школу.
Марат пришёл с работы, как всегда, поздно; Илья уже лежал в постели. Марат сразу прошёл к нему в комнату и сел на кровать. Они помолчали в темноте, потом Марат протянул руку и включил свет. Он осмотрел Илью и спросил:
— Он один тебя так?
Илья рассказал, и Марат стал смеяться. Илья не понял: он ожидал жалости.
— Глупый, — обнял его Марат. — Он же тебя испугался, сразу. Вставай, будем тренироваться.
В тот вечер Марат научил его бить носком ноги под колено, а потом серию из двух боковых. И они выработали план.
На следующее утро Илья пошёл за школу, где курили. Там уже стояли ребята постарше, пряча окурки в кулаках, и между ними Конкин. Илья оставил портфель за углом и пошёл прямо к курящим. Он здесь раньше никогда не был: все в школе знали, что это место лучше обходить.
Конкин стоял к нему спиной, и другие не обратили на Илью внимания: он был никто и не мог им ничем угрожать. Они громко матерились между собой и о чём-то незлобно смеялись. Илья подошёл к Конкину сзади и позвал:
— Юр.
Конкин обернулся, и Илье показалось, что он чуть дёрнулся от неожиданности. Илья подождал, пока тот полностью развернётся: он был нужен ему в фас. Он вдохнул и на выдохе ударил Конкина правым кулаком в лицо.
Их никто не разнимал. Они дрались молча, окружённые курящей шпаной, которая тоже молчала.
Конкин победил: он сбил Илью с ног и, сев на него, долго бил по лицу, пока Илья старался ловить его руки. Потом прозвенел звонок, и Конкин его отпустил. Они оба бежали в класс, с разбитыми лицами, и Конкин, задыхаясь от злости, подвывал сзади:
— Рубашку, падла, рубашку порвал. Меня мать за эту рубашку убьёт, сука. Измордую после уроков, блядь. Пиздец тебе, Кессаль.
Он оказался человек слова.
Так продолжалось неделю: Илья находил Конкина утром около школы и успевал ударить несколько раз. Конкин был сильнее и дрался лучше. Он обычно побеждал в утренней драке, но с небольшим перевесом, и всё чаще Илье удавалось разбить ему нос или сильно ударить в челюсть. После уроков Конкин ждал Илью за гаражами с кем-то из своих, и они били его, сколько могли. Следующим утром Илья снова ловил Конкина, чтобы успеть ударить в лицо. Про деньги Конкин больше не заикался; он ничего не хотел от Ильи, только чтобы тот отстал.
На вторую неделю он начал от Ильи прятаться.
С тех пор Илья знал: бежать нельзя.
Но сейчас, в доме у синей горы на Коппенаме Ривер, Илья хотел бежать. Как тогда, в пятом классе, он вдруг перешёл в другой, новый мир, где уже не толкали, а били в лицо. Здесь жили по другим законам и нужны были другие ответы. И рядом с ним больше не было никого, кто бы мог поставить ему удар.
Первый раз за много лет он хотел назад, в детство, и чтобы рядом был папа Мара. Илья даже оглядел комнату, словно ожидая его найти.
Ни тюремная жизнь, ни эмиграция не подготовили Илью к тому, что происходило вокруг: всё, что казалось устойчивым, незыблемым, понятным, повернулось обратной стороной, и надо было заново учиться бить и быть битым в лицо.
И не бежать.
Адри смотрела на него ровным взглядом — без улыбки, приветливо, как на знакомого, но не больше.
Доктор Алонсо уже был в дверях, когда понял, что все остались на местах и не спешат идти ужинать. Кассовский держал Дилли за руку; другой рукой он обнимал Адри за плечи.
Илья вдруг осознал, что он единственный в комнате продолжает сидеть. Он встал.
— Пойдёмте. — Доктор Алонсо кивнул в сторону двери. — Ужин готов.
Он повернулся, чтобы идти.
— Спасибо. — Илье ещё казалось, что сейчас они рассмеются и всё это окажется неправдой. — Я не голоден. Я не хочу.
Никто не смеялся. Доктор Алонсо посмотрел на Кассовского, потом на Адри. Он не понимал, почему кто-то может не хотеть ужинать.
— Я думаю, — сказал Кассовский, — будет лучше, если мы пойдём в столовую и оставим Илью и Адри одних. Может быть, позже Илья проголодается и присоединится к нам. — У него была манера чуть кивать в сторону того, чьё имя он называл.
Доктор Алонсо сказал Дилли что-то на аравак, и та запрыгала к двери на правой ноге, высоко поджимая левую, словно странная одноногая птица. Дилли старалась соразмерять прыжки с шагами взрослых.
Они остались одни.
Адри продолжала глядеть на Илью; она не чувствовала себя смущённой. Илья решил не начинать разговор сам: он хотел, чтобы начала объясняться и оправдываться она. Но Адри стояла невдалеке от него, рядом с большой жёлтой лампой и молчала. Илье хотелось её обнять и чтобы всё закончилось. Он хотел проснуться.
Далеко внутри дома запела женщина. У неё был высокий, но какой-то глухой голос, и песня, со странным ритмом — не европейская песня, — облетела дом и вернулась к той, что пела. Илья не мог разобрать слова: они были как вода, как река за окном. Илье казалось, что он знает этот голос, но не мог понять откуда. Он поморщился.
— Ома, — сказала Адри. Она всегда догадывалась, о чём он думает. Хотя бы это осталось неизменным.
— Ома? — Илья удивился: после рассказа Кассовского Ома стала для него чем-то вроде литературного персонажа, и он забыл, что есть реальная, живая Ома. И что она может петь здесь, в доме, где разрушился его мир.
— Ома? — повторил Илья. — Если Кассовский твой отец, то Ома должна быть твоей мамой. А ты той самой маленькой девочкой, которая погибла при пожаре. Это ты? — Он решил быть саркастичным. — Ты страдаешь аутизмом? И ты погибла много лет назад?
Адри не улыбалась. Она продолжала ровно смотреть на Илью, как если бы он ничего не сказал. Затем Адри вздохнула:
— Нет, Илуша, погибла Алиса. Ей было пять лет, и она сгорела в доме да Кошта на Рузевелткаде. Там до сих пор пустое место, хотя прошло почти тридцать лет. Там никто не хочет селиться, потому что в Парамарибо верят, что Алиса заколдовала сад и до сих пор там живёт. Любой в городе тебе скажет, что знает кого-то, кто хоть раз проходил вечером мимо и видел маленькую голую девочку с горящими спичками в руках. Она чиркает ими о пустой коробок и смеется.
Она замолчала. Илья не знал, что сказать. Он хотел её поцеловать. Он хотел быть вместе.
— Почему тогда ты зовёшь его «папа»? — спросил Илья. На самом деле ему было всё равно.
Адри кивнула:
— Мы, младшие, все его так зовём.
— Кто «младшие»? — не понял Илья. Он не мог понять, о чём она говорит. Какие-то младшие.
Адри села в кресло, где раньше сидел Кассовский. Она молчала, и Илья понял, что она ждёт, чтобы он тоже сел. Он сел. Он был ей благодарен, что она не села на низкую скамейку, где до этого сидел её муж.
— Мы — младшие kinderen van De Brug, — сказала Адри. — Дети De Brug.
Она посмотрела на Илью. Она ожидала, что он будет задавать вопросы. Илья не стал: он помнил про De Brug. Он просто решил уточнить.
— Ты тоже из этого приюта? «Мост Надежды»?
Адри засмеялась. Илья любил её смех и любил её. Он никого никогда не любил — ни одну женщину. Он был влюблён пару раз в жизни, но то было другое: тяжкое, как болезнь, как горячая лихорадка, когда ты не в состоянии совладать с вирусом внутри. С Адри всё было не так: он был здоров и просто любил её, не зная, как про это сказать.
— Мы все оттуда. — Адри сидела в своей обычной позе — глубоко в кресле, с поджатыми длинными голыми ногами. — Все, кого ты знаешь как Рутгелтов. И многие другие. Мы все дети De Brug.
Песня вдруг остановилась на полутоне, и её незаконченность повисла в тишине дома, как сломанная ветка. Было неправильно так прекратить петь. Было много всего неправильного вокруг.
— Мы — Кэролайн, Руди, и я, — продолжала Адри, — мы — младшие. Эдгар и Микка были в самой первой группе детей, когда папа открыл De Brug. Алонсо принесли чуть позже, во второй год. Он был такой слабый, что не мог сам ходить. Ома не верила, что он выживет. Он не мог сам есть, и его кормили через резиновую трубку. — Она улыбнулась. — Я тогда даже ещё не родилась.
Илья не хотел ничего слышать про Алонсо. Никакого Алонсо вообще не было. Они были только вдвоём.
Стало слышно, как за окном полил дождь.
— А кто твои родители? — спросил Илья. — Настоящие родители.
— Настоящие — это папа и Ома, — сказала Адри. — Хотя Ома никогда никому не позволяла звать себя «мама». Никому, кроме Рони.
Он родился без обеих ног и с одним лёгким. Он не мог дышать сам. Рони всё время ползал по коридорам и таскал за собой свой кислородный баллон. Когда у него кончался воздух, он кричал: «Мама, мама». Он звал Ому.
Они помолчали.
— Он умер. — Адри обняла себя за плечи, словно ей было холодно. — Знаешь, Ома никогда не простила папу, что он оставил Алису в ту ночь у да Кошта. Однажды она мне сказала, что на самом деле вернулась к нему тогда, после похорон, чтобы убить его ночью, пока он спал. Она хотела прийти к нему ночью, утомить любовью, а потом, когда он заснёт покрепче, перерезать горло длинным узким малайским ножом. — Адри рассмеялась. — Я видела этот нож, она до сих пор хранит его в Хасьенде.
— Всё ещё хочет его зарезать? — спросил Илья. Он мог ожидать что угодно от этих людей: они жили по другим правилам и дышали другим воздухом в другом, непонятном ему мире.
— Может, и так, — сказала Адри. — С неё станется. Но других родителей у меня нет, только папа и Ома. Я помню свою жизнь начиная с De Brug. До этого я только помню, как кусались крысы. Там была яма, у рынка, где я жила с другими детьми. Но я ничего не помню, только крыс.
Она говорила ровным, спокойным голосом, глядя Илье в глаза. Илья хотел, чтобы она к нему подошла. Он сам хотел подойти.
— Тех, кто проявляли склонность к учёбе, посылали в частные школы в Европу. Когда мне было девять, меня отправили в Швейцарию, в Коллеж Бо-Солей, где до этого учились Микка, Кэролайн и другие дети De Brug. Эдгар учился в Англии и до сих пор там живёт. Он астрофизик, работает в Кембридже. В лаборатории Кавендиш.
Она посмотрела на Илью, словно это была важная информация. Илья не знал почему. Ему было неинтересно про Эдгара.
— А ты? — спросил Илья. — Кто ты? На самом деле?
Адри улыбнулась и покачала головой:
— Я — не студентка юрфака в Колумбийском. Это был обман, для тебя. Я даже не окончила Коллеж Бо-Солей, меня исключили в девятом классе. Выгнали.
Она взглянула на Илью и засмеялась:
— Представляешь? Они исключили нас двоих, меня и Габи, девочку из Израиля, потому что у нас был роман с лыжным инструктором. Он жил в школе, в доме для преподавателей, но там мы не могли встречаться. Поэтому мы встречались в посёлке, в Вилляр-сур-Оллон, и шли в маленькую гостиницу над часовым магазином. Мы любились втроём, а потом лежали и слушали, как бьют часы внизу. — Адри посмотрела на Илью. — Понимаешь, они били не вовремя, потому что были сломаны. Эти часы били, когда хотели. И сколько хотели.
Илья понимал. Он теперь здорово понимал про сломанные часы.
— Всё открылось перед экзаменами, и нас исключили. Меня отправили в Америку, к одной женщине, нашей, из De Brug, только старше. Она жила под Бостоном и была замужем за американцем, который работал в мебельном магазине. У них не было детей, и с ними уже жил Руди, когда я приехала. Её муж думал, что мы родственники.
Адри замолчала, потом тряхнула головой:
— В общем-то, он был прав. Там мы окончили школу и поступили в колледжи: Руди в Гарвард, я в Йель. Руди там до сих пор, в Бизнес-школе. А я ушла на второй год, в середине курса. Я уехала в Амстердам и прожила там год с Миккой и её семьёй. Затем я вернулась в Суринам и жила здесь, в Сипалвини, с Алонсо, пока папа не сказал, что я должна ехать в Нью-Йорк.
— Должна? Зачем?
Ей мешали волосы, как всегда. Адри долго скручивала их в чёрный толстый жгут. Она была в лёгком коротком платье с двумя лямками-ниточками на плечах, без воротника, и волосы было некуда засунуть. Адри забросила волосы на одну сторону. Илье была видна долгая линия её шеи.
— Я была ему нужна в Нью-Йорке для Плана, — сказала Адри. — Всё, что мы здесь делаем, мы делаем для Плана. Мы все — его часть.
Она взмахнула ресницами — две чёрные бабочки.
— И ты, ты теперь тоже часть Плана.
Адри смотрела спокойно и ровно, без обычного блеска в чёрных глазах. Илья никогда не мог понять, как ей удаётся потушить этот блеск и сделать взгляд матовым. Он помнил, что во время любви её глаза блестели и были влажными. Он хотел их снова увидеть такими.
Илья знал, что сейчас ему объяснят всё самое важное, всё, из-за чего его жизнь в последние две недели перевернулась и пошла в совершенно ином направлении. Или без всякого направления. Он думал, правда, что, когда придёт пора объяснений, Кассовский возьмёт ответственность на себя. Выходило, что нет. Впрочем, теперь Илья был готов к любым несовпадениям своих ожиданий с происходящим.
— И?.. — спросил Илья. — Что за План?
В тишину воды за тёмным окном вошёл новый звук. Илья не мог понять, что это было, но это было новое; этого звука не было раньше, а сейчас он — пока еле слышный — стал частью ночи над джунглями. Звук был дальний, и казалось, то становился слышнее, то замирал за многими поворотами реки.
— Когда папа решил, что причина страданий в нашей материальности, он стал искать выход, — сказала Адри. — Так родился План.
Дети в De Brug иногда умирали, те, кого было нельзя спасти. Кассовский понимал, что для многих из них, измученных борьбой с болью и безнадёжностью, это было избавление. Он только не мог понять, почему пнеума возвращается обратно для перерождений. Если смерть давала возможность покинуть этот мир, мир-тюрьму, мир, где плоть была источник всех страданий, то зачем освободившийся дух возвращался обратно? Почему пнеума не исчезает бесследно в мир энергии, где её ждет Прабог, частью которого она была изначально? Что заставляет её возвращаться? Ведь Царство Божие, объяснял он детям, это просто аллегория возвращения духа в Плерому.
Эдгар в то время уже окончил Кембридж. Его оставили в лаборатории Кавендиш, где он пытался связать астрофизические процессы с квантовой механикой. Однажды, во время каникул, когда все дети De Brug обычно приезжали домой, Эдгар рассказал Кассовскому, что, собственно, вся разница между энергией и материей в плотности, в фиксированности составляющих материю элементов — атомов и молекул. Материя была много плотнее, чем энергия. Соответственно, сказал Эдгар, отношения между ними должны быть построены на гравитации: более плотное и тяжёлое притягивает более лёгкое. И держит его в своём гравитационном поле.
Звук над рекой становился всё явнее, ближе; Илья уже понял, что это приглушённый далью звук мотора. Кто-то плыл к ним по ночной воде.
Кто-то ещё хотел быть здесь, с ними, в доме у синей горы.
— Когда я попала в De Brug, — сказала Адри, — они уже сделали слайды с объяснениями Эдгара, и нам всё время давали их смотреть. Даже ещё когда мы ничего не понимали. Слайды были цветные, и старшие дети, обычно Алонсо и Гертьян, вставляли их в большой аппарат в библиотеке, и мы, младшие, по очереди дёргали вниз белый раздвижной экран, подвешенный под потолком. Экран открывался, свет тушили, и на белом полотне появлялись слова и рисунки. Объяснение было простым, чтобы мы могли понять и запомнить его навсегда.
Она улыбнулась:
— Я до сих пор помню. Первый слайд был самый сложный. В нём утверждалось, что всё в мире сделано из энергии и материи. Что это значило, нам было трудно понять. Второй слайд говорил, что сама материя состоит из частиц — атомов и молекул. Рядом были нарисованы синие и красные кружочки. Мы понимали, что это они и есть.
Третий слайд объяснял, что материя существует в четырёх формах: твёрдой, жидкой, газообразной и как плазма. Эти формы, говорилось дальше, различаются лишь степенью фиксированности молекул в материи. Следующий, пятый слайд был иллюстрацией: он изображал кусочек льда, рядом с которым было написано: «Твёрдая материя». Рядом был рисунок, показывающий, как плотно упакованы молекулы в твёрдой материи. Молекулы там находились на фиксированных местах. На шестом слайде этот кусочек льда подогревали в стеклянной пробирке над огнём, и он становился водой. Рядом с пробиркой было написано: «Жидкая материя», и нарисованы молекулы, которые уже находились дальше друг от друга, более разреженно, чем в куске льда. Там ещё было объяснение, что в жидкости молекулы могли свободно двигаться. Седьмой слайд изображал ту же пробирку над огнём, но пустую; над ней клубился беловатый дым. Вода от дальнейшего нагревания становилась паром, и это была «Газообразная материя». Надпись сбоку объясняла, что в газах между молекулами почти нет взаимодействия и они двигаются очень быстро. Газ — лёгкая субстанция и не обладает той же плотностью, что первые две.
На восьмом слайде повторялось, что разница в состояниях материи — это разница в её плотности, в том, насколько фиксированы составляющие её молекулы. Этот слайд снова отображал путь молекул от твёрдого до газообразного состояния. Было видно, что действительно вся разница в том, насколько плотно они между собой связаны, и степени их подвижности.
Девятый слайд был самым коротким: он состоял из одной фразы, красным: «Этот закон верен для всех состояний материи. Кроме плазмы».
Больше слайдов не было. Свет включали, и нам говорили, что будут объяснять про плазму потом. Когда станем большими. Мы все ждали это объяснение, из года в год, и жили этой тайной. И однажды, как инициация, как право перехода во взрослый мир, папа запирался у себя в кабинете с каждым из нас отдельно и рассказывал про плазму. И про План.
Так мы становились большими.
Лодка была уже рядом. Илья мог видеть в окно зелёный огонь на носу катера; он разворачивался к причалу, и были слышны индейские голоса на пристани. Катер ждали. Он сбросил скорость и медленно подходил к берегу. На пристани теперь горел свет и было видно людей.
— Ты же голодный, — вдруг вспомнила Адри. — Может, пойдёшь поесть? Там рыба и рис с бобами.
Она подалась вперёд и почти встала, ожидая, что Илья последует за ней. Илья остался на месте. Он был голоден: последний раз он ел прошлым утром, почти два дня назад, но он не хотел никого видеть и ни с кем говорить. Он хотел быть с Адри.
Она, казалось, не замечала, что пришла лодка. Адри поняла, что Илья никуда не пойдёт, и откинулась назад. Возможно, она ждала вопросов, но Илье было нечего спрашивать: плевал он на плазму.
Он узнал голоса людей, сошедших с катера, и приготовился к встрече. Он подумал, что можно согласиться и пойти в столовую, но остался в комнате: бежать нельзя. Хотя он не и хотел видеть этих людей.
Входная дверь открылась, и Руди первый, а за ним Эдгар — бывший мистер Рутгелт — прошли в комнату. Последним был Дези, водитель. Они остановились, увидев Илью.
Руди кивнул:
— Илья, привет. Всё в порядке? — Он обращался к Илье, но явно спрашивал Адри, а не его.
— Илья. — Эдгар выглядел не так элегантно, как в Парамарибо, но почему-то моложе. — Я хотел бы попросить извинение за те неожиданности, о которых мы вас не предупредили. Надеюсь, когда вы узнаете, в чём дело, вы нас поймёте и простите.
— Надейтесь. — Илья не собирался быть вежливым. Он не хотел с ними разговаривать.
Дези просто кивнул. Он тоже казался моложе, чем раньше, и отчего-то менее чёрным.
— О’кей. — Руди решил не замечать тона Ильи. — Где все? Где папа? Кто здесь ещё? — Он перешёл на голландский: — Reeds hier Mikka is?
— Ещё нет, — ответила Адри по-английски. — Ваутер и она приедут завтра, прямо на место. Папа с Алонсо и Дилли в столовой, а мы с Ильёй говорим про План. Я как раз начала рассказывать про плазму. Хорошо, что вы здесь, потому что вы сможете объяснить это лучше.
Эдгар кивнул. Он был доволен, что всё идёт правильно. Он был готов объяснять про плазму.
Илья хотел быть вдвоём с Адри. Он решил вмешаться.
— Не обязательно, чтобы про плазму мне рассказывали вы, Эдгар. — Было приятно называть его по имени, а не «мистер Рутгелт». — Мне кажется, это смогут сделать и другие.
Он имел в виду Адри. Он хотел снова остаться вдвоём.
— Да я и не думал, — удивился Эдгар. — Я астрофизик, а План построен на теории туннельной ионизации. Это квантовая физика, как раз то, чем Дези занимается в Массачусетском технологическом институте. С научной точки зрения, План — это вообще его идея.
Дези? Дези?! Мрачный шофёр, не говорящий ни слова по-английски?! Илья посмотрел на Дези и только сейчас заметил, что тот одет в шорты хаки и голубую рубашку поло, совсем не так, как одевался раньше. Дези смотрел на него своим обычным тяжёлым взглядом. Затем он моргнул, и его глаза стали другими: в них начал отражаться свет.
— О’кей. — Руди был доволен, что всё наладилось и скандала не будет. — Мы с Эдгаром пойдём посмотрим на Дилли, а вы тут поговорите о плазме и приходите к нам.
Он кивнул Илье и прошёл из комнаты в маленькую дверь в углу, куда до этого ушли Кассовский, Дилли и Алонсо. Он был очень высокий и неприятный. Илье он никогда не нравился.
— Всё не съешьте, — сказал Дези вдогонку Руди и Эдгару. Он сказал это по-английски, с американским акцентом. — Оставьте хоть что-нибудь.
Он повернулся к Илье, и они какое-то время смотрели друг на друга, словно никогда не виделись. Затем Дези подошёл к плетеному дивану и сел. Он показал рукой на кресло рядом, приглашая Илью сесть поближе. Илья покачал головой и сел там, где сидел.
— Эдгар уже извинился. — У него был мягкий культурный английский Восточного побережья США, в котором слышалась едва заметная твёрдость его родного голландского. — Считайте, что он извинился и за меня. Я — Дези Гроесбек, профессор квантовой физики в МТИ. Я не знаю, насколько вы знакомы с предметом, поэтому постараюсь объяснить всё предельно доходчиво.
— Я крайне тронут, — сказал Илья. — Уж пожалуйста, постарайтесь по-доходчивее. А то я и раньше не отличался особой сообразительностью, а после того, как на меня в джунглях набросился ваш друг Ам Баке, мне как-то особенно трудно понимать квантовую физику. Он, кстати, тоже профессор?
Дези не улыбнулся. Илья взглянул на Адри. Она сидела в кресле с поджатыми ногами и смотрела куда-то мимо всех.
— Нет, — сказал Дези. — Ам Баке — колдун, маг. Он не учёный. Он колдун.
Илья понял, что шуток не будет. Дези был серьёзный человек. Настоящий профессор.
— Основной задачей Оскара, — Дези называл Кассовского по имени, и это сразу отделяло его от Адри и Руди, — было богоискание: как вернуться к Прабогу, к первоначальному источнику энергии, частью которого были пнеумы, пока они не спустились в материальный мир. На самом деле, — сказал Дези, — все религии об этом: как вернуться к богу. Путь был всегда, просто люди не там искали. Путь был завуалирован, зашифрован метафорами религий. Но физика — конкретное знание — помогла нам понять суть за занавесью метафоры.
Первый шаг к объяснению был сделан Эдгаром: он пришёл к выводу о том, что материя — тяжёлая субстанция, а…
— Дези, — перебила его Адри, — я уже всё это рассказала, и про слайды тоже. Мы подошли к плазме. Я как раз начала говорить про плазму, когда вы приплыли.
— Очень хорошо. — Дези говорил спокойно, не торопясь, как на лекции. С ним всё было понятно, потому что он говорил по плану, который — невидимый — сразу повис в воздухе, как будто был написан на чёрной школьной доске. — Итак, плазма — это четвёртое состояние материи. Плазма — это газ, но ионизованный газ, который пропускает электрические разряды. Наша вселенная заполнена плазмой. — Он на секунду задумался: — Правильнее будет сказать, что вселенная на девяносто девять процентов состоит из плазмы.
Как всякий учёный, Дези стремился к точным определениям.
— Если мы ставим задачу вернуться к своему первоначальному состоянию — быть чистой энергией, нам нужно трансформировать себя в плазму, то есть стать одним со вселенной. Стало быть, — Дези взглянул на Илью, проверяя, понимает ли тот его, — наша задача — это ионизировать материю, из которой мы состоим. Существуют два способа ионизации, — продолжал Дези. — Первый — это классическая ионизация: электрон должен накопить энергию равную или большую, чем энергия потенциального энергетического барьера, который удерживает его внутри атома, рядом с протоном. Если он сможет накопить эту энергию, то электрон преодолеет барьер, и обычный газ станет плазмой, материалом вселенной. Обычный газ, третье состояние материи, станет одним с космосом.
Из столовой донёсся смех Дилли, а затем Руди что-то громко сказал по-голландски. Дилли снова рассмеялась — будто рассыпали речную гальку.
— Узнаёте? — спросил Дези. — Классическая ионизация — это классический путь религий. Замените накопление энергии на послушание религиозным установлениям, и вы получите свой любимый иудео-христианство-ислам: делайте то-то и войдёте в Царство Божие. Человечество старалось много веков, и ничего не получилось. То есть, — поправился Дези, — не получилось массово. Кто-то, отдельные люди, святые, возможно, накапливали энергию таким образом и уходили, но это не массовый путь. Потом люди поняли, что этика, мораль — просто символы, и стали искать суть. Они вспомнили про энергетические практики, про прямой путь накапливания энергии, чтобы преодолеть притяжение плоти. Чтобы стать лёгкими, текучими. Но и это долгий, не массовый путь. Йога не спасёт шесть миллиардов людей, — вздохнул Дези. — Они просто не станут ею заниматься.
Илья ждал. Он знал — сейчас.
— Но есть и второй способ, — теперь Дези говорил тихо, невнятно, словно о чём-то неважном, — это туннельная ионизация. Туннельная ионизация, открытая квантовой физикой.
Дези замолчал: он хотел, чтобы Илья приготовился услышать, что он сейчас скажет. Илья приготовился; неожиданно ему снова захотелось есть.
— Туннельная ионизация, — Илья заметил, что Дези предпочитает говорить законченными предложениями — привычка от тех дней, когда английский ещё не стал для него родным, — это когда свободные электроны с большим количеством энергии могут пробивать туннель в энергетическом барьере и за ними через этот туннель могут пройти другие электроны. Понимаете?
— Понимаю. — Илья кивнул. — А где взять эти свободные электроны с большим количеством энергии?
Дези улыбнулся.
— Вот для этого вы нам и нужны, — сказал он. — Вы и есть ответ на этот вопрос.
Илья не понимал. Он взглянул на Адри, потом на Дези. Что-то было не так. Они больше не улыбались. Они смотрели на него, ожидая следующего вопроса. Илья решил промолчать.
— Теперь мы подошли к Плану. — Дези встал и расправил плечи: он устал сидеть. — Об этом с вами поговорит Оскар. Я просто хотел рассказать научную сторону, а про План лучше расскажет Оскар.
Дези улыбнулся и пошёл к маленькой двери в столовую. Он остановился у выхода и поглядел на Илью.
— Я вам очень завидую, — сказал Дези. — Я редко кому завидую. Но вам завидую.
Он открыл дверь, и голоса в столовой сразу стали громче. Дези вышел.
Илья посмотрел на Адри. Она смотрела в ответ и, казалось, ждала, что он к ней подойдёт.
Илья подумал, что ему просто этого очень хочется.
— Раньше, — Илья встал, — почему ты мне раньше не сказала, что замужем?
Адри продолжала сидеть. Вдруг она улыбнулась — как прежде, как до всего, что с ними произошло:
— Ты бы не понял. Тебя бы это только запутало. Нам нужно было, чтобы ты увидел всё по-другому. Самое действенное для этого — создать мир, а потом его разрушить. Выдернуть землю из-под ног. Это мы и постарались сделать.
— А ребёнок? Тоже обман?
— А ребёнок — правда. — Адри чуть привстала в кресле. — Рожу, буду на него смотреть и вспоминать тебя.
Она замолчала. Только сейчас Илья заметил, что дождь за окном перестал.
— Не переживай, — сказала Адри. — Алонсо всё знал с самого начала. Это не важно: он и я, мы оба свободны в своих выборах. Несвобода приносит несчастье. А с ним я счастлива.
— А со мной? — спросил Илья. — Со мной ты тоже была счастлива?
— Почему была? — Адри поднялась, и теперь они стояли почти рядом, почти. — Я и сейчас с тобой счастлива.
Илья знал, что может протянуть руку и дотронуться до неё. Он протянул руку.
— Слушай. — Он видел её глаза. — Хочешь уехать со мной? Прямо сейчас? Навсегда?
— Хочу, — не задумываясь, сказала Адри. — Но не уеду.
КОППЕНАМЕ РИВЕР 5
НАСТУПИЛ следующий день. Свет в комнате утверждал это с неоспоримостью попавшего в лицо камня. Илья пытался зажмуриться и не дать свету проникнуть внутрь своего разрушенного сна. Признать наступление нового дня означало признать, что вчера действительно случилось. И всё, что случилось вчера, было действительностью.
Дом молчал, наполненный прозрачной глухой тишиной. В нём не было слышно шагов, скрипа дверей и других отрывков жизни. Никто не проходил по коридору, никто никого не звал, и лишь москиты тоненько жаловались за белой дымкой полога над гамаком.
Да крики птиц над рекой.
Илья открыл глаза. Он не хотел вставать. Он не хотел признавать реальность происходящего. Он снова закрыл глаза, но жизнь от этого не поменялась. Было слышно, как лодки глухо ударяет водой о деревянный причал. Звук повторялся через равные промежутки — мерный, ровный, неотвратимый. Звук прерывался и возвращался, и нельзя было его остановить, как нельзя было остановить реку за окном: она текла, и можно было течь с ней или остаться на берегу.
Он жил свою жизнь. Наконец-то.
В коридоре никого не было. Илья никого и не искал. Он искал кухню. Он решил, что если ему встретится Кассовский, он попросит, чтобы его отвезли обратно в Парамарибо. Он не хотел больше видеть этих людей. Он вообще не хотел никого видеть, даже Адри. И он хотел есть.
Кухня пряталась на террасе: плита под навесом и ряды закрытых полок с посудой вдоль стены. Рядом с плитой стояли два больших холодильника. Один из них был включён и работал.
Терраса выходила на реку, но не с фронтальной стороны дома, а с торца, и потому Илья её вчера не заметил. Странно, но здесь было ещё тише, чем в доме, словно все звуки потонули в воде. Джунгли молчали, обступив дом густой тёмной зеленью. Солнце — жёлтым — пыталось пробиться сквозь их плотную резную листву. В джунглях плохо верилось в бога. Здесь и так всё росло.
Илья не знал, что делать: хотелось есть, но он был в чужом доме. Он не мог ничего взять сам: это было неправильно. Он заметил посреди деревянного стола жестяную миску, накрытую белой тарелкой. Илья решил, что раз миска стоит на столе, оттуда можно брать. Он уже не ел третий день.
В миске были два манго. Илья нашёл нож и разрезал жёлтый вязкий плод. Надо было есть осторожно, чтобы не обмазаться липким соком. Илья ел осторожно. Вокруг летали странные жуки. Илья думал, что эти жуки, возможно, кусаются. Мир был полон опасностей.
Жуки тоже хотели сладкое.
Дилли появилась незаметно, просто в один момент она уже была на террасе. Дилли была в том же платье, что и вчера; тёмная и тоненькая, статуэтка с раскосым лицом. Илье показалось, что сегодня она выше ростом. Кто-то заплёл её чёрные длинные гладкие волосы в косы. Теперь она выглядела совсем как индейские девушки в голливудских фильмах. Только хрупче.
Дилли увидела Илью и присела на корточки.
Илья кивнул: он жевал манго. Дилли смотрела снизу, как Илья ест, а потом вдруг обернулась вокруг своей оси и ударила обеими ладонями в пол. Илья проглотил манго и поздоровался.
Дилли молчала, чуть покачиваясь взад-вперёд.
Она снова обернулась вокруг себя в ту же сторону — против часовой стрелки — и опять ударила ладонями в пол. Илья протянул ей второе манго. Дилли не двигалась.
Илья улыбнулся и вдруг понял, что у него больше нет губ. Он больше не мог улыбаться, потому что губ не было. Он видел теперь своё лицо со стороны: вместо губ темнел провал, в котором что-то слабо светилось. Его глаза стали углубляться, западая всё больше и больше. Затем — два чёрных пятна — они соединились в одно, какая-то рваная яма на лице вместо глаз.
Он был весь покрыт чёрными дырами. Вернее, он состоял из чёрных дыр, которые соединялись неровными кусочками плоти и одежды. То, что не пропало, он видел отчётливо: оливковую ткань шорт, каждую ниточку, каждый стежок. Он видел свою кожу — пупырышки пор, и как они дышат. Он видел каждый волосок на своём теле там, где ещё оставалось тело. Илья заметил, что волоски тоже дышат, но по-другому: не воздухом, а какой-то бесцветной жидкостью, что была разлита у него под его кожей. Потом он оказался внутри волоска: его втянуло туда, как в туннель, и там было светло.
Он очнулся на полу, манго размазалось рядом — липкое жёлтое пятно. Он был целый, не из чёрных дыр, только слабый и покрыт дурно пахнущей испариной. Илье казалось, что его тело облили мерзкой жижей, что обычно остаётся на дне мусорного бачка. Над манго кружились жуки. Они облетали Илью стороной и не спешили спускаться.
Илья медленно, осторожно сел на полу. Он огляделся: Дилл и нигде не было. Илья собрал манго с пола, встал и забросил раздавленный плод в джунгли. Он постоял немного, привыкая к себе. Внутри него что-то тянулось как росток.
Он чувствовал, как оно живёт в нём, отдельно.
Илья сошёл с террасы и пошёл к реке. Он зашёл в воду и несколько раз окунулся в красную реку. Стало лучше, он больше не чувствовал себя полым. В нём снова текла кровь, красная, как эта вода.
Дилли ждала его на берегу. Илья решил остаться в реке: ему казалось, здесь безопаснее. Он думал, что, пока он в воде, Дилли не сможет на него напасть. Он решил не смотреть ей в глаза. Дилли сидела на поваленном дереве и играла своими косами. Она оборачивала их вокруг головы и пыталась завязать под подбородком, как платок. Косы развязывались, и Дилли смеялась. Она поманила Илью рукой, зовя его выйти на берег. Илья покачал головой. Дилли засмеялась и что-то сказала ему на аравак. Ей было весело.
Потом Дилли встала босыми ногами на бревно и взмахнула руками, словно хотела взлететь. Илья ждал: он был готов нырнуть в воду, если что-то случится. Дилли описала левой рукой круг у своего лица. Затем она нарисовала пальцем много мелких окружностей у себя на платье. Она что-то сказала, но Илье это было не нужно: он и так всё понял.
Дилли видела его дыры. Она не напала на него на террасе, а просто показала ему, как она его видит. Дилли запрыгала на бревне на одной ноге, высоко задирая другую. У неё ничего не было надето под платьем. Илья видел её лобок.
Он вышел из воды. Дилли открыла ладони и подняла их вверх. Затем она описала ими две дуги в воздухе и опустила руки вниз вдоль своего тела, словно покрыв себя куполом. Она вытянулась и стала золотистой дрожью воздуха. Теперь Дилли переливалась, плыла как марево; она больше не была из плоти. Она была соткана из золотистых волокон, которые дрожали и пульсировали на бревне. В ней не было дыр.
Потом Дилли снова стояла перед ним — плотная, целая. Она не улыбалась и смотрела на Илью, пытаясь понять, видел он или нет. У Ильи кружилась голова. Ему хотелось пить, и кожу на лице как будто натянули слишком туго. Илья кивнул головой: он видел.
Дилли засмеялась и, схватив косы, прижала к лицу, сделав себе гигантские чёрные усы и бороду. Илья тоже рассмеялся, так это было неожиданно. Дилли спрыгнула с бревна и махнула рукой в сторону джунглей. Она что-то сказала, на этот раз по-голландски, но Илья понял только одно слово: «Алонсо».
Госпиталем оказалось длинное розоватое здание, самое дальнее от реки. Вернее, все три здания в джунглях были госпиталем. Здания соединяли прорубленные и вычищенные дорожки, достаточно широкие, чтобы проносить носилки с больными. Кто-то вырубал упрямую поросль каждый день, и она дожидалась ночи и тайно росла в мокрой тьме джунглей, чтобы на следующее утро протянуться жёсткими резиновыми ростками лиан вверх — к солнцу.
Место, куда привела его Дилли, пахло больницей: кафельные полы, вымытые раствором хлорки, окна, затянутые москитными сетками, и металлические тележки с лотками, покрытыми чем-то белым. Тележки стояли вдоль стен коридора, который оканчивался белой дверью.
Слева у двери гудел холодильник.
Дилли открыла белую дверь, и перед ними— как обещание — был полукруг большой комнаты со светло-зелёными стенами. Комната заманивала внутрь и казалась ещё больше от своей пустоты. В центре стоял длинный узкий металлический стол на колесиках, одинокий в этом полукруглом пространстве. На столе лежал маленький индейский мальчик, которого они вчера привезли. Он был мёртвый.
Илья остановился, не решаясь войти. Он не любил мёртвых. Он не хотел быть в одной комнате с этим мёртвым мальчиком. Илья подумал уйти. Но голос Алонсо уже позвал его внутрь, и Илья ступил в комнату. Он понял, что был в операционной.
Под потолком — над столом, где лежал ребёнок, — висели три больших прожектора. Они были выключены — и так светло. Вдоль стен стояли белые металлические шкафы. Рядом с операционным столом была железная тележка, тоже на колёсах; на ней стоял какой-то аппарат с проводами, похожий на кардиограф. Аппарат не был никуда подключён.
У одного из шкафов — похожая на голое дерево — тянулась вверх высокая металлическая стойка с двумя рожками. На одном из рожков висела пустая пластиковая ёмкость с прозрачным проводом — капельница. Рядом на полу сидел отец мальчика, индеец с высохшим лицом. Он был одет в зелёную хирургическую форму. Он был босой.
Илья не сразу увидел Алонсо: тот работал в углу, рядом с длинной металлической полкой вдоль стены. Перед ним стояла высокая рама буквой «П». К верхней перекладине рамы на кожаных лямках была подвешена старая голая индианка. Её туловище было туго обмотано белым бинтом. Она стонала.
Илья видел такие рамы на картинах про инквизицию. Он не сразу понял, что происходит. Затем Илья разглядел длинное корыто с водой, куда Алонсо клал развёрнутые мотки гипса. Он ждал, пока они намокнут, а затем оборачивал ими туловище женщины. У него была ступенька, если надо подняться повыше.
Алонсо поздоровался и кивком позвал Илью подойти поближе. Илья подошёл. Женщина была старая, со сморщенной коричневой кожей красноватого оттенка. Она была в сознании и глухо стонала откуда-то из живота. Алонсо не реагировал на её стоны; он был занят гипсом.
Дверь открылась, и в операционную заглянул молодой индеец в белом больничном комбинезоне. У него вдоль щеки шёл длинный шрам, будто кто-то пытался прорезать ему второй рот. Он спросил Алонсо что-то на аравак, но тот лишь покачал головой. Алонсо кивнул на Илью. Индеец закрыл дверь. Он был какой-то невесёлый.
— Выспались? — Алонсо закрепил очередную гипсовую ленту под высохшими мешочками женских грудей. Он отступил на шаг и осмотрел свою работу. Старуха застонала, и Алонсо вынул из эмалированного корыта очередной размокший круг гипса и стал его раскатывать на железной полке рядом с рамой. — Поможете мне? Я отпустил Геральта в перевязочную, так что мне нужна помощь.
Илья кивнул. Он никогда никого не гипсовал.
— Вы мокрый, — сказал Алонсо. — Вы купались в реке.
Илья снова кивнул: что тут скажешь?
Старуха пыталась поудобнее устроиться на лямках и начала двигать узловатыми ногами, словно ступая по воздуху. Алонсо коротко прикрикнул на неё, и она затихла, лишь всхлипывая от боли, будто икала. Алонсо засмеялся и погрозил ей пальцем. Он повернулся к Илье.
— Переоденьтесь. — Алонсо показал белой от гипсовой пудры рукой на один из шкафов. — Там.
Илья нашёл в шкафу аккуратно сложенные комплекты белых и зелёных врачебных форм: широкие, нелепо скроенные штаны и робу с вырезом на груди. Он подумал и снял мокрые шорты прямо здесь, где уже и так было двое голых — маленький мёртвый мальчик на операционном столе и живая старуха, подвешенная на раме. Было нелепо куда-то идти переодеваться.
Илья выбрал зелёный комплект: он помнил, что такие носят хирурги. Он решил выглядеть как хирург. Он вымыл руки щиплющим кожу раствором над стальной раковиной в углу. Илья пытался не смотреть на мальчика на столе. Он хотел быть поближе к живым.
Алонсо показал ему, что делать. Илья должен был сменить воду в корыте и затем класть туда мотки гипса. Новый моток нужно было разворачивать в воде сразу, как только вынимали предыдущий: Алонсо не мог терять на это время — гипс быстро твердел. Затем Алонсо показал Илье, как проверять готовность гипса.
Илья много кивал.
— А что с этой женщиной? — спросил Илья.
Он подал стоящему на ступеньке Алонсо развёрнутую, разглаженную ленту гипса. — Что с ней?
— Ничего особенного, — сказал Алонсо. Он был занят. — Компрессионный перелом, четыре позвонка. Четвёртый, пятый, седьмой, восьмой. Грудной отдел.
— Её только что привезли? — Илья проверил готовность гипса в корыте; было рано.
— Только что? — удивился Алонсо. Он рассмеялся. — Я бы тогда её сейчас не гипсовал. Нет, она пролежала у меня три недели на вытяжке, а теперь должна вернуться домой. Было бы правильно подержать её на вытяжке ещё, но она должна вернуться домой. Поэтому я делаю ей гипсовый корсет. Да, девочка?
Алонсо засмеялся и подмигнул старухе. Та заплакала, без слёз, одним горлом. Илья старался на неё не смотреть. Он смотрел в корыто, где намокал гипс. Он не знал, о чём говорить с Алонсо. Тот был мужем его женщины. Алонсо всё о них знал. С самого начала.
— А как она сломала спину? — услышал себя Илья. Он не понял, откуда у него взялся этот вопрос. Будто спросил кто-то другой.
— Упала с дерева. — Алонсо был недоволен, как гипс лёг на верхние рёбра старухи. Он её что-то спросил. Та тут же перестала плакать и ответила, тыкая худыми руками себя в тело. У неё был неожиданно молодой переливчатый голос. Алонсо засунул свои ладони под гипсовую ленту на рёбрах и ослабил её, чтобы меньше давило.
— С дерева? — Илья посмотрел на старуху. Он не представлял, что она может залезть на дерево. Он был удивлён. Ему было по-настоящему интересно. — А зачем она туда полезла?
— Зачем полезла? — Алонсо на секунду остановился. — Не знаю. Я никогда её не спрашивал. Я только знаю, как она упала: судя по перелому, она приземлилась на копчик. Я не знаю, что она делала на дереве.
Он спросил индианку на аравак. Та ответила короткой фразой, высоким молодым голосом. Она говорила как молодая и плакала как старуха. Она пыталась поправить лямки, на которых висела. Было видно, что ей больно.
— Она пряталась, — пояснил Алонсо. Он взял у Ильи новую гипсовую ленту и задумался, словно не зная, что с ней делать. — Она залезла на дерево, чтобы спрятаться.
— От кого?
Алонсо пожал плечами: он не знал. Ему это было неинтересно. Он наложил очередную ленту гипса, словно завёртывал старуху, как подарок, в обёрточную бумагу. Старуха снова застонала глухим плачем без слёз.
Вдруг кто-то запел. Илья обернулся: Дилли сидела на металлическом столе рядом с мёртвым мальчиком. Она поджала ноги, уткнувшись коленями в подбородок, и немножко раскачивалась.
Дилли поставила голые ступни мальчику на грудь и живот Она водила кончиком чёрной косы ему по лицу, словно хотела пощекотать.
Пел отец. Он тянул долгий белый звук — будто гипсовая лента у Алонсо в руках покрыла собой всё вокруг. Индеец сидел на полу у стены и не смотрел на своего сына. Он пел, ни на кого не глядя. В руке он держал странную фигурку из белой ткани, как мешочек, сшитый в форме человека. Из головы фигурки торчали белые нитки. Фигурка-мешочек висела у индейца на шее, и сейчас он вытащил её из-под зелёной больничной формы и держал в левой руке перед собой. Старуха заплакала в голос и стала крутиться на лямках.
Алонсо посмотрел на Дилли. Она встала на столе во весь рост и развернулась в сторону поющего индейца. Затем Дилли прокричала что-то высоким голосом и поставила босую ногу мальчику на лицо. Илье показалось, что её кожа вдруг стала темнее, а сама Дилли — выше ростом.
Индеец замолчал. Он сжимал свою фигурку-мешочек обеими руками и смотрел в пол. Старуха плакала всё громче и громче, словно что-то пыталось прорваться наружу из её высохшей груди. Илья боялся, что её вырвет. Он чуть отодвинулся.
Алонсо что-то негромко сказал Дилли по-голландски. Та отрицательно помотала головой. Она тряхнула косами, и они ударили её по плечам. Старуха вдруг замолчала и обвисла на лямках. Она закрыла глаза и, казалось, заснула.
Алонсо пожал плечами и позвал отца мальчика. Индеец посмотрел на Алонсо мимо Ильи. Белый был опиа, и на него было нельзя глядеть. Индеец помнил Чакетэ.
— В чём дело? — спросил Илья. — Что происходит?
— Он боится, что Дилли заберёт душу его сына и тот не сможет попасть к их предкам, — сказал Алонсо. Он снова повернулся к старухе и погладил обеими ладонями её гипсовый панцирь. — Нам нужно будет ещё две ленты, и мы закончим. — Алонсо потёр руки, словно хотел соскоблить с них белую пыль.
Илья сменил воду и положил очередной моток гипса в корыто. Он думал, что индеец прав: от Дилли можно всего ожидать. Он взглянул на Дилли. Та легла на стол рядом с трупом и прижалась к нему, накрыв его лицо косами. Она лежала тихо, будто сама умерла. Она была длиннее мальчика. Было слышно, как Дилли что-то шепчет.
Они закончили гипсовать старуху и начали обтирать мокрыми полотенцами белые подтёки гипса на её морщинистом красном теле.
Затем Алонсо медленно спустил её на пол.
Петли двигались вверх и вниз, ими можно было управлять. Алонсо взял старуху за руку и повёл к двери. Та шла неуверенно, выставив свободную руку вперёд, словно была слепой и боялась на что-нибудь наткнуться. Алонсо открыл один из шкафов, достал сложенную белую простыню и накинул старухе на плечи, словно плащ. Он вывел её в коридор и громко позвал Геральта. Затем он что-то сказал старухе и закрыл дверь.
Алонсо окликнул отца мальчика и пошёл к раковине. Он долго мыл руки раствором и затем тщательно вытер ладони полотенцем, которое ему подал индеец. Алонсо достал из низенького шкафа коробку с резиновыми перчатками и открыл круглую крышку автоклава. Будто жерло пушки.
Алонсо что-то объяснял индейцу на аравак, и тот слушал молча, не кивая. Он продолжал сжимать в руке свой белый мешочек. Алонсо показал ему на раковину и пошёл к Илье. Индеец начал мыть корыто из-под гипса. Затем он стал протирать руки раствором.
— Спасибо. — Алонсо улыбнулся. — Вы мне очень помогли. Действительно. Одному трудно гипсовать.
Илья кивнул. Он не мог заставить себя смотреть Алонсо в глаза.
— Вам не нужно смущаться, — сказал Алонсо. — Я вам благодарен за её счастье. Правда.
Илья кивнул. Индеец закончил мыть руки и подошёл к ним с коробкой резиновых перчаток. Он взял одну и растопырил её, чтобы Алонсо мог просунуть туда пальцы.
— А какая она была маленькая? — вдруг спросил Илья. — Вы же знали её маленькую, в приюте?
Алонсо поморщился: рука плохо протискивалась в тугую резину.
— В каком приюте? — спросил Алонсо. Индеец уже держал вторую перчатку.
— Как в каком? — не понял Илья. — Вы же были с ней вместе в приюте, в De Brug.
Алонсо надел обе перчатки и достал из автоклава металлический лоток с инструментами. Он подошёл к столу, на котором лежали мёртвый мальчик и Дилли. Индеец встал за его спиной.
— В De Brug? — Алонсо рассмеялся. — A-а, эта история. Так она вам рассказала эту историю?
Он о чём-то тихо попросил Дилли, и та молча сползла со стола на пол. Она села на корточки и смотрела на Алонсо снизу.
— Приют, — сказал Алонсо; ему было весело. — Ещё одна история.
— Так это неправда? — Илья помотал головой, стараясь стряхнуть с себя осознание обмана. — Значит, не было никакого приюта? Значит, она не из De Brug?
Алонсо перестал улыбаться. Он внимательно посмотрел на Илью. Он покачал головой:
— Что бы я вам ни сказал сегодня, завтра история будет другой. Неужели вы ещё не поняли, что завтра история всегда будет другой?
Алонсо расправил пальцы резиновых перчаток. Он показал индейцу на пустое вымытое корыто из-под гипса, и тот поставил его на высокий металлический стул рядом с операционным столом. Илья понял, что сейчас будет происходить. Он хотел уйти.
— Как же тогда знать, что правда? — спросил Илья. Он хотел уйти до того, как Алонсо начнёт. Он хотел уйти, не дожидаясь ответа.
— Правда. — Алонсо теперь помогал надеть перчатки индейцу. — Да для кого что. Для меня, — он показал на стол, — этот мёртвый мальчик — это правда. Он умер, смерть пришла за ним, и я ничего не смог сделать. Вы хотите правду? — Он повернулся к Илье. — Вот правда: два дня назад этого ребёнка укусила самка комара антофелес и впрыснула слюну ему в кровь. Это правда. Вместе со слюной в кровь попала заражённая клетка, спорозоит, которая мигрировала в печень. Там она начала делиться, производя разносчиков инфекции — мерозоитов. Это тоже правда. Из печени мерозоиты проникли в кровь и вызвали у него церебральную ишемию, от которой он умер сегодня утром. И сейчас я должен его резать и показать его отцу, что произошло, но он мне всё равно не поверит. Он всё равно будет думать, что это тётка жены, с которой он не поделился рыбой месяц назад, наслала злых духов и они съели его сына изнутри. И вы знаете, — Алонсо вдруг улыбнулся, — это тоже правда. Для него. И она ничуть не хуже моей.
— А для вас? — спросил Илья. — Для вас?
— У меня своя правда, — сказал Алонсо. Он разложил инструменты в одну линию на белом полотенце рядом с мальчиком. — То, что мне не хватает одноразовых шприцов и латримина от малярии, — это правда. Когда в посёлках начинается тиф и мы здесь целыми днями моем пол после кровавого поноса — это правда. Сломанные кости, как у этой старухи, — это правда.
Алонсо взял какие-то зубчатые щипцы и положил мальчику на голый живот. Он посмотрел на Илью.
— А истории Кассовского? — спросил Илья. Он был совсем рядом с дверью. Он хотел уйти как можно скорее, но не мог не спросить. — А дети De Brug, План, ионы — это правда?
— Наверное. — Алонсо пожал плечами. — Не знаю. Мне хватает своей правды. — Он улыбнулся и положил руку на маленький труп. — Мне хватает этого мальчика.
Алонсо отвернулся к столу. Он взял узкий скальпель и наметил его острым концом начало разреза — чуть ниже грудины. Индеец с корытом в руках стоял рядом. Илья закрыл за собой дверь. Он пошёл прочь по длинному коридору, вдоль которого белели закрытые двери, и за каждой пряталась своя правда.
КОППЕНАМЕ РИВЕР 6
ИЛЬЯ не сразу заметил, что Дилли теперь всюду за ним ходит. Она стала как лёгкая, неслышная тень в белом платьице с оторванными пуговицами. Как собака, которую не видишь, но она всегда рядом: протяни руку — и она уткнётся мокрым носом в ладонь. Илья не хотел протягивать Дилли руку.
Он вернулся в дом и нашёл в столовой хлеб из кассавы — на большой синей тарелке в старом тёмном шкафу. Ему нравился этот хлеб: он был чем-то похож на мацу — плоский, твёрдый, безвкусный, как напоминание о прошлом, о простой жизни, которой он никогда не жил. Илье сейчас была нужна эта пресность: она его успокаивала. Он ел хлеб и снова начинал верить в общую незыбкость существования.
Дилли теперь всё время держалась у него за спиной. Она ходила за Ильёй по длинному пространству коридоров, её босые ступни были неслышны за его безразличными к пустоте дома шагами. Илья открывал все двери и заглядывал внутрь: никого. В некоторых комнатах стояли узкие кровати, в большинстве висели гамаки. Мебели в спальнях почти не было. Он не нашёл ни одной комнаты с двуспальной кроватью. Он хотел видеть, где Адри спит с мужем.
Дом был пуст. Единственно слышные голоса приходили с деревянной пристани, где индейцы перекликались странными длинными словами, в которых гласных было больше, чем нужно.
Илья пошёл на пристань. Он решил отсюда уехать. Он решил освободиться от чужой воли, что крепко держала его все эти дни. Он решил не участвовать в их Плане.
Дилли скользнула за ним, узкая и неслышная, скорее шорох, чем живой человек.
Илья вышел к реке и зашагал по длинному настилу к индейцам, толпившимся с правой стороны причала. Сквозь доски настила было видно движение тёмной реки. Иногда вода под настилом вдруг поднималась и плескала в доски снизу. Илья не знал, отчего это происходит.
Индейцы стояли у большой моторной лодки, привязанной к причалу. Они принимали из лодки какие-то серые мешки, которые им подавал Хенк — похожий на идиота индеец, подобравший вчера утром Илью и Кассовского вверх по реке. Он не поздоровался с Ильёй, когда тот подошёл: он был занят.
— Парамарибо. — Илья показал на лодку, потом на себя. — Я, — он махнул рукой вниз по течению, — Парамарибо.
Индейцы смолкли. Они не взглянули на Илью и даже перестали смотреть друг на друга. Индейцы отошли в сторону, оставив мешки на причале. Они отвернулись от Ильи и Дилли и стали молча смотреть на реку. Илья не понимал, чем он их обидел. Он всего лишь хотел отсюда уехать.
— Ни. — Хенк покачал головой. — Ни Парамарибо. — Он показал вверх по реке: — Ik ga daar over.
Хенк плыл в другую сторону, вверх по реке, на юг. Илья подумал, что это всё равно; главное, добраться до большого посёлка, а там он найдёт кого-нибудь, кто отвезёт его на север. Илья кивнул.
— О’кей, я поеду туда. — Илья махнул рукой на юг. — Я с тобой.
Он хотел спрыгнуть в лодку, но Хенк поднял руки и шагнул ближе к носу, не пуская Илью. Илья остановился.
— Ни. — Хенк показал рукой вниз по течению, где темнела синяя гора. — U gaat daar over. U gaat naar Berg Hebiveri. — Хенк ещё раз показал на гору: — Хебивери Маунтэн.
Илья посмотрел на синюю гору. Он понимал Хенка, хотя тот говорил по-голландски: Парамарибо был на севере, и нужно было плыть в сторону Хебивери Маунтэн. Но у него не было лодки. Илья решил попробовать ещё раз.
— Возьми меня с собой, куда ты едешь. — Илья жестикулировал, поясняя свои слова. — Я заплачу. Я тебе заплачу.
Он врал. У него не было денег; у него вообще ничего не было. Илья хотел сунуть руку в карман, чтобы показать, как он заплатит, и не смог: у него не было карманов. Илья был в зелёных хирургических штанах, а его мокрые шорты остались на полу в светлой полукруглой комнате, где доктор Алонсо сейчас резал мёртвого мальчика, которого убили разносчики малярии мерозоиты и злые духи, насланные тёткой его матери. В шортах у Ильи, впрочем, тоже не было денег.
— Я — с тобой, — повторил Илья. — Я тебе заплачу.
Хенк кивнул. Он поднял руку, прося Илью подождать, и выбросил на деревянный причал два последних мешка. Индейцы продолжали стоять к ним спиной, молча глядя на реку.
Хенк включил мотор на корме и прошёл обратно на нос. Он взглянул на Илью и улыбнулся. Его рот был открыт, и в уголках рта скапливалась слюна. Хенк её сглатывал.
Он снова поднял левую руку и затем правой вдруг дёрнул за конец верёвки, державшей лодку у пристани. Канат развязался одним движением и упал в воду. Хенк сильно оттолкнулся от причала ладонью и бросился на корму, к мотору. Он перевёл его из нейтрального положения на задний ход и мгновенно отошёл от пристани метров на тридцать. Здесь он снова поставил мотор на нейтральную скорость. Он махнул Илье:
— U gaat naar Berg Hebiveri! — крикнул Хенк. — Хебивери Маунтэн!
Он показал рукой на синюю гору. Затем Хенк включил передний ход и развернул лодку вверх по реке. Лодка качнулась, преодолевая движение воды, и, подрезая течение, пошла на юг. Илья посмотрел, как она теряется в дальнем воздухе.
Он оглядел причал: других моторок не было. Индейцы продолжали молча стоять к нему спиной, и от них помощи ждать не приходилось. Илья пошёл на другую сторону помоста. Он решил, что всё равно уедет. Он решил, что уплывёт прямо сейчас.
Он выбрал небольшую пирогу, поперёк которой лежал длинный шест, чтобы отталкиваться от дна, где река была мелкой. Илья никогда не плавал на пироге, но думал, что это не очень сложно: нужно просто держаться ближе к берегу, чтобы отталкиваться. Кроме того, он собирался плыть вниз по течению, и река сама ему поможет. Он шагнул в выдолбленную узкую лодку, и она качнулась под его весом. Илья отвязал её от причала и оттолкнулся шестом.
Вода мягко подхватила лёгкую пирогу, и лодка пошла вниз. Течение здесь было слабым, но Илья понимал, что ему всё равно придётся отталкиваться, чтобы не снесло на середину. Он был метрах в десяти от пристани, когда услышал всплеск. Илья оглянулся: индейцы собирали мешки на неизвестно откуда взявшуюся тачку и не смотрели в его сторону.
Затем он увидел тёмный шар, вынырнувший из воды справа от лодки. За шаром плыли длинные косы. Дилли догнала пирогу в несколько взмахов и втянула себя на открытую, сходящую в воду корму. Она села на дно у его ног и обняла свои голые колени. Её тело темнело сквозь прилипшее мокрое белое платье, и Дилли казалась голой.
Илья стоял в лодке, держа в руках шест, и река несла их вниз, на север. Они держались ближе к берегу, и каждый раз, когда лодку начинало сносить к середине реки, он погружал шест в красную воду и находил дно, чтобы подправить курс. Они плыли в неторопливой воде Коппенаме Ривер и молчали, странно близкие друг другу, как брат и сестра. Джунгли вдоль ближнего берега были хорошо видны, но смотреть на них было неинтересно.
Вода, вначале мягкая и неспешная, становилась всё сильнее, и Илья чувствовал, что река теперь плотно обнимает узкую пирогу, и он должен был постоянно отталкиваться от дна, чтобы удержаться у земли. Берег изогнулся дугой, и за поворотом лес с обеих сторон двинулся навстречу друг другу, словно хотел соединиться и стать одним. Река здесь была уже и быстрее, быстрее. Илья еле удерживал лодку, которую тянуло к середине воды, где было светлее от течения.
Они плыли уже почти час и хорошо видели синюю гору впереди, когда перед ними появились деревья, растущие из реки. Деревья тянулись от берега метров на пятьдесят в глубь воды, чёрные, голые, словно после пожара. На деревьях сидели белые речные птицы. Илья мог видеть их гнёзда. Птицы молчали и слушали, как течёт вода. Казалось, они не могут летать.
Илья решил проплыть между деревьями: он боялся смещаться близко к течению. Деревья росли со дна, и, стало быть, здесь было мелко.
Их лодка вплыла в этот странный лес; вода тут была медленнее, и Илья легко отталкивался от илистого дна, высоко выдёргивая шест после каждого толчка. Птицы продолжали сидеть на голых верхушках, безмолвные и безразличные к движению людей среди них. На одном из стволов блестящим шнуром висела длинная тонкая змея. Она висела маленькой сплющенной головой вниз.
Омут ждал их у конца мокрой рощи. Илья смотрел вверх, на птиц, и не заметил тёмную воронку воды. Лодку закрутило и перевернуло кормой вниз по течению. Илью качнуло, и он сильно шатнулся, накренив лодку бортом почти до воды. Он услышал смех Дилли, и это помогло ему сохранить равновесие.
Илья удержался, присев на корточки. Лодку продолжало крутить в кольце воды, и здесь было слишком глубоко, чтобы помочь себе шестом.
Совсем близко от них росло большое голое дерево, что странно изгибалось над рекой, словно стелилось вдоль её красной воды. Илья оттолкнулся концом шеста от ствола дерева, и лодка выскользнула из омута к середине потока. Течение подхватило пирогу, и их быстро понесло вниз, вперёд кормой. Они были свободны. Илья решил развернуть лодку. Он ткнул шестом в воду и чуть не упал: здесь не было дна.
Он больше не мог управлять пирогой. Он стоял посреди лодки, держа в руках бесполезный теперь шест. Илья пытался найти дно с обеих сторон, но понимал, что они уже были на середине реки и здесь слишком глубоко. Течение, светлая струя посреди красной воды, несло их вперёд, становясь всё быстрее, сильнее. Течение крепко обнимало лодку, и та, послушная потоку, плыла кормой вперёд, на север, на север.
Синяя гора впереди становилась всё отчётливее и больше. Она стояла посреди реки, и их несло к этой горе. Илья не знал, как остановить лодку. Он уже видел отдельные деревья на каменном склоне горы. Он взглянул на Дилли, что сидела на дне, у его ног. Дилли заплетала мокрые волосы в косу и смотрела назад, откуда они приплыли. Она почувствовала его взгляд и обернулась. Она сидела против солнца, и казалось, что у неё по два зрачка в каждом глазу.
Река ещё сузилась и стала быстрее. Илья мог теперь видеть, что между горой и левым берегом есть пространство. Он надеялся, что река вынесет их в этот светлый проблеск синего воздуха и затем станет медленнее. Он надеялся нащупать дно.
Вдруг лодка подпрыгнула, словно кто-то ударил её снизу. Илья присел на корточки и увидел в быстрой воде сзади чёрный выступ камня. Он огляделся: здесь, ближе к горе, камни торчали из воды почти всюду, и он их раньше просто не видел в красной тёмной реке.
Илья посмотрел вперёд: их несло в просвет между горой и берегом. Он обрадовался и встал в лодке, чтобы разглядеть воду получше. И только тут Илья понял, что их несло на камни. Вода там бурлила, продираясь между чёрными, торчащими из реки глыбами. Камни становились всё больше, всё ближе, и он уже мог видеть застрявшие между ними стволы упавших в реку деревьев.
Лодка снова напоролась на верхушку камня, и её бросило в сторону. На какое-то время они застыли, повернувшись к порогам бортом. Затем поток снова подхватил лодку, развернул её носом к камням впереди и понёс прямо на них. Вдруг лодка качнулась и стала легче; Илья оглянулся и увидел, что Дилли нет рядом. Она прыгнула в реку, и её сразу не стало видно в тёмной воде.
Он не знал, что делать. До порогов оставалось метров сто, и Илья понимал, что лодка не проскочит между камней. Он решил затормозить и нацелился шестом в большой чёрный камень чуть сбоку по курсу. Илья ткнул концом шеста в камень, стараясь упереться, и его сильно ударило в грудь. Его сбросило в реку, посреди крутящейся кольцами воды, и он видел, как лодка, лёгкая без людей, унеслась вперед.
Илью развернуло течением и ударило лицом о камень. Он попытался ухватиться за ближайший голый выступ, но его ладони не удержались на гладкой, скользкой от речной склизи поверхности, и река потащила его между камней и застрявших брёвен вниз по течению, на север.
Илья не успел испугаться: всё случилось слишком быстро. Его било о камни, и это замедляло путь к порогам. Он не мог сопротивляться потоку: он просто старался удержаться на поверхности и не дать перевернуть себя лицом вниз. Илья увидел, как мимо него пронесло длинную палку, и понял, что это был его шест. И тут что-то схватило Илью снизу и потянуло на дно. Он попытался рвануться наверх, но не смог. Илья ушёл под воду и опускался всё ниже, ниже.
Он хотел вырваться, но его цепко держали за рукав зелёной хирургической робы. Илья нащупал то, что его схватило, и закричал от страха, забыв, что был под водой. Его держала чья-то рука и тянула всё ниже и ниже. Вода попала ему в горло, когда он открыл рот, и Илья стал давиться, пока не выплеснул её через нос. Он ослабел и перестал сопротивляться. Он почувствовал, что ноги коснулись дна.
Мутное, почти неузнаваемое в воде лицо Дилли очутилось рядом с его лицом. Она крепко держала Илью за рукав и дёргала в сторону. Неожиданно Илья осознал, что здесь, на глубине, нет течения и он может управлять своим телом. Дилли махнула еле различимой в красной воде рукой в сторону и потащила Илью за собой. Илья понял и поплыл за ней.
Они прижались к подводному камню, и Дилли начала медленно подниматься вверх, распластавшись на склизкой глыбе. Илья повторял её движения. Ближе к поверхности становилось светлее, и он снова начал чувствовать течение. Они высунулись из воды, хватая раскрытыми ртами мокрый ветер, и долго лежали, прижатые к камню потоком. Затем Дилли набрала воздух, смешно надув щёки, и начала сползать в воду. Илья всё понял и последовал за ней.
Они проплывали по дну, сколько могли, выбираясь на камни подышать. Илья заметил, что Дилли движется вправо от течения, и скоро вода стала медленнее, и они смогли плыть всё ближе к свету над рекой. Затем течение совсем ослабло, и они вылезли на камни и долго сидели, смотря на реку у их ног. Они находились у подножия горы, прямо за большим голым выступом, и отсюда можно было хорошо видеть берег.
Здесь кончались пороги, и вода быстро и неопасно текла по камням мелким потоком.
В ней можно было стоять и даже идти, держась за острые выступы глыб. Дилли встала, мотнула распустившимися мокрыми волосами и молча пошла к выступу горы.
Они обогнули выступ и остановились: дальше была спокойная вода. Здесь, между выступом и берегом, лежала тихая заводь, которая уходила под гору, где терялась в темноте. Отсюда до берега было метров двести, не больше, и Илья мог туда свободно доплыть.
Дилли повернулась к Илье: маленькая, тонкая, в рваном белом платьице, что теперь висело на ней клочками. Илья увидел глубокие царапины у неё на руках и только теперь почувствовал, как у него болит тело от ударов о камни.
Он представил, как он выглядит — весь в синяках, — и рассмеялся. Дилли не улыбнулась в ответ. Она была очень серьёзная. Дилли показала на гору, что уходила высоко вверх, и сказала:
— Хебивери Маунтэн.
Илья кивнул. Ему было всё равно.
Дилли начала спускаться к заводи, осторожно нащупывая босыми ступнями камни. Илья следовал за ней. Затем Дилли скользнула в воду и поплыла, легко и бесшумно, сливаясь с рекой. Её распустившиеся волосы плыли за ней, как чёрная шаль.
Они доплыли до середины, когда Дилли вдруг повернула в глубь горы. Илья не сразу понял, куда она плывёт, и просто решил держаться за ней. Он думал, что Дилли почему-то хотела выплыть на берег ближе к горе. Он не знал почему.
Дилли продолжала плыть внутрь заводи, и скоро над ними нависла гора. Илья окликнул Дилли, но она не оглянулась. Она плыла в глубь горы, в темноту. Илья не мог понять зачем. Он хотел повернуть к берегу и окликнул Дилли ещё раз. Дилли продолжала плыть не оборачиваясь. Илья подумал и поплыл за ней: он не хотел оставаться один.
Они были внутри широкой пещеры, заполненной водой. Каменный свод терялся над ними в темноте, и скоро Илья перестал видеть Дилли. Он несколько раз её позвал, но его голос ударился о камень горы и вернулся к нему эхом. Темнота вокруг была серая, словно отражала цвет скалы. Темнота была мягкой, и было не страшно плыть в этой воде.
Свет появился неожиданно: сначала слабым свечением впереди, а затем всё явнее, зовущее. Илья поплыл быстрее, держа голову над водой, чтобы не пропустить свет. Он понял план Дилли: она знала, что гору можно проплыть насквозь и выплыть с той стороны. Он подумал, что там должен быть посёлок.
Скоро Илья осознал, что свет впереди — не свет дня. Это был жёлтый свет, три точки жёлтого света. Он плыл к фонарям. Фонари висели у стены, которой кончалась пещера, и вдоль стены тянулся деревянный помост. У помоста плескались привязанные лодки. Дилли здесь не было.
Он доплыл до высокого края причала и подтянул себя вверх. Илья лежал на животе на жестких досках и дышал плотным воздухом горы. Затем он сел и осмотрелся вокруг. Он насчитал восемь лодок. Это были моторные лодки. В каждой могло уместиться человек шесть.
Одна лодка была больше других. В ней — как обычно с прямой спиной — сидел Антон.
ХЕБИВЕРИ МАУНТЭН 1
ОНИ встретили друг друга без слов; Илья устал удивляться. Антон поднялся, и теперь они стояли, рассматривая один другого, словно пытаясь понять, изменились ли они за прошедшие две недели. Антон поднял руку и выключил закреплённый у него на лбу шахтёрский фонарь. Теперь, выключенный, фонарь стал похож на коробочку тефиллин, что когда-то носил Кассовский, пока беспалый колдун Ва Оджи не бросил её в огонь. Антон ступил из лодки на причал и сел на пустой ящик около тёмной дыры прохода куда-то в глубь горы. Илья подумал и остался стоять.
— Ты сам был должен приплыть, — сказал Антон. — Ты и Дилли. Вы сами должны были найти дорогу сюда.
Илья не отвечал. Он тоже сел на причал, прислонившись спиной к тёплой скале. Было не ясно, отчего камень тёплый: солнце сюда не проникало, и нечему было нагревать гору. Илья закрыл глаза и на секунду заснул, словно кто-то его выключил и затем включил вновь. Он потёр щёки и лоб, чтобы проснуться.
Было слышно воду. Заводь жила в темноте горы, укрытая от течения и ветра с реки, и эта серая масса воды чуть колыхалась, колебля воздух пещеры. Словно двадцать тысяч бабочек одновременно летали во тьме.
— Он всё лжёт, — сказал вдруг Илья. Он сам не понял, отчего он это сказал. — Вы все всё лжёте.
Они помолчали. Потом Антон включил фонарь на лбу и направил его на Илью. Илья поморщился от света.
— Что именно? — спросил Антон.
— Всё, — сказал Илья. Ему было очень легко, словно он долго нёс что-то тяжёлое, а потом отдал кому-то другому. Илья засмеялся. — Все его истории. Не было никакого приюта. И Алисы не было. Все ваши истории — ложь.
— Странно. — Пятно света скользнуло у Ильи вдоль груди и ушло в сторону, замерев рваным жёлтым кругом на чёрной скале. — Ты не веришь в истории, которые рассказывают живые люди, и в то же время веришь старым, много раз переписанным книгам о неизвестном мёртвом боге. Ты не веришь женщине, которую любишь, и веришь религиям, придуманным людьми.
— Брось. — Илья хотел лечь на деревянный настил — у него начало болеть тело от ушибов о камни. Он подумал, что Антон расценит это как слабость, и остался сидеть. — В религиях важны не факты, а смысл, метафора. Не важно, был бог или нет. Важно, что он сказал, какими быть нам.
Антон неожиданно засмеялся. Его смех отталкивался от камня вокруг и уходил в темноту над водой, откуда приплыл Илья. Там, вдали, смех лопался и переставал быть.
— Знаешь, — Антон выключил фонарь, но темнее на причале отчего-то не стало, — ты не перестаёшь меня удивлять своим набором готовых банальностей. Не важно, был он или нет, но важно, что он сказал?! Но если его не было, то кто это всё за него сказал? Люди, которые его придумали? Люди, которые придумали этику и мораль, чтобы контролировать других людей и заставить их чувствовать себя виноватыми от собственного несовершенства? — Антон покачал головой, и кружок света на камне рядом с Ильёй тоже качнулся из стороны в сторону, вторя ему. — Ты всегда меня раздражал своей банальностью, обычностью. Я всегда думал: почему ты? Ну почему такому, как ты?
Илья молчал: он не знал почему. Он лишь знал, что всё должно решиться здесь, внутри синей горы, куда он приплыл сам. Он хотел выждать и дать Антону говорить.
— Ты такой… обычный, такой… никакой. — Антон улыбнулся. — Знаешь, что меня больше всего в тебе раздражает? Твоя неопределённость. Ты ни в чём до конца никогда не уверен; одна рефлексия и никакой веры. Ты всё подвергаешь сомнению, но боишься отвергнуть. До конца. Ты всегда оставляешь лазейку, тропку назад. Помнишь, как ты объяснял мне, что бог не занят отдельными судьбами, что он слишком велик для этого? Он занят вселенной, миропорядком, и потому глупо надеяться на него и о чём-то просить? Но когда тебе плохо, когда ты напуган, ты — с твоим интеллектуальным богосомнением — зовёшь его и просишь о помощи. Ты мне сам рассказывал, что молишься каждый раз, когда садишься в самолёт. На всякий случай.
Это была правда: каждый раз перед взлётом и посадкой Илья читал «Шема Исроел Адонай Элохейну…». Он не знал, почему он выбрал именно эту молитву. Впрочем, особого выбора не было: это была единственная молитва на иврите, которую он знал. Илья считал правильным молиться на иврите.
Неправдой было другое: он никогда не рассказывал об этом Антону. И вообще никому.
— Давай, зови своего бога, — весело сказал Антон. — Только бесполезно: он не придёт.
Ему здесь плохо — слишком плотная энергия, слишком много материи. Это мы должны вернуться к нему. В прямом смысле.
— И что, вы нашли путь? — Это был вопрос, но Илья произнёс его как утверждение. — Вы нашли путь?
Где-то под настилом плеснуло водой. Словно тёмная вода тоже хотела знать, как вернуться к богу, и нетерпеливо требовала ответ.
Они долго молчали. Илья начал бояться, что Антон заснул. Или ему просто нечего сказать и он сейчас в этом признается. Илья хотел знать: вдруг эти люди поняли, догадались, открыли то, что другие искали и отчаялись найти? Илья хотел надеяться. Жёлтый лучик снова поселился у Ильи на груди. И погас.
Он еле видел Антона — тёмный силуэт в тёмном воздухе тёмной горы. Они долго сидели недвижные, рядом, каждый в своём дальнем сознании, каждый — не вместе с другим. Потом Антон встал и зажёг свет у себя на лбу.
— Пора, — сказал Антон.
Он встал и пошёл к чёрной дыре прохода в туннель. Он не глядел на Илью.
— Что пора? — Илья тоже встал. Он не хотел оставаться один.
— Пора, — повторил Антон; он уже был в тёмном проёме туннеля. — Тебе пора.
Воздух в туннеле был плотный, будто в сжатых лёгких. Таким воздухом не хотелось дышать. Илья едва успевал за Антоном.
Скоро начались пещеры. В темноте Илья не мог понять, одна это огромная пещера, разделённая сводами на отсеки, или несколько пещер. Он заметил, что стало ещё жарче. Они продолжали спускаться — постепенно, полого. Вдруг туннель кончился, и они оказались в небольшом каменном раструбе, от которого чёрными провалами веером уходили проходы. Отсюда можно было идти в любую сторону.
У одного из проходов в камень был вбит железный крюк, на нём висела верёвка.
Вокруг были люди. Илья их знал. Он их знал почти всех. Их лица были неровно освещены сверху шахтёрскими фонарями на лбах, а тела расплывались в тонувших кругах бледно-жёлтого света.
Руди и Микка — бывшая миссис Рутгелт — смотрели, словно пытаясь узнать, словно он был кто-то из их дальней жизни и они успели его позабыть. Справа от них Эдгар и Роланд, одного роста и оттого странно похожие, загораживали собой Ому. Ома стояла, опираясь на зонтик, и не смотрела на Илью; она смотрела на Кэролайн, что была совсем рядом с Ильёй, совсем. Илья хотел до неё дотронуться, но понял — нельзя.
Он не знал почему, но было нельзя.
Ещё дальше справа Илья узнал Джеффа; он был с ним в Нью-Йорке на латихане. Рядом с ним стояла красивая жена Ави, но самого Ави не было видно; слева от неё темнело строгое лицо Дези.
Они держались за руки. Илье вдруг стало важно, где Ави, и он поискал его глазами, но не нашёл. Возможно, он был среди других людей, что стояли чуть дальше, во втором ряду, и Илья не мог их разглядеть. А возможно, его там и не было.
Он посмотрел на Антона. Тот улыбался. Рядом, слева, стояли его родители. Мать Антона, со скошенным от недостатка освещения лицом, кивнула Илье. Илья от неожиданности кивнул в ответ. Он не знал, что сказать.
— Вот, — Антон показал на проход, у которого был вбит крюк, — дальше ты один.
Илья взглянул в темноту прохода; там ничего не было. Он понимал, что всё, что происходит, это инициация и нужно её пройти, чтобы стать членом странной группы людей, которые были не теми, кем были.
— А вы все? — спросил Илья. — Вы что, не пойдёте со мной?
Он не хотел идти один по тёмному каменному туннелю. Он ещё раз обвёл взглядом стоящих перед ним людей; их лица были еле различимы в свете фонарей, горящих на лбах. У Омы фонаря не было, но её лицо отчего-то было видно не хуже других. Она не смотрела на Илью.
— Нет. — Антон засмеялся. — Дальше ты один. Не бойся, тут недалеко.
Ему было весело. Он потушил свой фонарь. Илья пошёл к проходу. Здесь, у границы темноты, он вспомнил слова Кассовского. Илья остановился и обернулся к Антону.
— Странно, — Илья пытался разглядеть его лицо, — Кассовский мне говорил, что все здесь меня любят. Кроме Омы. А ты, оказывается, меня тоже не любишь.
Это и вправду было странно.
— Не горюй, — сказал Антон. — Я постараюсь тебя полюбить.
ХЕБИВЕРИ МАУНТЭН 2
ГОРЫ растут не только вверх. Поднятие почвы нужно уравновесить: Земля поддерживает гравитационный баланс между своими слоями. Те же компрессионные силы, что выталкивают массы камня над окружающей поверхностью, выдавливают другой камень вниз. Земная кора в таких местах много толще. Это называется «корень горы».
Илья однажды читал, как растут горы, и сейчас ему казалось, что туннель — узкий, едва ли не в ширину плеч — шёл так глубоко, словно стремился выйти в это утолщение, к корню Хебивери Маунтэн. Он трогал неровный камень туннеля и удивлялся, отчего камень тёплый.
Впереди блеснул красный огонь и пропал. Илья повернул вслед за изгибом подземного пути и зажмурился от неожиданности света вокруг. Он ничего не мог видеть, но понимал, что здесь кто-то есть. Он протянул руку и опёрся о каменную стену горы. Камень был тёплый.
Кто-то — рядом — взял Илью за руку, повернул к себе и обнял. Адри поцеловала его в губы — легко, вскользь, найдя кончиком языка его язык. Она прижалась к нему, и он чувствовал её тело вдоль своего. Это длилось мгновение. Потом он был снова один, и Илья знал, что нужно открыть глаза.
Свод над ним уходил так высоко, что казалось — там чёрное небо. Илья не мог видеть дальние от него стены пещеры: они растворялись в мягкой серой мгле, что заполняла края видимого мира вокруг.
Пещера была огромной, и он не понимал, как она умещается внутри горы. Её пол полого скатывался вниз, к центру. Вернее, пол расходился от центра во все стороны, стремясь вверх, как распустившийся цветок.
В центре пола не было. В центре, из овального жерла диаметром метров в шесть, рвался огонь. Огонь был разноцветный — то бордовокрасный, то холодный синий, то вдруг жёлтый с белыми проблесками внутри. Огонь горел ровно, но иногда поднимался выше, словно хотел выпрыгнуть и убежать. В воздухе пещеры плыл слабый запах газа. Было тепло.
Он повернулся к Адри, но там, где она только что была, его ждал Кассовский. Он держал Дилли как-то странно — не за руку, а за пальцы, высоко в воздухе, словно приглашая её на старый манерный танец.
Свет из его фонаря ударил Илье в глаза. Это продолжалось секунду, а потом Кассовский провёл Дилли к огню. Здесь он остановился и поманил Илью свободной рукой.
У огня было не жарче и отчего-то спокойнее. Илья подошел и встал метрах в двух от Кассовского. Тот отпустил Дилли и выключил фонарь: здесь было светло. Дилли заплетала косу, и у неё это не получалось: волосы не хотели слушаться и мягким чёрным шёлком выскальзывали вдоль шеи к плечам. Дилли топнула босой ногой о каменный пол, жалуясь на свои волосы. Её тёмный взгляд скользнул по Илье, и Дилли смешно сморщила нос.
— Вы знаете, что там, внизу? — спросил Кассовский. Он смотрел поверх Ильи, словно боялся попасть ему в глаза лучом своего уже потушенного фонаря. Илья обернулся: вдруг Кассовский спрашивает кого-то другого? Но там никого не было: лишь жёлтый лучик фонаря у Адри на лбу.
Илья повернулся обратно к Кассовскому.
Дилли сидела на полу в своей любимой позе — обхватив руками колени и уронив на них голову. Вблизи свет от огня падал неровно, и казалось, у неё пол-лица.
— Там газ. — Илья устал и тоже хотел сесть на пол. — Природный газ. Недра.
Последнее звучало глупо, но он решил не поправляться. Много чести.
— Там, — Кассовский показал вниз, откуда вырывался огонь, — там заперт хаос.
Илья промолчал. Он решил выслушать объяснения Кассовского. Он понимал, что это последняя часть Плана, и решил пройти всё до конца. Он решил остаться и потом уговорить Адри улететь с ним в Нью-Йорк.
— Вы помните миф Гесиода о Хаосе? — Кассовский не стал ждать ответа. — Всё произошло из Хаоса, чёрной бездонной тьмы, которая ничто. Гея, Земля, родилась из хаоса, и Тартар, подземный мир, родился из хаоса, и Никс, чёрное небо, и Эрос, любовь. Хаос, это ничто, породил всё.
Илья кивнул; он помнил. Он хотел знать, что дальше.
Дилли мастерила что-то из своих волос, свесив их поверх полуосвещённого лица. Её тень, много больше её самой, терялась в ближней полумгле пещеры. Тень двигалась сама по себе, и когда Дилли это заметила, она попыталась поймать тень. Дилли накрыла ладонями свои чёрные воздушные руки, но те убежали от неё в тёмноту. Дилли хлопнула в ладоши, и огромные руки из тени беззвучно хлопнули вслед за ней. Дилли рассмеялась. Она посмотрела на Илью, видел ли он её игру.
— Вы правы, там газ, — неожиданно буднично сказал Кассовский. — Жерло горы — это естественный ионизатор. Понимаете? Газ, третье состояние материи, уже там. Нужен только свободный электрон, который нарушит баланс внутри материи, преодолеет её притяжение и уйдёт. Нужна божественная искра.
— И где её взять? — спросил Илья.
Он понимал, что сейчас Кассовский откроет ему План. Илье вдруг стало тревожно внутри, что сейчас всё закончится. Он уже начал привыкать к своей новой жизни, где мир начинался заново каждое утро и ни к чему нельзя было привыкать.
Кассовский засмеялся. Он взмахнул руками, словно прямо сейчас собирался взлететь и покинуть этот мир плотной материи.
— Как где? — смеялся Кассовский. — Вы и есть ответ на ваш собственный вопрос. Помните, нэнсеке — это люди с двойной пнеумой, вернее, с двумя пнеумами, одна из которых божественная. Эта божественная искра и есть свободный электрон. Она способна пробить туннель в гравитационном поле материи и тем самым уменьшить его для всех остальных. Понимаете? — радовался Кассовский. — В этом и есть ваша миссия. Для этого боги и спускались на землю в начале времён и оставляли, консервировали свои пнеумы, свой дух в некоторых из нас. Искру божью. Это и есть путь возвращения обратно. Это и есть их План.
Илья молчал. Он думал: а что, если это — то самое знание, которое он так долго искал? Он пытался почувствовать свою отмеченость, особенность — и не мог: он хотел есть.
— Понятно. — Илья кивнул. — И что нужно, чтобы это случилось?
— Сгореть, — сказал Кассовский. — Чтобы не осталось плоти, чтобы пнеуме было некуда вернуться.
На секунду, лишь на мгновение, Илья перестал чувствовать других в пещере. На мгновение здесь, внутри синей горы, были только он и огонь, тёплый, нестрашный, словно костёр в тёмном осеннем лесу. Затем Илья снова увидел Кассовского; тот смотрел куда-то в сторону, где не было ничего.
— Вы хотите меня сжечь? — спросил Илья. Почему-то ему стало смешно.
— Нет, что вы. — Кассовский поднял руки, протестуя против его слов. — Нет, нет! Вы меня неправильно поняли. Это — ошибка инквизиции, аутодафе. Почему, вы думаете, инквизиция сжигала еретиков? Они знали, знали. Они искали среди еретиков, колдунов, ведьм, таких, как вы, — нэнсеке. Поэтому они и называли это «ауто да фе» — акт веры. Это был акт веры в возвращение к истинному богу, акт веры в то, что божественные пнеумы сожжённых преодолеют притяжение плоти, и другие пнеумы, простые одинарные души сжигающих, смогут ускользнуть за полубогами, которых они сожгли. Они сжигали плоть, чтобы помочь, чтобы ослабить силу притяжения. Им было не важно, что насильно.
Кассовский замолчал. Казалось, сейчас он был там, далеко, где горели костры инквизиции. Дилли свернулась клубком у его ног и затихла, словно заснула. А может, и вправду заснула.
— Я тоже так думал вначале, — тихо сказал Кассовский, — тоже в это верил. Эту ошибку я больше не повторю.
Было очень тихо. Очень тихо вокруг.
— Вы что, — спросил Илья, — кого-то сожгли насильно?
Он хотел знать.
— Удивительно. — Кассовский развёл руками, и Илья понял, что он говорит не с ним: Кассовский обращался к кому-то поверх Ильи. — Более двух миллиардов христиан каждый день прославляют бога, который послал на смерть собственного ребёнка, своего сына. Я сделал то же самое, для всех. Для всех.
Он замолчал. Он больше ни к кому не обращался, отдельный от других в этой пещере глубоко под землёй. Затем Кассовский посмотрел Илье в глаза и пожал плечами:
— И так же как у него, у меня ничего не получилось.
Илья понял. Он оглянулся, ища Адри. Он хотел спросить у неё правду, хотя бы глазами.
Но вокруг была лишь темнота пещеры, и Илья больше не мог найти жёлтый луч её фонаря.
Он понял, что Адри ушла, вверх по туннелю, где её ждали другие. Илья повернулся к Кассовскому.
— Вы сожгли свою дочку? — спросил Илья. — Вы сожгли свою маленькую девочку?
Он видел, как Дилли дышит во сне. Она немного вздрагивала от наступившей вокруг тишины. Отблески огня причудливо падали ей на лицо разноцветными языками, словно это и были её сны. Она лежала, свернувшись у ног Кассовского на каменном полу в своём беленьком лёгком платье, поджав под себя голые смуглые колени. Илье хотелось её накрыть.
— Сейчас это уже не так важно, — сказал Кассовский. — Я сделал в своей жизни много вещей, с которыми мне приходится жить.
Он для чего-то зажёг фонарь у себя на лбу и отступил от огня, навстречу Илье. Тот остался на месте.
— Главное, — голос Кассовского обрёл силу, — теперь мы точно знаем: нужна добровольность. Нужна добровольность. Нужен выбор, решение. И он, там, — Кассовский ткнул кулаком в темноту над головой, — он там должен одобрить этот выбор. Тем, кому суждено, он даст самим найти это место. Они должны прийти сюда сами. Как пришли вы. Мы — просто помощники. Всё, что мы можем, это направлять вас до какого-то момента, вести, но последний шаг — ваш.
Кассовский улыбнулся Илье:
— Ваш.
— Вы хотите, чтобы я сжёг себя сам? — спросил Илья. Он знал ответ, но ему отчего-то хотелось уточнить. Ему было как-то странно покойно, и огонь горел совсем не страшно: огонь лился разными цветами, оттенками всего. Илье захотелось спать.
— Вы и Дилли. — Кассовский выключил ненужный фонарь у себя на лбу. — Знаете, Илья, — он снова улыбнулся, — первый раз у нас двое нэнсеке. До этого только по одному. Это важный момент. — Он замолчал, чтобы Илья осознал эту важность. — Мы не знаем, будет ли вас двоих достаточно, чтобы пробить барьер в поле притяжения, но стоит умереть, чтоб узнать.
— Значит, те, другие, не пробили барьер? — спросил Илья. Он и сам не знал, для чего он это спросил. Он не собирался себя сжигать в любом случае.
— Нет, нет, — сказал Кассовский, — это так не работает. Когда нэнсеке делает выбор вернуться в Плерому, он освобождает свой дух, и барьер притяжения становится слабее. Даже воздух становится легче, как перед сильным дождём. Материя мира теряет плотность — каждый раз понемногу, с каждым уходом по чуть-чуть, но теряет. Эта потеря плотности заполняется хаосом, первичным ничто. Хаос — это и есть плазма, материал вселенной. Плазма проводит электричество, и поэтому, когда уходит нэнсеке, начинается шторм, гроза. Чем выше уровень хаоса, тем меньше притяжение материи, тем легче пнеумам ускользнуть и вернуться в Плерому. Однажды, когда в мире накопится достаточно хаоса, достаточно плазмы, люди смогут вспомнить, кто они и откуда, и их пнеумы покинут мир.
— Вы хотите, чтобы я для этого себя сжёг? — Илья мотнул головой, чтобы стряхнуть наплывавшую на него дремоту.
— Нет, — ответил Кассовский ясным, почти звонким голосом. — Нет. Я хочу, чтобы вы освободили свою божественную искру и помогли нам всем вернуться в Плерому. Всем людям.
Он показал рукой на огонь:
— Это лишь шаг, но вас готовили к этому шагу всю жизнь. Вы были в тюрьме, и я думаю, вам это было дано, чтобы ещё больше ценить свободу. Сейчас вы снова на пороге тюрьмы. Вы можете сделать шаг и стать свободным. Вернуться домой. И открыть дверь другим. Всем.
Неожиданно Илье показалось, что он услышал у себя за спиной чей-то шёпот. Он хотел обернуться, но не мог. Он не мог оторваться от огня. Илья понимал, что выходящий из жерла газ делает его сонным, и он всё время мигал, чтобы удержать глаза открытыми. Ему нравился этот огонь.
— Вы сумасшедший, — сказал Илья. — Вы здесь все сумасшедшие.
Ему нравился этот огонь.
— Это не важно. — Кассовский наклонился и тронул Дилли за плечо. Она свернулась ещё больше, маленький пушистый клубочек плоти. — Мы знаем правду. Мы ощущаем, как становимся более лёгкими, более свободными с каждым уходом нэнсеке. Мы всё меньше связаны с этим миром, всё меньше живём по его навязанным кем-то правилам, всё свободнее, всё легче. Всё отдельнее.
Он потрепал Дилли по плечу ещё раз и что-то прошептал над её головой. Дилли потянулась и неожиданно села на месте, будто и не спала. Кассовский разогнулся и посмотрел на Илью.
— У нас никогда ещё не было двух нэнсеке, — сказал Кассовский. — Может быть, больше никогда и не будет. Мы не знаем, сможете ли вы вдвоём пробить туннель полностью и открыть путь другим. Мы надеемся, что это так. Мы очень надеемся, что это так.
Он зажёг свой фонарь на лбу и прошёл мимо Ильи, не глядя, не прощаясь. Затем, еле видимый, лишь голос из темноты, лишь луч света из дальней мглы, он обернулся назад:
— Я не буду вас уговаривать, — услышал Илья. — Выбор за вами: вы можете изменить судьбу всех, а можете оставить мир, как он есть. Как он есть.
Луч отвернулся и неровно поплыл дальше, вглубь, где пропал. Темнота теперь двинулась ближе к огню и обступила их с Дилли плотным вязким пространством, словно хаос, словно ничто. Илья посмотрел на девочку, сидящую на каменном полу у его ног. Дилли заплетала косу. Она почувствовала взгляд Ильи и улыбнулась в ответ. Она что-то сказала на аравак. — Ладно. — Илья не сразу понял, что отвечает по-русски; он так давно не говорил по-русски, что ему сейчас было странно слышать эти далёкие слова. — Дилли, мы должны отсюда уйти. — Илья махнул рукой в темноту: — Туда.
Он взял Дилли за руку и потянул вверх. Дилли распрямилась и встала на ноги одним движением, легко, как на пружине. Её голова приходилась Илье по грудь. Дилли прижалась к нему носом и провела по своим волосам раскрытой ладонью, словно мерила, насколько она ниже Ильи. Дилли посмотрела, куда пришлась её ладонь, и рассмеялась. Она снова что-то сказала на аравак. Затем Дилли повернулась и шагнула в огонь.
Он не сразу понял, что это было. На секунду, на мгновенье Илье показалось, что Дилли просто ступила ближе к огню, словно ей было холодно, словно она хотела согреться. Он искал её глазами, но её нигде не было. Вдруг пламя скорчилось, и сквозь его блеск прошёл электрический разряд. Будто молния. Будто внутри огня начиналась гроза.
Он хотел кричать. Было ещё страшнее от того, что вокруг так тихо. Словно ничего не произошло, словно он всегда был один. Словно Дилли вообще не было. Ему послышался звук шагов в глубине, и Илья обернулся, надеясь её увидеть. Нет, никого.
Он был один. Он не мог уйти. Ему казалось, что Дилли появится вновь, будет рядом — маленькая колдунья, тёмный ребёнок беды. Он ждал, что она потянет его за рукав, как тогда, под водой. Нет, он был один и должен был выплыть сам.
Илья не сразу обернулся на шорох: он смотрел на пламя, сквозь которое пробегали лёгкие искры. Это было красиво, и огонь, раньше безмолвный, теперь тонко потрескивал, словно говорил с Ильёй. Затем Илья обернулся на шорох. И сразу, совсем рядом, зажёгся луч фонаря и поплыл к нему сквозь серую мглу.
ХЕБИВЕРИ МАУНТЭН 3
АДРИ вышла из темноты — все различимее, всё ближе. Она встала рядом с Ильёй и на секунду закрыла глаза. Затем она распахнула ресницы, впустив в свои чёрные зрачки отблеск огня. Она была чуть выше его ростом, но сейчас отчего-то казалась Илье ещё выше, чем всегда.
— Не бойся, — сказала Адри. — Не бойся. Илья кивнул. Он посмотрел на пламя, затем на Адри.
— Ты всё это время была здесь. Всё это время. Он знал, но хотел, чтобы она ответила. Он хотел убедиться, что она всё видела. Всё.
— Не бойся, — повторила Адри. Она выключила фонарь. — Просто подумай, что ты можешь сделать. Что ты можешь изменить.
— Это всё по-настоящему, — сказал Илья. — Я думал, это ещё одна ваша история. А это по-настоящему.
Адри засмеялась. Это было так неожиданно, что Илья отступил на шаг. Он не верил, что кто-то может сейчас смеяться. Он хотел её ударить.
— Она была ребёнок, маленькая несмышленая девочка. Она не понимала, что делает. Вы её убили, все. И ты тоже.
— Не бойся, — сказала Адри. — Не бойся. Страх — это наш плен. Это не ты боишься сейчас: это твоё тело кричит от страха. Но ты — не тело, ты больше. Вспомни, как ты вышел из круга в джунглях. Ты поверил мне и переступил круг. Вспомни, как ушла Дилли. Она теперь свободна, она вернулась. Слышишь, как она говорит с нами? — Адри показала на пламя, что уютно потрескивало голубыми искрами совсем рядом, внизу. Пламя метнулось вверх, словно хотело достать до её ладони.
— Почему ты так ему веришь? — Илья пытался что-то найти в её глазах, он и сам не знал что. — Почему вы все так уверены в его правоте?
Адри ответила не сразу. Она посмотрела на огонь, потом на Илью и вздохнула. Илье показалось, что она позвала его глазами, как часто делала перед любовью, но он понял, что это просто игра пламени у неё в зрачках. Её волосы сейчас были полностью забраны под обруч фонаря, и Илья подумал, что никогда ещё не видел её лица таким открытым, без падающих чёрных кудрей. Он никогда не замечал, какой у неё высокий лоб и совершенный овал лица. Она была как другая женщина, которой он раньше не знал.
— Илуша, — Адри чуть потянулась к нему, — почему мне не верить в то, что я чувствую сама, чувствую каждый раз, когда уходит нэнсеке? Каждый раз, каждый раз. Я становлюсь свободнее, я всё меньше дорожу этим миром, этой жизнью, всё легче думаю о том, как однажды уйду сама. Каждый раз, когда уходит нэнсеке, я всё лучше могу видеть, что скрыто от нас. Смотри.
Адри протянула к нему руки и раскрыла ладони. Сначала Илья ничего не заметил, а потом, нет, не увидел, а скорее почувствовал жар и лишь затем увидел свечение. Её ладони светились, и свет, зелёно-золотой, взбежал вверх к её голым плечам и снова побежал вниз, как неоновые огни на рекламе. Адри взмахнула руками, и свет рассыпался искрами вокруг, словно сотни бенгальских огней.
— Чем это хуже веры в старые книги, переписанные людьми сотни раз? — тихо спросила Адри. — Чем это меньше истории про юродивого из Галилеи, который воскрес после распятия две тысячи лет назад, но с тех пор его никто не видел? И другие записали его слова и переиначили их? Переврали, чтобы оправдать нашу тюрьму здесь, куда нас заманили обманом?
Она замолчала, и Илье казалось, что она может обжечь, как огонь. Он чувствовал, что сейчас она как огонь. Потом Адри сказала спокойным переливчатым голосом, который он так любил:
— Вот моя вера.
Она обернулась вокруг себя, как Дилли утром на кухонной террасе, и подбросила ладонями вверх высокий столп искр. Искры парили в воздухе над её головой, и казалось, там ещё одна Адри, сотканная из проблесков огня.
У Ильи начала кружиться голова; ему хотелось закрыть глаза, но он знал, что нельзя, что нельзя. Воздух вокруг него стал плотным, словно Илью замотали в кокон. Илья знал, что нельзя закрывать глаза. Он потёр виски.
— Почему я? — спросил Илья. — Почему вы уверены, что это я? Если я действительно тот… — он замялся, — такой, как… как вы говорите, почему я не знаю этого сам? Почему мне не открылось?
— Тебе сказали. — Искры над головой Адри складывались в причудливые фигуры, постоянно меняясь, словно были живые. Адри заметила, что Илья не смотрит на неё, а следит за игрой неоновых ниточек в тёмном воздухе.
Она хлопнула в ладоши. Искры вспыхнули и стали тускнеть, подвластные её воле. Постепенно они гасли, как гаснут угли в отгоревшем костре. — Тебе сказали, но ты не понял. Когда ты рассказал Антону про старика, он сразу сообразил, что это был посланник. Он сразу понял, что это был Одоньжо.
— Одоньжо? — Голова перестала кружиться, но Илья всё ещё чувствовал себя слабым. — Кто это?
— Посланники приходят в разных формах. — Адри теперь была не такой горячей, как раньше, словно она отдала свой жар искрам, что потухли над её головой. — Иногда он приходит как человек, которого ты не можешь забыть. Он прошёл мимо, и ты его не заметил, но потом ты вдруг его вспомнил и не можешь забыть. Иногда он приходит в твои сны, и ты их помнишь, вернее, помнишь его в этих снах. Маруны зовут его Одоньжо. С тобой он говорил. Это первый раз, когда мы знаем, что он с кем-то говорил. Иногда посланник приходит как пёс, который вдруг увяжется и всюду бегает за тобой, и потом ты почему-то не можешь его забыть. Это другой посланник, Гоньшо. Он не приходит к таким, как ты.
— К каким «таким»? — спросил Илья. — А к кому он приходит?
— Он приходит к тёмным нэнсеке, — сказала Адри. — К другим. — Она улыбнулась. — Не думай об этом: не важно, какой посланник. Важно, что было с ним рядом — со стариком, с собакой. Это всегда что-то, что рядом с посланником, но ты не можешь это сразу увидеть. Что-то, что тебе показали, и ты должен это вспомнить.
— И что это? — Илья закрыл глаза, чтобы вспомнить, но внутри была только плывущая тьма. — Что они показывают?
— Мы не знаем. — Адри пожала плечами. — Это только для тебя, для нэнсеке. Посланник приходит только к нэнсеке. Однажды он придёт к твоему ребёнку, который сейчас живёт внутри меня. — Она засмеялась. — Пока он внутри, я — такая, как вы. Как нэнсеке. Во мне теперь его искра.
«У неё будет ребёнок, — подумал Илья. — Мой ребёнок». Он не хотел уходить. Он хотел быть с Адри и своим ребёнком. Он хотел жить. Он был согласен жить без тайн, без знания. Без искр над головой.
— Но я же не вспомнил, — сказал Илья вслух. — Значит, я не гожусь.
Он не хотел уходить.
— Не бойся. — Адри улыбнулась и придвинулась к Илье ещё ближе. — Это легче, чем позволить себя распять. Или позволить кому-то распять себя за тебя.
Илья молчал. Огонь, совсем рядом, у ног, тихо горел синим и жёлтым. Красное в его пламени пропало, словно сгорело в этом тихом огне.
— Когда ушёл Марк, брат Антона, мы знали, что в эту группу придёт кто-то ещё, так обычно бывает. Что-то притягивает нэнсеке в одни и те же места. Мы знали, что после Марка придёт другой. Мы ждали два года, пока Антон не увидел тебя. И ты рассказал ему об Одоньжо.
— А Марка тоже ты сюда привела? — вдруг спросил Илья. — Ты… тоже с ним?
— Глупый мой, — засмеялась Адри. Она захлопала в ладоши и стала совсем как раньше, как прежняя, его девочка. — Ревнуешь? Неужели ревнуешь? Сейчас? — Адри потянулась и поцеловала Илью в губы. — Нет, Марка привела Кэролайн. Когда он уходил, он боялся, и Кэролайн пробыла с ним всю ночь, до конца.
Адри поцеловала его ещё раз, быстро, не приникая, и он не успел ответить на поцелуй. Илья хотел притянуть её к себе, прижать, и не смог. Близость пропала так же моментально, как вернулась, и они снова были в темноте синей горы.
— А её муж, Гилберт, ушёл легко, — вдруг сказала Адри. — Он прошел между нами и даже не остановился, даже не замедлил шаг. Как будто он не заметил огонь. Он был сильный — ведь в нём жил Джаджаа.
Она замолчала, словно вспомнив что-то, что хранила для себя. Потом Адри тряхнула головой, будто пыталась убрать с лица волосы, которые были под обручем фонаря.
— Интересно. — Илья понял, что она говорит не с ним. — Кэролайн не смогла забеременеть ни от Марка, ни от своего мужа. — Адри посмотрела на Илью и улыбнулась: — А я смогла. Я рожу нэнсеке.
— Для чего? — спросил Илья. — Чтобы потом его сжечь? Как Кассовский, который сжёг свою маленькую дочку?
— Ты не понимаешь. — Адри чуть отступила от Ильи. — Он просто хотел освободить людей от плоти, от плена материи. Он сделал неправильный шаг. Он тогда не знал, как нужно.
Илья почувствовал, что она стала другой, словно в ней что-то щёлкнуло. Он почти услышал этот звук, словно лопнул воздушный шарик. Он решил попытаться.
— Адри, — сказал Илья, — наша плоть так же божественна, как и наша духовность. Твой муж каждый день борется за эту плоть, борется с хаосом, а ты пытаешься его выпустить.
Адри посмотрела на него как-то мимо, словно была далеко-далеко.
— Алонсо сделал свой выбор, — она вздохнула, — а мы сделали свой.
Она была далеко отсюда. Илья хотел её вернуть. Он шагнул к ней, и теперь они стояли совсем близко, касаясь друг друга телами.
— Адри. — Он не знал, как её вернуть. — Неужели ты не понимаешь, что там, — Илья показал на огонь у их ног, — что там — навсегда? Неужели ты не понимаешь, как это страшно — навсегда?
Адри кивнула. Она подняла руки и сняла у себя с головы фонарь. Адри протянула обруч Илье.
— Возьми, — сказала Адри.
Илья взял обруч. Он не понял зачем.
— Моя лодка внизу, — сказала Адри. Она чуть отступила от Ильи. — Не бойся. Смотри.
Он не увидел, как она оказалась в огне. Она не сделала шага, не было никакого движения, она просто скользнула в огонь и пропала, растворилась в весёлом пламени. Илья рванулся за ней и остановился на краю; не от страха — от пустоты.
Адри там уже не было. Там вообще ничего не было, кроме разноцветных бликов огня. Там не на что было смотреть.
Когда, через много времени, Илья выбрался к заводи, его фонарь не горел: он потух ещё по пути, и Илья шёл вверх по узкому туннелю в темноте, касаясь ладонями тёплых каменных стен. Там было нельзя заблудиться.
У пристани качалась лодка. Её несильно било бортом о причал, и Илья сел на дно и сидел там, качаясь вместе с ней, привыкая к тёмной воде. Тянуло ветром с реки. Было хорошо, что где-то дует ветер.
Илья не смог завести мотор. Он повернул ключ несколько раз, но мотор всхлипывал и глох. Илья поднял маленький люк на носу и нашёл там вёсла и багор. Он закрыл люк.
Илья грёб по чёрной заводи, в темноте, держась на ветер. Потом Илья увидел грозу. Темнота вокруг осталась темнотой, а тишина — тишиной, но Илья теперь видел, что далеко за синей горой идёт гроза.
Илья плыл на ветер. Воздух серел ближе к реке, и скоро внутри пещеры — совсем рядом — ударила молния. Она на мгновенье ослепила Илью, и в этом белом зигзаге света он увидел, что лежало на перевёрнутом ящике у старика из Бронкса.











