Читать онлайн Из жизни кукол
- Автор: Эрик Аксл Сунд
- Жанр: Зарубежные детективы, Полицейские детективы, Триллеры
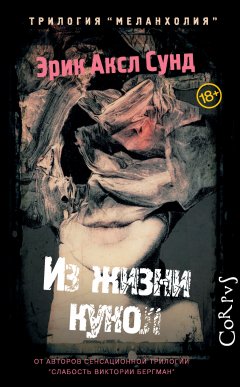
Erik Axl Sund
Dockliv
Published by agreement with Salomonsson Agency
© Erik Axl Sund, 2019
© Е. Тепляшина, перевод на русский язык, 2021
© Cover illustration by Aleksandar Mijajlovic, processed by Erik AxlSund, 2019
© ООО “Издательство АСТ”, 2021
Издательство CORPUS ®
То же небо здесь
(на север)
Сначала поезд ехал через туннель, потом – по мосту, длиннее которого она в жизни не видела. На вокзале в Мальмё пахло кофе, почти все держали в руках дымящиеся стаканчики. Да и вся Швеция пахла кофе – и офис миграционной службы, и автобус, который вез ее на север.
Сначала было похоже на Германию: все бурое, поля, холмы и перелески с голыми деревьями, но потом стало лесистее, скалистее, белее и зеленее.
Водитель все время говорил по мобильному телефону и что-то объявлял в микрофон; наконец автобус остановился в месте под названием Лидчёпинг. Если верить словарю, то по-английски городок назывался бы примерно Саффертаун, Город Страданий. Водитель сообщил, что он расположен на берегу самого большого в Швеции озера, но озеро больше походило на море – другого берега не было видно. Поверхность затянута льдом, и темно, хотя до вечера еще далеко. Луна освещает снежный покров, все темно и неправдоподобно, как во сне, а может, это и есть сон.
Она уснула еще до того, как они въехали в Швецию, которую ей так хотелось увидеть, а проснулась, уже когда они проезжали через город. Она смотрела в окно, и ей казалось, что она спит и видит сон, потому что деревья вдоль покрытой слякотью дороги были похожи на брокколи.
В Бурлэнге ей пришлось задержаться: она всего лишь имя на бумаге, служащие даже не знали, к какой категории ее отнести, конкретно сейчас она – несовершеннолетняя без сопровождения, но папа, наверное, уже приехал, хотя его имени не могут найти ни в одном списке.
Автобус едет на север; становится все холоднее, дороги все хуже, но пейзаж все красивее, а темнота все темнее, и она думает: как странно – здесь то же небо, что и дома. И вода та же самая, потому что вся вода на земле взаимосвязана; вода, в которой можно утонуть, и небо, на которое человек улетает после смерти, везде одни и те же.
Ночь над темно-синими горами вдруг озаряется призрачно-зеленым; автобус останавливается, и водитель объясняет, что это полярное сияние – здесь, на севере, это обычное дело. Сияние не только зеленое, оно еще желтое, голубое и фиолетовое, оно мерцает по всему небу, меняет форму, как медуза, которая сокращается и расширяется под водой, как тяжкое дыхание отравленного бога. Неужели такая красота может быть чем-то обыденным? И не станет ли она ничего не значащим фоном, если созерцать ее чуть ли не каждую ночь?
Семь строительных бытовок возле Брэкке принадлежат мужику в спортивном костюме; он собирает деньги и вылавливает несопровождаемых детей-беженцев, тридцать несовершеннолетних в возрасте от двенадцати до семнадцати лет, из которых двадцать восемь – мальчики. Не все глупы, но шестеро или семеро с придурью, так всегда бывает. Десять-двенадцать процентов людей мало того, что не способны думать, – они еще и гордятся этим. Ночью они тайком пробираются к ней; один парень пытается стащить с нее штаны, и она пинает его прямо в лицо. Парень говорит, что заявит на нее в полицию, но полиция не появляется, потому что на всю эту территорию размером с Бельгию всего трое полицейских.
Если ей предоставят убежище, то до совершеннолетия она должна жить в какой-нибудь семье. Но бумаги все не приходят, вот уже полгода все глухо, солнце дочиста слизывает снег с гор, и в Олвейзлэнде наступает лето. Солнце, которое в полночь стоит высоко в небе, и вечные комариные укусы вытерпеть можно. Труднее вынести одиночество. От одиночества она сходит с ума.
Свернись клубком на морозной постели из еловых лап, черная девочка, черная снаружи и внутри, холодная и замерзшая, и пусть черная тьма поглотит тебя. Ты шлюха и убийца.
Это всегда какой-нибудь он
Шоссе 222
Смерть не черная, как вечная ночь, и не белая, как свет в туннеле; она цвета серый металлик и произведена в Германии, для езды без ограничения скорости.
Снег, похожий на пласты тумана, висел над Вэрмдёледен, снежинки словно замерзли в воздухе. Автомобиль прореза́л белую массу; когда он проезжал торговый центр “Накка-Форум”, спидометр показывал сто пятьдесят километров в час.
Метрах в тридцати за ним следовала другая машина, тоже на ста пятидесяти километрах в час. Красная “тойота-примус”, гибридный автомобиль, который спустя несколько лет производитель отзовет по причине дефекта тормозов; из-за этой неисправности произойдет несколько аварий со смертельным исходом. На повороте у Свиндерсвикен “тойоту” занесло и потащило вдоль дорожного ограждения в вихре искр.
Машина “серый металлик” еще прибавила скорости. Сто шестьдесят километров в час; две девушки улыбнулись друг другу.
Мерси крепче схватилась за руль.
Нова отбросила волосы со лба и закурила.
Она опустила окошко, и в машине засвистел ветер.
– Видела? Мы с ним разделались.
– С ним? Откуда ты знаешь, что это “он”?
– Это всегда какой-нибудь он.
На развязке, где Вэрмдёледен пересекается с Вэрмдёвэген, стрелка спидометра дрожала уже на ста восьмидесяти. Девушки не знали, что две полицейские машины поджидают их возле участка в Хенриксдале, что полицейские уже готовы растянуть ленту с шипами.
– Девяносто процентов всех убийств и девяносто девять процентов изнасилований совершают мужчины, – сказала Нова. – А из ста педофилов только два – женщины.
– А еще они любят мучить животных, – вставила Мерси.
– Из тысячи любителей трахаться с другими видами… – Нова рассмеялась, – коровами, например, козами, собаками и беспомощными цыплятами…
– …девятьсот девяносто девять – мужчины, а единственную женщину, готовую сунуть в себя конский член, обучил и выдрессировал какой-нибудь мужчина.
– Они придумали групповые изнасилования, атомную бомбу и электрический стул.
– Вот что у них в голове?
– А самомнение! Все знают, все могут. А на самом деле они – одна большая ошибка, эволюционный просчет.
– Да. Одно в них хорошо – они чуть не миллиард раз в день или бьют, или убивают друг друга. Почему им вообще дается право голоса?
– Рождается мужчина – рождается потенциальный людоед или педофил. Надо лишать их всяких прав с самого рождения…
Нова и Мерси были знакомы не слишком долго, но сдружились так крепко, что иногда казались одним человеком.
– Пусть бы эти деятели, прежде чем открыть рот, сначала доказали бы, что собираются сказать что-нибудь поинтереснее того, что скажет первая встречная девица. И так во всем мире, во все века.
Они не видели мигалки возле моста Данвиксбрун.
Не видели и ленты с шипами.
Улыбка Мерси внезапно исчезла.
– Убить десять случайно выбранных мужчин значит предотвратить сорок восемь жестоких преступлений, – сказала она. – Включая убийства и сексуальную эксплуатацию детей. Хорошо бы всех мужчин, прямо с самого дня рождения, подталкивать к самоубийству.
– Мой настоящий папа покончил с собой, – напомнила Нова.
– Пусть бы они самоубивались все, кроме твоего и моего папы.
– Да… все, кроме них.
Двести километров в час сквозь зависший в воздухе снег. Двести метров до разводного моста в Данвикстулле. Они не знали, что некий полицейский связался с дежурными и приказал развести мост, чтобы остановить их безумную гонку.
– Мне хорошо с тобой, – сказала Мерси. – Когда ты рядом, мне хочется есть.
Они – Нова и Мерси.
Нова видит перед собой комнату в холодной, пропахшей спиртным квартире в Фисксэтре. Мерси видит теплый домик с мамой, папой и двумя толстенькими братишками.
Они знают, по каким дорогам ушли оттуда.
Знают, какие дороги привели их сюда. К последней черте.
К концу.
Они просто гонят машину дальше.
Произведенная в Германии машина цвета серый металлик принадлежала Свену-Улофу Понтену, сорока пяти лет, жителю Стоксунда, заместителю директора фирмы с годовым оборотом в восемьдесят миллионов. Несколько дней назад он остановил машину на автозаправке в Книвсте и открыл дверцу чернокожей девушке по имени Мерси, шестнадцати лет.
Он дал ей пятисотку и расстегнул брюки; обозвал черномазой шлюхой и потребовал раздеться. В двадцати метрах от них кассир принимал от клиента плату за бензин.
Когда Свен-Улоф Понтен кончил, девушку вырвало. Молочным шоколадом и ошметками бутерброда с сыром. Свен-Улоф дал ей затрещину, наорал и обозвал мокрощелкой, которая загадила ему машину, тупой сраной сукой.
Потом у него зазвонил телефон. Звонила его жена.
Свен-Улоф Понтен застегнул брюки и принял звонок. Мягким голосом сказал, что скоро приедет домой, осталось всего одно дело, короткая встреча с важным клиентом.
Он вылез из машины; кассир на заправке как раз пробил чек за горячий бутерброд и кока-колу. Мерси слышала, как Свен-Улоф говорит, что любит жену и ждет не дождется, когда ее увидит.
Потом пара поцелуев в трубку. Когда Свен-Улоф повернулся, чтобы идти к машине, то увидел, как Мерси уезжает.
“Целую-целую”. Иди в жопу, сраный кобель.
Некоторые мужчины
Серая меланхолия
Осень в Стокгольме выдалась мягкая, с дождями и ветром. В иные дни погода поворачивала на позднее бабье лето, но в основном было серо и противно. Серость выматывала тело и душу.
Свен-Улоф Понтен сидел за компьютером у себя дома, в стоксундском таунхаусе. Он только что разлогинился и застегнул брюки.
За окном выл ветер, гнул тощенькие вишни, которые он посадил пять лет назад. Осень дергала и мотала соблазнительные для косуль тонкие ветки.
Девочка, с которой он только что общался в чате, наконец – после нескольких месяцев тяжкого труда с его стороны – согласилась встретиться с ним. Сегодня же вечером, отчего ему понадобилось слегка сбросить напряжение. Свен-Улоф смял обрывок бумажного полотенца и выбросил его в мусорную корзину.
Осталось только угомонить нечистую совесть.
Свен-Улоф достал связку ключей и отпер нижний ящик стола. Иногда его мучили параноидальные мысли, что жена или дочь каким-то образом доберутся до ключей и заглянут в ящик. Но Оса и Алиса у него умницы. Даже если в семье у него почти полный разлад, жена и дочь, по крайней мере, сохраняют к нему уважение.
В ящике лежало двадцать пластиковых папок, которые он время от времени вынимал, чтобы напомнить себе, что он еще не худшее зло. Он, Свен-Улоф Понтен, уроженец Витваттнета, что в Емтланде.
Он не слетел с катушек. В его семье все были нормальными людьми.
Люди, слетевшие с катушек по-настоящему, лежали в пластиковых папках в ящике стола.
В папках содержались газетные статьи, протоколы предварительных расследований и даже фотографии с места преступления, которые он находил в интернете. Все эти материалы являли собой образцы человеческих извращений и представляли собой деяния девятнадцати преступников и одной преступницы.
На одной папке значилось имя “Армин Майвес”. Свен-Улоф просмотрел фотографии и мельком проглядел записи, которые к этому времени успел выучить наизусть.
Немец Армин Майвес. Бывший военный, который искал через интернет человека, желавшего, чтобы его убили и съели. На объявление откликнулся программист Бернд-Юрген Армандо Брандес: так вышло, что призыв Майвеса отвечал его давней мечте.
Накатила тошнота, пузыри из желудка поднялись ко рту, и несколько минут Свена-Улофа мучили фантазии о вещах, о которых лучше не говорить вслух.
Закрыв глаза, он представлял себе ужин на кухне дома в немецком Ротенбурге. Свен-Улоф прошелся языком по деснам и зубам. Между двумя молярами застрял кусочек мяса; Свен-Улоф выудил его кончиком языка и сплюнул.
Свен-Улоф был в доме один и мог позволить себе побыть собой, никого не стыдясь.
И ему это нравилось.
Не стыдиться.
Так и не открывая глаз, он понюхал пальцы и констатировал, что от них воняет чесноком. Часа два назад он рубил чеснок и жарил говяжье филе. Оса стояла рядом, резала огурцы и помидоры; муж и жена говорили об обожаемой дочери. Об Алисе, которая сейчас жила не с ними, но которая вскоре должна была вернуться.
После ужина Оса уехала в город, смотреть кино с подружкой, а сам он отправился сюда, в свой рабочий кабинет.
После ужина Армин Майвес расслаблялся, читая научную фантастику. Программист тем временем истекал кровью в ванной. Свену-Улофу казалось, что он ощущает сладковатый запах и слышит, как тихонько булькает в сливе.
Наконец Свен-Улоф открыл глаза.
Некоторые мужчины по предварительной договоренности отъедают друг другу половые органы, подумал он.
По сравнению с ними во мне нет ничего такого, из-за чего можно было бы так тревожиться.
Свен-Улоф сделал глубокий вдох, набрал в грудь свежего воздуха. Улыбаясь, он сложил вырезки и фотографии в папку, а папку запер в ящик стола.
Девушка, с которой он чатился, через час будет ждать его у многоквартирного дома в Бергсхамре. Не очень далеко, на той стороне Стоксунда, но там все же совершенно другой мир.
Девушку зовут Тара, и он знает, почему она в конце концов согласилась встретиться с ним.
Она из религиозной семьи и хочет бунта. Хочет продемонстрировать родителям, что не Бог распоряжается ее телом, а она сама.
Подростком Свен-Улоф и сам пережил нечто подобное. Взбунтовался против Христа, против отца с матерью, против всего прихода. Он пил, трахался и слушал запретную музыку.
У них с Тарой одинаковый опыт, хорошая тема для разговора. Они не так уж непохожи друг на друга, и даже если ему сорок пять – значительно больше, чем он указал, – а ей пятнадцать, они сумеют столковаться.
Он не Мясник, в отличие от Армина Майвеса.
Свен-Улоф Понтен обращался со своими девочками хорошо, если они оказывали ему должное уважение.
Ветер за окном усилился. Дело к зиме.
День первый
Ноябрь 2012 года
Повесть с бесконечным числом неизвестных объяснений
Бергсхамра
Девушка лежала на спине, на блестящей гранитной плитке перед шестиэтажным домом. Труп обнаружил в первом часу ночи таксист, который вышел из машины покурить. Сначала он принял тело за манекен. Слишком легкая для этого времени года одежда, тонкие, почти белые руки, ноги неестественно выгнуты.
Подойдя поближе, таксист увидел кровь.
Потом, к несчастью, пошел дождь, и бо́льшую часть крови смыло. Возможные следы, вроде отпечатков обуви, снять не удалось.
Была половина первого. На четвертом этаже некая мать-одиночка смотрела в окно своей кухни. Холодный голубой свет полицейских мигалок выдергивал из темноты деревья в роще напротив, проникал в квартиру. От вспышек оживали детские рисунки на холодильнике. Головоногие, как живые, прогуливались по дверце среди шишек и листьев, небрежно нарисованных акварелью.
Женщина потерла глаза, прогоняя сон. Кто лежит там, на земле, под пластиковым покрывалом, и что произошло? Мысль о том, что какой-нибудь из ее мальчишек может упасть с балкона или из окна и приземлиться на эти беспощадные камни, преследовала ее с первого же дня, как они сюда переехали.
Женщина задернула занавески и заглянула в детскую. Оба мирно спали, и она примостилась рядом с младшим. Засыпая, она отметила, что взволнованные голоса в квартире над ней затихли.
В час ночи полицейские взялись за работу всерьез. Возле сине-белой заградительной ленты стояла “скорая”, но оба медика сидели без дела.
Девушка мертва, они здесь не нужны.
Ирса Хельгадоттир, недавняя выпускница полицейской академии, еще никогда не видела мертвого человека. Она изо всех сил старалась быть полезной, но не могла избавиться от ощущения, что она зритель. Что она просто смотрит телевизор.
К ней подошел Шварц.
– Смотри и учись, – объявил он и указал на четырех криминалистов в синих пластиковых комбинезонах, среди которых была рослая темнокожая женщина.
– Эмилия похожа на баскетболистку из НБА, – заметил он. – Но в экспертизе ей нет равных.
– Ты имеешь в виду ЖНБА?
– Чего?
– Женскую баскетбольную лигу, – пояснила Ирса и тут же поняла, почему заспорила с коллегой. Может, узел у нее в желудке ослабнет от пары задиристых словечек.
Криминалисты как раз управились со своей первой задачей. Теперь к телу вел коридор шириной в два метра; вокруг тела тоже было пустое пространство. Так судебный медик сможет подойти к трупу, не оставив лишних следов.
Судмедэксперт, который держался поодаль, в компании бутерброда и термоса с кофе, наконец вышел из машины.
– Иво Андрич, патологоанатом, – сказал Шварц. – Эмилия баскетболистка, а вот Андрич больше по бейсболу.
Бейсболки плохо сочетаются с пластиковым капюшоном и маской. Но на патологоанатоме такая комбинация казалась весьма естественной.
Шварц дал разрешение на первичный осмотр погибшей; Андрич надел на бейсболку налобный фонарь и, осторожно переставляя ноги, двинулся к телу.
Время от времени он останавливался и осматривался; когда он вдруг вытянул руку, ладонью вверх, Ирса пришла в недоумение. Он что, подает знак? Нашел что-нибудь?
Андрич спустил маску на подбородок и улыбнулся Ирсе:
– Дождь кончился.
Узел в желудке немного ослаб.
Ирса взглянула на серое, стального оттенка, небо, прищурилась и на мгновение представила себе, что она где-то не здесь. Где-нибудь, где тепло. В месте простом и щедром.
Но она сейчас тут, и тут ее место.
Криминалисты начали с осмотра земли у самой ленты ограждения. Эта безрадостная работа могла занять несколько часов, а если бы нашлось что-нибудь интересное, то и дольше. Эмилия делала снимки; вспышка, словно стробоскоп, освещала людей с налобными фонариками, копошившихся в темноте.
– Вижу! – Один из криминалистов вдруг распрямился, указывая куда-то вниз.
Трещину, из которой проросла сантиметров на десять трава, и найденный предмет сфотографировали. Криминалист убрал находку в пластиковый пакет.
Даже на расстоянии было видно, что это “андроид”. Эмилия тут же понесла смартфон к машине экспертов.
Без четверти два патологоанатом добрался до трупа. Стоя под пластиковым тентом, он внимательно осмотрел тело, после чего достал маленький диктофон, поднес его ко рту и что-то неслышно проговорил. Через несколько минут он махнул рукой, разрешая другим приступить к осмотру.
Идя следом за Шварцем и двумя опытными сержантами, Ирса припоминала, чему ее учили в полицейской академии.
Искать не что-то ожидаемое, а то, что выбивается из общей картины. Вроде бы логично, но в то же время труднее всего.
Погибла неизвестная девушка.
Чья-то дочь, чья-то сестра, родная или двоюродная, лежит под пластиковым тентом совсем холодная. Объяснений пока нет.
Чей-то близкий человек, подруга, одноклассница, чья смерть – неясное предположение, она еще вне поля зрения следователей. Девушка, труп, жертва пока всего лишь повесть с бесконечным числом неизвестных объяснений.
Ирса медленно приблизилась к телу и оглядела девушку.
Лет четырнадцать-шестнадцать. Одета легко – красное платье без рукавов, словно собралась на вечеринку или, наоборот, откуда-то возвращалась. Девушка одета легко; значит, вечеринка имела место где-то поблизости.
Простенькая цепочка с крестом, который запутался в темных кудрявых волосах. Кожа бледная, но девушка явно не шведка. Вероятно, откуда-нибудь с Ближнего Востока.
Правое предплечье торчит вверх, левое плечо как будто вдавилось. Голые руки и ноги словно выкрутили из суставов.
На куклу похоже, как сказал таксист оператору “SOS Alarm”.
Глаза уставились в пустоту.
Во взгляде застыл ужас.
Рот полуоткрыт, губы посинели, под носом запеклась кровь, которую даже дождь не сумел смыть.
Ну, с первым трупом разобралась, подумала Ирса.
Ничего особенного.
И все же Ирса знала, что увиденного ей не забыть.
Шварц присел возле трупа на корточки и обернулся к Андричу.
– Как думаешь, действовала спонтанно? Самоубийство? Отправить ее к Хуртигу?
Патологоанатом покачал головой.
– Мой совет – повременим. – Он перевел взгляд на шестиэтажный дом. – Но, конечно, положение тела относительно дома не исключает прыжка или, если на то пошло, падения с одного из верхних этажей. Повреждения свидетельствуют о том же.
– Если бы она свалилась или спрыгнула, кто-нибудь бы наверняка услышал? – Шварц оглядел дом.
Когда они приехали, почти все окна были темными, но сейчас горело уже не меньше половины окон, и то в одном, то в другом появлялись силуэты людей. Полицейская мигалка манила жителей, но полицейские, натянув ленту заграждения, отправили самых любопытных – тех, что высыпали на балконы поглазеть – по квартирам.
Патологоанатом Андрич пожал плечами.
– Трудно сказать, что люди слышат и видят посреди ночи. Никто пока не приходил, чтобы что-нибудь рассказать?
– Нет, – признал Шварц. – Но с минуты на минуту прибудет подкрепление, и можно начинать опрос соседей.
Ирса подозревала, что обход соседей выпадет на ее долю, на пару с еще каким-нибудь желторотым. Она опять присмотрелась к трупу.
Что-то странное было в позе тела.
Девушку словно выставили на всеобщее обозрение, положили на спину.
В пять минут третьего прибыла вторая патрульная машина. Когда они шли назад, Шварц положил руку ей на плечо.
– Кажется, ты нервничаешь. Но вот увидишь, этот случай не хуже обычного детектива.
– В каком смысле детектива?
– Ну, все хорошие детективы начинаются тем, что кого-то убивают, а кончаются тем, что дело распутывают.
– А вдруг это плохой детектив.
Какой вопрос, такой и ответ, подумала Ирса. До машины они дошли в молчании.
– Подите сюда.
Эмилия-баскетболистка сидела на пассажирском месте в машине экспертов. На коленях у нее был ноутбук, в руке – пакет с “андроидом”.
От телефона к компьютеру прямо из пакета протянулся проводок.
– Я разблокировала телефон, – сказала Эмилия. – Вероятнее всего, он принадлежал жертве. Девушку зовут Тара, она обожает селфи. Последний раз она обменивалась эсэмэсками четыре часа назад.
– С кем? – Шварц оперся рукой на открытую дверцу. Эмилия задумалась.
– В списке контактов он значится как “Улоф”. Но номер отследить не удалось, во всяком случае с этой аппаратурой. Похоже, они договаривались встретиться где-то здесь.
– Интересно. Хорошее начало.
– И еще, – продолжила Эмилия. – Тара пишет этому Улофу… цитирую: “Знаешь Повелителя кукол?” Улоф отвечает: нет. Что это может значить? Есть соображения?
Сержант Шварц поднял брови.
– Нет. Ни малейших. Но мне кажется, я знаю человека, у которого соображения могут быть.
– Так-так… И кто это?
– Кевин Юнсон. Из уголовной полиции.
Тридцать шесть часов без сна
Танто
На вершине Тантобергет, в районе Сёдермальм, стоит установка ПВО времен Второй мировой войны, призванная защищать от врагов мосты Орстабрун и Лильехольмсбрун. Недалеко от игровых площадок, на террасах, спускающихся к воде, расположены садовые участки; из одного домика доносился грохот гранатных разрывов.
Была половина третьего ночи. Кевин Юнсон лежал на диване; на экране компьютера перед ним шла советская военная драма “Иди и смотри”.
Когда живые завидуют мертвым, думал Кевин.
Небольшой садовый участок на горе Танто являл собой в основном голые камни; пригодная для выращивания хоть чего-нибудь земля ограничивалась полоской плодородной почвы вдоль забора. Право на застройку участка – одного из ста одиннадцати на южном склоне – использовалось по полной. Четырнадцать квадратных метров занимал красный домик с белыми углами, шесть квадратных метров – открытая веранда с сарайчиком, вмещавшим уборную. Этот клочок земли принадлежал семье Кевина с семидесятых годов, а сам он жил в домике уже четыре года. Проводить здесь зиму запрещалось уставом, но соседи-садоводы не жаловались.
С тех пор как узнали, что Кевин служит в полиции.
Здесь он вырос. Здесь наблюдал, как лето, крадучись, взбирается на гору с Орставикена, здесь они с отцом сидели на веранде и смотрели, как солнце опускается за яхтенный причал.
Единственная комната вмещала стол с двумя стульями, диванчик и – вторым этажом – кровать. Бензиновый генератор питал плиту и холодильник, а солнечная батарея обеспечивала электричеством компьютер и лампочки. На стенах полки, на полках книги и диски.
Когда Кевин смотрел кино, то старался держать под рукой ручку и бумагу, готовясь записывать ошибки – просчеты в сценарии, анахронизмы. Ляпы.
Не только забавы ради, но и чтобы потренировать наблюдательность, которая так нужна ему в работе. Но на экране разворачивалась уже последняя сцена “Иди и смотри”, а бумага на столе все еще оставалась нетронутой.
Главный герой, в начале фильма – подросток, теперь выглядел стариком. Он уходил в леса, чтобы примкнуть к партизанскому отряду.
И лес проглатывал его.
Природа всегда побеждает. Человеку ее не одолеть.
Кевин уже в детстве искал и находил логические ошибки. Он развенчивал выдуманные миры других детей, указывая, что ковбои не могут ни стрелять из автомата, ни носить штаны, купленные в “Каппале”.
В классе он тоже не мог смолчать. Не мог мириться с плакатом, изображавшим викингов, потому что рисунок тиражировал легенду о рогатых шлемах. Ляп. На карте мира, висевшей за учительским столом, Гренландия была величиной с Африку и производила совершенно неверное впечатление. Ляп.
Утверждения учителей о том, что он страдает приступами гневливости, гиперактивностью и как там оно еще называется, становилось все труднее опровергнуть, они превращались в правду. Зачинщиком ссор почти всегда оказывался Кевин Юнсон.
Но в пятом классе к ним по замене пришла на семестр молодая учительница, не похожая на других. Как-то она попросила Кевина остаться после уроков.
Он ожидал взбучки, но учительница достала коробочку вроде той, в каких держат жевательную резинку. Она спросила, что в этой коробочке, и он ответил – двадцать пять подушечек жвачки, как и написано на упаковке, на что учительница рассмеялась и открыла коробочку.
Внутри лежала красная бусина.
Коробочка – это твое лицо, сказала учительница. Та роль, которую ты играешь в классе и в которую верят все, в том числе учителя, а может, и ты сам. Учительница вынула бусину, поднесла ее к свету и продолжила: “А это – ты. То, что ты есть на самом деле. Я положу коробочку к себе на стол, и весь семестр бусина будет там, внутри. Каждый раз, когда тебе в классе станет тяжко, вспоминай наш с тобой секрет”.
Кевин сохранил тайну коробочки с бусиной. Он и правда почувствовал себя в школе свободнее.
Приближались рождественские каникулы, учительница скоро должна была уйти, но теперь к Кевину относились иначе. К его словам стали прислушиваться. Может, потому, что говорил он теперь поменьше. Когда он после каникул вернулся в школу, коробочки с бусиной уже не было.
В компьютере у Кевина имелся файл Excel, озаглавленный “л/мин” – количество ляпов в минуту. В эту таблицу он несколько лет заносил фильмы с максимальным количеством ошибок, от сценарных несоответствий до анахронизмов. Из этой табели Кевин вынес знание о том, что слава часто обманчива. Список возглавляли вовсе не фильмы категории “В”, а дорогостоящая продукция с претензией на достоверность. На первом месте – “Птицы” Хичкока, за которыми с небольшим отрывом следовал “Апокалипсис сегодня”, который, конечно, содержал несравненно больше ляпов, но его спасала изрядная продолжительность.
Кевин поискал фильм, который можно было бы поставить фоном. Пусть будет “Стеклянное сердце” Херцога. Потом вернулся на диван.
Он знал фильм наизусть, эпизод за эпизодом.
Кевин завернулся в плед. Тридцать шесть часов без сна ощущались физически, мир казался зыбким. Но мозг еще работал в полную силу. Интересно, откуда эти разговоры о маленьких серых клеточках. Живой мозг, с физиологической точки зрения, – красно-розовый, он становится серым, лишь когда человек умирает.
Когда его мозг работает на полных оборотах, это ярко-красные, кровавые молнии. В голове словно крутится центрифуга. Как раз сейчас в ней происходила сватка между мыслями об отце и мыслями о работе.
Папа-полицейский. Бессмертный папа. Папа, который умер.
Не прошло еще трех недель, но Кевин уже понял: скорбь не есть что-то, что существует у тебя внутри и с чем можно справиться. Она ходит рядом и живет своей собственной жизнью. Ее можно заметить краем глаза, и стоит тебе вообразить, что ты забыл о ней, она тут как тут, хлопает тебя по плечу.
Она вне реальности. Она в темноте под кроватью или в тени за дверью.
Фильм на экране компьютера продолжался. Как скорбь. По легенде, Херцог подверг актеров гипнозу, и результат сильно напоминал коллективную депрессию.
Иногда Кевин так тосковал по отцу, что впадал в похожее состояние.
Ему становилось трудно дышать. Он плакал или просто сидел, глядя в одну точку. Подогревал себе поесть, смотрел телевизор, читал книгу. Не помня потом, что ел, что видел или о чем читал.
Если он представлял себе, что отец жив, переносить действительность становилось легче. Обычно Кевин пытался уцепиться за какое-нибудь воспоминание. Чувства, запахи, разговоры, обстоятельства; сейчас он ощущал на себе отцовские руки.
Папа говорил, что руки напоминают ему о его происхождении. Он – потомок норрландских рыбаков “селедочного пояса”, северо-восточного побережья. Кожа у него на руках растрескалась от соленой воды, рыбьей чешуи, острых жабр и плавников, кровеносные сосуды лопались, если на улице стоял сухой мороз. Когда трещины кровили, он лизал кончики пальцев, говорил, что лакает кровь своей родни. Отец утверждал, что селедочную вонь от рук ему уже не отмыть, что, конечно, было неправдой. Запах уксуса и сероводорода засел у него в мозгах, но так крепко, что стал реальным.
Кевин посмотрел на собственные руки. Они хранили ужас драки – в начальной школе он побил приятеля – и стыд мастурбации: четырнадцать лет, запретные фантазии.
И еще кое-что похуже.
Гораздо хуже. То, что опустошает душу.
Спертый запах тайны, известной только ему и еще одному человеку. Дяде, маминому брату, с которым ему предстоит встретиться завтра, на отцовских похоронах.
Причина того, что он стал полицейским, коренилась в кисло-сладком запахе, напоминавшем о снюсе.
Да, он пошел служить в уголовную полицию сразу после выпуска, он, талантливый криминалист, написал очень основательную дипломную работу о том, как выслеживать педофилов в Сети, но все это было лишь вариацией правды. Он никогда не оказался бы в угрозыске, если бы не то, что произошло в палатке на острове Гринда, когда ему было девять лет.
Восемнадцать лет назад он сидел и смотрел на свои руки, на нечистоту, которая отныне всегда будет покрывать их, смотрел, как правая ладонь сжимается в кулак, как белеют костяшки; потом ладонь раскрылась и потянулась за красным йойо, лежавшим на столе.
Кевин запустил йойо. Вниз-вверх, снова и снова, игрушка вертится в отсветах экрана, до пола несколько сантиметров.
Под йойо ему лучше думается.
Затхлое мутное воспоминание о дяде и палатке на острове в стокгольмских шхерах сменилось другим, более чистым и светлым воспоминанием из того же лета.
Стоял конец августа. Папа погрузился в расследование запутанного убийства и остался в Линчёпинге на неделю.
День, когда он должен был вернуться домой, оказался самым длинным за всю девятилетнюю жизнь Кевина; вечером они с матерью отправились на метро к Центральному вокзалу. Они приехали слишком рано, и когда поезд наконец подтянулся к перрону, Кевин стал лихорадочно высматривать в окнах знакомое лицо. Наконец он увидел отца – тот махал ему из вагона-ресторана.
Кевин пустился бежать рядом с поездом, который, кажется, не собирался останавливаться; целая вечность прошла, прежде чем раздался скрежет, колеса замерли и отец шагнул из вагона. Кевин бросился в раскрытые объятия. Зарылся носом в рубашку, от которой пахло сигариллами и водой после бритья.
“Привет, приятель. – Отец крепко обнял Кевина, погладил по голове, поцеловал в лоб. – Я привез тебе подарок”.
И он достал из кармана коробочку. Тут подошла мама, сказала: “С приездом”.
Кевин открыл коробочку и обрел свое первое йойо. Тем же вечером отец показал ему пару трюков; засыпая, Кевин сунул йойо под подушку. Назавтра он взял игрушку в школу, и в тот день весь школьный двор вращался вокруг него.
Вскоре положение дел изменится, подумал Кевин, но тут же прогнал эту мысль. Йойо ходило вниз-вверх. Кевин отчетливо вспомнил слова отца: йойо сделано из смоландского дерева, а хлопчатобумажный шнур сплели в Америке.
Когда шнур наматывался на блок, можно было ощутить его шероховатости. Зуд в среднем пальце, теплая вибрация наводили на мысль о залитых солнцем хлопковых плантациях американского Юга, а прохладное шведское дерево в ладони помнило суровые зимы смоландского нагорья.
Папа был вылитый Клинт Иствуд, подумал Кевин. Непреклонный взгляд, угловатое лицо – Хороший из “Хороший, плохой, злой”.
Йойо выточено из цельного куска дерева; отец тоже получил его в свои девять лет.
Он рассказывал о Злом. О мужике по прозвищу Пугало, которому фермеры платили за то, чтобы он ходил в лохмотьях и гонял птиц с полей. Судя по некоторым признакам, отец кое-что выдумал, но так было еще интереснее.
Пугало работал каждый год с апреля по сентябрь, его пускали жить в свинарник, поэтому он так отвратительно выглядел. Грязная черная бородища торчала, как веник. На одной щеке у него была коричневая морщинистая бородавка, из тех, которые, кажется, вот-вот отвалятся. Дети его боялись.
Уже тогда Кевин начал догадываться, что папа не все выдумал. В его словах таилось зерно правды. Что-то черное.
Папа хотел смыть эту черноту смехом.
Он говорил, что лето в конце сороковых всегда бывало теплым, всегда светило солнце, а вода в Онгерманэльвен прогревалась до двадцати двух градусов. Он купался в реке, в том месте, где прыгали с тарзанки, и Кевин так и видел перед собой реку, пену на воде. Черно-белую, как на снимках в старом папином фотоальбоме.
Однажды папа купался долго, а когда начал вытираться и собираться домой, то увидел, что Пугало сидит на склоне за деревом, в нескольких метрах от тарзанки.
“Он улыбнулся беззубой улыбкой, – рассказывал папа. – Голыми красными деснами. А потом сунул под губу здоровенную щепоть табака. Он сидел там с тех пор, как я пришел, сказал, что хочет кое-что мне подарить за то, что я так здорово прыгаю. И протянул мне йойо. Оно тогда было алое. А не бледное и облезлое, как сейчас”.
Кевин погладил йойо. Внимательно изучил, как изучал уже много раз.
Каждая царапина, каждая отслоившаяся чешуйка краски была – история.
Кевин понюхал йойо. Запах дерева, немного затхлый, и еще чего-то.
Может, на игрушке еще остался пот бродяги.
“А что было потом?” – спросил Кевин. Отец сидел с отсутствующим видом, он словно не слышал вопроса.
“Ничего особенного, – ответил он наконец. – Я взял йойо, сел на велосипед и поехал домой. В тот же год, зимой, Пугало замерз насмерть, его нашли под мостом. Волосы примерзли к земле, его пришлось выпиливать”.
Теперь Кевин знал, что Пугало на самом деле звали Густав Фогельберг. Отшельник, который покушался на мальчиков и за это попал в тюрьму. Красное йойо было чем-то вроде приманки, но с помощью игрушки отец скрыл историю о насилии. Йойо стало несущим элементом его пожизненной лжи. Отец никогда не рассказывал, что с ним что-то сделали.
У папы был бродяга, Злой.
А у Кевина был дядя, мамин брат.
Может, хватит?
Бергсхамра
Семья погибшей проживала в двух кварталах от места, где нашли девочку.
Родители проводили сержанта Шварца в ее комнату.
Напротив кровати помещался пузатый комод на гнутых ножках, с вязаной крючком салфеткой; на кровати покрывало и подушки в цветочек, как в семидесятые годы. Иконы на стенах соседствовали с выцветшими фотографиями шведской королевской четы и вышивкой, гласившей: “не сокрушайся о том, чего не имеешь; радуйся тому, что у тебя есть”.
В глазах Шварца комната отнюдь не выглядела как обиталище обычного подростка.
– Записка на ночном столике, – сказала мать девочки. – Мы ее прочитали, но положили на место, как она лежала… – Голос у нее задрожал, и она закрыла лицо руками.
Молодая женщина. Наверное, родила дочь еще подростком, подумал Шварц и вздохнул про себя. Вот черт.
Мать Тары остановилась на пороге, а Шварц направился к ночному столику.
Записка состояла из трех написанных от руки строчек; Шварц перечитал ее дважды. Из-за тонкой стены, у которой стояла кровать, доносился детский плач и иногда – мужской голос. Отец Тары утешал ее младшую сестру.
Папе, маме и Чинар.
Простите меня, я согрешила. Я не достойна жить дальше.
Я люблю вас. Встретимся на небесах. Я делаю прыжок.
Записка на линованном листе А4 была подписана именем девочки; Шварц отметил, что обе “а” в имени Тары заменены сердечками.
– Значит, когда мы позвонили, вы были уверены, что Тара спит? – спросил он.
– Да. – Мать вытерла слезы.
– Вы не замечали у нее признаков подавленности?
– Не знаю.
– Она не обращалась к психиатру?
– К психиатру? В каком смысле?
Женщина так и стояла на пороге, в трех метрах от Шварца, что показалось ему немного странным.
– Значит, не обращалась?
– Нет… Зачем ей психиатр?
Шварц молча указал на письмо на ночном столике.
– Нет, – повторила женщина после неловкого молчания.
– Вы не знаете, что имела в виду Тара, говоря, что согрешила?
– Я… нет. Нет, не знаю.
– Вы уверены?
Женщина кивнула.
– У Тары был парень?
Она замотала головой.
– Вы не знаете никого из дома, возле которого мы ее нашли? Серый, шестиэтажный?
– Нет… вряд ли. Кажется, нет.
– У нее был знакомый по имени Улоф?
Похоже, вопрос застал мать Тары врасплох.
– Улоф? Кто это?
– Пока не знаем. Они обменялись эсэмэсками… – Шварц посмотрел на часы. – Почти шесть часов назад, в начале одиннадцатого.
– Она была дома, – сказала мать. – Мы смотрели новости по телевизору. – Глаза у нее снова заблестели, она поднесла руку ко рту.
– А потом Тара ушла?
Мать прикусила губу; слеза скатилась по щеке в уголок рта. – Нет, не ушла… Она пошла спать.
– Ладно.
Сержант Шварц некоторое время размышлял, не спросить ли, кого Тара могла иметь в виду, интересуясь у Улофа про Повелителя кукол, но решил повременить с вопросом.
Улофом он займется потом.
На руках у него пока еще ничего нет; надо сначала позвонить Кевину из угрозыска. Или Лассе Миккельсену, шефу Кевина.
– У Тары был компьютер, айпэд, что-то подобное? – спросил Шварц.
Мать снова помотала головой.
– Мы не можем себе позволить такие вещи, – тихо сказала она, потом отвернулась и кивнула кому-то в прихожей.
В комнату вошел отец Тары, все еще в пижаме.
– Может, хватит? – Он посмотрел на Шварца, потом снова на жену. – Мы нужны Чинар.
– Да, конечно, – согласился Шварц. – Священник придет через полчаса.
Мужчина кивнул. Он выглядел старше жены лет на двадцать, не меньше. Или же скорбь уже успела оставить свой отпечаток. В холодном свете горевшей в коридоре лампы полукружья у него под глазами казались темно-синими.
Выходя из подъезда, Шварц достал телефон и позвонил Иво Андричу.
– Привет, – ответил патологоанатом. – Я уже собирался тебе звонить.
– Передаем девочку Хуртигу? – спросил Шварц.
Хуртиг, временно исполнявший обязанности комиссара, расследовал несколько произошедших в последнее время самоубийств. В участке о них много говорили.
– Нет, – сказал Андрич, – по двум причинам. Первую можно было заметить уже там, где нашли девочку.
Патологоанатом замолчал. Шварц подождал продолжения, но сдался.
– А что там можно было заметить? – спросил он, припомнив, что Андрич иногда впадает в грех занудства.
– Все остальные подростки в момент самоубийства слушали музыку, – пояснил патологоанатом. – На кассетах, в плеере. Таков модус операнди, если можно говорить о чем-то подобном в связи с самоубийствами. Случай Тары в него не вписывается.
– Так, ладно. Значит, вычеркиваем?
– Да, особенно учитывая вторую причину.
Другим грехом Андрича было приберегать самое важное напоследок.
Он глубоко вздохнул и сказал:
– Если девочка совершила самоубийство, то по другой причине. Похоже, она жила под сильнейшим давлением. На это указывают материалы, обнаруженные у нее в телефоне.
– Какие именно?
– Увидишь – поймешь, – загадочно ответил Андрич.
Там дети – топливо
Танто
Уйойо нет ни начала, ни конца, говаривал отец. Оно как часы. Кружится, кружится. Как время. Ни начала, ни конца. Оно вечно.
Есть вещи, которые передаются по наследству, подумал Кевин, смотал шнур и положил йойо на стол. Фильм начинал мешать ему, в нем было что-то провокационное. Может быть, прекрасная музыка. Все вдруг показалось фальшивым, и Кевин выключил кино.
Четыре утра, похороны всего через несколько часов. Полтора дня без сна. Кевин лег на диван и накрылся пледом.
От усталости его познабливало.
В трещины между досками лезли жуки и муравьи-древоточцы. Плесень расползалась по веранде, в сарае завелась какая-то мелкая пакость. Папа бы справился, подумал Кевин. Я его, наверное, разочаровал. Отец заботился о садовом участке так же, как делал все в жизни. Основательно и от души. Он мог справиться со всем, кроме собственной смерти.
Отец начал угасать прошлым летом. Жаловался, что за рулем плохо видит дорогу. Проверил зрение; серьезных проблем не обнаружилось, но вскоре ему стало трудно удерживать равновесие. Он словно пританцовывал против собственной воли.
Кевин услышал тонкий свист. Это ветер прилетел с залива, поднялся по горе, проник в щели в стенах и в полу домика. Сырой холод пробрался под плед. Кевин вздрогнул и вспомнил, что было потом.
Афазия. За завтраком папа мог попросить “крышку карбюратора”, имея в виду пакет молока. Поначалу было ясно, что он имеет в виду, только думал он как будто одно, а изо рта выходило другое, надо только правильно истолковать сказанное. Если знать, что “шлем” значит телевизор, а “предусмотренное” – новости, то вполне можно понять, что отец имеет в виду, когда говорит, что хочет “увидеть в шлеме предусмотренное”.
Потом явились заторможенность и дрожь.
Родители Кевина, которые всегда спали в одной кровати, теперь из-за отцовских конвульсий разошлись по разным спальням. Речь отца все чаще напоминала бессмысленное бормотание, и под конец слова уже совсем ничего для него не значили. Все кончилось тем, что прошлой зимой он как-то вышел на крыльцо в одном халате, сел на ступеньки и принялся ложкой поедать масло прямо из пачки.
К тому времени, как отец заболел, мама тоже начала сдавать, словно состояние отца оказалось заразным. Месяцы сюрреалистических бесед и событий в сочетании со слабеющим слухом отдалили ее от реальности, личность матери изменилась.
Примерно тогда же, когда отца перевезли в дом престарелых в Каллхэлле, матери Кевина дали место в лечебнице для страдающих деменцией в Фарсте. Пятьдесят лет они делили постель, а теперь между их спальнями оказалось сорок километров. Вот такой может быть забота о престарелых, если престарелым не повезет.
Папа умер во сне, в больничной постели. Персонал еще ночью обнаружил, что произошло, но Кевину позвонили только утром. “Но ведь это случилось среди ночи, а наша политика – не беспокоить родственников зря”, – объяснила Кевину молодая медсестра, когда он спросил, почему ему не позвонили сразу.
Не беспокоить зря.
Когда смерть успела сделаться столь обычной, что в некоем профессиональном кругу ее свели к какой-то помехе?
Кевин закрыл глаза, и у него закружилась голова. Он увидел похороны на кладбище Скугсчиркугорден, увидел людей, с которыми не хотел встречаться.
Ни с кем, кроме одного человека.
Среди стариков и старух разных оттенков седины он увидел рыжие волосы Веры. Давняя сослуживица отца и единственный человек, который сумеет его утешить. Даже у матери это не получалось, а сейчас она и приехать не может, потому что совсем больна.
Старший брат Кевина тоже будет, если удосужится прибыть. Этот идиот живет за границей и чем занимается – непонятно.
Вера спросит Кевина, как дела на работе. Не полегчало ли ему с тех пор, как он получил новую должность, а он скажет, что дела идут гораздо лучше, но в то же время и хуже, потому что теперь эта дрянь подобралась к нему еще ближе.
Когда он готовился занять новую должность, его послали на стажировку в Нью-Дели. Руководители Национального полицейского управления решили, что сунуть его в самое пекло, дать понять, почем фунт лиха – отличная идея. За две недели на Гарстин-Бастион Роуд[1] Кевин пережил ад и видел такое, о чем ни с кем не мог говорить.
Увиденное сильно сказалось на его душевном здоровье.
Из-за пережитого его чуть не каждую ночь мучили кошмары.
Национальное управление отправило его к психологу, но психолог после первой же сессии отказался работать с Кевином. И Кевин лечился сам – алкоголем, а бывало, что и марихуаной.
Ни то, ни другое не помогало.
Если ты видел бордели на Гарстин-Бастион Роуд, то потом пеняй на себя.
Это место – сущая геенна. Там детей в буквальном смысле заставляют пройти через огонь.
Там дети – топливо.
Кевин видел фотографии малышей, у которых еще не зажил пупок.
Вере он расскажет, что они с коллегами разыскивают двух юных девушек, которых он хочет допросить: он расследует дело, касающееся онлайн-груминга и детской порнографии. Если они найдут этих девушек, то есть шанс, что кто-то ответит за насилие над детьми.
Под диваном лежала сумка, в сумке ноутбук, а в ноутбуке содержались десятки фотографий; в той же сумке был меморандум, составленный шефом Кевина.
Кевин открыл глаза – уснуть все равно не получится – и потянулся за сумкой.
Две фотографии крупным планом, девушки лет пятнадцати-шестнадцати. Одна чернокожая, с худощавым лицом и длинными серебристыми волосами, вероятно – в парике; вторая – светловолосая и покруглее. Фотографии увеличены, это сцены из порноролика, но на снимках не тела, а только портреты девочек.
Кевин достал меморандум, резюме расследования, успех которого в большой степени зависел от того, удастся ли найти этих девочек. В меморандуме указывалось, что отследить их пока не удалось; известно только, что в порнороликах они называют себя Нова Хорни и Блэки Лолесс.
Он надеется, что сейчас она счастлива
Серая меланхолия
В ночь после смерти Тары Свен-Улоф Понтен спал беспокойно. Ему снились дурные сны о детстве в Емтланде; прекрасные обычно воспоминания о взрослении в Витваттене в кошмарах искажались, превращались в чудовищные картины. Первая охота – ему пять лет, отец взял его с собой, они с другими мужчинами застрелили лося – в часы дневного бодрствования была светлым воспоминанием с запахом елового леса и какао. Но во сне он видел, как вывороченные внутренности животного, дымясь в осеннем воздухе, тянутся по черничнику и мертвые глаза пристально смотрят на него.
Свен-Улоф Понтен проснулся рано; жена еще крепко спала. Он надел халат и спустился на кухню, сварить себе яйцо.
Без Алисы в доме так пусто.
Почему же все стало так неправильно? Ведь он сделал все, что мог.
Нутряная мощь. Алиса унаследовала эту силу от него, но в дочери она взорвалась раньше, чем в нем самом.
Свен-Улоф Понтен предпочитал яйца всмятку. Подержать три минуты в кипятке – и он уже аккуратно очищает яйцо над раковиной. Ополоснув яйцо холодной водой, Свен-Улоф сел за стол.
Ее звали Сага, она училась в седьмом классе. Он – в восьмом. Оба они происходили из религиозных семей, однако в школе их приняла к себе одна крутая компания. Они остались в самом низу иерархии, но в любом случае уже не числились лузерами.
Изгоями. Другими.
Свен-Улоф смахнул со стола невидимые крошки, поставил слева стакан воды, яйцо в подставке посредине, открытую солонку – справа, после чего захватил указательным и большим пальцами щепотку соли и посолил яйцо.
Кто-то спросил его, в кого он влюблен. Неуверенность в себе не позволяла ему даже мечтать о какой-нибудь популярной девочке, и он сказал – в Сагу. Позже Свен-Улоф узнал, что и Сага объявила его объектом своих чувств. Конечно, в ее случае причиной тоже была робость. Не садись не в свои сани.
В первой ложке оказался один белок. Белок слегка отдавал рыбой, и Свен-Улоф смыл рыбный привкус, выпив воды.
Они познакомились на вечеринке. Поначалу нерешительные, в конце они уже делили друг с другом блеск для губ, слюну и прикосновения, оба перешли запретную черту.
Через пару дней Свен-Улоф позвонил ей и, заикаясь, предложил сходить в кино, если она его еще помнит. Девушка помолчала, потом рассмеялась и объяснила, что ему, наверное, нужна ее младшая сестра, Сага.
Свен-Улоф улыбнулся воспоминанию. Желток был вкуснее белка и напоминал масло.
Он выбрал “Почтальон всегда звонит дважды” с Джессикой Лэнг и Джеком Николсоном. Фильм начинался сценой долгого горячего секса на кухонном столе. Они сидели, словно оцепенев, и Свен-Улоф сгорал со стыда. На финальных титрах он зевнул, потянулся и как бы случайно положил руку ей на плечо. Но время уже истекло. Зажегся свет, волшебство кончилось, и он плотнее завернулся в куртку, чтобы скрыть эрекцию.
Домой они вернулись на автобусе, а из-за некоторого недопонимания все кончилось ничем.
Свен-Улоф Понтен промокнул губы салфеткой. На бумаге осталась полоска желтка, и он сложил салфетку.
Он думал о Саге.
О том, что они делали на той вечеринке. В туалете.
Тело под халатом ожило, он распустил пояс и откинул махровую полу. Снизу на него смотрело лицо Саги. Ей лет тринадцать-четырнадцать, он – годом старше.
Она поцеловала это. Всего раз, быстро коснулась губами, покраснела, поднялась и поцеловала Свена-Улофа в губы. И прижалась к нему всем телом.
Несколько лет спустя они встретились в какой-то пивной, поговорили о том походе в кино и поняли, что что-то упустили. Об эпизоде в туалете оба молчали, но Свен-Улоф был уверен: она тоже помнит. По взгляду видно.
Они вместе отправились домой, но им помешали какие-то юнцы на машине, которым не понравилось, как он выглядит. Свен-Улоф угодил в отделение скорой помощи, а Сага, насколько он помнил, уехала домой на такси.
Что с ней было потом, он не знал. Он надеялся, что сейчас она счастлива.
Свен-Улоф запахнул халат, доел яйцо и допил воду. Когда он входил в ванную – бриться и чистить зубы, – эрекция уже прошла.
Свен-Улоф включил электрическую щетку, надеясь, что Оса не проснется. Хотелось еще немного спокойно подумать.
У него была Сага. А с кем пережила первый сексуальный опыт Алиса?
Об этом он понятия не имел.
Может быть, именно такие вещи они и обсуждают.
Его дочь там разговаривает о сексе с чужаками. С заправилой, с этим Мартинсоном. Мягкий, сладкоречивый, женственный Луве Мартинсон слушает, как Алиса рассказывает такое, что должна бы рассказывать ему, Свену-Улофу.
Ему, который любит ее больше всего на свете.
Свен-Улоф сплюнул зубную пасту, прополоскал зубы жидкостью с фтором и открыл шкафчик. Бритвенный станок, помазок, мыло для бритья и вода после бритья.
Да еще эти две чокнутые девки, Нова и Мерси. Им что Алиса рассказывала?
Алиса завела о них речь во время последнего разговора. Мерси из Нигерии, такая сильная, она просто завораживает. И Нова, такая красивая.
Тоже мне образцы для подражания, думал Свен-Улоф, взбивая помазком мыльную пену.
Он почитал их объявления в Сети. “Pls call Nova[2]», а также “Mercy Hot Chocolate – 18[3]». Даже некоторое время размышлял, не ответить ли. Шлюхи и наркоманки, вот и все.
В лето после истории с Сагой он впервые взбунтовался против семьи и церкви. Их было четверо, пятеро, шестеро парней. Клей, пластиковые пакеты, укромное местечко под мостом.
Его единственный опыт с неким подобием наркотиков. В те дни Свену-Улофу для обретения себя хватало клея.
Мечты обретали форму, образы сменяли друг друга, задерживались на несколько минут, а ему казалось – на несколько суток. Выражать мысли становилось просто, слова приходили сами собой, а дежа вю врастали в плоть. Но телу крепко доставалось. Психике тоже.
Нюхать клей и корчиться в грязи под мостом, подумал Свен-Улоф и поднес бритву к коже. Когда тебе шестнадцать, можно выдержать одно лето. А в двенадцать – может быть, два.
Свен-Улоф Понтен гладко выбрился. Запах воды после бритья перенес его на тридцать лет назад, под мост в Емтланде. Парфюм немного отдавал клеем.
Свен-Улоф выстриг несколько волосков из ноздрей, пригладил брови и посмотрелся в зеркало. Да, пара килограммов явно лишние. Но выглядит он неплохо. Моложе сорока пяти, сказала Тара, когда поняла, сколько ему на самом деле.
Тара, которая тоже взбунтовалась против христианства.
А сам он снова обрел веру, уже взрослым.
Свен-Улоф снял халат, встал под душ и включил воду.
Они тогда провели в машине полчаса, и сейчас он ясно видел перед собой лицо девушки. Щербинку между передними зубами и родинку над верхней губой. Ближневосточная Мадонна. Свен-Улоф включил воду посильнее, чтобы жена его не услышала.
Его мысли постыдны, как постыдны его деяния.
Как больно быть мужчиной.
Pls call Nova
Backpage/Sweden/Stockholm/Adult/Escort Service
Написав неправду о своем возрасте, Нова составила прайс-лист и каждую строку отметила красным сердечком. От тысячи четырехсот крон за полчаса до десяти тысяч за всю ночь. Только наличные, только предоплата.
Осталось нажать “копировать” и “вставить”.
Нова написала, что она очень тактична.
Что она открыта для любых предложений.
Что время, проведенное с ней, незабываемо.
Pls call Nova
Poster’s age: 18
Location: Stockholm[4]
Mercy Hot
Chocolate – 18
Backpage/Sweden/Stockholm/Adult/Escort Service
Мерси сидела в кафе, спиной к стене, чтобы никто не мог заглянуть ей в телефон. “Hello gentlemen! – написала она. – My name is Mercy, a horny black girl ready to bring you up to an ecstasy of pleasure”[5].
За спиной у нее висела грифельная доска.
Написанные белым мелом буквы извещали, что сегодня пирог стоит восемьдесят крон. Начинка – цуккини, батат, сыр фета и жареные орехи.
Суп сегодня на десятку дешевле пирога, густой томатный суп с чечевицей. Подается с айоли и петрушкой.
I’m waiting for your call.
Please no hidden numbers.
Mercy Hot Chocolate – 18
Poster’s age: 18
Location: Stockholm[6]
Слишком многое пережили
“Ведьмин котел”
Девять квадратных метров занимал неприметный кабинет: бежевый линолеум, стеллажи из “ИКЕА” и письменный стол, унаследованный от молодежного клуба, который располагался здесь раньше. Здание, дававшее приют детскому саду, средней школе и молодежному клубу, выкупила частная клиника, и оно эволюционировало в лечебницу-интернат для девушек, подвергшихся сексуальной эксплуатации. На застекленной двери помещалась пластиковая табличка: “Луве Мартинсон, заведующий”. Табличка была напечатана на принтере для этикеток.
Луве Мартинсон откинулся на спинку стула и посмотрел в единственное окно. Вид ему загораживал частокол сосновых стволов; где-то за соснами пряталась целлюлозно-бумажная фабрика, кровеносный сосуд городка. О Скутшере Мартинсон впервые услышал пару месяцев назад, когда решил работать здесь. Лечебница и в смысле терапии, и в смысле экономики была в плачевном состоянии; прежний заведующий запустил всё. Даже уборка оставляла желать лучшего.
Но условия Луве понравились. Двое психотерапевтов на полную занятость и младший медицинский персонал – несколько почасовиков.
Луве умел хорошо работать в непростых обстоятельствах.
Расстояние его тоже не испугало. Ему нравилось водить машину, к тому же за рулем хорошо думалось. Меньше часа медитативной поездки по шоссе из Упсалы до съезда у “Врат Дракона”. А потом еще четверть часа по старой Е-4, через лес.
Утром привести мысли в порядок, вечером развеяться.
При первом визите сюда Скутшер напомнил ему безымянную дыру на американском Среднем Западе – заправки, автомастерские, закрытые рестораны, вдоль дороги вытянулись коробки домов. Через несколько недель картина обросла подробностями, но первое впечатление чего-то скудного и бесплодного осталось. Унылый кабинет в унылом здании, стоящем среди других унылых зданий на равнине в богом забытом углу Швеции. Если надо сосредоточиться на чем-то существенном, на самой работе, то лучших условий не найти.
Обитательницы интерната – семь девушек от четырнадцати до семнадцати лет – прозвали его “Ведьмин котел”. Прозвище настолько прижилось, что местные теперь тоже его так называли.
За несколько недель до того, как Луве приступил к исполнению служебных обязанностей, одна из девушек, Фрейя Линдхольм, сбежала посреди ночи и не вернулась. Никто не знал, где она обретается, но ее статусы в соцсетях указывали, что она вернулась к прежнему образу жизни на улице. Исчезновение Фрейи в большой степени спровоцировало тревожное настроение, воцарившееся в приюте.
За окном, взявшись под руки, топтались несколько девочек. Они ежились в куртках, которые были им великоваты, и курили одну сигарету за другой.
Луве не знал, о чем они разговаривают, но надеялся, что о чем-нибудь повседневном.
Иногда он испытывал сомнения.
Девочки, как и он сам, слишком многое пережили, чтобы болтать о пустяках.
Луве включил компьютер и прошелся по своим записям.
Бо́льшая их часть касалась Новы и Мерси.
Они как раненые зверьки, подумал он. Постоянная готовность защищаться, постоянная готовность огрызнуться.
Девочки знали друг друга не больше года, но между ними уже возникла прочная связь. Среди подростков обычное дело, но Луве казалось, что в этой связи есть что-то нездоровое. Нова и Мерси как бы нарушали будничный распорядок, если здесь вообще таковой имелся, и остальные девочки их побаивались.
Луве взглянул на часы, взял блокнот и направился в кабинет, где проходили сессии. Слышно было, что кое-кто уже там – за две минуты до назначенного времени. Громкие голоса, смех – Луве знал, что они стихнут, как только он переступит порог. Отличная иллюстрация затруднений, возникших в ходе терапии. Трудно перешагнуть порог, вызвать в девочках доверие, а причина до досадного проста.
Он мужчина.
Луве вошел в комнату. Восемь стульев, как всегда, стояли в круг: у девочек должна быть возможность смотреть друг другу в глаза. Через пару минут свободных стульев не осталось. Семь самоназначенных ведьм, и он в центре ведьмовского круга.
Луве начал с того, что в открытую спросил:
– Если бы вам понадобилось в нескольких словах, а лучше – одной фразой, описать меня как человека, что бы вы сказали?
Кто-то из девочек заерзал, кто-то закатил глаза; иные усмехнулись или переглянулись.
– Мужик лет сорока, который задает странные вопросы, – серьезно сказала Нова.
– Мужчина, – сказала Мерси. – Если нужно законченное предложение.
– Парень по имени Луве и наш психотерапевт, – сказала Алиса Понтен, семнадцатилетняя девушка из семьи, относившей себя к Свободной церкви; в четырнадцать лет она начала сниматься в БДСМ-роликах.
Другие девочки высказали еще несколько предположений; все они сводились к одному и тому же. Главная характеристика Луве – он мужчина. Вторая – что он их психотерапевт, и ему около сорока.
Когда он указал на это, девочки все как одна пожали плечами. So what[7]?
– Я мужчина, а вы все находитесь здесь по вине одного или нескольких мужчин, так что ваш скептицизм по отношению ко мне обоснован. Я к нему привык, потому что он здорово мешал и мешает мне работать. Как только я вхожу в кабинет, чтобы провести беседу с женщиной, которая подверглась изнасилованию, или если кто-то видит мою фамилию в документах, мою кандидатуру подвергают сомнению. Я мужчина, а значит – я не пойму.
Луве подождал, не отзовется ли кто-нибудь из девочек на его слова, может, отпустит циничный комментарий, но девочки молчали. Луве не сразу сообразил, что они ждут продолжения. Луве прокашлялся.
– Несколько лет назад у меня была пациентка – шестнадцатилетняя девушка, пережившая изнасилование, у нее было несколько травм. Преступник сломал ей пальцы.
Луве вспомнил девушку в очках и с забинтованной рукой, и у него резануло в желудке.
– В больнице ее навестил ее парень. И первым делом задал вопрос, угрожал ли ей насильник ножом или пистолетом. Когда девушка ответила, что у преступника вообще не было оружия, парень впал в подозрительность и задал еще один вопрос. Догадываетесь, какой?
Он подождал. Девушки молча переглядывались. После некоторого молчания Мерси сказала:
– Он спросил: может быть, все произошло с ее согласия?
Луве кивнул.
– Дословно он сказал так: значит, ты просто дала себя изнасиловать? Как вы думаете, почему он так сказал?
– Ревновал, – предположила одна из девушек. – Испугался, что ей понравилось.
– Не очень-то понравилось, если ей пальцы сломали, – напомнила другая.
– Он так сказал потому, что он мужчина, – вмешалась Алиса. – Вы не понимаете. Не можете понять, потому что мужчин не насилуют.
Луве поразмыслил.
– В одном исследовании говорится, что мужчины чаще склонны обвинять жертву изнасилования и даже оправдывать насильника. Но тут скорее речь о…
– От члена столько вреда в мировой истории, что вам всем нужна лицензия на его использование. – Нова усмехнулась, глядя на него в упор. – И что же лично вас делает лучше других мужиков?
– Я не утверждаю, что я лучше. Я только хочу напомнить: я в первую очередь ваш психотерапевт. А не мужчина средних лет, который возомнил, что может толковать ваши переживания, не разделяя ваш опыт.
– Ладно, – сказала Нова. – О чем сегодня будет разговор?
– Думаю, мы начнем там, где закончили в прошлый раз. – Луве повернулся к Алисе. – Ты тогда не выговорилась до конца. Хочешь что-нибудь добавить?
Алиса росла в авторитарной семье, в детстве ее держали в ежовых рукавицах, но в четырнадцать лет она, по ее собственным словам, “взбунтовалась и снялась в одном фильме”. На первой сессии Алиса рассказывала группе о съемках.
– Парень, с которым я тогда встречалась… ну, он знал много всяких странных типов, и одного режиссера знал. Мне заплатили десять тысяч…
Пока Алиса рассказывала, что ей пришлось вытворять перед камерой, Луве искоса поглядывал на Нову и Мерси. Ему хотелось видеть их реакцию, когда кто-то делится опытом, который имелся у них самих.
Нова, может быть, и не сочувствовала искренне, но слушала заинтересованно; Мерси уставилась в пол, взгляд обращен куда-то в себя.
Может быть, пришло время и мне начать рассказывать, подумал Луве.
Но как все запутано.
Как не похоже на правду.
Необходимо расковырять раны
“Ведьмин котел”
– Сначала они резали мне живот и грудь, потом использовали как писсуар.
Таких, как Алиса, всегда выбирают в школе Люсиями. Миленькая до тошноты. И выглядит моложе своих семнадцати лет.
– Потом стали натравливать на меня собак…
Нова так и видела все перед собой. Северная окраина Стокгольма, промышленное помещение, перестроенное, чтобы снимать ролики, каких не найдешь на обычных порносайтах. Десять обросших бледным жиром мужчин, немецкая овчарка в течке и девушка. Так называемая “petit pre-teen” – настолько субтильная, что члены рядом с ней кажутся больше, чем есть на самом деле.
“Люсия” вдохнула кислород, еще остававшийся в комнате, и его поглотила тьма внутри нее. Говорить больше было нечего.
Слова взорвались.
Луве – психотерапевт – подался вперед и сцепил руки.
– Ты приняла решение порвать с той жизнью; сильное решение. Они больше не смогут навредить тебе.
Нова узнала этот взгляд, он кричал: “Убить сволочей! Отрезать им члены и затолкать в глотку!” Но Луве – профессионал. Его обязанность – научить этих семь девочек быть здоровыми без ненависти, потому что пока ты ненавидишь – ты не выздоровеешь.
Ненависть – ржавый нож, воткнутый тебе в живот.
Луве мужчина, но вроде все понимает. Может, он гомик – во всяком случае, вид у него женоподобный. Сорокалетний мужик с крашеными черными волосами, семьи нет, даже подружки, похоже, нет.
Луве повернулся к Нове – девушке, которая всегда говорила охотно. Которая не замолкала там, где останавливалась эта малышка, а продолжала молоть языком дальше. Что чувствуешь, когда тебе в прямую кишку заталкивают тридцатисантиметровый дилдо. Что чувствуешь потом, когда кал и кровь льются по ногам, а тебя хлопают по спине и говорят, что ты держалась молодцом.
– Нова… ты ведь прошла через нечто подобное, – сказал Луве. – Как ты справлялась? – Луве говорил спокойно, но Нова знала: он очень взволнован.
Его выдавали запястья тощих рук.
В крови у него билась злость, под тонкой кожей пульсировали жилки.
– Я блевала, пока желудок не опустеет, – сказала Нова. – Чистила зубы, пока из десен не пойдет кровь. Пила спиртное, пока меня снова не начинало рвать. Стояла в душе под кипятком. Иногда мыла себе между ног металлической мочалкой. You name it[8].
– Ты описываешь первичное самоповреждение… Ну а потом? Что ты сделала, чтобы жить дальше?
– Трепалась. Бренчала языком, как не знаю кто.
Луве кивнул, и Нове показалось, что он улыбнулся краем рта.
– Ты слушала рассказы остальных. Выслушала всех, кто здесь собирается. Ты принимала участие в обсуждении, делилась собственным опытом. Суть в том, чтобы разорвать порочный круг. Травма, от которой пострадала каждая из вас, одновременно и ваша общая травма.
– Одни поломались больше, другие меньше, – сказала Нова, и все поняли, что она имеет в виду малютку “Люсию”.
“Люсия” неприязненно взглянула на Нову, хотя ненавидела саму себя.
Потому что Нова сказала то, чего сама Алиса говорить не хотела.
Потому что Алиса застряла на первой фазе терапии – доверие терапевту, а Нова дошла почти до третьей. Она уже может обсуждать всю эту херню.
Нова считала, что расковырять раны, вскрыть, обнажить их необходимо. Останутся отвратительные шрамы, но это единственный способ излечиться.
“Люсия” ненавидит себя за то, что труслива, ничтожна и завистлива.
За то, что она отвратительна и жалка до мозга костей. За то, что настолько отстает от Новы.
– Какая же ты дрянь, – сказала Нова, глядя на миленькую маленькую Люсию, на ее ангельские волосы.
Луве вздохнул и попросил ее объяснить, почему она так говорит. Почему Нова говорит Алисе такие слова.
– Потому что она сама так думает. Вы же видите, я права. Она не протестует. Люсия, почему ты не говоришь, что все не так? Потому что ты со мной согласна. Ты дрянь.
– Ну хватит, Нова…
Одна из девочек хотела вмешаться, но Луве жестом попросил подождать. Какое-то время было тихо.
– Я не Люсия, – сказала наконец малышка. – Меня зовут Алиса.
– Маленькая гаденькая Алиса, – отозвалась Нова.
Девушка стиснула зубы, шея покраснела.
– Ладно, окей… Я мерзкая и отвратительная. Дальше что?
– Ты в этом не виновата. Тебя испортили другие. Понимаешь? Другие сделали тебя дрянью.
Алиса не ответила. Она опустила глаза и стала терзать ногтями тыльную сторону руки.
– Алиса, здесь все такие же, как ты, – сказал Луве. – Избавиться от подобных чувств трудно, но можно. Для этого мы здесь и собрались. Чтобы поддерживать друг друга… – Он бросил взгляд на Нову. – Думаю, ты тоже этого хочешь.
Нова кивнула и краем глаза увидела, что Мерси улыбается.
Мерси, которой пришлось хуже всех.
Мерси, которая из них из всех самая сильная.
Третья девочка
Танто
Кевин бросил взгляд на часы. Он почти не спал, так – подремал несколько минут над материалами расследования. Надо бы привести себя в порядок перед церемонией погребения, но бросить материалы было невозможно.
Чернокожая девушка, она же Блэки Лолесс, выглядела очень уверенной в себе.
Взгляд одновременно жесткий и пренебрежительный. Может быть, ее самоуверенность – броня; трудно понять. Смотреть на вторую девушку было труднее. Здесь броня дала трещину. Та, что называла себя Нова Хорни, пыталась выглядеть крутой, но ей явно не хватало актерского таланта, потому что выглядеть крутой у нее совершенно не получалось.
Кевин увеличил скриншот, где на заднем плане виднелись две худые голые ноги. Они могли принадлежать так называемому флафферу – ассистенту, которого используют, если надо поддержать у актеров эрекцию между дублями. Обычно флафферы выполняют свои обязанности за камерой, за кадром; к их помощи прибегают, когда снимают гэнгбэнг или сцены с множественной эякуляцией, те, что требуют большого физического напряжения.
Или же ноги могли принадлежать несовершеннолетней девочке, ровеснице Новы и Блэки, подумал Кевин, глядя на изображение.
Третьей девочке.
Не разберешь.
Кевина раздражало, что у полиции нет примет взрослых мужчин-актеров, примет, которые можно было бы пустить в дело.
Кевин тяжело сглотнул. Ненависть, отвращение и страх питает одна и та же кишечная флора. У Кевина скрутило живот.
Что пережили эти девочки? Как их туда занесло?
Как все началось? И где они сейчас?
Кевин знал, что у распространителя роликов несколько имен.
Повелитель кукол. Puppet Master, или Master of Puppets.
А выходя на связь с несовершеннолетними, этот человек называет себя Петер.
По-настоящему хороший отец не перестанет поднимать свое дитя к небу
“Ведьмин котел”
Ее зовут Мерси, и она сидит чуть позади Новы. Перед каждой сессией Мерси сдвигала стул на метр назад и как будто оказывалась вне общего круга.
Нова считала, что Мерси даже не задумывается об этом. Может, так она чувствовала себя в большей безопасности – лучше обзор, больше контроля. Или просто не хочет чувствовать себя частью компании.
Нова знала о Мерси почти все и все же плохо представляла, кто Мерси в глубине души. Мерси ее ровесница, но выглядит лет на десять старше. Она круче. Жестче. У Мерси нет ран – одни шрамы.
Есть страны, в которых Мерси значит цветок.
Она родилась в 1996 году в поселке возле города Кано, на севере Нигерии.
Не окажись ее отец гомиком, жизнь сложилась бы совершенно иначе.
Мерси не пришлось бы бежать в Швецию, и ничто из того, что произошло с ней по пути, не случилось бы. Она не попала бы в лагерь беженцев на севере Емтланда, не попала бы в Стокгольм.
И не познакомилась бы с Новой.
Не сидела бы сейчас в этой комнате, не говорила бы низким голосом, заставляюшим всех прислушиваться к ее словам.
Мерси странно говорила по-шведски. В словах не ошибалась, но интонация была неверной. Мерси как будто фальшиво пела, но эта песня ни в малейшей степени не была неприятной; неверные тоны словно рождались где-то глубоко внутри, они звучали печально и в то же время красиво.
Всю сессию Мерси просидела молча, но теперь повернулась к маленькой светлой Люсии и заговорила.
– Ты – птенец. – Глаза Мерси поглощали всякого, кто в них заглядывал, без следа, но сами оставались непроницаемыми. – Ты еще не выучилась летать. Просто раз за разом выпрыгиваешь из гнезда, надеясь на лучшее. Но каждый раз падаешь на землю и больно ударяешься. А ты попробуй подняться в воздух. Пусть ветер унесет тебя вверх.
Только Мерси могла говорить такие вещи, чтобы никто не засмеялся. Заведи подобные речи Нова, остальных девочек бы уже в бараний рог гнуло от смеха. А Мерси все слушают в полной тишине.
Луве пошевелился, закинул ногу на ногу.
– А ты, Мерси… Когда научилась летать?
– Я не знаю, училась ли я этому. Мне кажется, что меня как будто кто-то несет. Держит за бока холодными руками… Уверенной хваткой. Вот…
Мерси задрала кофту и указала на оголившиеся ребра.
Все увидели шрам, похожий на розоватую колючую проволоку; он начинался под одной грудью, тянулся наискось через живот и уходил под пояс штанов. Дальше видно не было, но Нова знала, что шрам опускается ниже лобка и заканчивается на внутренней стороне бедра. Мерси было двенадцать лет, когда боевики “Боко харам” распороли ее штыком – после того как изнасиловали. Потом надели ей на голову цинковое ведро и били по нему обрезком железной трубы, пока у нее не лопнули барабанные перепонки.
Все здесь, кроме, может быть, Луве, думали, что шрам – последствие неудачной операции. Какой-то загадочной кишечной болезни, поразившей ее в детстве. Мерси лгала всем, кроме Новы. Никто из девочек не знал, что Мерси росла в образованной семье, которая могла позволить себе хорошее медицинское обслуживание. Девочки считали, что у всех нигерийских детей от голода мушки в глазах и распухшие животы.
Они ничего не знают.
Мерси, пристально глядя на Луве, опустила кофту.
– Две руки, которые держат тебя? – спросил он. – Которые помогают тебе летать?
Мерси кивнула, но больше ничего не стала говорить.
Нова знала, чьи руки держат Мерси. Руки ее отца. Он держит Мерси и сейчас, спустя три года после того, как пропал без вести. Держит, как держал ее, когда Мерси была маленькой и хотела летать.
По-настоящему хороший отец всегда будет поднимать свое дитя к небу. И не уронит его.
Мерси верила, что отец жив, хотя Нова в этом сомневалась.
– Мерси… – продолжил Луве, – ты ничего больше не хочешь нам рассказать?
Мерси смотрела не на Луве, а на Нову. Несколько секунд, словно чтобы дать другим понять: они вместе, и Нова знает, что скажет Мерси.
– Нет, но у меня вопрос. Почему мы не можем жить по двое в комнате? Комнаты же большие, места хватит. Неважно, чего человек успел добиться в терапии. Ночью все эти успехи не имеют смысла, потому что остаешься наедине со своими мыслями.
– Вы согласны с Мерси? – спросил Луве. И кивнул, поняв, что так думают все. – Я передам ваше пожелание руководству. Но не слишком надейтесь. Ваше желание идет вразрез с базовыми принципами лечения, и я не знаю, получится ли отступить от них.
Как хорошо, что Нова иногда проскальзывает к Мерси по ночам.
Что бы она делала – без тепла Мерси? Без рук Мерси, обвитых вокруг ее шеи?
Два, а иногда и три раза в неделю они спали вместе. Все зависело от того, какой санитар дежурит ночью. Пара дежурных смотрели на такое сквозь пальцы, даже поощряли.
Например, Эркан.
Эркан даже устраивал так, что иногда им удавалось улизнуть. Завтра его смена, и Нова надеялась, что планы не изменились. Завтра в половине двенадцатого они отсюда выберутся. Их ждут несколько часов свободы, а потом придется возвращаться.
То, чем они собираются заняться, вряд ли можно назвать свободой, но это необходимое зло. Им нужны деньги. А еще им нужно взрастить в себе злость.
Фрейя тогда так и не вернулась. Наверное, занялась тем же, чем они займутся завтра, и решила продолжать.
Иногда легче притворяться кем-то другим, чем знакомиться с собой настоящей.
– Ну что ж. – Луве закрыл блокнот. – Закончим на сегодня.
Он все-таки нравился Нове. Похоже, ему и правда не все равно, что с ними будет. Он хочет вынуть из них ненависть – думает, что так правильно.
Но завтра ночью они его подведут. И сделают по-своему. Взрастят в себе ненависть.
Нова думала, что Мерси тоже, наверное, хочет стать нормальной. Во всяком случае попробовать, чтобы было с чем сравнивать.
Может, в “Котле” они и смогут стать нормальными. Посмотрим. Чему быть, того не миновать.
С другой стороны, всегда можно послать все к черту. Стать ненормальной по максимуму.
Не быть ничьей рабой.
Нова и Мерси вышли из кабинета последними, и Луве запер за ними дверь. В коридоре Мерси сказала, что хочет курить.
Нова вышла следом за ней во двор. Остальные девочки сгрудились на крыльце под крышей, потому что шел дождь, но Нова и Мерси спустились к дороге. Отсюда было видно фабрику, походившую на гигантский крематорий.
– Интересно, что чувствуешь, когда убиваешь, – сказала Нова. – Кого-нибудь, кого реально ненавидишь.
Мерси уставилась в землю. Пнула камешек и потеребила подвеску-амулет, молитву-вранье.
Его зовут не Петер
Танто
Стоя перед маленьким зеркалом в садовом домике, Кевин поправлял воротничок рубашки – старой отцовской белой рубашки. Зазвонил телефон.
Кевин не стал отвечать. Он продолжал возиться с воротничком, отгибал его так и сяк, но воротничок не хотел садиться нормально. Если застегнуть верхнюю пуговицу, то воротничок душил Кевина. А с расстегнутой верхней пуговицей Кевин начинал походить на плейбоя.
Как же тяжело, вплоть до самых пустяков, хоронить отца.
Телефон тренькнул – кто-то прислал сообщение. Надев пиджак, Кевин набрал 222, голосовую почту.
Ища английскую булавку, которой можно было бы скрепить ткань между пуговицами, Кевин слушал мужской голос в трубке. Звонил коллега, Йимми Шварц. Они не то чтобы хорошо знали друг друга – так, виделись на работе время от времени.
Кевин… У нас тут погибшая девушка. У нее в телефоне полно фоток и видео, все про секс. Я краем уха слышал, что ты выслеживаешь одного грумера[9]… Наша погибшая близко общалась с кем-то, кто называет себя Повелитель кукол, или Puppet Master, хотя похоже, что его настоящее имя – Петер.
Кевин застыл, зажав булавку большим и средним пальцами. Осторожно потрогал острие указательным пальцем. Коллега тем временем говорил, что есть прощальное письмо и почти все указывает на то, что девушка, Тара, совершила самоубийство.
Мне нужна твоя помощь, закончил Шварц и попросил Кевина перезвонить.
Кевин сунул телефон во внутренний карман пиджака, застегнул булавку между пуговицами, опустил воротничок рубашки и посмотрелся в маленькое, покрытое пятнами зеркало.
Напряженные челюсти. Кевин подавил внезапное желание заехать в зеркало кулаком.
Вместо этого зашнуровал ботинки, вышел и запер дверь.
Сел на ступеньку веранды, достал телефон. Голые деревья казались частью горы: серые стволы торчали из серого камня, будто руки великана.
Шварц ответил после первого гудка; пока он коротко излагал, что именно полицейские обнаружили в телефоне погибшей, а также что в настоящую минуту труп находится на экспертизе в Сольне, Кевин пытался представить себе угрожавшего ей мужчину.
Его зовут не Петер. Может быть, и не Улоф.
И выглядеть он может как угодно.
– Значит, ей угрожал в чате человек, которого мы ищем. И вчера она назначила “Улофу” встречу и написала прощальное письмо.
– В общем и целом – да. Мне не хочется распространяться о деле по телефону.
– А что именно ты не хочешь говорить?
– Что медэксперт обнаружил у нее во влагалище следы спермы.
Мама уже набралась
Пять лет назад
Я знаю твоего классного руководителя.
Если ты через час-полтора не пришлешь фотографии, Роберт Мальм очень сильно удивится, когда завтра откроет почту.
Целую. Петер.
Слова заползали в нее. Буквы шевелили черными лапками на экране компьютера, словно отвратительные насекомые; ей казалось, что весь мир знает, чем она занималась в последние месяцы.
Он и раньше ей угрожал, но не так. Не подбирался настолько близко. После ее попытки соскочить все стало только хуже, а теперь он еще и прознал, что Роббан – ее учитель.
Но она не может сделать новые фотографии прямо сейчас. Слишком рискованно.
Нова села в кровати, привалилась к стене и поставила ноутбук на колени. “Вряд ли получится, – написала она. – Мама с папой дома, и у нас куча народу”.
Из гостиной доносился шум; понятно, еще долго не закончат. Звяканье стаканов и бутылок, громкие голоса, суета. Замок в ванной легко поддается, если дернуть за ручку, а в ее собственной комнате даже ключа нет.
Ответ пришел почти сразу же.
Милая Нова, я начинаю терять терпение. Ты пишешь “мама с папой”, но я знаю, что твой родной отец умер, а Юсси тебе отчим.
Юсси? Откуда он знает?
Петер знает все.
Пара секунд – дрожа, как бывает перед слезами, – и картинка появилась на экране. Снято, как она сейчас сидит: в кровати, спиной к стене.
Из нее хочет вырваться чудовище. Затхлая тяжесть в груди, в животе, в горле. Нова загнала ее назад, сглотнула. Пока не время.
Пальцы помедлили на клавиатуре. “Ладно”, – написала она, и через несколько секунд на экране возникла улыбающаяся рожица. Потом он отсоединился.
В голове только слабый шум. Как будто мелкие камешки трутся друг о друга.
Нова взяла телефон и вышла из комнаты, на звуки вечеринки.
В гостиной говорили о ловле раков. В выходные ее тоже возьмут в Накку. Они с Юсси и братом будут ловить раков в заповеднике ночью. Рыбачить там, конечно, запрещено, но удержаться трудно – в озере столько раков!
Казалось, что до пятницы еще несколько лет.
– Я в душ, – объявила Нова. – Кому-нибудь нужно сначала в туалет?
Мама кивнула на ее мобильный:
– По мобильному же можно и в комнате поговорить?
Мама уже набралась. Глаза блестят, на щеках проступили тонкие красные ниточки.
В гостиную вошел Юссе.
– Все, туалет свободен, – сказал он и сел на диван. – Иди в душ.
Нова надеялась, что музыка играет так громко, что ее никто не услышит. Не услышит, как она, глядя в камеру мобильного телефона, обращается к человеку, который сегодня вечером будет смотреть ролик.
Может быть, она будет обращаться и к другим мужчинам, если он распространит видео.
Она заперла хлипкую задвижку, закрыла дверь туалета. На нечистой раковине стоял флакон жидкого мыла “Пальмолив”. Надо, чтобы оно было медовое, потому что желтоватый оттенок выглядит реалистичнее.
Пусть капает на тело и лицо, остается лужицами, тягучими каплями или тянется нитями. Он называл такие фотографии “мазня”. Нова видела похожие в интернете.
В голове у нее шуршали камешки и песок.
Нова разделась и встала перед зеркалом. Увидела, как шевелятся губы, как шепчут слова, которые он хочет услышать.
Надо потренироваться. Если выйдет нехорошо, он ее раскусит. Нова уже посылала ему видео, но он остался недоволен, написал, что она плохая актриса, что он ей не верит и что она забыла его советы.
Ты должна прочувствовать собственные слова; только тогда выйдет достоверно.
Нова попробовала еще раз, пошептала громче; повторив фразу несколько раз, приладила мобильник на раковину и нажала “запись”.
Отступила на пару шагов назад. Огладила себя по почти плоской груди и животу. Попыталась улыбнуться, отвела волосы в сторону.
– Я так люблю большие члены. Так люблю, когда меня трахают, – прошептала она, и ей показалось, что слова эхом отражаются от кафеля.
Фоном гремела музыка из гостиной, любимая песня Юсси; Нова согнула колено, поставила ногу на раковину, навела камеру. Потом потянулась к стаканчику с зубными щетками. Ее щетка – желтая. У брата синяя, у мамы – сиреневая, у Юсси – красная. Нова выбрала красную, потому что другой цвет почему-то казался ей неправильным.
За дверью продолжалась вечеринка – Нова уже не помнила, когда она началась, а закончится не раньше, чем все разойдутся.
Самая убогая девочка в школе, подумала Нова. От меня воняет черт знает чем, я уродина. Пройдет пара лет, и я буду сидеть там, со всеми прочими. Пьяная или под кайфом. Оцепеневшая, в компании живых мертвецов.
Все было кончено в несколько секунд
Пять лет назад
Пусть муравей ползет по руке, от пальца к пальцу. Интересно, каким он видит мир? В глазах самой Мерси мир становился все больше и больше. Когда она была маленькой, она думала, что их поселок занимает чуть не весь континент, что до Южной Африки рукой подать, а Гибралтарский пролив еще ближе, но сейчас она знала, что все не так. До Вудила, где работает папа, ехать недолго, а вот дальше, до Кано, второго по величине города страны, дорога уже бесконечная, а ведь Кано – всего лишь точка на карте. А сама Нигерия – просто пятнышко на Африке, которая, в свою очередь, пятнышко на земном шаре, который – микроскопическая точка в Солнечной системе. И так далее, до бесконечности.
От муравья пальцу было щекотно. На муравье, конечно, куча клещей, а на клещах – бактерий. И все живут в разных мирах. Но муравью на это, наверное, наплевать. Мерси сдула его с пальца и поднялась с бревна.
Трава была жесткой и ломкой от солнца; раньше здесь было просто тепло, и буро-зеленая вода приносила с собой прохладный ветер с гор. Вокруг Мерси лежали поваленные деревья; лес из времен ее раннего детства валялся теперь у реки кучей хлама. На берегах ее детства построят новые дома.
Раньше все было так просто! Папа каждое утро ездил на автобусе в Вудил, где преподавал в техническом университете, а мама, стоматолог, работала на той же улице, где они жили. Родители любили друг друга, а двое младших братьев Мерси всегда смеялись.
Теперь Мерси знала, с папой неладно, и поэтому все не так, как раньше.
Поодаль мужчины валили деревья, и звук бензопилы время от времени прерывался шумом падавшего дерева.
Мерси забралась на возвышение, села и стала смотреть, как работают мужчины. Между ветками крест-накрест свисали веревки, а внизу, в зелени, сверкали, как солнце, как цветки сальпиглоссиса, десять пластмассовых касок. Одни мужчины расчищали подлесок, другие готовились валить следующее дерево.
Папа Мерси в молодости валил лес, чтобы добыть денег на учебу. Потом получил место преподавателя в том же университете, где учился. А теперь у него проблемы на работе, потому что он сделал что-то незаконное вместе с одним своим студентом, парнем моложе его самого на несколько лет. Но так как никто, а в особенности ее родители, не хотел об этом говорить, Мерси не очень понимала, что произошло. Знала только, что что-то нехорошее.
Мерси было видно их дом и как папины рубашки сушатся на веревке, натянутой между задней дверью и чуланом. На каждый день недели свой цвет, и таких у него было два комплекта. Желтая, голубая, красная, зеленая, оранжевая, розовая и фиолетовая. Вспомнит ли она через несколько лет эту картину – семь разноцветных рубашек?
Вот она сидит тут на холме и смотрит на все вокруг, а потом, может, ничего и не вспомнит. Мальчик едет по центральной улице на красном мотороллере, серая полосатая кошка трется об угол дома. Какая-то женщина выбивает ковер на балконе. Желтые каски лесорубов, звук бензопилы, громкий шелест ветвей и глухой удар: дерево упало.
Мерси стала припоминать, что она сегодня делала. Мелочи какие-то. Утром покрутила пластмассовый винт стульчака, а после завтрака выковыряла кусочек хлеба, застрявший между зубами. Когда она полчаса назад уходила из дома, то сняла туфлю и вытряхнула камешек, который натирал пятку.
Папа говаривал, что небо не помнит своих дождей, а ветер – своих песчаных бурь, и Мерси вдруг поняла, что это значит. Человек не помнит самого движения, его просто несет потоком, через дни и недели, все дальше и дальше. Изобилие всего – только здесь: желтые цветки сальпиглоссиса, удары острых, как бритва, мачете и громкие хлопки выбивалки.
Желтые каски внизу. Блестящие от пота голые торсы.
Вдруг один мужчина рухнул на землю и забился в судорогах. Остальные бросились к нему, послышались крики, и Мерси поднялась, чтобы лучше видеть.
Мужчину укусила змея. Мерси поняла это, увидев, как черная мамба – черная не снаружи, а изнутри – извиваясь, уползает в низкую траву у берега реки. Змея получила свое имя по угольно-черной пасти, которую раскрывает перед броском.
Мужчина, тяжело дыша, лежал на спине. Из голени шла кровь; один из его товарищей склонился к нему и что-то сказал, махнул рукой, подошли еще двое. Один из них нес бензопилу, и Мерси поняла, что сейчас будет. Ей захотелось зажмуриться, но она заставила себя смотреть. Мерси твердила себе: лучше увидеть все своими глазами, чем потом мучиться от ночных кошмаров.
Один из рабочих достал мобильный телефон и куда-то позвонил. Поговорил с полминуты, а потом кивнул мужчине с бензопилой. И тот привел ее в действие.
Крика не было, только звук бензопилы изменился, стал пронзительнее, когда перепиливали кость. Смола и древесная стружка, подумала Мерси. Мелкие, мельчайшие опилки. Не труднее, чем отпилить ветку.
Все было кончено в несколько секунд.
Сидя на холме, Мерси наблюдала, как человека с отпиленной ногой перевязывают, как обрубок укладывают повыше. Из сумки-холодильника вытащили контейнеры с едой и вместо них сунули в сумку отпиленную ногу. Десять касок желтым букетом окружили покалеченного. Товарищи гладили его по лбу, держали за руки и говорили с ним, пока не приехала “скорая”. Когда санитары клали рабочего на носилки, он, кажется, улыбался.
Опускались сумерки; пора домой. Но Мерси чувствовала бесконечную усталость и дурноту. В воздухе разливался густой запах горячего молока, похожий на запах из открытой раны, а цвета в сумерках казались ярче и глубже. На том месте, где отпиливали ногу, в глаза било красное пятно, а река приобрела глубокий зеленый оттенок, отчего вода казалась тяжелой и вязкой, как нефть.
Мерси и не заметила, как рабочие собрали инструменты и ушли. Она завертела головой во все стороны, но на берегу, где валили лес, уже никого не было. На улицах поселка тоже никого. Светилось только несколько окон, и Мерси показалось, что где-то включено радио. И все же у нее было ощущение, что рядом кто-то есть. Как щекотка вдоль позвоночника и “гусиная кожа”. Мерси была здесь одна, но за ней как будто кто-то наблюдал.
Она еще немного посидела, потом поднялась, отряхнула платье и отправилась домой. По дороге она, как учил папа, громко топала, чтобы отпугнуть змей. Защитить себя со всех сторон не получится. Умереть может любой человек, в любую минуту.
Мерси приблизилась к поселку; светилось кухонное окно маленького домика. По четырем теням на желтой стене возле мойки Мерси поняла, что семья села ужинать, не дождавшись ее.
Она открыла дверь; навстречу густо пахнуло эбой, кашей из кассавы с жареным мясом. В очаге потрескивал огонь. Тепло охватило Мерси.
– Где была? – Папа сдвинул очки на кончик носа.
– Я видела черную мамбу. – Мерси подошла к плите и взяла кусочек мяса со сковородки. – Она укусила лесоруба.
Мерси села за стол и стала рассказывать.
Отец кивнул.
– У одной мамбы яда хватит, чтобы убить тридцать человек. Если бы лесорубу не отпилили ногу, он бы не выжил. Думай, что для него все кончилось неплохо, и не бойся змею. Уважай ее. Она не пускает сюда крыс, а чем меньше крыс, тем меньше болезней.
Они молча поужинали. Потом мама подхватила близнецов, на каждую руку по одному, и ушла в спальню. Мерси осталась с папой. С папой, которому плохо.
Мерси это видела по нему. По морщине, которой она раньше не замечала, по глубокой морщине на лбу, словно папа обдумывает что-то тайное.
А вдруг, когда постареешь, то всю свою жизнь сможешь вспомнить только по морщинам?
Может, морщина под правым глазом у отца появилась после смерти дедушки, а под левым – когда заболела бабушка? А веселые “гусиные лапки” в углах глаз – три года назад, когда родились братья Мерси?
Братишки такие милые, кругленькие, теплые. Даже пот у них пахнет приятно. Мерси им завидовала. Они всегда были друг у друга. А Мерси была одна.
Они с папой стали вместе убирать со стола, и Мерси заметила, что отец хочет ей что-то сказать, но не знает, как начать.
– Что вы такого сделали? – спросила Мерси. – Вы с тем студентом… И почему никто не хочет об этом говорить?
Отец не ответил. Открыл кран и стал мыть посуду.
Мерси уселась за стол и принялась наблюдать за его движениями. Папа, как и она сама, был высоким и худым. Двигался он тоже, как она, и точно так же ходил чуть враскачку. Если не считать очков, они и на лицо были похожи. Высокие скулы и маленький нос.
А младшие братья уродились в маму. Маленькие и толстенькие, с ямочками на щеках.
Отец ополоснул тарелки, закрутил кран и стал вытирать руки, посматривая на Мерси.
– Наверное, ты еще маленькая, не все поймешь, – сказал он, – но я тебе расскажу как есть.
Отец сел напротив Мерси и ласково взял ее за руки.
Он заговорил о том, как любит ее и ее братьев, как боготворит их мать.
– Когда мы поженились, мы оба знали, кто я, но она приняла меня таким. Я люблю ее больше всего на свете, и то, что произошло, не было супружеской изменой, как считают некоторые…
– Я не поняла. Ты про что?
У отца заблестели глаза.
– Мы с тем студентом – кстати, его зовут Годфри – очень близко подружились. У нас… – Он снял очки и сморгнул слезы.
– Что у вас? – спросила Мерси, хотя ей казалось, что она уже знает ответ.
– У нас была любовная связь, – продолжил отец. – А теперь это проблема, потому что кто-то узнал и донес в полицию.
– Мама донесла? – У Мерси скрутило живот.
Отец рассмеялся.
– Ну что ты… Мама знала про нас с Годфри с самого начала. Я думаю, это кто-то из моих университетских коллег.
Мерси каким-то образом всегда знала, что ее папа не такой, как другие папы.
– Ты любишь Годфри? – спросила она – тихо, хотя ей хотелось заорать.
– Да… Но я и маму люблю.
Мерси верила ему, потому что почти не сомневалась: она сама такая же. Ей нравились и мальчики, и девочки. Но сомнения остались. А вдруг папа их бросит?
Отец снова взял ее за руки.
– Нас с Годфри вызывали на допрос в полицию. И мы солгали. Но пошли слухи, может быть, они уже нам навредили. Правду хорошо говорить потому, что потом не приходится вспоминать, что сказал. А во лжи самому легко запутаться.
Отец уставился в стол. Мерси не знала, что сказать.
В голове проносились разные плохие слова, но звучал и другой голос. Голос, который говорил о папе хорошее, который жалел его. Который хотел ему помочь.
– Я могу пойти в полицию и сказать, что ты невиновен, что ты любишь нас, а не этого Годфри. Что вы с мамой женаты.
Потом папа заговорил о том, что Мерси и так уже знала. Что они с мамой никогда не были особенно религиозными. Они считали себя агностиками, что означало – они ни верят, ни не верят в высшие силы.
Папе не нравилось, какую деятельность развили в поселке священники.
– Они как будто предлагают людям яхты, но моря здесь нет. Людей учат на всех парусах плыть к миражу.
Еще отец рассказал, что силу набирает исламское движение “Боко харам”. Десять лет назад это была мирная группировка “Общество приверженцев распространения учения пророка и джихада”, но теперь к ним все активнее подтягиваются фанатики.
– Как сорняки, выросшие из одного семени. Их идеи уже расползаются даже по университету. У меня есть коллеги, которые всерьез хотят запретить всякое западное влияние в образовании. Боюсь, я больше не смогу там преподавать.
Мерси молча слушала рассказ отца о том, как “Боко харам”, под предводительством харизматика Мохаммеда Юсуфа, начала преследовать христиан, пока еще остававшихся здесь, на севере. Общаться с христианами стало опасно, и Мерси подумала про жившую в их поселке Блессинг, свою подружку по играм. Они были ровесницы, и имена у них хорошо подходили. Мерси и Блессинг. Милость и Благословение.
– Я хочу сказать тебе кое-что еще.
Папа словно постарел за время разговора; Мерси заметила новую морщинку, тонкую черточку в углу рта.
– Мы только что узнали, что Годфри болен.
Мерси услышала, как у него дрожит голос.
– Болен?
Отец кивнул.
– Есть риск, что я тоже болен.
Он не стал уточнять, Мерси и так знала, о какой болезни речь. Она подошла к отцу и обняла его. Отец погладил ее по голове и спросил, хорошо ли она себя чувствует.
– Не знаю, – сказала Мерси. Она чувствовала пустоту внутри. Словно что-то исчезло, что-то отняли у нее. Ей вдруг захотелось уйти. – Можно мне на улицу?
– Там уже темно, ни зги не видно. – Отец улыбнулся. – Куда ты собралась?
– Сбегаю к Блессинг. – Мерси сказала первое, что пришло ей на ум.
– Ну да… – Отец погладил ее по щеке. – Иди, поиграй.
И Мерси ушла.
Поселок тревожно ворочался, словно мучимый бессонницей ребенок. С приходом темноты жара никуда не делась, и когда Мерси подходила к дому единственных здесь христиан, платье от пота прилипало к телу.
Она уже несколько недель не виделась с Блессинг и сегодня тоже, наверное, не пришла бы, если бы не услышанное только что от папы.
Насколько Мерси знала, никто в поселке не испытывал ненависти к родителям Блессинг. Напротив, они пользовались уважением; отец заседал в местном совете, мать, парикмахерша, стригла на дому. Почти все жительницы поселка стриглись у нее, по вечерам здесь толпились женщины, но сейчас окна в доме были темными, а людей не видно.
Мерси постучалась, но ей никто не открыл, и она растерялась, не зная, что делать дальше. Домой возвращаться не хотелось. Мерси забрела на задний двор и села на низенькую каменную ограду, с которой открывался вид на реку.
В темноте воды не было видно, но Мерси слышала ее. Глухой шум, вроде как когда крепко зажмешь уши ладонями. Папа говорил, что это шумит ее собственный кровоток, и Мерси стала представлять себе реку, полную крови – как она течет через страну длинной красной артерией.
Вскоре глаза привыкли к темноте, и Мерси заметила, что ниже по склону что-то есть. Из земли торчало что-то белое; Мерси шагнула вниз с низкой ограды и присела на корточки. Белым предметом оказались две спички, связанные резинкой наподобие креста. Мерси выдернула крест из земли, разрыла пальцами сухую землю и почти сразу же наткнулась на что-то жесткое.
В земле лежал спичечный коробок – таких везде полно. Желто-красный, “Three stars”, с тремя звездочками, под которыми значилось “safety matches – made in Sweden[10]». Мерси открыла коробок. Увидела белый лоскуток, приподняла.
Под лоскутком оказалось сморщенное насекомое, высохшее, серое, словно пепел. Может, бабочка.
Кто-то играл в похороны.
Бедняжка Кевин Костнер расплакался
Тропа семи источников
Когда Кевин прибыл к церкви Скугсчуркугорден[11], над бурыми холмами висел тонкий туман. Кевин припозднился – было без пятнадцати одиннадцать, – но все же неторопливо направился к кладбищу, к вязам на холме. Слева располагались крематорий и часовня Святого креста, справа начинались первые могилы, по обочине тянулись фонари в виде цветов. От часовни Кевин свернул на Тропу семи источников. The terrible craving to make death our whore[12], подумал он. Интересно, откуда цитата? Похоже, из какого-то фильма семидесятых. Киномания портит человека.
Мы украшаем смерть цветочками, чтобы поменьше бояться ее. Может, и так. Но кладбище Скугсчуркугорден было создано в том числе и для того, чтобы погрузить человека в скорбь. Кевин уже был здесь на этой неделе, служитель рассказывал, что дорогу проложили на месте просеки, где сто лет назад был гравийный карьер. Аллея, длина которой по какой-то причине составляла ровно восемьсот восемьдесят восемь метров, начиналась плакучими березами, за которыми следовали березы обычные. Их сменяли сосны, дальше – ели. Чем ближе к часовне Воскрешения, тем темнее становился лес. Смысл в том, чтобы скорбь нарастала к концу пути, к церемонии прощания.
Отец Кевина, атеист, всегда питал отвращение к этой идее. Называл ее религиозной манипуляцией. Способом пометить территорию смерти и скорби.
И похоронят его не на христианский манер, подумал Кевин, хотя прощание будет в часовне перед алтарем с крестом.
Пора поиграть в похороны. Короткая гражданская панихида, приглашенных мало. Двоюродный брат, кое-какие друзья детства, старый сосед и пара-тройка давних сослуживцев, коллег из полиции. И среди них – Вера, единственная, кого Кевин хотел увидеть. Его старший брат сделает все возможное, чтобы уклониться от присутствия на похоронах. Он, а также дядюшка-извращенец.
Дядя, на которого он должен был заявить в полицию. Но не заявил, а сам стал полицейским, как отец.
Вдоль дороги все еще тянулись березы, стало тише. Может быть, потому, что дорога устроена глубоко. Как будто проложена под землей.
Послышался сухой щелкающий звук, и над дорогой пролетел черный дрозд. Теперь по обе стороны высились сосны, воздух стал суше и прохладнее.
Кевин достал телефон, проверить, не звонил ли кто-нибудь. Его шеф, Лассе, уже должен был получить новую информацию насчет погибшей девочки.
Тара. Еще одно имя из кукольного дома Петера.
Но Кевин сомневался, что человек, с которым девушка вчера занималась сексом, – тот, за кем охотится полиция. Ничто в материалах следствия не указывало, что Повелитель кукол вступает в прямой физический контакт со своими жертвами. Вне интернета его как будто не существовало.
Тара – первая, кого он довел до самоубийства. Во всяком случае, насколько известно полицейским.
Если это действительно самоубийство.
Убийство тоже нельзя исключать.
Сосновый лес сменился густым ельником. Еще сотня метров – и Кевин увидел четыре колонны часовни и группку людей в тени под портиком. Кевин посмотрел на часы. Без четырех минут одиннадцать. Он прибавил шагу и плотнее запахнул на себе куртку.
Часовня Воскрешения походила на античный храм; Кевину показалось, что такой храм требует известного почтения. Он расправил плечи и последний отрезок пути прошел более чинным шагом.
Перед часовней его встретила печальная группка одетых в темное пожилых людей, таких хрупких и сухоньких, словно они могут рассыпаться от дуновения ветра. Ни Веры, ни брата не было видно. Зато дядя-извращенец на месте. Кевин знал, что оба сделают вид, что ничего не было.
Как всегда.
А если, против ожидания, тема вдруг будет затронута, то ведь “дело” прекращено за давностью лет.
Кевин кивнул старикам. Четыре безымянных для него лица, он с ними не знаком, и никакого желания знакомиться у него нет.
Он подумал о Таре, девочке, которой больше нет на свете.
И которой стыд так и не позволил заговорить.
– Кевин… ты опоздал. – Дядя-извращенец шагнул к нему и протянул руку; пожатие у него оказалось крепче, чем можно было ожидать от такого немощного на вид тела. – И все такой же панк… Тебе же скоро тридцать?
Мне было девять, когда ты заставил меня дрочить тебе.
– Мне двадцать семь.
Я четыре года работал с такими, как ты, я ругался на подростков, которые не решаются заявить на своих отцов, дядей, соседей или учителей. Но я и сам не решился заявить на тебя, так какое у меня право требовать смелости от других?
– Двадцать семь? И уже достукался до того, что тебя выперли с работы?
– Меня перевели…
Меня перевели в другой отдел, потому что однажды вечером я наткнулся в пивной на такого, как ты. Я узнал его. Его в тот раз отпустили, хотя я точно знал, что он виновен. Он сидел у барной стойки в компании юной девочки, слишком молодой, ее даже пускать туда не должны были, и когда я увидел, как он ее трогает, то сорвался.
– Перевели? Ага, так говорят, когда…
Я вломил этому скоту в челюсть, один-единственный удар, и он свалился на пол. Меня оштрафовали за нападение с применением силы, на два месяца отстранили от работы и отправили к психологу, который счел, что я утратил контроль над собой из-за службы в угрозыске. Я каждый день смотрю видеозаписи, где кишат такие типы, мне нужен перерыв, психолог рекомендовал мне пока избегать монитора, и меня перевели в оперативный отдел. Допрашивать не преступников, а жертв. Идиотизм, если не сказать грубее.
Дядя-извращенец улыбнулся и похлопал Кевина по плечу.
– А ты не думал поступить на работу в цирк?
Сначала Кевин не понял, о чем он. А потом осознал, что машинально достал из кармана йойо. Сколько он уже стоит и запускает игрушку на веревочке вниз-вверх? Кевин не знал. Йойо стало для него частью тела. Кевин убрал игрушку в карман.
Возьми себя в руки.
– Кстати, я слышал, что поминальной службы не будет?
– Не будет. Я отменил, когда узнал, что мама очень больна и не приедет.
– Жаль, что с сестрой так вышло… Ну, рад был с тобой поговорить.
А вот я бы запросто обошелся.
Кевин отошел в сторону, повернулся спиной к собравшимся и достал телефон – притворился, что занят, но за спиной уже послышался хруст гравия, и чья-то рука легла ему на плечо.
– Мистер Костнер… Какая приятная встреча.
Посмотрев “Сильверадо”, мать совершенно влюбилась в Кевина Костнера и сразу поняла, как назовет своего недавно родившегося ребенка. Кевин вырос киноманом, и его брат никак не мог удержаться от шуточек на этот счет.
– Еле добрался… – И брат принялся жаловаться на неудобство перелета из Хьюстона в Стокгольм через Лондон.
Ну ты и разжирел. Неудивительно, что тебе в самолетах неудобно.
Вера, где ты застряла? Я уже еле держусь.
– К маме заедешь? – машинально спросил Кевин.
– Я собирался в Фарсту, когда тут все закончится. Хочешь со мной?
– Сегодня не успею, – соврал Кевин.
Надо бы заехать к маме, но уж точно не с братом. Может, завтра, с Верой, или послезавтра, если рабочее расписание позволит.
Им пришлось прервать разговор: дверь часовни открылась. Служитель узнал Кевина и улыбнулся, потом поздоровался с собравшимися.
У входа стояла ваза с красными розами, их следовало класть на гроб; Кевин взял одну и стал на ходу перекатывать стебель в пальцах.
Изнутри часовня была белой, за исключением изящных синих деталей на потолке. Где-то наверху сидел органист; снизу его было не видно, и Кевин подумал – это чтобы у скорбящих создалось впечатление, что на них льется небесная музыка.
Кевин узнал музыку, лишь сев на свое место. Он сам ее выбрал, и все же мелодия застала его врасплох. “Утанмира” Яна Юхансона. Он выбрал эту песню ради мамы, но мама даже не смогла приехать.
Тут же подступили слезы. Печальные звуки органа перенесли Кевина на пятнадцать лет назад, в то лето на севере, в Онгерманланде, во времена, когда родители еще были счастливы. Они снимали домик, и мама ставила эту пластинку, а поодаль блестела Онгерманэльвен, папина река.
Их трое, здесь только они, тишина, луговые цветы и высокие небеса.
– Ну-ну… – Брат похлопал его по колену, как ребенка, и протянул бумажную салфетку. Жест ласки и участия, но у брата он вышел каким-то унизительным.
Бедняжка Кевин Костнер расплакался.
Когда орган отзвучал, служитель встал перед алтарем, располагавшимся, по христианской традиции, на востоке и символизировавшим восход солнца, воскрешение. Он заговорил, и стало неважно, что на нем серый будничный костюм. Он все равно выглядел как священник.
Служитель сказал несколько слов об отце, а потом повернулся к Кевину.
– Никогда не становись полицейским… Так говорил ваш отец, после тридцати лет службы в полиции, а вы, Кевин, рассказывали, что в глубине души он все-таки до конца оставался именно им. Полицейским…
Кевин склонил голову и перестал слушать. Он знал речь заранее – сам же и одобрил ее окончательную версию не далее как сегодня утром, по электронной почте.
В глазах защипало, и Кевин опустил глаза на мозаичный пол цвета слоновой кости. Снова и снова повторялся рисунок – квадратные камешки перемежаются извивающимися змеями.
Потом Кевин посмотрел на руки, мокрые от слез. Служитель вдруг замолчал.
По полу простучали чьи-то шаги, и Кевин поднял голову.
Прибыли еще двое желающих проститься.
Одну из них Кевин ждал. Высокая стройная женщина лет семидесяти, копия Хелен Миррен с ярко-рыжими волосами. Вера Дагерман, которой коллеги-полицейские дали прозвище “Замдиректора”: она руководила своим отделом, как предпринимательница – фирмой.
А вот второго посетителя Кевин совсем не ожидал увидеть.
A loving mother reuniting with her lost son[13], подумал он.
Пережившие обычную травму
“Ведьмин котел”
Прежде чем зайти в кабинет, Луве бросил взгляд на полоску пластика со своим именем. На табличку, изготовленную на принтере для этикеток. Когда Луве в первый рабочий день показывали офис, табличка уже была на двери, и он тогда подумал, что у нее дешевый вид. Сейчас табличка отклеилась по краям, и клеевая полоска покрылась тонким слоем черной пыли. Луве думал заменить табличку на настоящую, но теперь это уже не казалось ему необходимым.
Грязный, затертый прямоугольник давал понять: хозяин кабинета ничуть не лучше остальных, он не начальство. Ему и так сойдет.
В окно лился молочно-белый свет, от которого бумаги на столе казались серыми. Луве уже привык не переписывать свои заметки начисто сразу после сессии; он оставлял записи отлежаться несколько недель, чтобы перечитать их новыми глазами и уж потом переписывать начисто. Сейчас на столе были разложены записи, сделанные во время индивидуальных сессий с Мерси.
Беседа с девочками состоится сегодня, чуть позже. Луве поражало, насколько одинаково они рассуждают, при таком разном происхождении.
Естественно, они очень близкие подруги, если не сказать – неразлучные, и в том, что касается мужчин и сексуальности, у них схожий опыт. Но иногда их реплики звучат, как отрепетированные. Длинные, практически одинаковые рассуждения на самые разные темы, словно девочки находятся в ментальном контакте друг с другом. Пример – постоянно возникающий страх перед пресмыкающимися и мелкими насекомыми, фантазии, свойственные детям помладше. Хотя с чисто юридической точки зрения они и есть дети, несмотря на пережитые несчастья и испытания. Особенно часто в их личной символике возникали змеи – вероятно, они репрезентировали страх, надвигающуюся опасность, в других случаях – внутренние перемены или…
Луве уставился в бумаги, подбирая нужную формулировку.
Смерть, ненависть и злобу, написал он наконец, надеясь, что потом сумеет развить эту мысль.
Собирая бумаги, он заметил, что одна страница попала сюда после сессии не с Мерси, а с Новой. Да, ему иногда трудно отделить одну девочку от другой, и неудивительно, что он иногда путал записи, хотя это и непрофессионально. Луве отложил бумаги и посмотрел в окно.
Поодаль девчонки, сбившись в стайку, курили и смеялись над какой-то ерундой.
Луве вспомнилось его собственное детство и отрочество, папа, мама. Несколько лет сжались до нескольких мучительных секунд; потом Луве прогнал воспоминания и вернулся к размышлениям о Мерси.
В начале терапии Мерси была довольно замкнутой, и сначала он думал, что это из-за языка. Оказалось – он ошибается, поскольку она говорила по-шведски в общем и целом без ошибок. В ее шведском даже слышалось норрландское влияние – сказалось время, проведенное на севере, в Емтланде. Мерси – в высшей степени умная девушка, к тому же эрудированная, и Луве очень скоро пришлось пересмотреть свои стереотипы касательно нигерийских беженцев. Как-то раз, заметив, насколько Луве удивлен ее осведомленностью в предмете, Мерси выдала комментарий, который Луве поспешил записать. Нигерийцы – в противоположность тому, как о них принято думать – хорошо интегрированы в шведское общество. Елки, да почитайте о Докторе Албане[14]. Зубной врач, всенародно любимый музыкант, приятельствует с Бьёрном Боргом.
“Интегрированы” и “в противоположность тому, как”, подумал Луве. Нечасто услышишь такие слова от шестнадцатилетнего человека, прожившего в Швеции всего два года.
Луве стал листать свои записи дальше. У Мерси в прошлом имелось что-то, что она от него скрывала. Иногда она бывала более или менее откровенной, особенно когда речь шла о выражении абстрактных мыслей, но глубин ее души Луве пока не достиг.
Мерси раз за разом возвращалась к одной и той же теме: ужас, который внезапно накатывал на нее через равные промежутки времени. Луве считал, что речь идет о панических атаках, хотя все было не так просто. Иногда Мерси описывала чувство довольно размыто – “страх, которому я не могу подобрать названия” или “рядом что-то, что желает мне зла”. А иногда бывало очевидно, что страх мучит ее физически. Луве подчеркнул несколько фраз.
Воздух как будто тяжелый, трудно дышать.
Давит в груди.
Хочется спрятаться, не думать, но не получается. Лучше сдаться этому чувству, поддаться ему, и тогда оно исчезнет само.
Луве знал, что обе девочки долго занимались самолечением, чтобы не дать страху вырваться наружу. Алкоголь, наркотики и секс сработали как обезболивающее. Когда Мерси больше года назад приехала в Скутшер из емтландского Брэкке, она уже пила вовсю.
Конечно, за всем этим могли стоять классические причины – стыд и чувство вины, Луве называл их триггерами. Страх смерти, подумал он. Ненависть, отвращение… Но где их корни?
Луве был почти уверен, что страх Мерси порожден одним событием, произошедшим в Нигерии, когда Мерси было двенадцать лет; вероятно, имело место изнасилование, а может, и убийство. Во всяком случае, все началось еще до побега, до трагических событий в ее семье.
Луве откинулся на спинку стула, и тут ему кое-что пришло в голову.
Он вернулся к записям и очень скоро отыскал нужное место.
Нам пришлось бежать. “Боко харам” подожгли один дом в поселке, и нам там стало небезопасно.
Это было одиннадцатого сентября.
Луве тогда добавил еще запись – о том, как Мерси натянула юбку на сжатые колени и объявила, что не хочет больше говорить.
Он знал, что семерых из десяти подвергшихся изнасилованию словно парализует, такое состояние называется “frozen fright” и означает, что жертва не в состоянии оказать сопротивление.
Мерси к этой категории не относится, подумал Луве и принялся собирать записи.
Конечно, остальные девочки из “Ведьминого котла” тоже пережили тяжелую травму. Но по сравнению с Мерси… Луве поразмыслил. Естественно, ему не хотелось говорить про тех, других девочек “обычные”, скорее – “пережившие обычную травму”. Как хорошо, что никто не может прочесть его мысли.
Что никто не сможет услышать голос, который звучит у него в голове.
Голос, неумолимо твердящий одно и то же.
Луве Мартинсон сложил бумаги в папку, а папку застегнул.
Иногда он узнавал в этих девочках себя. Подростком он не был уверен в собственном существовании, его словно все время кто-то осуждал и обесценивал. Неуверенность пленкой пристала к девочкам, большинство из них можно было уничтожить одним-единственным грубым или оскорбительным словом.
Только не Мерси. И не Нову. Мерси и Нова тут же сжимались в комок и молниеносно жалили в ответ.
У этих двоих была и другая сторона, не разрушительная. Луве при первой же возможности старался тайком понаблюдать за ними. Во время групповой сессии, или когда у девочек бывало свободное время, или за обедом, или по вечерам, когда они выходили покурить. В такие минуты их схожесть казалась природной, а дружба естественной, как их же дыхание.
Они словно умеют меняться телами, подумал Луве. А вдруг им известно, что значит быть кем-то другим?
Он взглянул на стенные часы над дверью. Такие часы – белый циферблат с черными черточками вместо цифр – висели в классах в семидесятые-восьмидесятые годы, когда он сам ходил в школу.
Иногда “Ведьмин котел” сильно напоминал ему гимназические годы. Интриги, злые шутки, множащиеся, как грибы, проблемы; гормоны, которые не могут найти выхода, любовные беды, учреждение в учреждении и взрослый мир – недоступный, нелепый и пугающий. Хотя здесь все в сто раз хуже. “Ведьмин котел” по определению синоним бунта, беспокойства и побулькивающего мятежа. Ни прилежных учениц, ни зубрилок, ни спортсменок. Весь опыт, который эти девочки вынесли из соприкосновения с миром взрослых, состоял в изнасилованиях, побоях, наркотиках и порнографии. А в случае Новы еще и в чайлд-груминге.
Луве взглянул на часы. Нова вот-вот появится, у него есть несколько минут, чтобы подготовиться. Пять минут, констатировал он и достал ее папку.
Стал читать, но заметил, что продолжает думать о Мерси.
Луве вдруг подумал, что травма Мерси как-то связана с ее отцом. От этой темы Мерси постоянно старалась уйти, и Луве заметил, что, когда разговор заходит об отце, девушка как будто непроизвольно теребит подвеску. Амулет в виде медальона, с исламской молитвой внутри; интересно, о…
Его размышления прервал стук в дверь.
– Заходи, – сказал Луве и закрыл папку. Дверь открылась. Луве заметил, что Нова плакала.
– Садись… – Он улыбнулся девочке.
Нова стерла слезу со щеки.
– Он опять мне написал.
Ах ты шлюшка
Пять лет назад
Потом Нова лежала в кровати и проверяла свои фотографии и видео. Фотографии были как фотографии сотен других девочек, виденных в Сети. Не лучше, не хуже. Нова надеялась, что он сочтет их подходящими.
Ты никому больше не нужна.
Нова отправила ему пятнадцать фотографий и видео продолжительностью ровно в три минуты.
Потом она минут пятнадцать не спускала глаз с экрана, но ответа все не было.
В начале одиннадцатого Нова закрыла крышку ноутбука, погасила ночник и долго лежала в темноте с открытыми глазами. Слушала, как затихает вечеринка, точнее – прерывается до завтра. Гости по одному расползались по домам. Входная дверь открылась и закрылась раз десять, не меньше, а в половине первого затихла и музыка.
Теперь звучали только два голоса. Мама громогласно объясняла Юсси, какой он слизняк. Юсси вяло протестовал. Ей в восемь вставать и отправляться в центр, подбирать всякое дерьмо, она хоть как-то деньги зарабатывает. Чтобы детей накормить. Вот зачем она унижается, наряжается в оранжевый жилет и таскает тележку, доверху набитую мусором.
Нова подумала, как стыдно ей бывает, когда мама проходит мимо школьного двора. В руках у нее палка-хваталка, а спина ссутулена, хотя ей еще тридцати пяти нет. Как мама тычет и не может ухватить своей хваталкой рваный пластиковый пакет, пока пакет наконец не уносит ветром. Или как она не может подцепить какой-нибудь противный окурок – подхватывает, роняет, подхватывает, роняет, подхватывает и роняет, пока наконец не нагнется и не подберет окурок прямо руками.
О, гляньте! Это ж мама Новы, оранжевый жилет видно метров за двести, хотя он настолько грязный, что ни один вменяемый человек не надел бы его добровольно.
Мама Новы иногда подходит поболтать с ребятами, особенно когда у нее темные мешки под глазами и от нее несет спиртным; она чешет языком со всеми дочкиными приятелями, словно хочет доказать: она вовсе не пила ночь напролет, она сегодня как огурчик и все просто супер.
А когда день выдается действительно хорошим, мама Новы принимается хвастать перед ребятами, что она исключительно точно составляет гороскопы и что пусть передадут своим друзьям-приятелям, что за персональный астрологический прогноз она берет всего триста крон, а еще продает браслеты из горного хрусталя. Потом добавляет, что она такой спец в астрологии, что даже свою дочь окрестила Новой, что значит “новая звезда”, а старшего брата Новы зовут Бьёрн, то есть “медведь”, в честь созвездия Большой Медведицы, а еще у Новы была старшая сестра Стелла, что значит “звезда”, и примерно здесь у мамы Новы появляются слезы на глазах, она говорит “извините” и уходит, потому что Стелла умерла от лейкемии, когда ей было пять лет.
Мама говаривала, что Нове повезло, ей тогда было всего три года и она может вспоминать старшую сестру, не мучась. Потому что какой кошмар – вспоминать ребенка, которого больше нет, думать, какая Стелла была красавица, какие у нее были длинные золотистые локоны, которые потом все повылезли. Как невыносимо больно для матери по два-три раза в неделю открывать шкатулку, где она хранит прядку волос, и плакать всю ночь пьяными слезами, и нюхать волосы своего умершего ребенка, сухие соломины, уже не золотистые, а серые.
Проклятая сволочь Стелла, могла бы и не рождаться, раз все равно почти не успела пожить. Но вот что она успела, так это разрушить их жизнь, потому что именно после ее смерти все и посыпалось. Именно тогда настоящий папа Новы повесился на трубе в прачечной, а через несколько лет Налле спутался с бандой наркоманов.
Нове повезло – она была слишком мала, чтобы все это помнить. Ей просто неописуемо повезло, что ей не приходится мучиться, вспоминая живого, настоящего папу, здоровую сестру и брата – не уголовника, а совершенно обычного парня, дружелюбного, классного и вообще хорошего. Ей достался лишь стыд – за все, включая собственное имя. Нова. Супернова. Как будто она возомнила себя звездой. Дурость несусветная.
Вообще-то Юсси выглядел неплохо, но, когда уходил в запой, то становился ломким и тощим, словно чей-нибудь престарелый дедушка. Вообще-то он был и умным, и предприимчивым, и не его вина, что жизнь свелась к тому, чтобы прятаться дома, в квартире, за спущенными шторами или в алкогольном тумане, сидя на лавочке в центре района. Вообще-то он был не чужд культуре и любил классическую музыку, хорошую литературу и даже стихи, хотя, когда напивался, с большей охотой слушал металл и читал вечерние газеты. Вообще-то он заслуживал хорошей работы и хорошей зарплаты, он же выучился на технолога и совсем не дурак.
Вообще-то он заслуживал, чтобы падчерица не стыдилась его, а гордилась бы им, гордилась, что он пожертвовал собой, заботится о ней, стал ей новым отцом. Накопил ей на ноутбук ко дню рождения, хотя вообще-то не может себе этого позволить.
Вообще-то.
Нова стыдилась своей матери, которая, побыв на больничном и оставшись без страховки, с трудом, но нашла работу. Кому-то, может, покажется убогим подбирать мусор, но на самом деле маме нравилось. Она раньше всех встречала рассвет и к тому же много двигалась – все равно как ей бы платили за то, что она занимается спортом.
Так почему Нова стыдилась такой мамы?
Ей бы своего стыда стыдиться.
А Юсси… Нова точно не стыдилась его, когда он бывал трезвым. Некоторые девочки в классе считали его симпатичным. Говорили, что он выглядит немножко по-американски – черные волосы, карие глаза, щетина, джинсы, футболка, всегда загорелый. Хотя толстовки с “Металликой” делали его похожим на дядечку в годах, к тому же он часто говорил глупости.
Нова стыдилась всего в своей жизни.
Хотя нет. Она не стыдилась Налле. Старшим братом она, наоборот, гордилась. Если бы не такой старший брат, ее бы точно затравили. Но ее не трогали, потому что с ее братишкой никому не хотелось связываться. Налле всего пятнадцать, но Нова уже видела, как он лупит парней на несколько лет старше себя.
Как бы ей сейчас пригодилась его помощь! Знай Налле, к чему ее принуждают, он бы взбесился. Но Нова не могла попросить брата о помощи – все так сложно, так позорно.
Нова повернулась на бок. Синий огонек ноутбука напомнил ей про человека, который называл себя Петером. Наверное, какой-нибудь старый мужик, сидит сейчас, дрочит на ее видео.
Как она могла оказаться такой дурой? Сама, сама во всем виновата.
Дура ты, дура, шлюшка несчастная.
Вообще-то она не настолько тупая. Нова отлично знала, что такое происходит сплошь и рядом, вот только не знала, что ей самой может не повезти. Как той девочке из шестого класса, которой осенью пришлось перевестись в другую школу. Кто-то раздобыл и прикнопил к доске объявлений у актового зала совершенно кошмарную фотографию, на которой у той девочки из задницы торчал карандаш. Хуже не бывает. Наверное, у девчонки вся жизнь пошла под откос.
В два часа Нова снова зажгла ночник. В квартире стояла тишина. Те двое, наверное, уснули; Нова включила ноутбук и ввела пароль.
Ответа все еще не было.
Особенно тяжело интеграция дается чернокожим мужчинам из африканских стран
Мусульманская часть кладбища
Aloving mother reuniting with her lost son… Очень подходяще, учитывая, кто именно опоздал на похороны. Теперь Кевин вспомнил, из какого фильма цитата. “Три тысячи миль до Грейслэнда”, полный шлак, но с Кевином Костнером в главной роли.
Кевин кивнул Вере Дагемар, подумал, что она сильно похудела.
А вот ее сын Себастьян – наоборот. Кевин не видел его лет десять. Себастьян не только прибавил в весе, но и постарел. Ему ведь еще сорока нет, а выглядит стариком. По словам Веры, они перестали понимать друг друга, когда он лет десять-пятнадцать назад затворился в обществе своих компьютеров в студенческой квартирке на Вальхаллавэген. Все втроем они сели в последнем ряду, Вера печально улыбнулась Кевину, Себастьян уставился в пол.
Церемония подходила к концу. Оставалась еще смешная история из жизни отца, которую наверняка все уже слышали. Служитель слегка приукрасил ее, чем вызвал приглушенный смех, и стал закругляться.
– Последней фразы не будет, – заговорил он, – как не было и первой. Нет начала, как нет и конца. Бог не создает, потому что созидание есть неизменное состояние. Перпетуум-мобиле, в котором жизнь – случайная прихоть. Цветок, расцветший на легком мироздания, раскрыл лепестки в хрупком объятии.
Кевин подумал, что эти слова, невзирая на богоотрицание, звучат религиозно. Бедный папа. Такой большой, сильный – а всего лишь хрупкий цветок.
По собственной воле отец зашел в церковь один-единственный раз – во время отпуска в Париже, Кевину тогда было лет четырнадцать-пятнадцать. Нотр-Дам, в каком-то смысле – главная церковь мира. “Оставь надежду всяк сюда входящий”, сказал отец, проходя в церковные врата. Это было очень давно, но Кевин до последнего слова помнил, что отец сказал про цитату. “Не Библия, но тоже хорошая книжка”.
Кевин вытер слезы, улыбнулся воспоминанию, и тут органист снова заиграл. “A Whiter Shade of Pale”. Отец в принципе питал отвращение к любой музыке, написанной после 1959 года, но Кевин знал, что ему нравились сентиментальные шестидесятнические баллады “Прокола Харума”.
Кевин поднялся и подошел к гробу. Молча положил цветок рядом с отцовским портретом, молча постоял. Тридцать секунд, может – минуту в молчании, ни о чем не думая. Потом слезы вернулись, и Кевин вышел.
Себастьяна не было видно; наверное, удалился, когда началось прощание. Улучил минуту и улизнул, пока другие были заняты собой. Вера огляделась и недовольно покачала головой, после чего шагнула к Кевину и обняла его.
– Не понимаю я Себастьяна, – сказала она. – Он же твердил, что хочет повидаться с тобой, а сам взял и удрал… Кевин, прими мои соболезнования. Ты как?
– Да нормально.
– Я вижу – тебе тяжело… – Глаза у Веры покраснели и заблестели. Траурная церемония подействовала даже на нее. – Прогуляемся?
Кевин кивнул, и они в молчании двинулись по дорожке. Вера спросила, как дела на работе. Со времен полицейской академии Вера была для Кевина кем-то вроде неофициального наставника. И очень поддержала его, когда Кевина сначала отстранили от дела, а потом перевели в другой отдел. Вера всегда видела его насквозь, ему не удавалось скрыть от нее ни одной проблемы. Рано или поздно она их отыскивала – может, потому, что и через десять лет после ухода на пенсию оставалась отличным полицейским.
Кевин стал рассказывать, что с переводом на новую должность стало получше, но в то же время и похуже, потому что, когда приходится всматриваться в опыт жертв, вся дрянь проступает еще отчетливее.
– Значит, работаешь с людьми, а не пялишься в экран, – констатировала Вера и протянула ему пачку сигарилл. Кевин взял пачку и, пока искал зажигалку, коротко рассказал о поиске двух девушек, чью личность полиция так и не установила.
Пока Кевин раскуривал сигариллу и кашлял от едкого дыма, Вера изучала его.
– Я бы хотела побольше услышать об этих девушках. Как насчет поужинать сегодня в “Пеликане”? Уже ноябрь, а мне не хочется идти туда одной.
У Веры и отца установилась традиция – раз в год ужинать в кабачке “Пеликан” в южной части города, так они отмечали каждый свою пенсию. Папа вышел в отставку пятнадцать лет назад, Вера – на пять лет позже, и оба ушли на пенсию в ноябре.
– Давай, – согласился Кевин.
Вера пообещала заказать столик на семь часов. Когда они вернулись к часовне и уже собирались прощаться, между ними вклинился брат Кевина, который неизвестно зачем так и торчал возле часовни.
– И что… Стуран удалось продать?
Родительский дом, виллу на Стура Эссинген, недавно выставили на продажу, и, если верить риелтору, предложения уже пошли.
– Скоро продадут. Получишь свою долю.
– Хорошо… – Брат улыбнулся. – Не исчезай, Костнер. Рад был повидаться.
Вот, значит, зачем он задержался. Кевин улыбнулся в ответ:
– И я рад.
Широкая спина брата стала удаляться. Радом с братом шагал дядя-извращенец.
Они о чем-то тихо беседовали. О чем, интересно?
А вдруг и брат тоже… Нет, не может быть.
– Кевин, ты чего? – Вера встала рядом с ним.
Видишь мужика, который так беззаботно шагает рядом с братом? Знаешь, что он сделал со мной, когда мне было девять лет?
– Ничего, – ответил Кевин и затушил сигариллу. – Ну, до вечера. Я скучал по тебе.
Кевин достал телефон, сунул в уши наушники и двинулся прочь. По радио анонсировали программу, в которой будет обсуждаться тема иммиграции.
Вскоре Кевин потерял из виду последних из тех, кто пришел почтить память отца. Вокруг начали появляться другие надгробия. Мусульманская часть кладбища, надписи на могилах гораздо скромнее. Кевин обратил внимание на то, что за могилами здесь ухаживали не так тщательно.
Темой радиодебатов были иммигранты из стран Евросоюза, в первую очередь цыгане из Румынии и Болгарии; они всё более многочисленными толпами ехали в Швецию, чтобы там попрошайничать. Один из участников передачи уверенно утверждал, что причина растущего недоверия местных жителей к нищим всего одна – расизм, но ему тотчас же возразили.
“Те, кто испытывает отвращение к нищим, видят в них себя. Вот как выглядели бы они сами, если бы у них не было дома, денег, не было иллюзий. Им страшно, что они сами могут очутиться на улице”.
Кевин подумал про дядю. А вдруг он ненавидит дядю потому, что боится сам сделаться таким же?
Вдруг он боится, что в душе каждого мужчины, и в нем самом тоже, таится потенциальный насильник?
Во рту стало кисло, как от изжоги; Кевин остановился и сделал глубокий вдох. Откуда у людей такая уверенность во взглядах на вещи, почему они настолько убеждены, что знают себя? Кем был бы он сам, живи он, например, в Германии в тридцатые годы? А вдруг он через несколько лет возненавидит мусульман, если все прочие станут их ненавидеть?
Кевин оглядел мусульманские могилы. Трава не подстрижена, осенние листья не убраны. Что это – неумение обихаживать могилы, или просто надо, чтобы они выглядели, как есть? В глазах Кевина могилы были неухоженными, но кто-нибудь другой, возможно, увидел бы нетронутый человеком покой.
Одно из надгробий, ближе всех к ограде, покосилось, словно вот-вот упадет. Тут же Кевин увидел, что еще одно, с изображением покойного, изуродовано вандалами до неузнаваемости, а чуть поодаль испохаблены сразу несколько. Кто сделал это и зачем?
Кевин тут же с неудовольствием понял, что ответы будут разными – смотря кому задашь этот вопрос. Мусульмане сами изуродовали, скажет один, намекая на запрет изображать живые существа. Другой с той же уверенностью скажет, что это дело рук ксенофобов, а третья машина по производству мнений выдаст: вот он, результат смешения культур. И все будут стоять на своем. Их вера – их убеждения.
Верить в Бога означало знать, что Бог существует. Вера оказалась столь сильна, что перестала быть верой, но продолжала так называться. Однако в большинстве контекстов слово “вера” означает, что человек вовсе не уверен в том или этом. Человек предполагает, строит догадки, воображает.
Дебаты по радио продолжались.
“Все более обычными становятся самые отчаянные способы проникнуть в нашу страну. Пример – мужчина (чья личность пока не установлена), которого нашли мертвым на мосту Лильехольмсбрун в Стокгольме. По словам полицейских, мужчина выпал из самолета, он прятался в люке шасси. Самолет летел из Брюсселя и уже заходил на посадку в аэропорту Броммы, когда…”
Мысли Кевина снова вернулись к отцу. Сколько же всего они не успели обсудить. Теперь у него больше нет выбора, не осталось выбора, который мог бы привести к знанию и истине. Кевин мог только предполагать, строить догадки. Верить.
Какая-то участница радиодебатов сказала, что, по ее мнению, у беженцев часто бывает ложное представление о Швеции. Она вовсе не рай, каким ее изображают, и особенно тяжело интеграция дается чернокожим мужчинам из африканских стран, вроде того несчастного, что выпал из самолета. Кевин почувствовал, что по горло сыт этими рассуждениями. Он выключил радио, сунул наушники в сумку и пошел дальше.
Ближе всего оказался выход у еврейской части кладбища. Кевин отметил, что иудейский обычай при каждом посещении оставлять на могиле камешек начал распространяться на близлежащие христианские и мусульманские захоронения.
Эти камешки – как идеи, подумал он. Распространяются и укореняются в новых местах, иногда совершенно неожиданных.
Думал ли отец, куда попадет после смерти? Может, он снова начал верить в Бога, как в детстве?
“Знакомство с собой – занятие на всю жизнь”, говаривал он. Отец время от времени выдавал такие фразы, короткие мантры, и несмотря на отцовский атеизм, в них часто говорилось о Боге или религии. Отец высмеивал предрассудки, но сам так и не избавился от них до конца.
За воротами кладбища Кевин сообразил, что придется сделать крюк, а до метро путь неблизкий. В сером тумане уже начинали вырисовываться контуры станции, когда у него зазвонил телефон. Звонил Лассе, его шеф, и Кевин сразу ответил.
– Прости, что беспокою… Ты как?
– Нормально. Тяжеловато, конечно.
– Прими мои соболезнования. Но ты вроде хотел быть в курсе… Не заглянешь в управление? У нас появились материалы с телефона погибшей девочки. Еще хорошо бы, чтобы ты посмотрел одно видео и… как ты это называешь?
– Ляпы?
– Точно. Один ляп я, кажется, нашел. В видео из списка улик, которые мы собирали два года назад.
Кевин застыл.
– Речь о той белокурой девочке? Нове?
– Да… А ты откуда знаешь?
– Буду через полчаса.
Словно бабочкино крыло
Пять лет назад
Надо было послать его к черту сразу же. Нова с самого начала чуяла, что дело нечисто, но продолжала отвечать на сообщения.
Все началось три месяца назад. Он написал ей, что она классно выглядит. Ему нравится. На аватарке был симпатичный парень, даже, по мнению Новы, слишком симпатичный, но она не удержалась и ответила. Когда он написал, что ему пятнадцать, она соврала, что ей тоже пятнадцать. Он сказал, что его зовут Петер, и тогда это не показалось ей странным, хотя теперь она думала, что среди пятнадцатилетних Петер не особо распространенное имя. Так могут звать кого-нибудь, кому лет сорок-сорок пять.
Первые недели ушли на знакомство. Оба прогуливали школу, притворялись больными, чтобы чатиться, пока мама подбирает мусор, а Юсси напивается, сидя на лавочке в центре.
Он прислал ей несколько фотографий – тоже ничего странного. Ну, может, пара-тройка фоток из бассейна, на некоторых он был голый выше пояса; он спросил, не кажется ли он ей некрасивым. Она ответила, что конечно же нет, и даже наоборот, у него красивое тело, и тогда он попросил ее фотографию. В купальнике или вроде того. Нова поколебалась, но фотографию послала.
Нашла снимок, на котором она выглядела постарше. Прошлой зимой весь их класс снимался в бассейне “Сюдпулен” в Сёдертелье, и она встала так, чтобы казалось, будто у нее есть грудь.
Он написал, что она невероятная красавица, но на пятнадцать лет она, по его мнению, не выглядит. После этого письма Нова почувствовала себя в безопасности.
Он спросил, не хочет ли она поговорить с ним по телефону, но она отказалась. Решила, что пока и так хорошо. А вдруг ему не понравится ее голос? Тогда всему конец.
Наконец он спросил, невинна ли она, и Нова соврала, что нет. Написала “Это вряд ли”, но тут же прибавила, что парней у нее было не особенно много и что ей никто не понравился. Она просто еще не встретила того самого парня.
Он с ней согласился: вот и у него все точно так же. И Нова стала надеяться, что он и есть тот самый. Она представляла себе, как лежит рядом ним и какой он классный. Представляла, как целует его, а может, и кое-что еще.
Потом они мало-помалу заговорили о сексе. У него опыта оказалось побольше, чем у Новы, и он поделился ощущениями. Сказал, что в первый раз было немножко стремно, но потом стало получше. Сказал, что может быть очень-очень хорошо, главное – любить того, с кем этим занимаешься.
Нова прокрутила ленту вверх. Сотни сообщений. Наконец она нашла нужное.
Он: Ты мне так нравишься! Но я должен знать, что ты точно не маленькая.
Она: И как мне это доказать?
Он: Неловко просить, но, наверное, только так и можно… Короче, пришли фотографию, ну, более личную. Вообще-то мне не хочется просить о таком, но, может, нам потом будет проще друг с другом. Может, мы бы даже встретились?
Опять это словечко, подумала Нова. Вообще-то.
Вообще-то мне не хочется, написала эта сволочь. Хотя именно этого ему и хотелось, и он получил и фотографию, и еще дофига всего. Господи, какая же она была дура.
Нова читала дальше, испытывая острую боль. Она помнила ощущение чего-то странного, но манящего. Теперь слова Петера казались ей абсолютно ясными.
Она: ОК ☺. Хотя не знаю, хватит ли у меня смелости на такую фотографию.
Он: Если хочешь, я тебе свою пришлю. Чтобы по справедливости ☺.
Она: Может, одну пришлю. Только сначала давай ты.
Он: ОК. Только подожди немножко. Сразу не получится…
Нова проверила время, отмеченное в чате. Он прислал фотографию через двадцать минут. Значит, притворился, что раздевается и двадцать минут старается, чтобы фотка вышла получше, не очень неприличная. Нова стала разглядывать фотографию. Да, на ней тот же парень, что и на аватарке, но сообщения явно писал другой человек. На фотографии лежал на боку в кровати робкий паренек.
Нова тогда просто влюбилась в эту фотку, но так уж прямо писать не стала.
А теперь фотография вызывала у нее мысли о всяких ползучих тварях. Змеях и червяках.
Она: Какой ты классный ☺. Я тебе тоже пришлю фотку, только ты приготовься, что я бреюсь. Мне так нравится. Так в каком-то смысле приятнее. Чище. Скоро пришлю.
Он: Да мне все равно. И я согласен, что так чище, хотя с волосками внизу тоже красиво. Для меня ты в любом случае будешь КЛАССНАЯ!!!
Через двадцать две минуты Нова отправила фотографию, после которой вся ее жизнь полетела к чертям.
Если бы она ничего не отправляла, все было бы нормально.
О чем она думала? Дура, дура.
Теперь, всего два месяца спустя, Нова смотрела на фотографию и видела под манерными ужимками себя саму. Девочку, которая пытается выглядеть взрослой.
Она накрасилась. Тушь, губная помада, пудра.
Напихала тряпок под майку, изогнула бедро, чтобы казаться пофигуристее.
Ну и убогий же у меня вид, подумала Нова.
Он ответил сразу же. Тогда ей показалось, что он написал красиво – немного странно, но романтично. Теперь при виде этих слов ее замутило.
Он: О-о… Веко трепещет, словно бабочкино крыло[15].
Словно бабочкино крыло.
Как вообще в голову пришло такое написать?
После первой фотографии все разговоры вдруг завертелись вокруг секса, и Нова – не так неохотно, как ей хотелось бы думать – ушла в них с головой. Она отправила Петеру еще несколько фотографий, и вот – медленно, но верно – начали приходить угрозы. Сначала незначительные, скрытые: он писал, что у него развилась зависимость от ее прекрасного тела, и если он не получит еще фоток, то впадет в депрессию. Он беззастенчиво нахваливал ее, льстил, а она заглатывала эту лесть. Ее разглядели, ее ценят.
Потом вдруг – может, всего за какой-нибудь день – все сменилось острым чувством ошибки.
Он признался, что ему девятнадцать, а не пятнадцать, как он писал в самом начале. А потом объявил, что знает – ей не пятнадцать, а всего одиннадцать. Оба соврали на одинаковое число лет, и оба одинаково виноваты. И она даже больше, потому что он же усомнился в ее возрасте. Она ведь помнит?
Да, но ведь взрослый здесь он, а она – ребенок.
Теперь он знал о Нове все, а она о нем – ничего. Ни как он выглядит, ни сколько ему лет, ни как его зовут – вообще ничего.
Знала только одно: она его ненавидит.
И еще кое-что знаю, подумала Нова. Иногда он пишет странные вещи, вроде тех слов – когда он видит ее голой, веко у него трепещет, словно бабочкино крыло.
Будь она посообразительнее, она, может, и сумела бы разоблачить его.
Нова читала, что, если девочки влипают в такую гадость, надо рассказать о случившемся какой-нибудь приятельнице или лучшей подружке. И часто именно лучшая подруга или жертва с подругой вместе рассказывают все какому-нибудь взрослому – маме, папе, учителю, полицейскому, ведь та, что влипла, не решается сама открыть рот.
Но Нове некому было рассказать о “Петере” – оставалось только забыть. Может, лучше прекратить посылать ему фотографии и видео? И будь что будет. Если он приведет свои угрозы в действие и перешлет все ее учителю, маме и Юсси, ей останется только уехать из Фисксетры. Может, в Сёдер, где живут феминистки, они-то не парятся насчет таких вещей. Сильные взрослые девочки помогут ей обрести новую себя. Ее перестанут звать Новой, и она больше не будет дочкой полоумной астрологини.
Может, она даже внешность изменит. Сделает пирсинг, татуировку. Или операцию – так, чтобы ее никто не узнал. Тогда можно сделать себе нос поменьше и попрямее, да и от веснушек избавиться. Темные волосы и карие глаза – она станет красивая, как Эми Уайнхаус. Собственная квартира в Софо[16]. Работать в кафе. Покупать одежду. Встречаться с парнями – крутыми, но классными. Хватит с нее Фисксетры, Фиши-Фискис[17].
Никогда больше не видеть маму, никогда больше не ловить раков по ночам с Налле и Юсси. Она правда хочет, чтобы ничего этого в ее жизни больше не было?
Если понадобится, мама и Юсси встанут за нее горой. Это Нова знала точно.
Когда-то давным-давно она проколола шины, наверное, десяти велосипедам во дворе, две коробочки скрепок потратила. Сейчас Нова уже не помнила, что сподвигло ее на такой идиотизм, но зато помнила в точности, как отреагировали мама и Юсси, когда вечером к ним заявился сосед: он-де видел, как Нова прокалывает шины. Они тогда отказались впустить его в квартиру и сказали, что он, наверное, обознался, потому что их дочь весь день была дома, с ними. Потом ее, естественно, здорово выругали, но главное – мама и Юсси встали за нее горой.
Нова сглотнула. При мысли о том, какой дурой она была, заболело горло и где-то в груди. Сколько плохого она им принесла. Может, иногда они и заслуживали плохое, но не постоянно же.
Нова зажгла ночник и вылезла из кровати.
Прокралась в коридор и дальше, к родительской спальне. Как в детстве. Было время, Нова пробиралась к ним каждую ночь, и ни разу, насколько она помнила, мама и Юсси ее не прогнали, и Нова сворачивалась калачиком под одеялом между ними.
Нова приоткрыла дверь. Она не собирается лезть к ним в кровать, как маленькая, она просто посмотрит на них.
В спальне пахло спиртным, хотя окно было открыто.
Юсси растянулся на спине и длинно, глубоко дышал, глухо взрыкивая – звук шел из груди, а не изо рта, как у мамы.
Нова подошла поближе и встала в изножье кровати.
Как по-разному они спят. Маме трудно дышать, ночная рубашка вся мокрая от пота, мама вертится с боку на бок, задыхается во сне, словно ей снится кошмар. Рядом с ней лежит Юсси, голая грудь спокойно поднимается и опускается.
Нова постояла, глядя на них. Она уже собралась уходить, когда мама снова пошевелилась; одеяло сползло в сторону, и Нова увидела, что Юсси совершенно голый.
Член, лежавший у ляжки, походил на большого коричневатого слизня, какие во множестве ползали по школьной велосипедной дорожке во время дождя.
Что же, черт возьми, случилось?
“Ведьмин котел”
– Он спросил, не хочу ли я початиться с ним, потому что знает, кто я, смотрел мое видео, и я увидела, как его зовут…
– Петер? Ты уверена, что это тот же парень? – спросил Луве. Нова сердито уставилась на него.
– Да, – выпалила она. – Аватарка была другая, но а с чего бы он стал говорить, что знает, кто я?
– И это было совсем недавно?
Нова кивнула.
– Пять минут назад.
– Тогда тебе лучше связаться с полицией. Там помогут…
– Да ни фига они не будут делать. – Нова скривилась. Луве показалось, что она вот-вот плюнет на пол, но девушка дернула горлом и продолжила: – А вы обязаны хранить врачебную тайну, так что не думайте бежать в полицию рассказывать, чего я разревелась. Сама разберусь. Я его урою.
– Нова… Если я сочту, что дело идет к преступлению, я обязан заявить в полицию… Но если ты категорически против, мы можем связаться с администраторами сайта и попросить отследить его. Ты ответила на сообщение?
– Да… Написала, что знаю, кто он такой, и с удовольствием встречусь с ним снова, и принесу с собой немаленький такой ножик. Так что ни фига он…
Открылась дверь, и Нова замолчала.
– Этот говнюк разлогинился, – объявила Мерси, не глядя на Луве. – Наверное, как раз удаляет аккаунт.
Мерси широко улыбнулась Нове. Девочки несколько секунд молчали, пристально глядя друг на друга; потом Мерси что-то беззвучно, одними губами, произнесла, и Нова точно так же ответила.
Луве не разобрал слов; девочки коротко кивнули друг другу, после чего Мерси закрыла дверь и оставила Луве и Нову одних.
Луве слышал, как удаляются шаги Мерси, но девушка словно оставила в комнате часть своей энергии. Озадаченный, Луве повернулся к Нове и открыл было рот, но передумал говорить. У Новы был какой-то опустошенный вид. У Луве возникло ощущение, что она не вполне сознает, что он здесь.
Что же случилось?
Секунд десять-пятнадцать ему казалось, что его полностью исключили из происходящего, на него не обращают внимания, он пустое место. Что они сказали друг другу?
Луве неплохо читал по губам. Иногда он – в ресторане или поезде – развлекался тем, что пытался разобрать, о чем беседуют незнакомцы. Чтение по губам – хороший способ понять, о чем подсознательно сигнализирует тело; когда не слышишь, а только видишь чужие слова, то обращаешь больше внимания на невербальные знаки.
Нова и Мерси не произнесли ни слова, и тем не менее они о чем-то переговорили.
– Что вы сказали друг другу?
Нова вздрогнула, словно очнулась от сна.
– В смысле?
– Вы только что разговаривали. Точнее, беззвучно обозначали слова. Вот интересуюсь, о чем шла речь.
– Если бы мы хотели, чтобы вы об этом знали, то говорили бы вслух. – Нова вяло улыбнулась и посмотрела на Луве. – Вы мне нравитесь. Вы правда хороший терапевт… Но тут вы немножко промахнулись. Я сама не очень понимаю, как все происходит.
– Попробуй понять. – Луве ответил на ее улыбку.
Нова помолчала, отвела со лба белокурую прядь.
– Ну, мы с Мерси общаемся как бы нетелесно, – начала она. – Если мне паршиво, а Мерси рядом нет, я могу у себя в голове позвать ее, и она ответит. Один раз, например, она сказала мне тайком сбегать в Талльмон – ну, знаете, дома у реки. Там один мужик разводит кроликов. Мерси сказала, чтобы я убила крольчонка и принесла сюда, показать ей. И тогда змея исчезнет.
То, что девочки по ночам бегали из “Ведьминого котла”, ни для кого не было секретом. Луве приступил к исполнению обязанностей заведующего сразу после исчезновения Фрейи Линдхольм, но решить проблему ему пока не удалось.
– И ты сделала, как она велела? – спросил он. – А змея – это в каком смысле?
Рассказ Новы встревожил Луве. Если змея сама по себе есть нечто вроде аллегории страха, возможно – паранойи, то Нова только что рассказала о… Как же назвать? На языке вертелось “телепатия”, а это означает, что он может иметь дело с бредом. Если человек слышит голоса, это не обязательно значит, что человек психически нездоров, почти все люди так или иначе практикуют внутренние диалоги. Но в такой степени… это уже тревожный звоночек.
– Я сделала именно то, о чем просила Мерси. Она прямо у меня в голове описала, как добраться до кроликов, я же там раньше не бывала, и я пошла туда, взломала дверь и свернула крольчонку шею. Потом мы его похоронили в лесу. Хотите – проверьте. Мы там крестик поставили – связали две палочки резинкой для волос.
– Погоди-ка… Ты там никогда не была. Но Мерси описала, как дойти, прямо у тебя в голове?
Нова кивнула.
– Да, а что такого? Я же сказала – мы можем разговаривать друг с другом прямо в голове.
Если Нова и издевалась над ним – или считала передачу мыслей на расстоянии чем-то поразительным, – она никак этого не выдала.
В комнате не хватало кислорода. За окном начинало темнеть.
Луве Мартинсон смотрел на Нову и узнавал в ней себя.
Он устал. Как же ему хочется оказаться подальше отсюда. Луве пожалел, что вернулся.
Вот только улыбке недостает искренности
“Салон”, квартал Крунуберг
Озон, от греческого ozein, что значит “запах”, – ядовитый газ, который при высокой концентрации вызывает такие симптомы, как тяжесть в груди, сухость в глотке, удушье и рвотные спазмы. Крайне неприятные вещи, от которых могут страдать, например, сварщики.
Когда Кевин открыл дверь архива угрозыска, в ноздри ему ударил запах озона. На сто двадцать метров протянулись полки, набитые изъятыми при обыске жесткими дисками, видеокассетами, дискетами, CD– и DVD-дисками. Статическое электричество производит озон в малых объемах, и Кевин знал, что, подобно какому-нибудь старому сварщику, скоро испытает приступ дурноты. Но истинной причиной этой дурноты будет не запах, а то, что Кевин сейчас увидит.
Кевин вошел в архив, и сухой воздух тут же заставил его кашлянуть. Лассе, шеф Кевина, обернулся.
– Вот распечатки фотографий, которые Тара отправляла этому Петеру. – Лассе протянул Кевину папку. – Есть еще четыре видео, но там только крупные планы. Смотреть нечего, если ты меня понимаешь.
Кевин быстро просмотрел фотографии обнаженной Тары. В них не было ничего особенно тяжелого, но все вместе выглядело в высшей степени отвратительно. Как всегда.
– Предположу, что она удалила их с телефона, – сказал Кевин, – но не знала, как уничтожить все следы.
– Угадал. Техники сумели восстановить снимки.
– А чат Тары и Петера?
– Петер удалил свои сообщения, но из сообщений Тары ясно, что ей угрожали.
– Как он ей угрожал?
– Да как обычно. – Лассе положил на стол бумаги. – По журналу видно, что трафик между их аккаунтами поддерживался пару месяцев. Петер угрожает, что расскажет все ее родителям, угрожает добраться до младшей сестры Тары. Он знает, как ее зовут, сколько ей лет и в какую школу она ходит.
Кевин быстро просмотрел бумаги. На первый взгляд, в них не содержалось ничего, что могло бы помочь полицейским выследить “Петера”. Обычные угрозы. “Петер” требовал еще фотографий, еще видео, иначе весь мир все узнает. А в один прекрасный день “Петер” откланялся и удалил профиль.
Ничего необычного, подумал Кевин. Петер, Повелитель кукол. Он играет с куклами, вытворяет с ними, что хочет. А потом выбрасывает их на помойку и идет дальше.
– Вот SMS-переписка Тары с человеком, которому она назначила вечером встречу. – Лассе полистал распечатки, нашел последнюю страницу. – Общим счетом десять сообщений. Если верить журналу, она создала контакт “Улоф” без двух минут семь. И тут же отправила первое сообщение.
Кевин стал читать.
19.01 – Тара: Это Улоф?
19.04 – Улоф: Да.
19.04 – Тара: Просто хотела убедиться. Встречаемся в половине 11, Бергсхамра? Ровно 20.00.
19.05 – Улоф: Да.
19.05 – Тара: Все, что обычно, плюс минет. Без извращений.
19.06 – Улоф: Жду с нетерпением.
22.02 – Тара: Знаете Повелителя кукол?
22.06 – Улоф: Нет. Кто это?
22.06 – Тара: Неважно. Встречаемся через полчаса.
22.08 – Улоф: в 22.30. Через 22 минуты.
Кевин отложил распечатку.
– И использует этот Улоф телефон с одноразовым номером, который невозможно отследить?
– К сожалению, да. У Тары с Улофом имелся еще один чат, на странице интернет-знакомств. Контора, которой принадлежит сайт, находится за границей, все записи конфиденциальны, и чтобы они предъявили журналы, потребуется постановление суда.
Кевин кивнул.
– Нам известно, что Тара отправила Улофу последнее сообщение, когда смотрела с родителями новости по телевизору, в шесть минут одиннадцатого. Потом она, по словам родителей, ушла спать. А на самом деле – нет.
– Верно. Она оставила на столике прощальное письмо, потом выскользнула из квартиры и после секса спрыгнула с крыши шестиэтажного дома.
– Может быть… Вы проверили камеры видеонаблюдения в центре Бергсхамры?
– Прямо перед твоим приходом звонил Шварц, сказал, что как раз этим и занят.
– Хорошо.
– Тогда идем дальше. – Лассе достал DVD-диск в футляре, снабженном этикеткой. – Вот это видео хорошо бы проверить повнимательнее. Мы его изъяли во время одного из прошлых обысков.
На футляре значилась дата и несколько хэштэгов, среди которых Кевин разобрал #Швеция, #неизвестная и #кукловод.
– “Неизвестная” можно вычеркнуть, – сказал Лассе. – Во всяком случае, сценическое имя у нее было.
Они зашли в отгороженный закуток, так называемый Салон – иронический поклон в сторону настоящих кинотеатров. Звукоизолированное помещение площадью восемь квадратных метров, набитое аппаратурой.
Запах озона здесь был еще сильнее, чем в архиве. Кевин вспомнил, как пахла в его детстве игрушечная трасса с гоночными машинками. Сухой металлический запах от заезженных рельсов и перегретых трансформаторов.
Лассе закрыл дверь, и оба сели за стол.
На стене, над мониторами компьютеров, уже много лет висело увеличенное изображение персонажа из комиксов, Сахарного Конни, с безумной улыбкой и “пузырем”, гласившим: “обрезком железной трубы можно повергнуть к своим ногам весь мир!”
Когда Кевин только-только приступил к службе, он не мог понять, что здесь делает этот рисунок, однако после сотни кошмарных часов за мониторами Сахарный Конни стал его лучшим другом. Сахарный Конни с занесенным над головой обрезком сливной трубы.
Лассе запустил уже приготовленное к просмотру видео.
– Начнем вот с этого. Я звонил тебе как раз, когда его смотрел.
Ролики про изнасилование или с садистским уклоном следователи прокручивали без звука, иначе было просто невыносимо, но Лассе объяснил, что это видео постановочное, и Кевин согласился оставить звук.
Сцена представляла собой выкрашенную белой краской ванную, и Кевин тут же понял, что перед ним девушка, которая называет себя Нова Хорни, хотя в ролике она была на несколько лет моложе.
В руках она держала красную зубную щетку.
Я так люблю большие члены. Так люблю, когда меня трахают. Я хочу, чтобы ты трахнул меня. Хочу, чтобы ты трахнул меня в дырку. Прямо сейчас.
Кевин тут же ощутил знакомую сухость в горле, Глаза защипало. Голос девочки эхом отдавался от кафеля ванной. Руки у нее дрожали, и казалось, что девочке страшно холодно.
На заднем плане, где-то за закрытой дверью ванной, звучала “Металлика” – “Master of Puppets”.
Сквозь музыку вдруг донеслись голоса, потом смех. Кевин остановил запись, отмотал назад, прослушал еще раз.
– У них там вечеринка, – констатировал он.
Лассе кивнул.
Кевин стал искать какие-нибудь детали; он рассматривал все в этой ванной, кроме девочки, которая изображала стоны, не понимая даже, что она делает с собой.
Вот оно.
Кевин остановил запись и увеличил изображение.
На стене в левой части кадра висели рядком полотенца. Под белыми пластиковыми крючками угадывались серые контуры. Камера была сфокусирована не на стене, картинка расплывалась, но Кевин понимал, что там какие-то буквы.
Он прибавил резкости, контрастности, еще увеличил кадр.
– Ну, вот мы и узнали, как зовут эту девушку, – сказал он, когда слово под ближайшим крючком стало можно прочитать.
– Да, там определенно написано “Нова”, – согласился Лассе.
Кевин перевел фокус на соседнее полотенце.
– А на соседнем видишь, что написано?
– Да… “Бьёрн”.
Слова на трех других крючках разобрать не удалось.
Они ненадолго прервались, выпили кофе, который стоял так долго, что приобрел пыльный привкус. Лассе, возвращаясь в Салон, съел второй бутерброд. Кевин не понимал, откуда у шефа берется аппетит.
Нова и Бьёрн. Может быть, семья из пяти человек, подумал он. Или в семье четыре человека, а пятое полотенце – для гостей.
Лассе запустил второе видео, изъятое тогда же, два года назад.
– И что, единственная связь между Повелителем кукол и человеком, у которого изъяли запись, – это что они делились друг с другом роликами? – спросил Кевин.
– Стопроцентной уверенности нет, но все их сетевые контакты сводятся к случаю, когда они обменялись папками. Во время предварительного следствия все запротоколировали, и если следователи правильно систематизировали материал, то Нова появится и в этом видео…
На экране пошла запись.
Ошибки нет: перед ними возникла Нова.
Сначала лицо крупным планом – девушка устанавливала камеру; когда она отступила на пару шагов назад, на экране возникла освещенная спальня. Двуспальная кровать под бившей в глаза лампой, светло-зеленые обои и красноватое ковровое покрытие на полу.
Нова села на кровать, начала раздеваться – и тут Кевин остановил запись.
На ночном столике стояла фотография в рамке – явно свадебная. Красивая светловолосая женщина держит в руках букет, рядом с ней – мужчина, на полголовы выше, коротко стриженый, темноволосый.
Счастливые улыбки.
Кевин увидел, как поразительно похожа Нова на женщину с фотографии. Вот только ее улыбке недостает искренности.
На остановленном кадре Нова сидела на кровати в задранной черной футболке.
Улыбалась поверх надписи: “Без снюса Швеции не жить”.
Улыбалась так мертво, что Кевин покрылся гусиной кожей.
Он уменьшил картинку и тут заметил, что у кровати что-то есть – на полу, в тени ночного столика.
Пластиковый пакет из продуктового магазина, судя по виду, содержал упаковку пива из шести банок, но не это главное.
Главным было, где именно куплено пиво.
Фисксетра, подумал Кевин.
Только бледные сумерки
“Ведьмин котел”
– Однажды в детстве я замучила рака, – сказала Нова.
Разговор о живодерстве был попыткой одновременно и уклониться от темы, и развить ее. Луве не стал перебивать Нову, и из нее потоком полились слова, рассказ о том, как она в одиннадцать лет варила рака так долго, что вода в кастрюле выкипела.
– Это было сразу после того, как Петер написал мне в последний раз. Написал, сволочь, что “бросает меня”. Это ж сколько наглости надо.
Начав с обмена мыслями на расстоянии, загубленном кролике и мертвом раке, Нова добралась до своего прошлого. Она говорила с воодушевлением, и если раньше Луве сомневался в правдивости ее рассказов, то теперь сомнения исчезли. Ему казалось, что Нова не сознает, что говорит с ним. Она как будто обращалась к Мерси.
Вместе со своим братом Налле и его приятелями, Алексом и Фадде, Нова улизнула на вечеринку в честь сезона раков; там она выкурила свой первый косяк и выпила в одиночку литр белого вина.
– На следующем празднике раков лило как из ведра. – Нова перепрыгнула через год. – Но мне уже не надо было убегать тайком, потому что мама с Юсси смирились с тем, что я пью. Главное – чтобы я не напивалась до потери сознания.
В год, когда ей исполнилось тринадцать, Нова переспала с Алексом и Фадде. Через год на ее счету было еще девять или десять парней, она даже согласилась на секс с Алексом и Фадде одновременно.
– К следующей вечеринке, к своим пятнадцати годам, я перепробовала все… Гашиш и алкоголь, дурь и экстази, рогипнол, спайс, даже виагру.
Луве задумался. Нова отсчитывала свои первые годы знакомства с веществами, избрав вехами вечеринки в честь сезона раков; ясно, что первые издевательства над животными тесно связаны для нее с первым опытом употребления алкоголя и наркотиков, с первым сексуальным опытом. “Раковые” вечеринки стали для Новы символом издевательства над зверями, символом злоупотребления, она подсознательно выбрала рассказывать свою историю именно так.
– Я все реже думала про Петера… про Повелителя кукол. Я его почти забыла. Как будто во все это вляпалась другая Нова. Я же уже не малявка была, у меня грудь выросла больше маминой… Я даже подумывала, не начать ли мне продавать свои фотографии. Мне бы точно хорошо платили, и потом, все равно всю работу я делала сама. Я и фотограф, и актриса, и режиссер, да вообще все, и несправедливо, что деньги берет себе кто-то другой. Но мне смелости не хватило… Я решила, что лучше просто забыть всю эту историю.
Дальше Нова рассказала, что Юсси, в попытке пополнить свой в общем и целом несуществующий бюджет, стал гнать самогон, а мать покончила с астрологией, разуверившись в ней. “Слишком многие Девы вели себя совсем не как Девы”, – заметила Нова.
Празднества в квартире продолжались, народу прибывало много, и самого разнообразного, в первую очередь благодаря маленькому бизнесу Юсси, а также тому, что Нова завела собственный бизнес. Большинство клиентов были мужчинами в возрасте от шестнадцати до шестидесяти, и если не считать самогона, в центре всего стояла она.
Нова рассказала, как в первый раз занималась сексом за деньги. Было больно, она жалобно поскуливала, но тот мужчина все равно сказал, что было изумительно хорошо.
Что он заметил: ей тоже понравилось.
После этого Нова просто решила думать, что ей нравится. То есть приняла решение стать актрисой; она сразу поняла, что у нее неплохо получается. У Новы, у которой никогда ничего не получалось хорошо, которая должна была пойти в девятый класс и провалила все экзамены, кроме английского.
– Конечно, надо постанывать, но самое главное – это глубоко дышать, чтобы покраснеть, а еще делать вид, что ты их прямо вот как хочешь.
Луве понял: с клиентами все должно выглядеть так, будто она всю жизнь ждала только их и больше никого.
– Потом они говорили, что никогда в жизни так не возбуждались, и можно было свернуться у них под боком, сделаться маленькой и робко прошептать, что и ты чувствовала то же самое.
Луве кажется, что он все понимает.
Я стану, какой захочешь.
Наслаждение таилось в самом выступлении; Нова была как спортсменка, которая без устали тренируется, чтобы получить наконец награду, далеко опередив всех и одержав победу. Вот что было для Новы главным стимулом.
Мужчины видели ее. Признавали и одобряли ее, а она поощряла их.
Я стану, какой захочешь.
– Хотя теперь им приходилось за это платить, – признала она и помолчала, почти застенчиво. – Ни мама, ни Налле понятия не имели о моем шлюханстве, но я подозревала, что Юсси в курсе. Странно, но меня это огорчало… Я сама выбрала быть шлюхой, но должен же он протестовать, показать, что ему не все равно? Все же знают, что быть шлюхой – это полное дно, что парни, которые покупают у него самогон, и меня тоже покупают.
Нова ненадолго отвлеклась, чтобы рассказать про своего брата Бьёрна, которого она все время называла Налле[18], и Луве тут же понял, что тот единственный парень, от которого она ждала поддержки, ее никак не поддержал. Брата вечно не было дома, хотя многие его приятели регулярно захаживали к Юсси. Судя по тому, что рассказывала Нова, брат с сестрой начали отдаляться друг от друга.
– Налле чего только не вытворял. Он же был в Фискисе Bad Boy Number One[19]. И анаболиками приторговывал, и два месяца успел отсидеть за то, что какого-то охранника отлупил, или кто там он был. Всегда при деньгах, и, хотя народ помалкивал, все знали, что за ограблениями всех снобских вилл в Бьёркнэсе и Лэннерсте стоит он. Мама вбила себе в голову, что он вернется домой как раз к вечеринке в честь ловли раков. Но я знала, что не вернется он. Я же его черт знает сколько не видела… Он и правда не пришел. Вечеринка длилась всю ночь, даже к утру не разошлись. В тот день все и пошло к черту… Последний праздник в этой проклятой квартире.
Нова поерзала на стуле. Глаза у нее блестели, голос зазвучал слабо.
– Никто из тех, кто был там, туда больше не вернулся, – сказала она. – И виновата во всем я.
Наконец она замолчала, и оба сидели, глядя в окно.
Но смотреть за окном было не на что. Только бледные сумерки. Луве устал. Рассказ Новы пробудил в нем собственные воспоминания.
Неожиданно на парковку плавно въехала серебристая машина. Остановилась. Мотор замолчал. Мужчина лет сорока вылез из машины, огляделся, словно что-то искал, и после некоторого колебания зашагал к входу.
Луве поднялся, закончил разговор с Новой и отправился встречать незнакомца. Нова скрылась в коридоре, присоединилась к другим девочкам. Мужчина как раз вошел.
Поздоровавшись, он представился: Свен-Улоф Понтен. Папа Алисы.
– Я приехал забрать ее, – объявил он, и Луве ощутил, как по хребту ползет отвратительный холодок.
В глазах Алисиного папы было что-то очень знакомое.
Больное.
Нездоровое.
Неестественное.
Прочесать весь северный район
Квартал Крунуберг
Иво Андрич поздоровался, уселся за стол и поправил свою зеленую с белым бейсболку.
“Стокгольмский бейсбольный клуб”, прочитал Кевин, слушая патологоанатома, а тому было что сказать.
– Разговор будет коротким, – начал Андрич. – Картина начинает проясняться.
Странно, но флегматичный выговор боснийца напоминал Кевину норрландский, немного похоже говорят на берегах северных рек, в Онгерманланде.
– Как уже было сказано, мы обнаружили во влагалище девушки следы семенной жидкости, – продолжал Андрич, – а также несколько пятен на одежде. После соития она вымылась с мылом, но оставшегося количества достаточно для проведения ДНК-теста. Посмотрим, как скоро мы получим ответ из лаборатории. У них там сотрудники из-за гриппа валятся один за другим.
– А если совпадений не обнаружится, нам придется прочесать весь северный район, – вставил Лассе. – И начать с тех, кого зовут Улоф.
– Да, что-то в этом роде. – Андрич поскреб подбородок. – Учитывая особо серьезный характер преступления, полагаю, что подобные меры не исключены.
– Особо серьезный характер преступления? То есть не секс за деньги?
Патологоанатом покачал головой.
– Нет, не секс за деньги. Убийство. – Он вскинул руки, словно сдаваясь. – Тара умерла не от падения с высоты, ее задушили. Смерть наступила где-то между одиннадцатью вечера и полуночью. Предположительное орудие – красно-зеленая подушка.
Семьсот или около того
Два года назад
Нова смотрела, как Альбин вытирает после себя.
Все произошло в молчании, потребовалось несколько полотенец, потом он свернул пакет и забрал с собой в душ. Нова тоже приняла душ – она чувствовала себя грязной. Как будто только что совершила изнасилование.
С Альбином, приятелем Алекса и Фадде, она начала спать, потому что ей стало его жалко. Теперь он ей платил, обычно меньше, чем мог бы дать.
Он – как я, думала Нова. Кто-то с ним что-то сделал. Скорее всего, когда он был маленьким.
А теперь она помогала ему чувствовать себя паршиво. И у нее это отлично получалось.
Нова точно знала, что нужно делать, чтобы понравиться. Надо нахваливать их мужские качества: что они хорошо водят машину, что в постели они истинные жеребцы, а если они стесняются, что у них маленький член, то дать понять, что предпочитаешь член поменьше, потому что такие лучше для анального секса.
В конце он дрожал от возбуждения. Не проронил ни звука, но, когда он кончал, Нова видела, как он кричит внутри себя.
Она оделась в ванной. Когда она вышла, он уже стоял в гостиной, готовый к выходу, в руках – пакет с пивом.
– Спасибо. – Он опустил глаза и протянул ей четыре мятые пятисотки.
Нова подошла к нему. Погладила по щеке, попробовала улыбнуться.
– Слушай, тут нечего стыдиться… Ты хороший парень. Ты мне нравишься.
Нове доводилось сталкиваться с очень странными вещами. Однажды ей пришлось применить дилдо к парню, другой чувак хотел, чтобы она била его, а третий спросил, можно ли на нее помочиться. Последний вариант она отвергла.
Наверное, требуется немалое мужество, чтобы так унижаться, думала Нова.
Они вышли из квартиры.
– Я никому не скажу, – сказала она, пока они ехали в лифте. В кабине, как всегда, пахло мочой, и она подумала, что это даже уместно.
– Спасибо.
Они вернулись на вечеринку, словно выходили только за пивом. Мама спала, зато Юсси уже поднялся.
– Еще пиво, отлично… – сказал он, завидев принесенный пакет. – Пора допиться до трезвости. Эти, на диване, могут еще побыть, но потом пусть валят отсюда. А ты, Альбин… Ты же не забыл? – Юсси как будто пребывал в раздражении.
Нова села на диван, к остальным; Альбин следом за Юсси ушел на кухню. Тактику “допиться до трезвости” Юсси применял, если решал устроить себе день воздержания; завтра, стало быть, такой день. Юсси уже начал допиваться до трезвости: сначала крепкий алкоголь, потом вино, потом крепкое пиво и, наконец, – слабое пиво.
Заняться проституцией не было обдуманным решением. Оно пришло, можно сказать, за одну ночь. Шесть месяцев назад Нова переспала с одним парнем, и он, когда кончил, спросил, сколько она хочет, словно нет ничего естественнее такого вопроса. Она назвала семьсот или около того.
Теперь Нова брала восемьсот за минет, полторы тысячи за весь пакет услуг, включая оральный секс, и две тысячи, если мужчины хотели чего-нибудь особенного – анал, например, или кончить на лицо. Под матрасом у нее хранилось то, что станет ее билетом в большой мир. Почти двадцать пять тысяч. Нова собиралась рвануть в США. В Голливуд, потому что, если у нее что и получалось хорошо, так это притворяться кем-нибудь другим.
Брат не знал, что она занимается проституцией, не знала и мама. Они бы рехнулись, если бы узнали. Но Юсси?
– Кому-нибудь смешать? – спросила Нова, чтобы прогнать мысли, и парни кивнули. Естественно, выпить все хотят. Нова встала.
Она столкнулась с Юсси в дверях кухни. Он открыл банку, и Нова разглядела марку – крепкое “Обру”; значит, он на предпоследней стадии, скоро допьется до трезвости. Нова достала из холодильника бутылку с розоватым “Рюссваттнетом”. Четыре стакана, по два кусочка льда в каждый.
Прежде чем смешивать напитки, Нова отступила в сторону, чтобы ее не было видно из гостиной. Открыла новую бутылку водки, отпила несколько глотков. Скоро ей станет лучше. Мысли как будто рассеются.
Вышла мама. Она только что проснулась и явно злилась из-за того, что парни все еще здесь. Юсси то хмурился, то начинал суетиться, а потом вдруг принялся убирать со стола и объявил, что вечеринка окончена.
Последние гости ушли, и остались только Нова, Юсси и мама. Юсси попросил их посидеть с ним на кухне.
– С этой хренью покончено, – сказал он, очень серьезно глядя на них.
Было четыре часа. Юсси оставалось жить меньше суток.
Глаза, которые не верили губам
“Пеликан”
В 1904 году армия японского императора разгромила в Порт-Артуре русскую эскадру; в том же году в стокгольмском районе Сёдермальм приступили к строительству одного здания. Здание, в котором впоследствии разместилось питейное заведение, построили, как это ни смешно, по инициативе Общества трезвости. Ресторан назвали как город, где потопили русскую флотилию; он стал местом праздников. Компания, ведавшая торговлей спиртными напитками, определяла норму спиртного в сто пятьдесят миллилитров для мужчин и в половину указанного объема для женщин, однако женский туалет здесь появился лишь спустя восемьдесят лет, в 1984 году.
Вера проложила сюда дорожку еще в конце шестидесятых и до сих пор называла “Пеликан” по-старому – “Поттан”, в честь “Порт-Артура”.
Она закрыла дверь туалета и вернулась к столику как раз, когда официантка принесла заказ и два очередных шота в ведерке со льдом. Вера и Кевин заказали по порции тефтелек со сливочным соусом и протертой брусникой. Считалось, что тефтельки в “Пеликане” имеют размер мячиков для гольфа, хотя “бильярдные шары” было ближе к правде.
– Не скучаешь по работе? – спросил Кевин и тут же услышал в ответ смех.
– Вот уж нет. Я же тогда превратилась в пародию. Коп из телесериала: вечно уставшая, без единой иллюзии, начинающая пьяница.
– Пьяница?
– Просто чтобы ты знал. Сейчас-то все в порядке, но тогда слишком многое пошло наперекосяк.
Конечно, Кевин видел Веру в легком подпитии, но представить ее себе не вяжущей лыка у него никак не получалось. В ней слишком много чувства собственного достоинства, у нее слишком острый ум. А еще она слишком красива, чтобы напиваться.
Вера сменила тему разговора и спросила, что Кевин думает насчет ожидаемых перестановок в полиции.
– Хотелось бы, чтобы новые принципы – сосредоточиться на преступлениях против женщин и детей – не остались на бумаге, – ответил Кевин. – А ты что думаешь?
– Слава богу, мне этим не придется заниматься. – Вера отпила пива. – Через несколько лет начнется черт знает что, да плюс еще три старых добрых “п”… Взаимное тортометание между политиками, полицейским начальством и преподавателями. – Вера усмехнулась. – Во всяком случае, один преподаватель точно этим занимается. Профессора Перссона[20] и одного более чем достаточно… Ну а как продвигается дело с теми девушками?
– Я так понимаю, ты не про Тару – ту, что обнаружили мертвой у шестиэтажного дома?
Вера кивнула.
Кевин отодвинул тарелку. Он бы с удовольствием подождал с этим разговором до конца ужина.
– Я посмотрел пару видеозаписей, изъятых два года назад, когда расследовали дело одного педофила на западе Швеции. Лассе хотел, чтобы я помог ему обнаружить нестыковки.
На первый взгляд в тех видео все было не хуже, чем в других, точно не хуже, но что-то в этой картинке не давало Кевину покоя.
Нова изо всех сил старалась производить впечатление довольной и беззаботной девочки, но изнутри пробивалось нечто, что Кевин за неимением лучшего описания обозначил как “вонь”.
Тот же удушающий эффект, что и от озона. И налет скверной актерской игры только усиливал эту вонь.
Так пахнет тьма.
– Тебе разве не рекомендовали отдохнуть от таких видео?
– Будем реалистами. Иногда они неизбежны.
И Кевин стал тихо рассказывать о первом фильме.
– Судя по репликам, она работала на заказ, – закончил он, и в памяти зазвучал тонкий голосок, от которого ему хотелось плакать.
Отрепетированные, придуманные заранее слова. Глаза, которые не верили губам.
– Мы считаем, что видео записано для парня, который лет десять занимается вербовкой и обработкой девочек.
Кевину пока не хотелось называть имен. Даже Вере.
– На второй записи отчетливо виден пакет с адресом продуктового магазина, который находится в Фисксетре. Ну как, как те, кто анализировал эту запись два года назад, могли упустить такую деталь?!
Вера покачала головой.
– Мне кажется, некоторые следователи перегружены. Внимание притупляется… Чему тут удивляться.
– А я вот очень удивился. Трое следователей смотрели запись – и не обратили внимания на пакет. Некоторые так жаждут посадить преступника, что забывают про жертву. Может быть, мы нашли бы эту девушку два года назад, если бы кое-кто сделал свою работу как следует.
– Проколы бывают у всех. У твоего отца бывали проколы, у меня бывали проколы. И все эти ошибки потом казались просто невероятными.
– Я врезал в челюсть педофилу, которого отпустили на свободу. И меня отстранили от дела.
– Да бог с ним. Я не о таких проколах говорю. Невозможно заметить вообще все нестыковки и ляпы… А та девочка – по-твоему, теперь вы сможете ее найти?
– Надеюсь. Невозможно определить точно, когда сделана запись, но качество картинки показывает, что использовался современный телефон, не старше пяти лет. Для начала у нас есть два имени и жилой район.
– И теперь вы прогоните эти имена через реестр записей гражданского состояния за последние пять лет?
– Да. Нужно же с чего-то начинать.
Пока Кевин рассказывал о записях, Вера не притрагивалась к еде. Она достала из емкости со льдом шоты, протянула Кевину стопку. Они встретились взглядами, кивнули друг другу и опустошили стопки. “Альборг Таффель”, именно его выбрал бы отец.
– Интересно, как на твой рассказ отреагировал бы папа, – сказала Вера.
– Поехал бы в Фисксетру с бейсбольной битой.
– Чтобы сокрушить чьи-нибудь коленные чашечки.
– Сломать палец-другой.
– Пересчитать ребра… – Вера сдержанно улыбнулась. – Вы с ним нечасто обсуждали твою работу?
– Нет, в подробностях – не обсуждали.
– И он никогда не спрашивал, почему ты решил заниматься именно этим?
– Ну как… Спрашивал, много раз. Я всегда отвечал – потому, что хочу засадить в тюрьму самых вонючих мерзавцев.
Вера перегнулась через стол и повертела в пальцах стопку, серьезно глядя на Кевина.
– Все из-за твоего дяди, да?
Крепкие спиртовые пары в глотке, с привкусом тмина, укропа и фенхеля.
Перед ним сидела Хелен Миррен. Глаза Хелен Миррен, рот Хелен Миррен; Кевин видел тревогу и сострадание, окрашенные гневом. Какая-то сцена из “Брайтонского леденца”.
– Мамин брат… Человек, который сегодня был на похоронах. Когда ты с ним разговаривал, я заметила, что что-то не так. У тебя был такой вид, как будто тебя сейчас вырвет.
Вера взяла его за руку. Какие теплые у нее пальцы, а ведь она только что крутила в руках стаканчик с шотом.
– Не обязательно говорить сейчас. Просто знай: когда захочешь рассказать – я буду рядом.
Кевин усмехнулся и кашлянул.
– Это было очень давно, – сказал он – и ощутил себя на краю смерти.
Вот и все, подумал Кевин. Это как умереть.
– Мне было девять лет…
Он заговорил, и с каждой фразой ему делалось легче, словно слова оставляли после себя какие-то полости, места, где раньше были гной, незаживающая рана или безобразный нарыв.
Кевин говорил слишком громко – соседние столики прислушивались, – но ему было все равно.
Если когда-то он – от стыда или не желая себе ни в чем признаваться – сомневался, действительно ли восемнадцать лет назад в палатке на Гринде произошло то самое, то теперь все сомнения ушли. Он стал рассказывать, как одно-единственное событие преследует его всю жизнь и именно это событие заставляет его делать в полиции то, что он делает, по восемь-двенадцать часов в день, круглый год.
Вера молча слушала, не притрагиваясь ни к еде, ни к напиткам.
– У меня секса-то нормального не было, за несколькими жалкими исключениями. За четыре года – ни одной девушки… И после времени, проведенного в угрозыске за компьютерами, лучше не стало, – закончил Кевин и только теперь заметил, что все еще держит Веру за руку.
Какой же он неудачник, даже смешно. Растерявшись, Кевин отпустил ее руку.
– Ты как? Нормально? – спросила Вера.
– Не знаю.
Кевину вдруг вспомнилась фотография из семейного фотоальбома: Вера стоит на веранде в черном раздельном купальнике, стройная, загорелая, живот немного торчит. Когда ему было пятнадцать, он брал фотоальбом с собой в туалет.
– Никто, кроме тебя, не знает, – сказал он. Добавлять, что никто, кроме Веры, не должен об этом знать, было не обязательно.
Вера кивнула.
– Выйдем, покурим?
Она достала из сумочки сигариллы, и оба встали из-за стола.
– Что ты можешь рассказать о той девочке, Таре? – спросила Вера, направляясь к выходу.
Кевин придержал перед ней тяжелую старинную дверь.
– Не много.
Вера задержалась на пороге, едва не касаясь Кевина, и печально взглянула на него.
– Это та девочка с балкона, да?
– Мы подозреваем, что да.
Тара. Девочка с балкона.
Сказать о ней больше было нечего.
Пока нечего.
И насчет змеи
Шоссе номер семьдесят шесть
Скутшер, место, где всегда мерзко воняет, по вечерам вымирал. После одиннадцати становилось темно, тихо и безлюдно. В такие места не переезжают, в такие места тебя привозят.
В “Ведьмином котле” после одиннадцати гасили свет и воцарялась тишина; выйти из комнаты разрешалось только в туалет. Ночи были как бесконечный крик в пустоту. Темнота и одиночество вытесняли все остальное. Оставались только ненависть, ужас, злоба и желание умереть. Такими бывали и сны.
“Ведьмин котел” располагался неподалеку от целлюлозной фабрики, и, хотя Нова и Мерси закрыли вентиляцию, в комнатах всегда гадко пахло.
До того как угодить сюда, они знали о Скутшере только одно: в этом городке жил каннибал. Парень, который умертвил обеих своих приемных сестер, пил их кровь и ел их.
Может, так все и для них кончится в “Ведьмином котле”. Семь девочек сожрут друг друга.
Эркан, который дежурил сегодня ночью, напомнил, что они должны вернуться не позже пяти, потому что в половине шестого приходит утренний персонал. Машина, белая “вольво”, будет ждать их на шоссе, поодаль. Потом Эркан сказал: ему все равно, чем они собираются заниматься, лишь бы от них завтра не пахло спиртным и лишь бы он получил свои деньги.
Эркан хороший парень. Вообще-то. Но он, как и они, нуждался в деньгах.
Когда он открыл дверь кухни и выпустил их под дождь, Нове вспомнился разговор с Луве. Правильно ли она сделала, что так открылась перед ним? Да еще про Юсси выложила.
Она все ему честно рассказала, но и приврала тоже. Что они с Мерси обмениваются мыслями – почти правда, хотя не настолько, как она напела Луве. Она, например, прекрасно знала, где в Талльмоне жил мужик, разводивший кроликов.
И насчет змеи. Когда они сбегали из “Котла”, Нова ясно видела эту змею перед собой. Луве она выдала преувеличенную версию, но она отлично знала, откуда взялась эта змея.
Когда Нове было десять лет, она как-то ночевала у подружки, а у той в террариуме жила змея. Совершенно черная, с метр длиной, а толщиной с руку Новы. Нова тогда даже подержала ее, хотя на самом деле ей не хотелось. Змея оказалась прохладной и сухой, и девочки взяли ее с собой на кухню, а там положили в раковину. Потом закрыли дверь и уселись перед телевизором. Смотрели кино, пили газировку, ели попкорн, а когда фильм закончился, вернулись на кухню. Змея куда-то делась.
– Это же “вольво”, да? – Мерси указала на машину, стоявшую возле остановки метрах в пятидесяти от них.
– Вроде да… Во всяком случае, она белая.
Они перерыли весь дом, но змеи не нашли, а когда вернулись подружкины родители, девочки не решились сказать им, что произошло. Они накрыли террариум полотенцем – ничего странного, змее нужна темнота. Нове предстояло спать на матрасе на полу, рядом с террариумом. К тому времени, как девочки легли, змея так и не нашлась.
Дверца с водительской стороны открылась. Какой-то парень вылез из машины, прислонился к дверце и закурил. Папина машина, подумала Мерси. Папины деньги. Папин мальчик.
Нова думала о змее, которая так и осталась где-то там, в темноте.
Она тогда все ждала, что змея обовьется вокруг ее ног, а может, и вокруг горла; подружка спала, и Нова никогда в жизни не чувствовала себя такой одинокой. Вдруг змея где-то в комнате? Нова решила не спать. Как ни странно, именно это она и сделала. Заснула.
Парень протянул руку.
– Адам, – представился он и открыл дверцу заднего сиденья.
Теперь только она увидела, что в машине еще один парень. Похож на Адама, только младше – наверное, брат. Лет четырнадцать, самое большее пятнадцать, а Адаму уже лет двадцать. Мальчик назвался Виктором и отвернулся. Наверное, робел.
– Куда поедем? – спросила Нова.
– Увидите. – Адам завел машину.
Парни отличались от обычных клиентов Новы и Мерси – одиноких немолодых мужиков с животиками или неловких юнцов с маслом под ногтями, фабричных рабочих на раздолбанных машинах. Эти – юные богатеи. Хорошо выглядят. Им, чтобы заполучить девчонок, и платить не обязательно. Мерси сжала руку Новы, но ответного пожатия не дождалась. Нова бездумно уставилась перед собой, в глазах проплывали отражения уличных фонарей.
– Эй? – Мерси пихнула ее в бок. – О чем задумалась? Ты как будто не здесь.
Нова смотрела в окно. Справа, залитый оранжевым светом, тянулся целлюлозный завод. Бесчисленные трубы и металлические цистерны, окутанные густым серым дымом.
– О смерти, – сказала Нова.
Змею так и не нашли. Наверное, она как-нибудь выбралась через кухонный слив. Или они забыли закрыть окно, и змея выскользнула наружу. Нова не помнила. Помнила только ощущение, что где-то в темноте извивается кольцами змея.
У Мерси в голове жила своя змея. Мерси думала о парне из трейлерного табора под Гамбургом, о разбитой бутылке и булькающем звуке, как когда кто-нибудь захлебывается собственной кровью.
Даже Мерси во время сессий с Луве бывала честнее и открытее, чем в другое время. Она рассказывала о том, что произошло в родном поселке и почему ее семье пришлось бежать, но, когда она собралась рассказать, как они пробирались из Нигерии через Турцию в Грецию, время вышло. А в Греции ее жизнь и пошла под откос.
Вонь с фабрики проникла и в машину; вскоре мелькнул дорожный указатель. Евле, четырнадцать километров. Парень, сидевший за рулем, спросил, не хотят ли они чего-нибудь. Есть экстази, если надо. Две таблеточки – красная и голубая, для бодрости и сексуального подъема.
Нова проглотила голубую, Мерси – красную, и ко въезду в Евле жить стало полегче. Змеи уползли.
Девочки принялись болтать; парни не обращали на них внимания. Идея якобы-разговоров принадлежала Мерси, она была легка на слова, и Нова помнила, как Мерси объяснила, зачем им эти якобы-разговоры.
По-настоящему сблизиться с кем-то можно, только воздерживаясь от слов.
На въезде в Евле Адам остановил машину возле банкомата, чтобы снять деньги: по три тысячи каждой при условии, что девочки будут согласны на всё. Мерси стояла рядом и курила, по старой привычке запоминая пин-код.
Без четверти час они въехали на гаражную дорожку большой виллы; вокруг раскинулся целый квартал таких же вилл. Многие дома были старыми, но этот казался построенным недавно.
В дом вошли через полуэтаж. На стене в холле имелась подставка под пульт дистанционного управления.
Нажав пару кнопок, Адам зажег свет в холле и на верхней лестничной площадке.
С крючка шляпной полки свисал большой шарф.
Бордового цвета, с бусинами.
– Это же Фрейи? – спросила Нова и потрогала шарф.
Как будто что-то скрывает
“Пеликан”
Вера предложила еще сигариллу, той же марки, что курил его отец. Вера и отец так близко и так давно дружили, что бессознательно усвоили привычки и поведение друг друга, и иногда Кевин видел у Веры отцовские жесты. Мелкие жесты, вот как теперь: прежде чем закурить, Вера покатала сигариллу между большим, указательным и средним пальцами.
– Как же ты похож на отца, когда он был в твоем возрасте, – сказала Вера, словно прочитала его мысли, но решила обратить их на него самого.
– Да, ты всегда так говоришь. – Кевин улыбнулся ей. – А вы с Себастьяном не похожи.
– Знаю. Трудно поверить, что мы вообще в родстве… Он похож на своего отца, совсем как ты.
Кевину было девять лет, когда умер Верин муж – похожий на Джона Гудмана крупный мужик, носивший все свои килограммы с достоинством. Себастьян, судя по тому, как он выглядел утром на похоронах, начинал все больше походить на отца, хотя и при совершенно другом телосложении. Вес тянул его к земле, Себастьян гнулся под лишними килограммами, сутулился.
– Как у него дела?
– Понятия не имею. – Лицо у Веры стало напряженным. – На мои звонки отвечает редко, заперся со своими компьютерами да так и живет в старой студенческой норе. Насколько я знаю, нигде не работает. Я плачу за его квартиру, но он обращается со мной как с отщепенкой. Когда я позвонила ему сказать, что умер твой отец, он как будто вообще не отреагировал, но за час до похорон объявил, что хочет присутствовать. Поэтому мы и опоздали.
Вера рассказала, что днем, через пару часов после похорон, с которых он улизнул, она наведалась к Себастьяну, но сын отказался впустить ее.
– Я подумала – может, съездишь как-нибудь к нему. Вдруг он тебе откроется. Вы же когда-то хорошо ладили. Ты ему нравишься.
– Могу попробовать… А повод?
– Просто загляни к нему. Скажи, что мимо проходил. Я хочу знать, как он себя чувствует, но он от меня запирается. Как будто что-то скрывает.
Перед глазами у Кевина стояло лицо Новы. Девочки, не умевшей скрыть от камеры то, что у нее на душе. Вонь, которая пробивалась наружу, сквозь бессмысленные попытки быть актрисой.
– А что, по-твоему, скрывает Себастьян? – спросил Кевин и дернулся – ему на щеку упала капля дождя.
– Наверное, он чего-то стыдится, – ответила Вера.
Ничего незаконного, но жестко и грязно
Два года назад
– Все, хватит.
– Чего хватит? – спросила Нова.
Юсси взглянул на нее, как на слабоумную.
– А ты как думаешь? Чем мы тут… Чем я тут занимаюсь. С этой минуты торговле конец.
Какую торговлю он имеет в виду? Ее? Что она торгует собой?
– Я пропьянствовал почти тридцать лет. Творил черт знает что. Был отвратительным отцом и для тебя, и для Бьёрна.
– Юсси… – начала мама и потянулась было к его руке, но Юсси дернулся и с презрением посмотрел на мать.
– А ты была такой же отвратительной мамашей. Но теперь этой жизни конец. Я завязываю.
Мать демонстративно зааплодировала. Видно было, как она обиделась на “отвратительную мамашу”.
– Что ж, поздравляю. Ты закончил? – Она сделала движение встать.
– Сядь. Я еще не закончил, я еще далеко не закончил.
Юсси рассказал, что узнал про одну должность, и у него хорошие шансы эту должность получить. Один из главных людей в конторе – старый приятель Юсси, в девяностые годы они вместе ремонтировали кофейные автоматы.
– Теперь все пойдет по-другому. Я начну работать, зарабатывать по тридцать пять кусков в месяц.
Нова уже слышала эти рассказы. Лет двадцать назад Юсси пришла в голову мысль сконструировать аппарат, который, помимо кофе, продавал бы еще и суп. В уверенности, что все пойдет как по маслу, он запросил кредит в банке, составил бюджет, набросал план. Но все были против него, никто ему не верил.
– Да, ждите перемен. Я уезжаю.
Мама нахмурилась.
– Ты уезжаешь отсюда?
– Именно. Я уезжаю.
– А как же мы? – У мамы опустились плечи. – Почему ты ничего не сказал?
– Потому что это мое решение. Мой шанс. У тебя есть работа, вы не пропадете. Я поживу здесь, пока не найду другое место. Что тут непонятного.
Удирает, подумала Нова. Отчаливает.
– А ты, Нова – смотри, больше ни капли. – Юсси поднялся из-за стола и вышел из кухни. Вскоре хлопнула входная дверь.
– Был бы здесь Бьёрн… – сказала мама, и тогда Нова тоже ушла, только сначала прихватила со стола полбутылки спиртного.
Вернулась Нова основательно пьяная. Она искала Юсси, но не нашла. Потом сидела на берегу, смотрела, как купаются на сон грядущий какие-то ребята, и приканчивала бутылку.
– Где Юсси? – спросила Нова. Она видела, что мама плакала.
– Недавно пришел, а теперь уже лег спать. – Мать вздохнула и пошла в гостиную.
– Куда он ходил?
Нова, упираясь носком в пятку, сбросила кроссовки и пошла за матерью. Та пожала плечами и принялась возиться с лазерным диском, пытаясь сунуть его в компьютер Юсси. Наконец ей это удалось. На глазах показались слезы.
В комнате зазвучала акустическая гитара. За окном почти стемнело.
Снова рассвет за бледным твоим плечом.
Хульдрой солнце прокралось, окно в ледяных узорах.
Нова села в кресло. Все так странно. Комната как-то перекосилась. Углы неровные, все клонится вправо. Неправильно.
Волосы рассыпались по подушке.
Все неправильно.
– Мама… Сделай потише.
– Никакого “потише”. Послушай, какой голос… – Мама рассмеялась и потянулась за бокалом с вином. – Фред Окестрём.
Если бы ты не спала, я отдал бы тебе все, чего не смогу отдать, но Я дарю тебе мое утро, дарю тебе мой день.
Ты улыбаешься – значит, что-то хорошее снится.
Какое-то время они сидели молча: слушали. Нова узнала мелодию – похоже, “I Give You the Morning”.
– Твоя пластинка? – спросила она.
– Не знаю. Моя или Юсси. Уж точно не Бьёрна.
Вот оно.
Одна-единственная строчка изменила все. Превратила жизнь в смерть.
Веко трепещет, словно бабочкино крыло.
– Ты что делаешь? Прекрати…
– Хочу послушать.
Веко трепещет, словно бабочкино крыло.
– Юсси любит эту песню?
– Обожает.
Сука. Не может быть. Не может быть!
Мать уснула на диване, а Нова пошла к себе и включила компьютер.
Она не забыла, какие слова он ей написал почти три года назад.
“Веко трепещет, словно бабочкино крыло”.
Да, именно так. Дословно.
Если бы она уже тогда сообразила, что это цитата, то давно бы ее загуглила. И давным-давно бы все узнала. И все поняла бы.
Слушая песню, Нова прочесывала Гугл. Версия “Кайт” ей понравилась, но по-шведски песня звучала неприятно. Какой-то чувак рассматривает спящую девушку. А этот, который пел на пластинке и написал шведский текст, Фред Окестрём, посвятил песню своей дочери.
Пластинка “Два языка” вышла в 1972 году. В год рождения Юсси.
Два языка. Как когда целуются или лижут друг друга, что ли?
Нова знала, что мужчины довольно часто возбуждаются по поводу собственных дочерей. А еще чаще им случается воспылать к неродной дочери. Вспомнить хоть того американского режиссера – он даже женился на падчерице. Захотеть оприходовать кого-то, кому менял пеленки?..
Иногда правда настолько лежит на поверхности, что ее не замечают.
Вот почему “Петер” столько о ней знает. Знает, что ее классного руководителя зовут Роббан, знает, где она живет, знает про маму – и про себя, конечно, знает.
Я случайно узнал, что твой настоящий папа умер, что Юсси тебе отчим и что он обычно ошивается в центре вместе с алкашами.
Две любимые песни Юсси – “Master of Puppets” “Металлики” и “Дарю тебе утро” этого дядьки с низким голосом, Фреда Окестрёма. И Повелителю кукол явно нравятся обе песни.
Нова задумалась. Она старалась припомнить хоть один раз, когда Юсси не мог бы початиться с ней, потому что бывал занят чем-то другим. Но на ум не приходило ничего, что тянуло бы на алиби. Мысли неслись вскачь. Все происходило несколько лет назад, чаще всего они чатились по вечерам, когда Нова оставалась у себя в комнате одна.
Юсси вроде как-то стучался к ней, когда она чатилась? Вроде да.
А когда она только-только получила то самое, последнее сообщение, Юсси застал ее с ноутом на коленях. Нова это отчетливо помнила, а еще она помнила, что на несколько минут до того, как ей написал Повелитель кукол, Юсси сидел на кухне и что-то набирал в телефоне. Неужели Юсси зашел к ней, чтобы посмотреть, как она отреагировала на сообщение?
Извращенное желание увидеть, насколько она раздавлена?
А теперь Юсси собирается свалить от них. Трусливый говнюк.
Нова вышла на кухню, смешать себе выпить, но передумала и врезала стакан чистой водки.
Вошла в спальню, остановилась у кровати.
Посмотрела на спящее тело. Какой глубокий, мирный, безмятежный сон.
Смартфон Юсси лежал на ночном столике; Нова выдернула провод и взяла телефон с собой на кухню. Пароля на телефоне не оказалось, и Нова начала просматривать историю поисков.
Сначала шли совершенно обычные вещи. Спорт, новости.
Потом – поиск фотографий Елены Исинбаевой, российской прыгуньи с шестом. Нова стала рассматривать фотографии.
Красивая, признала она. Еще один запрос касался другой девушки, тоже прыгуньи с шестом. Шведка, такая же красивая, как россиянка. Ангелика Бенгтссон, семнадцать лет, но выглядит моложе, чуть не младше самой Новы.
Нова прокрутила список вниз. Позавчера Юсси все утро пролежал в похмелье, пока мама в центре подбирала окурки и собачье дерьмо. Поиск по слову показал Нове, что искал отчим.
Bukkake. Rimming. Gangbang. Teenies. Young beauty. Shaved pussy. Brutal fucking.
Ненавижу, подумала Нова.
Она проверила, в какое время Юсси забивал эти слова в поисковик. Полчаса от первого до последнего – похоже, гуглил, пока она сама нежилась утром в кровати. А примерно когда она встала, он ублажал себя под одеялом.
Нова прошла по ссылкам. Ничего незаконного, но жестко и грязно. Во рту появился вкус металла, но, несмотря на дурноту, в голове окончательно прояснилось.
Нова открыла приложение с сохраненными изображениями. Там оказалось пусто, и она проверила, какие еще у Юсси есть приложения. Помимо тех, что имеются почти на всех телефонах, Юсси скачал приложение.
Не того же чата, в который она сама выходила три года назад, но очень похожего.
Аудитория чата была сильно моложе самого Юсси. Нова щелкнула по ярлыку. Перед ней открылось окошко входа: зарегистрированное имя пользователя и строка, куда предлагалось ввести пароль.
Дальше Нова не пошла. Ей и так было достаточно.
Третьего не будет
Район частных домов
Адам без выражения посмотрел на Нову и выдернул шарф у нее из рук.
– Что еще за Фрейя?
– Одна подружка.
– Это мамин шарф. – Адам запихал палантин в один из шкафов. – Дорогой, как черт знает что, так что не лапай.
Они спустились по лестнице.
Две девушки и два парня. Одни в трехэтажном доме, каждый этаж которого стоил, навскидку, с полмиллиона. То есть примерно с десяток “вольво” той модели, что стояла у дома. Треть подвального этажа занимал крытый бассейн, по периметру которого выстроились мраморные статуэтки обнаженных женщин и мужчин.
Нова и Мерси уселись на белый кожаный диван. На стеклянном столике перед ними помещались две бутылки шампанского. Девочки сидели на диване, но их там не было. Их тела больше им не принадлежали. Нова и Мерси легко выскользнули из своих оболочек, воспарили и теперь холодно наблюдали за тем, что происходит внизу.
Они всегда так делали, но на этот раз все вышло по-другому.
Пока Адам открывал бутылку и разливал шампанское, девочки разделись. Адам усмехнулся, заметив длинный шрам на животе у Мерси, и подошел к ней.
Мерси двенадцать лет, она сидит голая на реечном стуле. На животе у нее зияет рана – от груди до промежности. Рана источает тепло и запах горячего молока.
Рядом сидит какой-то мужчина, ест ложкой из миски. Он забрасывает в себя еду, причмокивает, чавкает, жадно поглощает желтое рагу. Пахнет карри, потом аммиаком.
Мерси сидела голая на диване, скрестив ноги. Потом они с Адамом чокнулись бокалами, и он попросил ее расстегнуть ему брюки. Нова отвернулась и увидела, как младший брат уходит в соседнюю комнату. Потом оттуда послышалась музыка, что-то вроде хауса. Тяжелые басы.
– Ты тоже иди сюда, – позвал Адам.
Нове семь лет. Лето, Мидсоммар. Она учится плести венок из одуванчиков. Пьет клубничный компот и не замечает, что в нем плавает оса. Оса жалит ее в язык; ужасно больно. Юсси кладет на место укуса кусочек сахара, чтобы вытянуть яд, но жжение и отек не проходят. Вечером Нову уже лихорадит.
Диван скрипнул: Нова придвинулась поближе к Мерси и перекинула ноги через ее бедра. Тела стали прохладными, и она покрылась гусиной кожей.
Нове четырнадцать лет, она направляется в центр города. Здоровается с водителем автобуса, но он ее даже не видит. Когда она потом шагает от Слюссена вверх по Гётгатан, она как невидимка. Несколько раз она уступает дорогу идущим навстречу людям, и когда решает больше не уступать, то сталкивается с какой-то женщиной; та кричит “смотри куда идешь, паршивка сопливая”.
– Поцелуйтесь.
Они не Нова и Мерси. Они две другие девушки – блондинка и брюнетка. Они целуются, губы и языки их холодны.
– Отсосите мне… Обе.
Они по очереди отсасывают. Две девушки отсасывают одному парню, и вдруг блондинка начинает хихикать. В груди щекотно, щекотке нет конца, и блондинке приходится отвернуться.
Нова показывает женщине, обозвавшей ее паршивкой, средний палец. Сует палец в рот, немного посасывает и выставляет в воздух. “Фак ю, старая кошелка”.
Она отпивает шампанского. Едва успевает проглотить, как парень хватает ее за подбородок.
– Давай работай.
Он входит ей в рот, длинно тыкается в десны и глотку. Она ничего не чувствует.
Короткое тяжкое дыхание. Несколько секунд голубые глаза не отрываясь смотрят в карие.
Мерси держит братика на руках. Того, что младше, который родился на час позже первого, он меньше ростом, у него всего одна почка и лицо немножко неправильное. Братик трясется от холода и весь мокрый, но он таращится на нее, моргает и таращится. Жив!
Красные губы, красные языки. Кроваво-красные жилки.
Голова темной девушки быстро двигается вперед-назад. Большие руки зарылись ей в волосы. С ее подбородка свисает нитка слюны, отрывается, падает на бедро.
Потом внутри у братика что-то булькает.
Глухой стон, и блондинка снова хихикает. Кто-то хватает ее и поднимает с дивана. Она успевает прихватить бокал шампанского, прежде чем младший брат утаскивает ее в комнату, где звучит хаус. Она одним махом опустошает бокал, пока они проходят мимо бассейна, мимо мраморных статуэток; она все еще смеется, когда он бросает ее на кровать.
На нем трусы-боксеры, они ему великоваты. Тощее мальчишеское тело, все в прыщах – на плечах, на груди, даже на животе.
– Отсоси мне, – велит он, совсем как старший брат, только голос у него тоньше.
Она становится перед ним на колени и рывком стаскивает с него трусы. Он почти теряет равновесие, и теперь она уже громко смеется.
– Ах ты мизинчик. – Она сгибает мизинец. На ум ей приходит старая считалка.
Первый пальчик наш большой, указательный второй, средний пальчик – третий, длиннее всех на свете, четвертый безымянный, очень это странно, а мизинец – пальчик пятый, ростом только…
Удар обрушивается, когда она хохочет.
Костяшками по зубам; кровь изо рта льется прямо на белую простыню. Она абсолютно ничего не ощущает. Ростом только маловатый.
Следующий удар попадает в грудь, она снова ничего не чувствует. Видит, как девушка со светлыми волосами сжимается, подтягивает колени к груди. Видит, как язык ощупывает разбитую верхнюю губу. Язык распух, вспомнил осиный укус.
Первый пальчик наш большой, указательный второй, средний пальчик – третий, длиннее всех на свете, четвертый безымянный, очень это странно, а мизинец – пальчик пятый, ростом только маловатый.
Кулак у нее перед лицом снова сжат, но не бьет. Парень вдруг оказывается на ней верхом, прижимает ее коленом.
Грудную клетку сдавливает, и она ловит воздух ртом.
Он сует кулак ей между ног.
Кольцо на мизинце правой руки разрывает ее. Она ничего не чувствует, но все же кричит. Быстрые движения. Кровать сотрясается.
Пальчик пятый. Ростом только маловатый.
Она сворачивается, сжимается, становится такой маленькой, что он не может попасть в нее.
Но она все равно кричит не переставая. Змея вернулась.
Из комнаты, где играл хаус, донесся какой-то звук. Звук, которого там быть не должно. Мерси оттолкнула парня; он завалился назад, выругался, но Мерси уже бежала мимо бассейна. По дороге она прихватила статуэтку, тяжелую, почти как шар для боулинга. Мерси вбежала в ту, другую комнату.
Увиденное отбросило ее в детство. Воспоминание: река, змея ужалила мужчину, ему отпиливают ногу.
На парня бросилась не Мерси. Ее ненависть, ее страх слились в одно существо; Мерси была совершенно спокойна, когда обрушивала на затылок насильника мраморную фигурку.
Статуэтку, тяжелую, как воспоминание об изнасилованной подруге.
Слова белого мужчины средних лет
Свартбэкен
Свартбэкен – старейший район Упсалы, ему больше семисот лет, но по нему не скажешь. Усердно-оптимистичное стремление ломать и обновлять, вполне в духе шведского двадцатого века, превратило район в смешение архитектурных стилей.
Луве это нравилось. Район развивался органично, он не корчил из себя нечто выдающееся, а просто приспосабливался. Будь Свартбэкен человеком, такого человека назвали бы конформистом. Луве думал, что “специалист по выживанию” подходит ему больше.
Он жил здесь уже почти год. Дом, построенный в начале двадцатого века, поначалу был двухэтажным деревянным бараком для рабочей бедноты. Сто лет спустя он обзавелся каменным фасадом с красной штукатуркой, адресом – и превратился в один из самых привлекательных домов к северу от центра Упсалы.
Час с небольшим – расстояние от работы до дома – Луве обычно посвящал тому, чтобы разложить результаты рабочего дня по полочкам. Но сегодня, остановив машину перед старым домом на несколько семей, он почувствовал, что еще не закончил с подведением итогов. Далеко не закончил.
Он включил свет в салоне машины и стал записывать в блокнот свои мысли.
Все они были о страдании, силе и способности выживать.
Луве погрыз кончик карандаша, обдумывая сегодняшний день и встречу с отцом Алисы. Карандаш был горьким на вкус и весь во вмятинах от зубов.
Свен-Улоф забрал дочь. С непререкаемым авторитетом он заявил, что лечение окончено и девочке пора возвращаться домой. Луве воспротивился, сказал, что это плохая мысль. Но Свен-Улоф имел законные права как родитель, так что оставалось только подписать документы и отпустить Алису.
Хотя Луве знал ее историю.
В этой религиозной семье сексуальность, особенно женская, была табу; в детстве Алисы регулярно повторялись события, которые Луве оценивал как очень важные. Они касались ее первых контактов с собственной сексуальностью и стыда перед этой сексуальностью.
Чтобы не пробуждать мужского интереса к дочери, родители одевали Алису в не по размеру большую одежду, в мешковатые штаны и кофты. В магазинах Алисе приходилось переживать минуты мучительного стыда, когда мать бесцеремонно засовывала ладонь между промежностью девочки и штанами или между ее грудью и кофтой, дабы убедиться, что одежда не прилегает к телу.
Луве подозревал, что в эти моменты и состоялась первая встреча Алисы со столь постыдной в глазах ее семьи сексуальностью. Сексуальность и стыд очень рано стали для нее синонимами, а позже ее обманом заставили поверить, что ей нравится, когда ее унижают.
Луве сунул карандаш и блокнот в сумку и вышел из машины под дождь, который, кажется, не собирался переходить в снег.
Ноябрь близился к концу, на улице еще было градусов восемь-девять тепла. Однако сейчас они не ощущались, и Луве, пока дошел до подъезда, промерз до костей.
На лестничной клетке пахло, как от пенсионера пятидесятых годов: трубочным табаком и мокрой собакой.
Запах надежности, безопасности.
Луве отпер дверь и перешагнул скопившуюся в прихожей кучу почты. Он так и не сумел оценить по достоинству конверты с прозрачным окошком и предоставлял им по нескольку дней валяться на полу, чувствуя себя нежеланными гостями. На кухне Луве захватил бутылку красного вина, бокал и прошел в кабинет.
Стеллажи с книгами, письменный стол со стационарным компьютером, окно на улицу. Такие комнаты имелись в каждом доме Свартбэкена. Там, где сто лет назад теснились трое-четверо пролетарских детишек, теперь мог сидеть какой-нибудь подросток, зарабатывавший по тридцать миллионов в год, играя в компьютерные игры и комментируя процесс в интернете.
Луве включил компьютер, выложил блокнот на стол, сел и открыл бутылку. Дешевое итальянское вино, на вкус вполне ничего; Луве налил себе бокал и начал читать записи о последней сессии с Мерси.
Девочка была более открытой и разговорчивой, чем прежде. Она хорошо умела рассказывать; Луве записывал только ключевые слова, но формулировки все равно помнил отчетливо. Мерси продолжала повесть о своей жизни, в более или менее хронологическом порядке.
“Это случилось одиннадцатого сентября 2008 года, через два дня после того, как мне исполнилось двенадцать лет, – начала она, и Луве тут же отметил, что она назвала точную дату. – Моя подружка Блессинг подарила мне сертификат на стрижку в салоне у ее мамы”.
Блессинг была одной из лучших подружек Мерси, ее мать держала парикмахерскую в поселке возле Кано. Единственная христианская семья в селении.
Луве перечитал свои записи: “9 ноября. Перед тем как войти, я остановилась у дома и посмотрела на реку. Год назад там черная мамба ужалила одного мужчину, который валил лес, чтобы строить на берегу новые дома. Река забилась всяким мусором и дохлой рыбой и стала не больше ручья.
Я представляла себе, что река – это кровеносный сосуд. Отравленная, как кровь в теле у моего папы. Годфри, студент, с которым он трахался, заразил его ВИЧ”.
Луве стал писать: “Мы должны быть слабыми, чтобы страдать, и мы должны страдать, чтобы стать сильными. Значит, надо быть слабым, чтобы стать сильным”.
Наверное, цитата. Фраза просто всплыла в голове.
Девушка не умолкала почти час, и Луве исписал ключевыми словами больше двадцати страниц.
Во время этой сессии он сделал то, чего никогда не делал во время сессий.
Он заплакал.
Потом написал “Н и М”, подчеркнул и продолжил писать:
“Их мир похож на детскую игру. Он существует параллельно с реальностью и исполнен эгоизма, он дает возможность пережить желания и поступки, мало приемлемые в реальном мире или вообще таковому не принадлежащие. В их мире, например, позволено мучить животных, потому что это действие помогает разрешить внутренние конфликты, высвобождает силу и более желательные чувства”.
Вышло несколько сурово. Но в Нове и Мерси было что-то, что пугало Луве.
Алиса Понтен – их противоположность.
Она не специалист по выживанию.
Луве налил еще бокал. Как непростительно мало он знает о Нигерии, не говоря уж о “Боко харам”. Но кое-что он, спасибо профессии, узнал: среди детей и подростков, ставших объектами сексуальной торговли в Европе, девочек из Нигерии больше, чем просто много. И в Швеции тоже.
Мерси – одна из них.
Судя по всему, до двенадцати лет у нее было счастливое детство, хорошие отношения с родителями, обеспеченная семья. В отличие от Новы, в ближайшем окружении Мерси никто не страдал алкогольной или наркотической зависимостью. Интересно, подумал Луве, чего добилась бы Мерси, родись она в Швеции.
Во всяком случае, она сейчас была бы в совершенно другом месте. Луве продолжил писать, стараясь, чтобы слова выходили его собственными.
“Одиннадцатого сентября 2008 года никого не взволновал пожар в деревне на севере Нигерии. Сосед, который бросился в море огня и сумел спасти подвергшуюся изнасилованию и побоям двенадцатилетнюю девочку, наверное, смог бы рассказать об увиденном, но от полученных ожогов он позже скончался”.
Луве отпил вина, быстро перечитал написанное и удалил абзац. Слова были не ее, а его, слова белого мужчины средних лет, неспособного вжиться в то, что пережила она.
Он выключил компьютер, потушил настольную лампу и взглянул на часы.
Было поздно, лил дождь, и все же Луве испытал огромное желание куда-нибудь пойти. Куда угодно.
Может, встретиться с кем-нибудь.
С кем угодно.
Но он ушел в спальню, достал из ящика ночного столика таблетницу.
Пароксетин и снотворное.
А потом открыл упаковку тестогеля[21].
Они стали бы хуже женщин
Четыре года назад
Войдя, Мерси увидела младшую сестру Блессинг и их папу. Они собирались часа на два уехать в Вудил за покупками.
Парикмахерский салон помещался в прачечной, которая выходила окнами на задний двор, но мама Блессинг устроила все так, что он стал как парикмахерские в Вудиле. На стене, над старинным парикмахерским креслом висело большое зеркало в викторианском стиле. Блессинг подметала пол, а ее мама как раз мыла раковину.
Блессинг обычно помогала принимать клиенток, мыла им волосы, делала укладку, подстригала кончики и относилась ко всему этому чрезвычайно серьезно. Трудно было удержаться от смеха, когда она сделала книксен и преувеличенно-формально пригласила Мерси войти.
Всего несколько лет назад они еще играли в разные профессии. А теперь они взрослеют. Мерси вдруг почувствовала себя по-детски. Блессинг уже учится быть парикмахершей, а она, Мерси, все еще ничего не умеет.
Единственное, что ей хорошо удается – это думать всякие странности.
Мерси уселась в старое кресло, и Блессинг покрутила винт, чтобы опустить спинку.
– Для начала вымоем волосы.
Мерси зажмурилась. Блессинг ополоснула ей волосы теплой водой, вмассировала шампунь медленными мягкими движениями. Стояла тишина, слышно было только, как жужжит вентилятор на потолке; когда лопасти перекрывали солнечный свет, под закрытыми веками мелькали тени. В полудреме Мерси услышала шум едущей по дороге машины. Машина остановилась, мотор заглох, и хлопнули дверцы.
Мерси открыла глаза. Над ней крутился вентилятор, в глазах мельтешило, свет сменялся тенью, и Мерси пришлось зажмуриться. Блессинг смыла шампунь и начала мазать волосы бальзамом, как вдруг в коридоре послышались шаги.
Что-то тяжело лязгнуло о кухонный пол.
Потом простучали тяжелые ботинки.
Блессинг открыла скрежетнувший кран, чтобы промыть волосы, и брызги попали Мерси на шею.
Мерси все еще лежала на спине с несмытым бальзамом, когда в салон вошли трое мужчин.
Камуфляж, ножи, дубинки; у одного с плеча свисал автомат. Все трое широко улыбались.
– Я не стригу мужчин. Пожалуйста, уходите. Уходите сейчас же. – Мама Блессинг крепко сжала ножницы, она держала их, как нож.
У мужчины с автоматом на лбу была рана. Блеснула капля крови, и Мерси поняла, что он прижимался лбом к камню, когда молился, потому что хотел оказаться поближе ко Всевышнему. Он из “Боко харам” и пришел в дом христиан с оружием.
Мерси казалось, что под кожу ей заползли мелкие насекомые. Мурашки.
– Валите отсюда, – прошипела она и шагнула к незваным гостям. – Если вы нас хоть пальцем тронете, я вас убью.
Несколько секунд мужчины молча переглядывались. Потом один из них направил свое внимание на Мерси, подошел к ней, дернул за руку. Она не доставала ему даже до груди и оказалась так близко, что чувствовала запах его пота. Мужчина приставил палец к ее носу и надавил. Так сильно, что Мерси, пошатнувшись, сделала шаг назад и потеряла равновесие.
Было не больно, потому что теперь вообще все было не больно. На мужчину с автоматом бросилась не Мерси, на него бросились ее ненависть и страх, слившиеся в единое существо.
Прими свою злость. Овладей ею. Преврати страх в ненависть.
Ноги обвились вокруг пояса незваного гостя, а зубы впились в плоть. Вкус у него оказался такой же, как запах – едкий от пота и металла; мужчина заорал ей прямо в ухо, но крик резко оборвался.
Мерси не чувствовала боли ни когда он вырывал ей мокрые волосы клочьями, ни когда бил кулаком в лицо и живот, ни когда пинал в грудь, ни когда обрушил на нее удары тяжелой дубинки.
Новые шаги – чмокающий звук: подошвы прилипают к маслянистой жидкости, потом железный скрежет – Мерси что-то надели на голову.
От первого удара по цинковому ведру у нее лопнули барабанные перепонки.
Удар за ударом, снова и снова, пока она не провалилась в темноту.
Когда свет снова ударил в глаза, Мерси лежала на животе, лицом в пол.
Она попыталась вдохнуть, но в горле забулькало. Промежность словно одеревенела, а животу было горячо.
Кто-то подхватил Мерси под руки и поднял. Когда ее посадили на стул, она обнаружила, что она голая и что длинная резаная рана тянется у нее через весь живот, от груди до паха.
Поодаль неподвижно лежало тело Блессинг. Платье задрано на голову, лужа крови растеклась от бедер до лопаток. Мама Блессинг сидела, привалившись к стене возле разбитого зеркала. Голова свесилась, и всю ее покрывали белесые пятна без волос. На месте груди зияли две большие вывороченные раны, а на полу вокруг женщины лежали вороха черных волос, покрытые блестящей бензиновой пленкой.
Резкий запах пороха смешивался с парами бензина. Папа Блессинг смотрел прямо на Мерси, и во лбу у него была дыра от пули. Его руки обнимали маленькое худенькое тело, и Мерси не сразу осознала, что это, наверное, младшая сестра Блессинг.
А потом Мерси со всех сторон окружило море огня.
Когда Мерси снова пришла в себя, первым, что она увидела, было озабоченное лицо отца. Потом – слезы матери и растерянность трехлетних близнецов. Мерси лежала дома, в своей постели; врач зашил рану на животе и обработал ожоги. Он сказал, что Мерси поправится, хотя пара некрасивых шрамов и останется. Голос врача звучал приглушенно и как будто издалека, а когда Мерси заговорила сама, голос эхом загудел у нее в голове. К тому же ей постоянно слышался как будто скрип резиновых шин по асфальту, этот звук отдавался в голове, и если бы врач не дал ей сильное обезболивающее, она бы, наверное, сошла с ума.
Мерси не помнила, как ее изнасиловали, но понимала, что насилие произошло. Что она при этом чувствовала, она не знала.
Ее размышления прервал отец.
– Годфри все рассказал полицейским.
Отец говорил тихо, и Мерси, чтобы разобрать слова, пришлось читать по губам.
Мама держала в объятиях близнецов, которые испуганно смотрели друг на друга. Отец взял Мерси за руку и, поглаживая ее по лбу, продолжал говорить. Годфри раскололся на допросе в полицейском участке; по законам шариата его приговорили к ста ударам плетью и году тюремного заключения за содомию. Отца, женатого человека, ждало более суровое наказание. Мужеложство в сочетании с нарушением супружеской верности означала раджм – побиение камнями до смерти, предписание шариата, хотя в Коране такой вид наказания вообще не упоминался. Четверых необходимых свидетелей полиция наверняка бы нашла, потому что у отца имелись враги в университете.
– Нам придется уехать.
Потом отец стал рассказывать про одну страну на севере Европы. Насколько ему было известно, это очень хорошая страна, может, даже лучшая в мире. Там помогают людям, жизнь которых под угрозой, людям вроде них; к тому же у него ВИЧ, а в этой стране бесплатная медицинская помощь, если тебе повезет получить гражданство.
Sweden, прочитала Мерси по губам отца. Об этой стране она отлично знала. Столица ее называется Стокгольм, а находится она так далеко на севере, что добраться трудов стоит, и вся покрыта лесами. Именно там делают бо́льшую часть всех спичек в мире. Мерси припомнила коробок, который нашла на склоне холма под домом Блессинг. Three stars – Made in Sweden.
Бабочку похоронила Блессинг. Похоронила в спичечном коробке, и очень может быть, что такими же спичками подожгли ее дом. Спичками, сделанными в стране, куда, может быть, вот-вот отправится сама Мерси.
Блессинг умерла, и ее сестра умерла, и ее мама и папа умерли.
Наверное, ничего другого Мерси и ее семье не остается. Ничего другого.
Ни выбора, ни возможностей.
От слез защипало глаза. Отец вытер Мерси слезы и грустно посмотрел на нее.
– Все устроится.
Отец сказал: врач обещал проследить, чтобы их дом продали. Им вообще придется продать все, что у них есть, а когда все продадут, деньги переведут на счет их семьи.
Через несколько часов, ночью, они были уже в дороге. Среднюю часть заднего сиденья опустили, и Мерси лежала на спине; голова ее покоилась на подушке, пристроенной на коробке передач, а ноги она вытянула в багажник за сиденьем. В боковых окнах отражались огни деревень, и Мерси казалось, что везде она видит пожары.
Она представляла себе, что шум у нее в голове – это молчаливые молитвы охваченных страхом детей-христиан, и только она может их услышать – детей, которые лежат сейчас где-то там, в темноте, испуганные и одинокие.
“Боко харам” угрожает ее семье за то, что она и ее родители недостаточно ревностные мусульмане, за то, что у них друзья-христиане, за то, что они привержены западным ценностям. Полиция, дело которой – защищать людей от экстремистов, ненавидит папу за то, что он такой, какой есть. Весь штат Кано и все прилегающие части страны ненавидят папу, потому что в их законах написано, что он заслуживает смерти.
Мерси казалось, что их ненавидят вообще все.
Перед отъездом врач еще раз заглянул к ней. Он вынул какое-то маленькое украшение из темной кожи, на ремешке, расстегнул застежку и развернул украшение. Оно раскрылось, как книжечка с кожаной обложкой; внутри была красная ткань. Украшение казалось очень старым; с одной стороны было приклеено зеркальце, а на другой шло вышитое на ткани слово: астагфируллах. Исламская молитва, означающая, что ты просишь прощения у Всевышнего.
– Вы отправляетесь в долгий путь, – сказал врач. – Может быть, амулет вам как-нибудь поможет.
Мерси раскрыла амулет. В зеркальце отразился заплывший глаз. Она посмотрела на вышитое слово.
Астагфируллах. Прошу у Господа прощения грехов и каюсь перед Ним.
– Почему нужно все время просить прощения?
Говорить было ужасно больно, хотя с болеутоляющим жить стало чуть легче. Мама погладила Мерси по щеке. Отец сбросил скорость и повернул налево. Гравийка сменилась асфальтом, он прибавил газу, и Мерси показалось, что она куда-то падает.
– Когда ты кого-нибудь ненавидишь, рождается дитя, которому имя Прощение, – объяснил папа. – И ты либо убьешь это дитя, либо примешь его в объятия. Всё есть вечная борьба между ненавистью и прощением.
Мерси подумала.
– А ты простил Годфри за то, что он выдал тебя?
– Я не испытываю ненависти к Годфри, и поэтому мне не нужно прощать его. Если ты сумеешь не ненавидеть тех трех мужчин – не ненавидь. Это решение станет твоим самым важным решением в жизни. – Отец помолчал. – Без ненависти нет прощения. А те мужчины прощения не заслуживают.
Мерси запуталась в его доводах. Вроде бы только что все понимала, но теперь смысл сказанного ускользнул от нее.
Молитва в амулете означает, что я прошу Всевышнего о прощении, подумала она, но тогда предполагается, что Всевышний меня ненавидит. Во всяком случае, по-моему, Он меня ненавидит. У Мерси закружилась голова.
Теми, кто слишком много думает, легко манипулировать, и Мерси решила для себя, что отныне, с этой самой минуты, она лучше не будет думать. Не станет прислушиваться к умным советам, а станет только чувствовать. Ненавидит – значит, ненавидит. У мужчин, которые убили Блессинг и ее семью, были ножи, дубинки и автоматы, но свои отростки они тоже использовали как оружие, и если бы Мерси могла, она бы их отрубила. А потом выколола бы тем мужчинам глаза, отрезала уши и языки, и всю оставшуюся жизнь они блуждали бы во тьме, неспособные ни видеть, ни слышать, ни говорить. И они больше не были бы мужчинами. Они стали бы хуже женщин.
Они стали бы ничем.
Сотня миль до Лагоса, на юг, к побережью, десять часов темных сновидений, может быть – галлюцинаций.
Блессинг, которая хоронила бабочку в спичечном коробке, еще дышала, она лежала полуголая в луже собственной крови, и пахло бензином, вот как в машине, а потом запылал огонь, и Мерси увидела, как Блессинг поднимается, услышала в пламени ее крики.
Мерси снились сны, и эти сны были воспоминаниями.
Им по девять лет, они играют в мячик на дороге и из-за чего-то повздорили. Мерси запускает мячом Блессинг прямо в глаз. Бросает прицельно изо всей силы, не думая, и попадает.
Попадает в глаз, который, прежде чем закрыться навсегда, видит, как сосед несет Мерси через огонь, и когда соседу оставалось всего полметра до спасения, на него обрушивается потолочная балка.
Белок в глазу Блессинг оставался красным несколько дней.
Мерси поднялась на сиденье и потерла глаза.
Рядом спали братья, два почти одинаковых херувима, а за окном было полным-полно машин. Вдоль широкой улицы высились дома. Мерси увидела щит с указателем налево. “Остров Лагос, 1,2 км”. Папа повернул и сказал, что они почти приехали.
Тут их ждал человек, который устроит им паспорта, визу и билеты на самолет.
Скорее всего, в Турцию – проще всего получить турецкую визу. Потом они собирались пробираться в Германию, а оттуда будет несложно попасть в Швецию.
Вдруг под днищем машины что-то грохнуло, из вентилятора послышался хлопок.
Отец выругался и резко затормозил. Ехавшие за ними бешено засигналили, отец свернул и остановился у тротуара.
Из вентилятора полетели серо-бурые ошметки и перья, и братья тут же заревели.
– Ничего страшного, – сказал отец. – Просто птица. Бывает.
Между ногами зудело и чесалось, и Мерси поняла, что начинает исцеляться.
Поехали, а там видно будет
Е-4
Нова плакала.
В окошко над кроватью, подвальное окошко, лупил дождь. Рядом с Новой лежал маленький насильник. Мерси сжимала в руке голую женщину зеленого мрамора.
Мерси ударила его массивным основанием статуэтки, тупым концом, и наверняка убила. Тело лежало, выгнувшись под странным углом.
Нова, не будь как я, подумала Мерси. Не переходи границу. Мне назад уже не вернуться, но у тебя еще есть шанс. Ты не виновата. Он хотел тебя изнасиловать.
Мне хочется сказать тебе, что здесь наши пути разойдутся. Беги, а я останусь, я возьму все на себя. Но я молчу.
Я не хочу, чтобы ты меня покидала.
Мне будет так одиноко.
– Сматываемся, – сказала Мерси. Она услышала в большой комнате шаги второго парня.
Мерси повернулась и побежала. У бассейна она столкнулась с Адамом и бросилась на него. Он упал спиной вперед, Мерси уронила статуэтку на пол, она откатилась и упала в бассейн, следом за голым парнем, молотившим воду руками. Мерси увидела, что у него все еще стоит.
Они упали в воду. Лодка утонула, вода вокруг них вскипела.
Они пошли ко дну.
Это была всего лишь лодка с беженцами. Бывает.
Мерси поднялась и позвала Нову, но та уже неслась прочь. Обе бросились вверх по лестнице. На стуле в прихожей лежала куртка одного из парней, Мерси рванула ее к себе, открыла дверь и кинулась к воротам гаража. В кармане куртки звякнули ключи от машины; Мерси распахнула дверцу белой “вольво” и метнулась за руль.
Нова открыла дверцу пассажирского сиденья как раз когда Мерси запустила мотор. Она понятия не имела, как управлять машиной, но видела, как это делали в Брэкке тамошние укуренные парни. Ничего сложного.
– Ручник, – подсказала Нова. Мерси сняла машину с тормоза и передвинула рычаг передачи на “R”, потому что знала, что это означает “reverse”.
Потом “D” – “drive”; лишь вырулив от гаража, Мерси поняла, что они обе голые. На Мерси из всей одежды был только амулет, и, хотя она знала, что он висит у нее на шее, она все же потрогала его, обхватила пальцами, просто чтобы увериться, что он здесь.
– Вот… – Мерси протянула Нове куртку парня, подумала, что она, наверное, хочет прикрыться, но та начала рыться в карманах куртки.
– Ого. – Нова достала бумажник парня, потом его телефон и, наконец, лучшее, что там могло оказаться – пакетик с голубыми и красными таблетками.
– Он умер? – спросила она погодя, но прежде чем Мерси успела ответить, добавила: – Какая разница. Это же самооборона.
Когда Мерси ударила его по голове, звук был такой, будто что-то треснуло.
Мерси Беспощадная.
– Шесть кусков. – Нова улыбнулась ей и помахала пачкой купюр. – И карта… Только у нас кода нет.
Они свернули в какой-то проезд, перед ними возник указатель на Е-4 в сторону Стокгольма, и Мерси прибавила скорость.
– Я помню код, – сказала она. – Смотрела, когда он снимал деньги в Евле, и запомнила.
Мерси не смогла удержаться от смеха, когда Нова полезла на заднее сиденье, демонстрируя встречным машинам голый зад. Но тут Нова застонала, и смешливость Мерси как рукой сняло.
Эта сволочь сделала Нове больно. На пассажирском сиденье осталась кровь.
Нова упала на заднее сиденье, порылась в багажном отделении и нашла рабочий комбинезон, весь в пятнах красной краски.
Они ехали на юг и через пару минут оказались в каком-то месте, где над дорогой протянулся мост, рядом были автозаправки, рестораны и, может быть, банкомат. Пока Мерси заворачивала, Нова натянула комбинезон.
Все, кроме заправки, оказалось закрыто. Мерси подогнала машину к насосам, Нова вылезла и подошла к какому-то парню, который заправлял машину. Комбинезон был ей велик.
– Он говорит: банкомат есть в “Стёвельн Эберг”, – доложила Нова, вернувшись к Мерси. – Или нам придется вернуться в город.
– “Стёвельн Эберг”?
– Да, какой-то торговый центр.
– Да ну его. Поехали, а там видно будет.
Нова достала пакетик с голубыми и красными таблетками, они приняли по одной и поехали дальше.
– Все наше там осталось. Моя сумка с телефоном, и твой телефон тоже…
Нова кивнула. Обе понимали, что это значит.
– Нельзя оставлять у себя телефон парня, – сказала Мерси. – Выброси в окно.
– Прямо в окно?
– Да, а куда еще?
Нова иногда бывала совершенно безголовой.
– Люблю тебя, – сказала Мерси. – Вот добудем деньги – снимем квартиру через каких-нибудь жуликов и будем жиреть вместе!
– Сядем перед телевизором и будем жиреть на чипсах и мороженом.
– Ага.
Нова опустила окошко и выбросила телефон в темноту.
Они с Мерси как сестры, как близнецы. В параллельном мире они близнецы по-настоящему.
Под действием экстази время воспринималось странным образом. Летело и еле тянулось. Они снова свернули на Е-4 и как будто попали в Китай – у дороги стояла огромная пагода, окруженная каменной стеной, перед пагодой виднелись статуи буддистских святых. На придорожном щите значилось “Врата дракона”, и Мерси представила себе целую стаю драконов.
Нова легонько поцеловала ее в щеку. Мерси вела машину через лес, дорога становилась все у́же. Они остановились у красного домика с белыми углами.
Несмотря на ледяной холод и дождь, Мерси была вся в поту и не нуждалась в одежде. Но Нова уперлась, и они выбили стекло камнем, открыли окно изнутри и забрались в дом.
В доме пахло канализацией и сигаретным дымом. В платяном шкафу девочки нашли кое-какую одежду и примерили ее перед зеркалом в коричневом коридоре.
Еще в доме нашлась еда – кукурузные хлопья и хлебцы, а в морозильнике оказалась пачка мороженого в бело-красно-зеленую полоску, умопомрачительно вкусное. На стене кухни висел старый телефон, из тех, где надо крутить диск пальцем. Мерси принялась накручивать диск, щелкавший при каждом обороте.
Она набрала номер Эркана. На Нову произвело впечатление, что Мерси помнит все цифры. А вот Эркан, судя по его ответу, не особенно впечатлился.
Скорее взбесился. Уже пять часов утра, где их черт носит? Мерси сказала: они не знают, где они, и не знают, куда поедут, потому что полиция, наверное, уже их разыскивает.
Эркан немного успокоился и продиктовал адрес – одно место в Стокгольме, где они смогут отсидеться. Промышленная зона Вестберга. Мерси продиктовала адрес Нове, и та записала его в блокнот, лежавший возле телефона.
На том же листке кто-то – наверное, хозяин домика – нарисовал чернилами кота и цветок, и Мерси расплакалась, вспомнив кота по кличке Дасти. Они подобрали Дасти, похожего на комок пыли, в Мюнхене, и кот последовал с ними в Гамбург.
В Гамбург, где Мерси убила одного парня за то, что тот убил Дасти.
Она положила трубку, чтобы Эркан не услышал, как она плачет. Нова стала утешать ее, Мерси вдруг стало стыдно, они написали записку и положили ее на стол в кухне.
“Мы разбили окно, забрали вашу одежду и съели мороженое. Простите нас, пожалуйста!”
К записке они приложили пару купюр из кошелька Адама и убежали к машине.
Нова выбрала себе белое платье и черную стеганую куртку в красно-желтую полоску и с буквами BIF, Мерси – зеленое платье и розовый жакет. Девочкам казалось, что они похожи на бомжих.
Мерси не знала, как вернуться на шоссе, но в конце концов они выбрались куда надо.
Дорога была пустой, и дождь наконец-то перестал. Они миновали съезды на Тьерп, Монкарбу и Стурврету; когда показался щит с надписью “Упсала”, они снова съехали и стали искать банкомат. Девочки знали, что операции с картой можно отследить и полиция поймет, что они направляются на юг, к Стокгольму, но им было все равно. Деньги они сняли на железнодорожной станции.
Они успели выдоить из банкомата десять тысяч, а потом возникло сообщение, что дальнейшие операции невозможны.
– А Луве ведь в Упсале живет? – сказала Нова. – Может, заедем к нему?
Мерси одобрила эту мысль, и они через некоторое время отыскали нужный адрес.
Узнали машину Луве – она стояла у подъезда.
– А теперь что?
Нова порылась в отделении для перчаток.
– Попрощаемся с ним… Я просто хотела передать ему привет. – Она нашла ручку и бумажный платочек, что-то нацарапала и сунула записку под дворник машины Луве.
Улыбаясь, Нова снова села в машину, и Мерси спросила, что она написала.
– “Дарю тебе утро, дарю тебе день”.
– Почему именно так?
– Поехали. По дороге расскажу.
Как же все сложно
Два года назад
Нова сделала то, что должна была сделать. Она действовала в состоянии странной ясности, словно только она могла видеть в тумане, в сером ничто, в котором все остальные тыкались, как слепые котята.
Ночью Нова прокралась в гостиную, не разбудив мать, и забрала ноутбук Юсси к себе. Через несколько часов она вернула компьютер на место.
А потом легла спать, озлобленная на весь мир.
Проснулась она со зверской головной болью. Услышала, как открываются и закрываются двери, и вылезла из кровати. Чтобы преодолеть тошноту, Нова, как учила мама, представила себе кусочек льда. Юсси вышел из туалета. Рубашка в красную клетку, как у лесоруба, потертые джинсы. Нова приостановилась, чтобы рассмотреть его.
Она увидела его суть. Увидела, что одежда у него грязная, хотя на ней не было ни пятнышка. Учуяла, что от него воняет потом и половым органом, хотя он только что принял душ и пахло от него водой после бритья. Нова с гадливостью отвернулась, зашла в туалет и заперлась. В желудке творилось черт знает что.
Нова видела Юсси в последний раз.
Хлопнула входная дверь. Юсси свалил, собрался изменить свою жизнь. А она сидит здесь, в живот ей воткнулось сто ножей, и у нее дикий понос.
Через несколько минут постучала мама.
– Мне пора на работу… Я и так опоздала, вечером поговорим.
Когда входная дверь снова хлопнула, Нова, не сумев сдержать дурноту, поднялась с унитаза, и ее вырвало. Потом она скорчилась на полу душевой кабины, и вода лилась на нее. Нова старалась не думать о том, что сделала ночью.
Компьютер Юсси стоял в гостиной, доверху набитый нарушениями закона; полиция обнаружит в нем не только сто десять фотографий и два видео, представлявших его одиннадцатилетнюю падчерицу в самых откровенных сексуальных позах, полицейские найдут еще с сотню фотографий и пятнадцать видео. Ничего отвратительнее этих фоток и роликов Нова в жизни не видела.
Почему их оказалось так легко найти? Ее собственные упражнения по сравнению с этими фотками были сущей ерундой. Дети на снимках никак не выглядели возбужденными. Они плакали и кричали.
Что она наделала? О чем вообще думала?
Что она сегодня совершенно спокойно проснется, легко позавтракает, а потом позвонит в полицию, чтобы полицейские явились сюда за Юсси и арестовали его, когда он вернется домой?
Да, таков был ее извращенский план. Ее так называемое прояснение.
Но она не настолько хорошая актриса.
А он? Он, наверное, неплохой актер, но кто знает.
Нова заорала, вцепилась себе в волосы и изо всех сил дернула, словно хотела вырвать из головы мозг и растоптать его на полу душевой.
Она заплакала. Нова Хорни. Нова Стьюпид.
Нова ткнулась головой в колени. Плача тихими беспомощными слезами, она бездумно смотрела на вырванные пряди. Волосы шевелились на полу душевой, как водоросли, их тащило к сливу.
Когда пошла холодная вода, Нова немного успокоилась. Она встала и закрутила кран. Теперь надо исправить то, что поддается исправлению. Может, еще не поздно спасти положение. Нова наскоро вытерлась и причесалась, обмотала голову полотенцем и надела мамин халат.
Было всего десять утра, но в гостиной уже стояла духота, и Нова открыла балконную дверь. Последнее бесконечное лето. Чем старше становишься, тем быстрее идет время. Нова это уже заметила.
Она набрала воздуху в грудь и села за компьютер Юсси.
Для начала удалила историю скачиваний, дело шло медленно. Их IP-адрес, наверное, сейчас уже в каком-нибудь списке подозрительных запросов и скачиваний, и то, что она делает, бесполезно, потому что полиция все равно в один прекрасный день навестила бы Юсси.
За окном грохотала стройка. Фискис обновляют, наступают новые времена, все восстанавливают, вычищают. Звук механизмов, звук металла о камень.
Воздух за постоянно опущенными жалюзи был стоячим, все ощущалось, как в тумане. Нова порылась в папках. Она постаралась зашифровать скачанное и дала папкам как бы программистские названия. Сочетания букв и цифр: смотрите, в этих файлах нет ничего интересного. Но куда она всю эту хрень насохраняла? Она тогда была в стельку, и теперь ее снова затошнило. А еще щекотало в пятках, как всегда, когда Нова бывала напугана. Ноги словно давали ей понять: пора бежать, учесывать отсюда как можно скорее.
Наконец Нова вспомнила название сохраненной папки и щелкнула по ярлыку. Пошли ряды файлов, и на каждой фотке, на каждом видео система спрашивала, действительно ли Нова хочет удалить файл.
Под грохот стройки Нова механически нажимала “Да”. Она не заметила, как Налле прокрался в комнату и встал у нее за спиной.
Глухо скрипнул паркетный пол, и две руки схватили ее за плечи.
Налле заревел ей прямо в ухо.
Нова инстинктивно кинулась защищаться: скатилась со стула, но запуталась в полотенце и халате. Налле хохотал, стоя над ней.
Потом он посмотрел на компьютер Юсси.
– Ты чем тут занимаешься? У тебя же для игр есть свой компьютер?
Нова поднялась.
– Отстань…
Налле протиснулся мимо нее, сел и, прежде чем Нова успела что-нибудь предпринять, щелкнул по какому-то файлу.
На экране возникла фотография девочки, лежащей в постели с разведенными ногами.
– Ты чем тут занимаешься?!
Всё, приехали, подумала Нова. Удержать слезы не получилось.
Она сидела на полу и ревела, натянув полотенце на голову, а Налле в полном молчании рассматривал фотографии.
Наконец щелканье стихло.
Зазвучала “Master of Puppets”, любимая песня Юсси. И ее одиннадцатилетний голос. Она пыталась говорить уверенно, но голос был ломким, как осенний лист.
Я так люблю большие члены. Так люблю, когда меня трахают. Я хочу, чтобы ты меня трахнул. Чтобы ты трахнул меня в дырку. Прямо сейчас.
Звук резко оборвался. Стул проскрежетал по полу. Налле встал.
Легкое дуновение, оглушительный звон: это Налле запустил стулом в стеклянные дверцы шкафа.
И настала гробовая тишина.
Нова больше не слышала строительного шума. Только тяжкое дыхание брата; ей показалось, что прошло немало лет, прежде чем он осторожно взял ее за руку. Рука была потной и дрожала.
– Что Юсси с тобой сделал?
Вот и конец. Как все могло принять такой оборот?
– Я просто хотела их удалить, – сказала Нова. – Юсси совращал меня, или я…
Правда ли совращал? Она понятия не имела. Как же все сложно.
– Ты не виновата.
Да уж. Может, раньше она и была невиновата, но теперь – просто по уши. Виновата во всем.
Невозможно.
Невозможно оставаться. Невозможно жить дальше.
Нова захлебывалась соплями. Лапа Налле обхватила ее за плечи.
Нова сказала, что ей было одиннадцать, когда Юсси, назвавшись Петером, вынудил ее присылать ему “голые” фотографии и похабные видео. И когда Нова рассказала все до конца – о Юсси, обо всех извращениях, которым он ее подвергал, – ее брат тоже заплакал.
Заплакал тихо, но в его слезах дрожала ярость.
День второй и третий
Ноябрь 2012 года
Они верят в Бога
Бергсхамра
Отец Тары сидел на диване в гостиной. На журнальном столике – портрет дочери в рамке: девушка улыбается в желтом свете чайной свечки. На отце были те же пижамные штаны, что и в прошлый раз.
Когда полицейские были здесь в первый раз, на диване лежала подушка в красных цветочках а-ля семидесятые.
Сейчас подушка помещалась в пронумерованном пластиковом пакете.
На кухне прокурор допрашивал мать Тары. Сначала допрос вел полицейский, но как только судмедэксперт закончил вскрытие, к делу подключился прокурор.
Это обычная практика, если преступление объявляется тяжким, и у прокурора имелся десятилетний опыт как раз таких случаев. Но привыкнуть он так и не смог.
Прокурор говорил на том же языке, что и мать погибшей девочки, потому что от его родного города до города, который родителям Тары пришлось покинуть молодыми, было два часа на машине.
Они верят в Бога.
Он – нет.
Мать девочки сидела с прямой спиной, но лицо у нее опухло от слез.
– На вопрос полицейских вы ответили, что не знаете никого в шестиэтажном доме, с крыши которого спрыгнула Тара.
– Нет, я этого не говорила.
Прокурор полистал полицейский отчет.
– По нашим сведениям, говорили.
– Наверное, я перепутала дома, – сказала мать, не глядя на отчет.
Когда полиция рано утром обходила жильцов того самого шестиэтажного дома, в одной квартире им открыла женщина, за ноги которой цеплялись двое малышей. Она сказала, что в квартире над ней о чем-то громко спорили двое или трое мужчин. Хотя она не поняла, о чем шел спор.
– Здесь ясно сказано, что в этом доме живет один из дядей Тары. – Прокурор указал на протокол допроса. – Старший брат вашего мужа. Он проживает на пятом этаже, и у нас есть сведения, что из его квартиры вчера поздно вечером доносились возбужденные голоса.
– Я не знаю, кто там спорил и о чем.
– О том, что Тара навлекла позор на семью? – предположил прокурор.
– Я не знаю.
Они посидели молча, думая об одном и том же. У прокурора возникло чувство, что женщина беззвучно просит прощения. Но рука, протянутая к прокурору, была неосязаемой, и он не мог пожать ее.
Наконец прокурор нарушил молчание неизбежным вопросом:
– Почему вы с мужем не избавились от подушки? Экспертиза установила, что в глотке и дыхательных путях остались перья и волокна ткани.
Вот, спина согнулась, подумал прокурор, когда мама Тары тяжело ссутулилась.
– Моя дочь умерла.
Прокурор кивнул и, словно чтобы дать понять, что видит ее ложь, продолжил:
– Рассказывайте правду. Вы написали прощальную записку до того, как Тару задушили, или уже после?
Как двигаются “мужики за сорок”?
Квартал Крунуберг
Тара была первым трупом Ирсы Хельгадоттир. Коллеги обсуждали “девушек с балкона”.
В Швеции за год набирается около десяти случаев, когда люди прыгают или падают с балкона, или же их с балконов сталкивают. Чаще всего они погибают, но иногда их сбрасывают с балкона уже мертвыми.
А Тару сбросили с крыши.
Ее отец и двое его братьев решили, что если сбросить тело с террасы на крыше шестиэтажного дома, то меньше риск, что их раскроют.
Ирса отпила кофе. Шварц удостоверился, что она ничего не упустила, заполняя отчеты и рапорты.
– Прекрасно. Все изложено точно и по порядку. Я бы сам так написал.
Ложь, которую выдали полицейским родители Тары, оказалась не устойчивее карточного домика. Раскололся младший брат отца. Допрос записывали. Ирса надела наушники, нажала кнопку и стала слушать.
– Тара улизнула, я видел, как она выходит из подъезда. – Младший брат отца Тары откашлялся и продолжил: – Я пошел за ней. Ее встретил какой-то мужик, стоявший возле магазина, и они ушли за угол.
– Как он выглядел? Сколько лет?
– Не знаю. На нем была черная кожаная куртка. И какая-то шапка. Я его видел только со спины.
– Откуда вы знаете, что это был мужик?
– Он так двигался. Старше сорока точно.
– А как двигаются мужики старше сорока?
– Ну, не знаю. Это же видно.
– Хорошо. Значит, они зашли за угол. А потом?
– Сели в машину, которая стояла за домом.
– За каким домом?
– Ну, за магазином. Я же сказал.
– Хорошо. Вы помните, что это была за машина? Номер не заметили?
– Нет. Я смотрел сбоку. Новенькая машина, серебристая. Может, серая.
– Серая или серебристая новая машина?
– Да. Они уехали по направлению к Бьёрнстиген.
– И что вы сделали?
Ирса вспомнила, какой у него стал взгляд, когда она задала этот вопрос.
– Я позвонил братьям, потом поднялся в их квартиру, они оба уже там ждали.
В глазах этого человека были ужас и отчаяние. Читая протокол, такого не заметишь.
– Ваш старший брат и отец Тары?
– Да.
– Где находились мать Тары и Чинар?
– В моей квартире.
– А потом? Вас было трое. Что вы сделали?
– Мы ждали Тару, она пришла в начале двенадцатого, подождали у нее в комнате, когда она войдет. Она сначала зашла в ванную, потом вышла, мы ее схватили и сначала дали ей шанс.
– Шанс дали?
– Да, ну чтобы она сама это сделала. Спрыгнула. Тогда бы все было не так.
– Как “так”?
– Ну, что теперь все попадут в тюрьму. Из-за того, что она умерла.
Дрожащим голосом младший брат рассказал, как они повалили девочку на кровать и задушили подушкой.
Ирса закончила расшифровывать допрос. Она не стала указывать, что голос был еле слышным, звучал жалко и то и дело прерывался, но тот факт, что мужчина заплакал, она отметила в скобках.
Ей казалось, что писать в скобках, что кто-то плачет, не очень правильно.
Ирса отложила отчет и снова взялась за кофе.
Мужик, который водит серую или серебристую новенькую машину, подумала сержант Ирса Хельгадоттир. Будем надеяться, что его ДНК отыщется у нас в базе данных.
Отражения любви
Серая меланхолия
Свен-Улоф Понтен задвинул ящик, в котором обитали облегчавший муки его совести каннибал Армин Майвес и еще девятнадцать психов, в тысячу раз хуже, чем он, Свен-Улоф.
Он удостоверился, что звук в телефоне выключен, и сунул безопасный телефон во внутренний карман портфеля.
Телефон, который помогает ему утолить голод.
Человек, с которым он только что разговаривал, обещал ему жесткий секс. Две девушки и мужчина, ровесник самого Свена-Улофа.
Свен-Улоф запер ящик стола и вернулся к работе с документами. Просмотрев заметки, которые секретарша сделала во время сегодняшних встреч, и заверив несколько счетов, он отпер дверь и вышел из рабочего кабинета.
Алиса дома. Она, конечно, молчит и куксится, но она дома.
Приехав за ней в Скутшер, Свен-Улоф ожидал, что она станет бурно протестовать, но Алиса молча села в машину.
Теперь Алиса помогала Осе с ужином. Свен-Улоф вошел на кухню. Из духовки вкусно пахло.
Когда Алиса поставила перед ним тарелку, он взял дочь за руку. На шрам на запястье он старался не смотреть. Алиса замерла, а когда он попытался взглянуть ей в глаза, девушка отвернулась. Свен-Улоф помнил, что в ее жилах течет его жизнь.
Как же он тогда испугался, что эта жизнь оборвется.
– Ты же знаешь – я люблю тебя, – сказал он и выпустил ее руку.
Алиса продолжила накрывать на стол. Оса стояла у плиты, над кастрюлей с рисом, и делала вид, что ничего не замечает. Свен-Улоф стал припоминать главные моменты своей жизни. Они всегда совпадали с чем-нибудь не слишком приятным. В его ботинках всегда оказывались какие-то камешки.
Ему двадцать два года, он школьный ассистент. Один из учителей заболел, и Свена-Улофа назначили вести уроки по замене в шестом классе. Некоторые девочки там оказались физически развитыми не хуже его ровесниц. Но головы у них были устроены попроще, и в отличие от его приятельниц во взглядах шестиклассниц читалось только обожание. Для них Свен-Улоф был чем-то волнующим, призом, за который стоит соревноваться; к тому же они не заводили с места в карьер разговоров о будущем и детях.
И ему это понравилось.
Наконец-то он сделался значимым.
Но в ботинок попал камешек.
Проблема состояла не в том, что Свену-Улофу было двадцать два года, а девочкам – двенадцать лет.
Проблема состояла в том, что ему предстояло пронести вожделение к невинности этих девочек через всю свою жизнь.
Почуяв, что если он останется, то произойдет что-нибудь скверное, он уволился из школы.
– Прочитаешь молитву, Алиса? – спросил Свен-Улоф, когда Оса села за стол.
Он снова попытался встретиться взглядом с дочерью, но она уже опустила глаза и сцепила пальцы. Алиса стала читать молитву; голос звучал механически, но какое счастье просто слышать его. Свену-Улофу хотелось, чтобы она рассказала ему все, что у нее на душе.
Вот бы сесть где-нибудь подальше от всех, поговорить.
Она бы положила голову ему на плечо и поведала бы, о чем мечтает, и, может быть, он бы тоже поделился с ней своими мечтами. Рассказал бы, как трудно иногда быть мужчиной. Быть человеком. Рассказал бы о людях, запертых в ящике его стола, и она бы его поняла. Все-все поняла бы.
– Спасибо, Алиса, – сказал он, когда дочь договорила слова молитвы.
Когда Свену-Улофу было двадцать три года, он обручился с одной женщиной старше себя. Улле был тридцать один год, они обменялись кольцами в Венеции, пообещав друг другу, что через десять лет снова навестят это место, неважно, будут они к тому времени парой или нет. Но никакой повторной поездки не было. Было изнасилование в подвале, возле прачечной, когда Свен-Улоф ненадолго уехал. Психически больной сосед, допрос в полиции, незалеченная травма.
В те дни что-то умерло, и родилось нечто другое.
– Приятного аппетита.
Оса улыбнулась и повернулась к дочери.
– Как хорошо, что ты выздоровела.
Свен-Улоф Понтен думал об Улле, которая могла бы стать Уллой Понтен, если бы ее не изнасиловал сосед, впавший в бредовое расстройство.
Свен-Улоф надеялся, что сейчас с Уллой все в порядке. Она переехала на север, и, насколько он знал, жила сама по себе и могла позволить себе посылать людей к черту. Благой дар, который не каждому дается.
Да, ему хотелось, чтобы у его прежних подружек все было хорошо. По крайней мере у тех, что бывали добры к нему. Некоторые предавали его – у этих пускай бы было похуже. Но в конечном итоге ему хотелось, чтобы и к ним жизнь была добра.
– Вы правда думаете, что я выздоровела? – спросила вдруг Алиса.
– Ты же дома, – ответила Оса.
– С тобой все в порядке. – Свен-Улоф отложил нож и вилку.
Неужели они не могут просто помолчать?
Он пытается думать, пытается во всем разобраться, но им непременно надо молоть языками.
Свен-Улоф закрыл глаза, собрался.
Иногда злость вонзалась в него, как осиное жало. Или как когда ушибешь палец ноги о порог или ударишься головой об угол шкафчика. Он сжал кулаки, стараясь дышать глубоко.
– Почему я должна тебя слушать? – В голосе Алисы было то равнодушие, которое он так тяжело переносил.
Успокойся.
Он вспомнил дочь грудным младенцем.
Маленький сверток лежал у него в руках, и у этого сверточка был только он, Свен-Улоф. Она улыбалась, когда он улыбался ей. Она смеялась, когда он щекотал ей животик. Отражения любви.
Помогло.
– Я понимаю, через что ты прошла, – заговорил Свен-Улоф. – Ты думаешь о самоубийстве – я тоже думал, в твоем возрасте. Некоторые люди рано начинают задумываться о том, как устроена жизнь. Ты очень умна. Когда мне было шесть лет, я плакал при мысли, что мне будет семь лет и я стану старым. В семь лет жизнь заканчивалась, потому что начинается школа, играм конец. В пятнадцать лет я нюхал клей, я отверг Бога, а когда понял, что ошибся, было уже почти поздно. Но исцелиться никогда не поздно, Алиса. Никогда.
Он посмотрел на дочь.
Верь мне.
Но Свен-Улоф видел, что дочь ему не верит.
– Не слушай Луве и его терапевтов. С тобой все в порядке. Ты здорова. Точка. Просто поверь, что ты здорова. Вера – последнее, что тебя оставит, ты должна принять ее в свое сердце.
– Да, Алиса, надо верить, – поддакнула Оса. – Слушай, что папа говорит.
Молчи, Оса, подумал он.
Не порть разговор.
– Ты что, считаешь нас дураками? – спросил он, стараясь сдержать волнение. Потерять самообладание – признак слабости. Ударился пальцем о порог – стисни зубы и страдай молча.
– Да, и в первую очередь тебя, – сказала дочь и в первый раз с тех пор, как он привез ее домой, взглянула ему в глаза. – Папа, ты больной человек.
Ее взгляд был как нож.
Острее и больнее того, что она сказала.
Потому что она сказала правду.
Крупный мужик, похожий на Рольфа Лассгорда
Остров Дьявола
В середине XIX века на острове Стура Эссинген отбывали наказание приговоренные к принудительным работам. Заключенных – их называли “подлежащие исправлению” – возили туда из Лонгхольменской тюрьмы, на острове они дробили брусчатку, которой потом мостили улицы Стокгольма. Ездить на остров посмотреть на “подлежащих исправлению”, на их кирки и потные торсы сделалось народным развлечением, а Стура Эссинген прозвали островом Дьявола. Сейчас его зовут Стуран, но иные старожилы острова по-прежнему называют его Дьяволов. К их числу принадлежал и отец Кевина.
“If I could find a way to get off this island, would you like to come with me[22]?” – подумал Кевин, запирая дверь садового домика.
Цитата была из “Мотылька” со Стивом Маккуином в главной роли, Дастин Хоффман играл его сокамерника Луи Дегу, а когда Кевин удостоверился, что йойо в кармане куртки, ему вспомнилось, что один из видов йойо называется диаболо.
Время еще только подходило к семи утра, и на улице стояла темень. Кевин намеревался добраться до управления не через Вестербрун, а по разводному мосту в Лильехольмене. Небольшой крюк, чтобы заехать в родительский дом на Стура Эссинген – и он прибудет в управление задолго до начала рабочего дня.
Прошла еще одна бессонная, по сути, ночь, и когда зазвонил будильник, Кевин решил в последний раз навестить родительский дом. По словам риелтора, торги остановились на сумме, на восемьсот тысяч превышающей начальную цену, в течение нескольких дней бумаги будут подписаны, и дело закончится. Наверное, сегодня Кевин в последний раз увидит место, где он рос. А потом новые владельцы затеют ремонт и уничтожат все следы прежней жизни.
Кевин завел “веспу”, красный мотороллер, унаследованный вместе с садовым домиком.
Папина “веспа”, папино йойо, подумал Кевин.
И папин мальчик.
Когда он съезжал вниз по Танто, ему пришло в голову, что у родителей, наверное, была причина баловать его.
Может, папа знал о том ужасном случае, на Гринде? И мама знала?
Вера все поняла сразу, при первой же встрече там, в “Пеликане”.
У родителей было для этого восемнадцать лет.
Может, они хотя бы о чем-то догадывались, потому и обращались с ним по-другому? Йойо ему подарили в то же лето, когда он пережил насилие. К тому же папа рассказывал про Пугало – педофила Густава Фогельберга, от которого сам получил йойо. Слишком много совпадений.
Кевин ехал по велодорожке вдоль воды, мимо пляжа в Тантолунден и усыпанных листьями площадок для мини-гольфа. Запах земли напоминал о весне, но утро было холодным, а берег у воды покрывали остатки чахлой травы. Поворачивая на Лильехольмсбрун, он вспомнил про человека, который вывалился из самолета и которого переехал фургон доставки, но сейчас уже ничто не напоминало о теле, рухнувшем на мост несколько дней назад.
Проезжая потом мимо озера Трекантен, Кевин выругался: он забыл дома перчатки и к съезду на Грёндальсбрун уже перестал чувствовать руки.
Хоть дождя нет, подумал он по дороге к Алудден. Поблизости виднелись свидетельства того, что некогда на острове размещалась исправительная колония. Когда Кевин был маленьким, отец показывал ему ямы, где заключенные готовили себе еду, они назывались кухонные ямы, или кашеварни, с техникой прямиком из каменного века. Все вокруг казалось старым.
На дороге, ведущей к родительскому дому, не было никакого “сейчас”. Осталось только “тогда”.
Стена, окружавшая сад, поросла мхом, серая штукатурка на каменном фасаде пошла внушительными трещинами, под яблоней, росшей у дровяного сарая, валялись опавшие и никому не нужные яблоки.
Кевин остановил “веспу” возле дома, повесил шлем на руль и помассировал закоченевшие пальцы. Железная калитка с громким скрежетом отворилась; Кевин завел “веспу” на подъездную дорожку и прислонил к перилам крыльца.
Как же быстро все произошло, подумал он. Фирма-перевозчик вывезла вещи из дома больше месяца назад, и они уже обретались в каком-то магазине в Грёндале.
Кевин отпер дверь, дважды повернув ключ в замке. Какой знакомый звук. В прихожей пахло яблоками.
“Запах яблок – это ясная прохладная осень, – говорил отец. – Когда солнце слегка греет кожу, а не прожаривает до костей. Вот тогда стоит самый яблочный запах”.
Яблоки никто не собирал уже несколько лет, и давно уже в прихожей не стояло ведро с яблоками, к тому же фирма, производившая предпродажную уборку, постаралась на совесть. Может быть, пахло на самом деле каким-нибудь моющим средством с яблочной отдушкой.
Кевин включил свет и осмотрелся. На деревянном полу тенью виднелись контуры коврового покрытия. На стенах, наоборот, места, где висели картины или помещалась мебель, выдавали светлые четырехугольники. Кевин стал припоминать, что же здесь было. У стены справа от него стоял когда-то белый комод, над которым висело круглое зеркало. На той же правой стене висели четыре картины: репродукция Петера Даля, пейзаж, исполненный каким-то маминым родственником, и две репродукции Бруно Лильефорса – лисы и зайцы на снегу.
В прихожей, к величайшей досаде Кевина, осталась неувезенная коробка. Наверное, фирма, занимавшаяся перевозкой, забыла про нее. Позвонить им, пожаловаться на небрежное обслуживание? Но на то, чтобы жаловаться, у Кевина не было сил.
Он прошел на кухню и сел на пол, туда, где когда-то помещался кухонный диванчик.
Принимая гостей, отец обычно стоял у мойки с банкой пива в руке и рассказывал старые полицейские истории. Анекдоты о темной стороне жизни, а также смешные эпизоды, участником которых со временем стал и сам Кевин. Такой была, например, история о том, как Кевин решил стать полицейским. Редко когда отцу удавалось солгать симпатичнее.
Мы с Кевином смотрели телевизор, – рассказывал он, – выпуск “Спортспегельн” про классические голы разных чемпионатов. Показывали отрывок чемпионата Европы 1976 года, финал, ФРГ против Чехословакии, пятый и решающий штрафной. Чех Антонин Паненка хорошенько разбежался, как для сильного удара по мячу. И… Этот хладнокровный гад подлетает к мячу на всех парах, но не лупит по нему, а мягко бьет под него. Мяч летит по низкой дуге. Паненка обманул не только вратаря немцев, Зеппа Майера, но и всех мелких мира, в том числе и Кевина.
Сам Кевин отчетливо помнил те летние каникулы, когда они с отцом ездили в Грёндаль отрабатывать “штрафной Паненки”. Они тогда все лето тренировались почти ежедневно, и Кевин засекал по часам, сколько длится поездка домой.
Расписаний было два. Одно для короткой дороги, через Грёндальсбрун, другое – для длинного кружного пути, через Кунгсхольмен и Лилла Эссинген. Кевин следил, чтобы отец придерживался установленной скорости, и если отец скорость превышал, то следовало добавить времени. Отец получал от этой игры не меньшее, а то и большее удовольствие, чем Кевин, и Кевин гордился, потому что игру придумал он. В тот вечер они ехали короткой дорогой и оказались на месте преступления в центре Грёндаля. Легковой автомобиль врезался в дерево. Между полицейских машин виднелись носилки, а на них – две ноги в кроссовках. Кроссовки были в крови.
Погибшим оказался известный уголовник, который, будучи под кайфом, открыл стрельбу по полицейским. Кевин просто зациклился на этом случае: делал вырезки из газет, записывал новостные выпуски на видео. Излагая историю гостям, отец подчеркивал, что событие подсказало Кевину выбор профессии. Такова была официальная версия, и Кевин обычно согласно кивал, подтверждая слова отца. Анекдот кончался Паненкой. Отец никогда не рассказывал продолжения.
Домой они ехали уже в сумерках, отец слишком гнал машину. Кевин без умолку болтал о погибшем парне, и когда они въехали на Стура Эссинген, отец на мгновение отвлекся.
Под днищем что-то грохнуло, отец затормозил и вышел из машины.
На асфальте неподвижно лежал серый котик.
Отец обычно говорил, что у него аллергия на кошек. На самом деле он их боялся, хотя не хотел в этом признаваться. Отец огляделся, поднял кота за шкирку, отошел к рощице и выкинул кота куда-то за деревья.
“Не говори маме. Хватит с нее новости о пальбе в Грёндале”, – предупредил он, снова сев в машину.
Когда они уезжали оттуда, Кевин плакал.
Кевин зашел в гостиную. Пустота здесь подавляла, но в то же время комната казалась тесной. У двери когда-то стоял телевизор. Именно по этому телевизору Кевин увидел, как Паненка бьет штрафной. Неуклюжий старый телевизор. А теперь он в каком-нибудь грёндальском магазине.
Кевин открыл окно в гостиной, чтобы немного проветрить. Участок за окном шел под уклон, к кустам сирени. Весной и летом кусты загораживали вид на залив, но сейчас в темноте между голыми ветками мерцала вода. Если Кевин правильно помнил, хозяева кота жили через улицу.
В тот же день, вечером, Кевин тайком ушел из дома, прихватив мешок для мусора. Он вообразил, что случившееся – его вина, он виноват, что отец сбил кота. Разболтался про парня, которого застрелили, и отец смотрел на него, а не на дорогу.
Сунув кота в мешок, Кевин зашел в телефонную будку на Эссингеторгет и набрал номер, записанный на кошачьем ошейнике. Снявший трубку мужчина попросил Кевина никуда не уходить.
Крупный мужик, похожий на Рольфа Лассгорда; кот в его руках казался таким маленьким. Мужчина подбросил Кевина до дома. В машине стояло детское кресло, рядом лежала кукла.
Кевин понял, что сейчас какая-то девочка сидит и ждет, когда вернется папа. И очень скоро девочка будет горевать.
Потом Кевин рассказал, как все было.
Какой же после этого начался кошмар. Хозяин кота орал на папу, а Кевин убежал к себе и заперся. Потом на отца напустилась мама. Они стояли как раз здесь, посреди гостиной, и их голоса пробивались через пол в комнате Кевина.
Сейчас вранье давалось Кевину с таким же трудом, что и в детстве. Чего он точно не унаследовал от отца, так это умения плести небылицы и приукрашивать правду. Отец был мастер подмешивать в свои истории немного лжи. И умалчивать о том, чего не хотел рассказывать. А это тоже вроде лжи.
Кевин закрыл окно и решил, прежде чем отправиться в управление, заглянуть на верхний этаж. Наверху три комнаты: его спальня, спальня родителей и еще одна, в которой раньше жил брат, потом она стала гостевой.
Наверху было так же пусто, как и внизу: вещей не осталось. Собственная комната ничего не сказала Кевину, хотя он прожил в ней восемнадцать лет. Стены были все в дырах от кнопок, но сами киноафиши переехали в Танто, вместе с небольшим собранием синглов, а больше никаких воспоминаний комната не содержала. Воспоминания, которые что-то значили, покоились на виртуальном кладбище: сколько-то компьютерных игр, письмо к однокласснице с признанием в любви и мучительная попытка написать фантастический роман.
Когда он спускался по лестнице, зазвонил телефон. Звонила Вера; она поблагодарила за приятный вечер и спросила, нет ли у него желания съездить в Фарсту, навестить мать в пансионате для престарелых.
– Может быть, завтра, – сказал Кевин, выходя в прихожую. – И тогда я смогу заглянуть к Себастьяну, как мы вчера договаривались.
– Вот и хорошо.
Кевин нажал “отбой” и открыл забытую коробку, посмотреть, нет ли там чего-нибудь стоящего. Некрасивая лампа (Кевин не смог вспомнить, где она стояла), несколько книжек и сумка с ноутбуком.
С папиным старым ноутбуком.
Вдруг что-то важное
Е-4
Дарю тебе утро, дарю тебе день.
Бумажка, прижатая “дворником” к ветровому стеклу, лежала теперь на пассажирском сиденье. Луве гадал, что она означает и кто ее туда пристроил.
Бумажка намокла, и чернила расплылись, но слова читались отчетливо.
Судя по почерку, писала женщина.
Мужчины выписывают слова не так округло и плавно, подумал он и немного отпустил педаль газа. Над елками виднелись зубцы на китайском храме “Врат дракона”. Здесь съезд.
Луве порылся в памяти, пытаясь сообразить, у какой женщины могла бы быть хоть какая-то причина оставить любовную записку на его машине, но ни одной не вспомнил. Его последнее свидание кончилось катастрофой. Она оказалась явной алкоголичкой и заснула посреди беседы, предварительно вытянув в одиночку полторы бутылки вина за ужином (скорее всего, столько же было выпито еще дома). Потом она несколько недель засыпала его эсэмэсками и письмами по электронной почте, но в итоге сдалась. Поклонницы? Такую гипотезу следовало отвергнуть. Луве решил, что кто-то, наверное, ошибся или пошутил.
Когда зазвонил телефон, Луве сначала не хотел отвечать. Но было только семь утра, и он подумал: вдруг это что-то важное.
Звонивший представился руководителем одного из отделов угрозыска стокгольмской полиции.
– Я собираюсь сегодня отправить к вам полицейского. Насколько я понимаю, в вашем интернате живет девушка из Нигерии, шестнадцати лет. Верно?
Он назвал Мерси, и Луве подтвердил, что Мерси живет у них. Когда полицейский задал тот же вопрос касательно Новы, Луве встревожился.
– Мы хотим убедиться, что они – те, кто нам нужен, – продолжал полицейский. – Почему – наш коллега объяснит, когда приедет. Дело конфиденциальное, не телефонный разговор.
Луве миновал Марму, и слева показалась Дальэльвен – широкая, похожая больше на озеро, чем на реку.
– И я ничего не должен узнать до того, как приедет ваш человек?
– Пока могу только сказать, что дело весьма деликатное. Если это, как мы надеемся, те самые девочки, они смогут помочь нам в одном расследовании. Но тогда насчет одной из них у меня плохие новости.
– Насчет одной из них? Какой именно?
Полицейский вздохнул.
Водка – это хорошо
Промышленная зона Вестберги
– Я свалила оттуда, и все…
Она закрыла лицо руками, и Мерси обняла ее.
– Тебя трясет.
Нова вцепилась в матрас, словно желая разорвать его. Она тихо, как будто в глубине души, плакала, и Мерси поняла, что раны ее подруги не затянутся никогда.
– А потом?
Нова коротко вздохнула и посмотрела в единственное чердачное окно. Они обретались на каком-то складе в Вестберге, пятнистом от старой краски; дохлый паук качался в своей же собственной паутине.
– Прихватила деньги, которые собрала за время проститутства, тысяч двадцать пять, убежала в центр и там села на поезд до города. Потом пила с какими-то алкашами в Витане. И примерно тогда же Налле занялся Юсси. Потом я с неделю ночевала по гостиницам, пока меня не выследил какой-то легавый.
– Как это – занялся Юсси?
У Новы заблестели глаза.
– Они его убили. Или… Наверное, убивал Налле, а мама смотрела. Как все было, знают только они.
Мерси погладила подругу по руке, ткнулась лбом ей в плечо.
– И что было после того, как ты сбежала? Знаешь?
– Ну так, примерно…
Нова стерла слезу со щеки и поерзала. Кайф выветривался, нужно было принять еще; она потянулась за пакетиком с экстази и проглотила голубую таблетку.
Мерси не хотелось таблеток. Она сейчас пила. Приятель Эркана, владелец склада, женоподобный парень по прозвищу Цветочек, снабдил их двумя бутылками вина и литром водки. Половину водки и бутылку вина она уже выпила, но в голове только сделалось еще яснее.
– Работа в Тумбе была бы для Юсси первой нормальной работой лет за семь, но он бы ее не получил, даже если бы не умер.
– Мне трудно уловить мысль, когда столько “бы” и “не” сразу.
– Его проверили в полиции безопасности и за полдня поняли – таких, как он, к денежному станку подпускать нельзя. Слишком много знакомых уголовников, и без разницы, что по его делу срок давности прошел. Не в первый раз его не брали на работу из-за всего того дерьма, что у него в прошлом. До того как стать безработным, он служил в каком-то пункте проката, зарабатывал гроши, но сводил концы с концами. Его временно приняли на почту и хотели взять на работу, но не взяли, потому что у него обнаружилось условно-досрочное за кражу лет двадцать назад, так что вместо работы получше он нанялся куда-то в Сумпан[23], делать противогазы. Поработал там месяц, но зарплаты не получил, потому что агентство разорилось… Если бы он попытался чего-нибудь добиться, все равно хрень бы получилась, для него всегда все хренью кончалось.
Мерси подумала, что у Новы, может быть, просто нет сил рассказать о самом убийстве, поэтому она цепляется за многочисленные подробности.
– Закрой глаза и представь себе, что я – Луве, – сказала она.
– Зачем?
– Затем, что вчера ты думала, что с Луве тебе легче. Во всяком случае, ты так сказала.
Мерси почти ревновала к Луве. Может быть, сама она открылась перед ним в отместку за то, что перед ним открылась Нова.
– Я случайно рассказала Луве про кролика, – призналась Нова. – Сказала, что сломала ему шею и мы похоронили его в лесу. Извини…
Лицо у Мерси окаменело. Они же обещали друг другу никому не говорить о том случае. Помолчав, Мерси сказала:
– Никогда больше так не делай. Прекрати болтать о том, что должно остаться между нами. Теперь давай рассказывай что-нибудь такое, чего ты никому не рассказывала.
– Например?
– Например, про убийство Юсси. – По глазам Новы Мерси видела, что таблетка уже начала действовать. К ним можно привыкнуть, если принимать одну за другой. – Луве говорит, что рассказывать о чем-то болезненном полезно. А я тогда тоже расскажу тебе о том, что причиняет мне боль, честное слово.
Мерси потянулась за водкой и отпила из бутылки. Водка – это хорошо, потому что, когда принимаешь наркотики, водка как бы заземляет. В спиртном нет ничего необычного, становишься спокойнее, голоса стихают.
– Налле основательно обдолбался, – начала Нова. – Когда Юсси пришел домой, Налле ударил его бейсбольной битой и бил, пока Юсси не отключился. Потом они утащили его на чердак, где бы им никто не помешал. Там они и забили его насмерть.
Взгляд у Новы стал жестким, и Мерси протянула ей водку. Нова отпила, завинтила крышечку, но бутылку не отдала.
– Полицейским Налле сказал, что мама ни при чем, что он все сделал один, но ее все равно судили за соучастие. Сейчас дело в апелляционном суде, прокурор хочет, чтобы ее судили не за соучастие, а за убийство.
Внезапно Мерси поняла, кто такая Нова.
В газетах много писали о том деле; Мерси тогда жила в Емтланде. Писали, что падчерица жертвы выступала свидетельницей, и Мерси помнила рисунок: светловолосая девочка с опущенной головой.
Значит, это была Нова.
Мерси ощутила, как в ней пробуждается то черное, как оно начинает шевелиться. В груди и в животе. Мерси загнала черноту назад, убедила себя, что уж это точно последняя тайна между ними, больше не осталось, вот проговорят они эту тайну – и смогут наконец стать одним человеком. Надо разделить на двоих всю тьму до капли. Сама Мерси уже рассказала про парня из Гамбурга, но не слишком распространялась о том, что произошло, когда они покинули Турцию и оказались в Германии.
Она обязательно все расскажет. Но сначала пусть расскажет Нова.
Нова снова отвинтила крышечку, отпила и на этот раз протянула бутылку Мерси. Мерси сделала основательный глоток, чтобы задавить остатки черноты.
– Сначала Налле молотком раздробил ему руки и ноги, – сказала Нова. – Потом облил его чем-то для чистки канализации, что-то с содой…
– Каустической содой?
Нова кивнула, и Мерси увидела, что она вот-вот снова расплачется. Они смотрели друг другу в глаза, но взгляд Новы как будто был направлен сквозь Мерси.
Они близнецы, у них одна ДНК на двоих, они не два человека, а один.
Мерси вдруг услышала голос у себя в голове – тоненький, прерывистый, хотя он кричал что было сил. Кричал откуда-то из бездонной ямы внутри нее.
Нова легла на матрас и взяла Мерси за руку.
Мерси свернулась рядом с ней, погладила по голове и зашевелила губами, заговорила на их беззвучном языке. Нова ответила ей – несколько слов, короткие фразы.
Утешала Мерси, а Нова хотела, чтобы ее утешили, и не произнеся вслух ни слова, обе решили, что им надо поспать.
Мерси натянула на них обеих одеяло, подсунула подушку Нове под голову.
Уснули они одновременно.
Guilty by association[24]
Остров Дьявола
Когда Кевин покинул дом, уже начало светать. По правую сторону показался спортклуб “Эссинге”. Кевин сбросил скорость, заглушил мотор, и последние метры до ограды “веспа” катилась по инерции.
Кевин оглядел территорию клуба. Ему не довелось играть в зелено-белом, как Антонину Паненке в пражской “Богемии”, он оказался недостаточно хорош для “Байена”[25], так что ему пришлось довольствоваться ролью полузащитника в желто-черной команде клуба “Эссинге”. И все же во время серийного матча осенью того года, когда ему исполнилось десять лет, ему выпал шанс пробить “паненку”. Он запустил мяч в воздух – и, как на том белградском стадионе, время остановилось.
Мяч полетел почти как в телевизоре, и Кевин испытал не торжество, а потрясение, хотя товарищи по команде пришли в восторг. А вот тренер отвел его в сторонку и велел никогда больше так не делать. Если такой пенальти не удастся, Кевин навредит команде, а если, против ожидания, гол удался бы снова, он стал бы унижением для вратаря противника.
Кевин улыбнулся. Антонин Паненка – плохой образец для подражания, если хочешь стать полицейским.
Но что-то в отцовской побасенке все же было. Наверное, благодаря Паненке Кевин стал смелее. И уж как минимум штрафной чеха продемонстрировал, как важно иметь в запасе какой-нибудь козырь. Опыт, который так пригодился Кевину в полицейской повседневности, на допросах, да и много где еще.
В четырнадцать лет Кевин покончил с футболом и открыл для себя панк-рок. Футбол плохо сочетался с его подростковым догматизмом. Кевин принял стиль жизни, который предписывали его новые кумиры, британская анархогруппа “Crass”, и решил, что спорт – тоже опиум для народа.
С полицейским образованием все это тоже плохо сочеталось, но, когда Кевин подавал заявление в Полицейскую академию, он уже не был анархистом. Однако он оставался панком, преподаватели и руководители курса, а позже – коллеги, не одобряли его стиля. Панк – это провокация, что вполне объяснимо: для провокации он и создан.
Избранная профессия тоже оказалась провокацией. Старых приятелей Кевин растерял, а приобретать новых – дело нелегкое. То, что он имел отношение к преступлениям, связанным с детской порнографией, придавало ему статус виновного в содействии, а держать свои занятия в тайне Кевину тоже было проблематично, потому что люди впадали в подозрительность и паранойю.
Прежде чем завести “веспу”, Кевин надел наушники, подключил их к телефону, поймал радиопрограмму – и понял, что уже опаздывает.
…Здравствуйте. Сейчас восемь утра, в эфире “Эхо”…
Сумка с ноутбуком, извлеченная из забытой коробки, лежала, для безопасности завернутая в кофту, в багажнике мотороллера, и Кевин ехал осторожно. Ноутбуку уже немало лет, и он, вероятно, остро чувствует вибрацию. Но это был хороший компьютер, он наверняка стоил пятизначную сумму, когда появился в продаже. Лампу и книги Кевин отправил в мусор.
…Не исключено, что в Евле произошла кража со взломом. Пострадавший, пятнадцатилетний мальчик, отправлен в больницу, раны представляют угрозу для жизни…
…Полиция допросила возможного свидетеля, молодого мужчину около двадцати лет. Полицейские пока воздерживаются от комментариев о ходе следствия, и в настоящее время неясно, откуда у мальчика такие раны…
Когда Кевин проезжал мимо Эссингеторгет, радиопередачу прервал входящий звонок, и Кевин подключил гарнитуру. Звонил Лассе. Начальство.
– Съезди-ка в Скутшер. Возможно, мы можем отследить тех двух девочек.
“Скутшер? – подумал Кевин. – Это же рядом с Евле”.
Первым делом она залогинилась на Фейсбуке
Промышленная зона Вестберги
Полдень, а за окном темнота.
В это время года кожа у людей, живущих на севере, становится прозрачной.
У многих шведов кожа такая светлая, что видно, как под ней течет кровь. В свете складского фонаря лицо Новы казалось голубоватым.
Они объявлены в розыск. В каком-то смысле это ощущалось как освобождение. Теперь у них есть повод удрать куда подальше.
– После суда было расследование, и меня хотели отправить в специнтернат, но мне удалось сбежать. – Нова закурила. – Несколько месяцев я жила у одного парня, приятеля Налле, этот парень знал одного режиссера. На девчонку похож, симпатичный и незлой. Я уже почти все прожила, что скопила, и стала соглашаться на всякие извращенства. Хотя это ты и так знаешь… Ты и сама такое делала.
– Юсси убил твой брат, а не ты.
– Но в том, что он умер, виновата я.
Чтобы удрать подальше, нужны деньги, и немного они уже скопили. Белую “вольво” надо перекрасить, перебить номера и продать.
За машину они выручат десять кусков. С деньгами, что им удалось выдоить из банкомата, будет почти двадцать семь тысяч. Когда они закончат работать в студии Цветочка, у них будет еще пятнадцать тысяч. Поспать им удалось всего двадцать минут, потом их разбудили и снова отправили на съемки. Вечером – съемки в подвале и, может быть, несколько часов перед веб-камерами.
Как же паршиво работать в кабинке. Они уже обсудили это с другими девушками, и те сказали, что там просто сидишь и ждешь, большинство заглянет – и бежать. Заплатят какие-то гроши за превью, а потом трусят и разлогиниваются. Для секса перед веб-камерой предназначена всего одна кабинка, и только для здешних ветеранок. Мало кто из парней умеет трахаться перед камерой, но у Цветочка в запасе есть пара умельцев. Мужчины почему-то больше любят смотреть, как трахаются, чем на девушку, которая сидит себе одна. Наверное, им нравится рассматривать чужие члены.
Нова протянула Мерси сигарету.
Во рту все еще было солено и тухло, и дым очищал.
– Над тобой издевались? – спросила Мерси.
Она отлично видела, что с Новой обращаются, как с грязью, но самой ей было легче: ее побаивались. У некоторых парней с ней еле вставало. Иногда они сливались, иногда злились и начинали вести себя жестко, но по части жесткости Мерси их пересиливала и чаще всего выходила победительницей.
– Не обязательно просто плакать и соглашаться на боль, – сказала Мерси.
– Это мой стиль актерской игры. Им нравится, и я получаю новые роли.
Нова улыбнулась. Мерси не поняла, говорит она правду или врет. Иногда Нова сама верила в то, что вбивала себе в голову. Нова придумывала себе правду.
– Поработаем здесь пару недель и свалим, – сказала Мерси, и Нова кивнула.
– Свалим в Лос-Анджелес.
Нова потушила сигарету и вызывающе посмотрела на Мерси, потому что знала, что Мерси с большей охотой отправилась бы в Нью-Йорк. Лос-Анджелес представлялся ей некрасивым и скучным – какое-то длинное шоссе, и больше ничего.
– В Лос-Анджелесе все абсолютно крейзи, – продолжала Нова. – Красивые, как не знаю кто, вроде хиппи, расслабляются-загорают, катаются на одноколесных велосипедах и наряжаются обезьянами и плейбоевскими кроликами.
– Ладно, поедем в Лос-Анджелес. Нарядимся обезьянами.
Нова даже не заметила, что Мерси язвит. Мерси не хотела язвить, но так получилось.
– Я поступлю учиться, – сказала Мерси. Ей хотелось заболтать черноту внутри себя, и она стала представлять себе дом. С балкона открывается красивый вид. Она сидит на балконе и читает, а Нова загорает рядом. Кожа у нее больше не голубоватая, а свежая и здоровая.
– Я попробую свои силы в Голливуде, – прибавила Нова.
Иногда ее наивность просто бесит. Мерси осведомилась, что она разумеет под пробой сил.
Нова перестала улыбаться.
– Ну что? – спросила Мерси. – Что-то не так?
– Он жив, да? Тот парень из Евле.
– Цветочек сказал, что да.
Мерси отвернулась. По ту сторону ограды по дороге шел парень с собакой. Похоже, пьяный. Пьяный в стельку. Воздух вдруг приобрел хрустальную ясность и колюче запах металлом.
Так пахнет чернота, подумала Мерси.
Теперь помощь нужна мне.
– Чего ты боишься больше всего? – спросила Мерси.
– Не знаю… А ты?
– Что я знаю: я могу подойти вон к тому парню… – Она показала на парня с собакой. – И убить его на месте. Хотя он намного крупнее меня. Поэтому я собью его с ног и буду топтать ему голову, пока она не треснет. А собаку можно просто заколоть ножом.
Нова ничего не ответила.
– Ну что, пошли? – сказала она после недолгого молчания, но Мерси помотала головой.
– Нет, я хочу понять, объяснить… Я боюсь, что случится что-нибудь еще страшнее. Как будто я это просто знаю, но знаю нутром.
– Не поняла.
– Во мне что-то живет.
– Во мне как будто тоже, – сказала Нова. Мерси знала, что могла бы поверить ей, но решила не верить. Это было бы ложью по отношению к ним обеим.
– Я тебе не верю. Не пытайся быть, как я. Нам надо делать друг друга лучше. Дай мне стать, как ты. Может быть, тогда у нас появится шанс и в этом мире превратиться в близнецов.
На лице Новы появилось страдальческое выражение.
– Я только одного боюсь. Что ты меня бросишь.
У Новы блестели глаза, и Мерси почувствовала себя гораздо бодрее. Нова умела прогонять черноту, и иногда эффективнее, чем алкоголь. Вот как теперь. Она обняла Нову.
Пошел дождь. Мерси увидела, что капли на коже Новы кажутся ржавыми пятнышками. Как кровь. Она поцеловала Нову в лоб, и они вернулись на чердак.
Цветочек одолжил им айпад, на случай, если они заскучают в свободное время. Айпад был набит порнухой, но проверить свои страницы девочки тоже могли.
– Моя очередь, – объявила Нова. Они улеглись на матрас, и первым делом Нова залогинилась на Фейсбуке.
Она принялась прокручивать ленту новостей, а Мерси изучала ее лицо.
– О нас не меньше пятидесяти постов, а… – Нова резко замолчала, и на лице ее появилось выражение опустошенности. – Посмотри, что написала Фрейя! Алиса поделилась на моей странице…
И Нова повернула экран так, чтобы Мерси было лучше видно.
Ей семнадцать, но написано, что восемнадцать
Квартал Крунуберг
– “Тойота” в гараже, возле лифтов. – Лассе подвинул ключи Кевину. Кевин пока просматривал папку, которую ему предстояло взять с собой. Несколько фотографий светловолосой девушки, среди них – пара школьных снимков. Школу она заканчивала в Фисксетре, и Кевин только что узнал, что девочка выступила свидетельницей на одном примечательном судебном процессе, который имел место чуть больше года назад.
Ее брат при пособничестве матери убил отчима, обоих приговорили к долгому тюремному заключению. Социальная служба отправила Нову в Скутшер, в интернат для подростков, подвергшихся сексуальной эксплуатации.
На фотографиях совершенно точно была та же девочка.
Дальше шли изображения Блэки Лолесс, подруги Новы. Новых нет, только те же кадры, что он рассматривал вчера. Но теперь к ним прибавилась копия нигерийского паспорта, и Кевин догадывался, в чем причина.
– Подозреваю, что фотография из паспорта оказалась в папке потому, что владелец паспорта, возможно, состоит в родстве с Блэки?
– Парень на фотографии не абы кто.
– Да? И кто он?
– Это человек, который на днях выпал из самолета и приземлился на Лильехольмсбрун. Мы проверили, нет ли у него родственников в Швеции, и исключили нескольких однофамильцев, такая фамилия здесь, как ни странно, сравнительно распространена. Но остались еще несколько человек, в том числе шестнадцатилетняя девушка, которая живет в том же интернате, что и Нова. Ее зовут Мерси. А вот эту фотографию прислали утром из Департамента по делам миграции. – Лассе положил на стол еще одну распечатку. – Как по-твоему, она похожа на Блэки? И на мужчину с паспортной фотографии?
Снимок девушки по имени Мерси, присланный миграционной службой, трудно было сравнивать с девушкой из порнороликов, но сходство просматривалось.
– Она похожа на Грейс Джонс, – сказал Кевин. – Высокие скулы, лицо немножко мужское. Ты смотрел “Войну Гордона”, это начало семидесятых? Первый фильм Грейс Джонс.
– Нет, не смотрел. – Лассе начал постукивать ручкой по краю стола – привычка, сильно раздражавшая Кевина. – Не знаю другого человека, который бы так здорово ориентировался в лицах, как ты. По мне, так Блэки – просто копия Мерси, а также парня с паспортной фотографии. Не согласен?
– Согласен, что Мерси, вероятнее всего, та же девушка, что и Блэки, – сказал Кевин. – Или, по крайней мере, состоит с ней в близком родстве, однако рискованно утверждать подобное о мужчине только на основании того, что он тоже худой и у него высокие скулы.
– Он и раньше просил убежища в Швеции, но получил отказ. Я поговорил со служащим, который занимался его заявлением. Тот сказал: он указал в качестве причины гомосексуальность.
– Многие так делают.
Стук продолжался. Шеф выбил карандашом дробь, после чего стал просто постукивать по столу.
– Ну, я пошел, – сказал Кевин.
Дойти он успел только до двери.
– Плохо спишь, да?
– Да.
– И попиваешь?
Выпил с Верой в “Пеликане” пива и пару шотов, подумал Кевин.
Он спустился в гараж и сел в “тойоту”. Гражданские машины содержались не так хорошо, как патрульные, и в кабине стоял запах, как в запертом помещении, часы унылой слежки въелись в обивку. Кевин завел машину, выехал на Бергсгатан, и тут снова позвонил шеф.
– Я только что говорил с заведующим. Девочки пропали.
– Пропали?
– Да, вчера вечером. И они, похоже, крупно влипли.
– Что значит “влипли”?
– Есть подозрение, что они избили одного парня и угнали машину. Их объявили в розыск.
– Парня избили. В Евле?
– Да. И он до сих пор не пришел в себя.
– Ну и… Я слышал по радио.
– Полицейские из Евле не хотели ничего говорить по телефону, но обещали просветить тебя на месте. И вот еще что…
Кевин слышал, как ручка постукивает по столу.
– Из этого интерната почти семь недель назад исчезла еще одна девочка. Зайди в Фейсбук и найди Фрейю Линдхольм. На фотографии в профиле у нее прямые темные волосы и красная комбинация. Ей семнадцать, но там написано, что восемнадцать.
Кевин достал телефон и нашел несколько профилей с нужным именем. Фотография в одном из них соответствовала описанию.
– Я сейчас смотрю на фотографию.
– Глянь ее последний статус… Мне кажется, он по нашей части. Как думаешь?
– Да, пожалуй, – согласился Кевин, прочитав, что написала девушка.
Пожалуйста помогите я не знаю где я тут много комнат в подвале бетонный пол окон нет умоляю отследите телефон!!!
Какое грустное слово – “бы”
“Ведьмин котел”
Луве Мартинсон не знал, что ржаво-красные пятна на окне его кабинета содержат частицы песка, поднятого в воздух над пустынями северо-западной Африки и перенесенного ветром на пятьсот миль севернее, в Швецию. Какая-нибудь гадость с фабрики, подумал Луве, оттирая тряпкой стекло от сухой красноватой пыли.
Если бы он смотрел утренние новости, то узнал бы, что этот феномен называется “кровавый дождь”, довольно редкое в северных широтах явление, на которое человечество на протяжении своей истории часто смотрело как на дурную примету, предзнаменование смерти и разрушений.
Женщина из полиции Евле приходила утром, когда дождь уже начал утихать, и по мере того, как он ослабевал, возбуждение среди девочек росло. К одиннадцати утра, когда дождь кончился, в “Котле” творилось уже черт знает что.
На Нову и Мерси смотрели как на героинь.
Луве закрыл окно и сел за рабочий стол.
Он чувствовал себя выжатым, как лимон.
Куда они подались? Что способны натворить? Женщина из полиции не слишком распространялась насчет того, в чем подозревают девочек. Кражи и нанесение увечий. Но о подробностях полиция умалчивала, и среди обитательниц интерната уже поползли слухи.
Например, что Нова и Мерси до полусмерти избили какого-то парня, угнали машину и не исключено, что похитили большую сумму денег.
В дверь постучали, и в кабинет вошла женщина лет пятидесяти – та, что уже допрашивала Луве. Женщина села на стул для посетителей; в руках у нее была записка, которую Луве обнаружил под “дворником” своей машины.
– Мы провели несколько графологических экспертиз, и с большой вероятностью можно сказать: сообщение вам оставила Нова. У вас не появилось мыслей насчет того, что она хотела сказать?
Едва Луве услышал, что Нову и Мерси объявили в розыск, как сразу понял, кто написал записку.
– Не появилось, – ответил он. – Может, она просто решила подать мне весточку?
– Дарю тебе утро, дарю тебе день? – Женщина что-то записала себе в блокнот, после чего подняла глаза на Луве. – Девочка что, влюблена в вас?
Луве удивился.
– Нет, вряд ли.
– Значит, у вас исключительно профессиональные отношения?
У Луве возникло чувство, словно его в чем-то обвиняют, но он понимал, что ему задают самые обычные, стандартные вопросы, и ответил:
– Да.
– И тем не менее девочки заехали к вам домой?
– По всей очевидности.
– Мы установили, что сегодня около шести утра они были в Упсале. Сняли деньги из банкомата или до, или после того, как заехали к вам. Вы говорили, что вышли из дома около семи?
– Да, без нескольких минут семь. Без пяти-без десяти семь.
– И из уголовной полиции вам позвонили, когда вы уже ехали на работу, чуть меньше, чем через час?
– Да. Я уже говорил: они хотели прислать сюда своего человека.
– Вы можете подтвердить, что всю ночь оставались у себя в квартире?
Луве не поверил своим ушам.
– Вы думаете, я им помог? И записку они оставили в знак благодарности?
– Отвечайте на вопрос.
– Нет… Я спал, один. Я сейчас ни с кем не живу.
– Хорошо, спасибо. – Женщина бегло просмотрела свои записи. – Можете добавить еще что-нибудь, что помогло бы полиции?
Луве поразмыслил.
– Вчера незадолго до терапевтической сессии с Новой связался через чат один человек, и Нова сказала, что уверена – именно он занимался ее обработкой пять лет назад.
Женщина вздрогнула.
– И кто это?
– Не знаю… Во всяком случае, она мне так сказала. Он называет себя Петер, или Повелитель кукол. Еще – Puppet Master, или Master of Puppets.
Женщина записала и поинтересовалась, о каком чате речь.
– Забыл спросить. Но насколько я понял, тот человек вчера удалил свой аккаунт. У вас есть мобильные телефоны девочек, там должен быть мессенджер.
– Значит, у здешних девочек есть круглосуточный доступ к телефонам и интернету?
– Да, за исключением, разумеется, времени сессий. Интернат – не тюрьма.
Женщина кивнула, и Луве показалось, что она закатила глаза.
– Кстати о телефонах, – сказала она. – Одна из воспитанниц сообщила, что ночью ее разбудил телефонный звонок. По ее словам, звонил телефон на посту дежурного, и ответил мужчина, который дежурил ночью.
– Вот как? Ну… Я уже говорил, что ночью меня здесь не было.
– Странно, что ваш служащий-почасовик, Эркан, утверждает, что сегодня ночью ни с кем не говорил по телефону. И ни вечером, ни ночью не заметил, чтобы кто-то убегал. Разве Эркан здесь не для того, чтобы следить, на месте девочки или нет? У вас не делают контрольных обходов?
– Нет, только в случае каких-то сбоев.
– Из записей следует, что Эркан работает здесь время от времени почти два года. Насколько хорошо вы его знаете?
Эркан дежурил обычно по ночам и чаще всего заступал на пост уже после того, как Луве уезжал домой. Дипломированный медбрат, хорошие рекомендации, девочки и персонал его обожают.
– По-моему, толковый парень, – сказал Луве. – Но Эркан пришел в интернат еще до моего появления здесь, и как человека я его знаю не очень хорошо. Мы видимся на рабочих собраниях, но не более того.
Женщина изучающе посмотрела на него.
– А что вы скажете о сбежавших девочках? Может быть, полиции следует что-нибудь учитывать во время возможного задержания?
Луве задумался. Делиться с полицией подробностями терапии пока не обязательно, не сказано еще ничего такого, что могло бы отменить врачебную тайну. Луве решил быть немногословным.
– Обращайтесь с ними бережно, – попросил он.
Женщина кивнула, но, похоже, его совет не вызвал у нее особого интереса.
– А какие у вас отношения с Фрейей Линдхольм?
– Никаких. Я ее никогда не видел, она сбежала до того, как я приступил к работе… Вы думаете, исчезновение Фрейи имеет какое-то отношение к побегу Новы и Мерси?
– Мы пытаемся это выяснить.
И женщина из полиции подчеркнула что-то у себя в блокноте.
Фрейя, подумал он, когда женщина ушла.
Нова и Мерси. Теперь их здесь нет.
На столе перед ним лежали записи, сделанные во время последней сессии с Мерси. В них значилось: Самос. Берег смерти.
И Алиса тоже.
Ее здесь нет.
На документе, лежавшем перед Луве, Свен-Улоф Понтен своей подписью удостоверял, что терапия его дочери завершена.
Луве откинулся на спинку кресла и увидел, что окно не особенно отчистилось. Вдоль переплета и на отливе остались кроваво-красные пятна.
Поговорить бы сейчас с кем-нибудь. Луве захотелось взять телефон и кому-нибудь позвонить. Поговорить обо всем. И еще ему хотелось, чтобы сегодня вечером кто-нибудь ждал его дома. Они выпили бы вина, сидя на диване, и продолжили разговор.
Какое грустное слово – “бы”.
Но винить приходится только самого себя, потому что он сам выбрал свое одиночество.
Хотя одному человеку Луве мог бы позвонить. Она бы обрадовалась, может, даже захотела бы поговорить, а может, и встретиться.
Но к такому шагу он еще не готов.
Да, это называется “флаффер”
“Ведьмин котел”
По этой дороге он еще не ездил, по старому шоссе Е-4 между Мармой и Скутшером. За окном простирались поля, луга и рощи, которые летом наверняка выглядели, как на картинке, но при нынешней погоде превратились в нечто печально-унылое.
Ингмар Бергман напал на Колина Нютле, подумал Кевин и свернул на шоссе номер 76.
Через пару минут он был уже возле интерната – низенького здания желтого кирпича, с плоской крышей; оно напомнило Кевину детский сад или начальную школу где-нибудь в пригороде Стокгольма. Кевин припарковался возле полицейской машины.
Женщина из полиции Евле встретила его у поста дежурного, и они сели в столовой.
Женщина как раз закончила допрашивать заведующего.
– На мои вопросы он отвечал немного уклончиво, – заметила она, – и с некоторой враждебностью. Понимаете, о чем я?
– Вероятно, из-за врачебной тайны?
– Отчасти да. Но это весьма расплывчатое понятие. Если бы он хотел помочь нам, то рассказал бы все, что ему известно об этих двух девицах.
Женщина налила кофе в обе чашки и стала объяснять, как обстоят дела. Двое ее коллег по очереди допрашивали девочек и персонал интерната.
– Ночного дежурного зовут Эркан Джихан Дениз. Поговорите с ним, вам может быть интересно. Когда мы явились его допрашивать, он первым делом предложил нам какие-то турецкие конфеты.
– Турецкие?
– Да, выставил тарелку с какими-то сладостями. Как будто мы пришли к нему кофе пить.
На столе лежали копии документов Новы и Мерси, и коллега из полиции Евле рассказала о девочках такое, что у Кевина исчезли последние сомнения. Да, именно этих девочек они с Лассе ищут уже почти месяц.
Только две пропавшие без следа девочки стали тремя.
– Мы еще не отследили телефон, с которого Фрейя Линдхольм выходила в Фейсбук, – сказала женщина. – Похоже, сим-карта зашифрована или повреждена. У вас в угрозыске знают Фрейю?
– Нет. Во всяком случае по имени.
– Насколько я поняла, она девица с большими проблемами.
Родители умерли, когда она была совсем маленькой, родных не оказалось, и она сменила несколько приемных семей, прежде чем оказаться здесь. С тринадцати лет занимается проституцией, наркоманка со стажем. Я поговорила с терапевтом, которая ее лечила. Она утверждает, что Фрейя даже появлялась в порнороликах.
– Появлялась? То есть – снималась?
– Ну… – На шее у женщины проступили красные пятна. – Не знаю, как сказать. Да, это называется “флаффер”. Вы знаете, что такое флаффер?
– Да.
Флаффер – это две тощие голые ножки, которые пару секунд помаячили на заднем плане.
Обязанность флаффера – поддерживать эрекцию актеров.
Вот она, третья девочка, подумал Кевин.
Небесное море
Промышленная зона Вестберги
– Ее здесь нет, – повторила Мерси и встряхнула Нову за плечи. – Нет здесь Фрейи. Пойми.
Прочитав статус Фрейи на Фейсбуке, Нова вбила себе в голову, что Фрейя где-то здесь, в подвале. Не слушая Мерси, она протиснулась мимо и зашагала по коридору. Мерси сдалась. Она стояла в подвальных запахах земли и плесени и смотрела, как Нова колотит кулаками в дверь, освещаемая красной лампочкой. Несмотря на холод, голые руки Новы блестели от пота.
Люблю тебя, подумала Мерси. У тебя так хорошо получается не думать.
Девушка за дверью не решилась продолжать эфир. Секунд через десять-пятнадцать лампочка погасла, и дверь открылась.
Худенькая блондинка робко спросила по-английски, чего они хотят.
– Nevermind[26], – ответила Нова. Мерси взяла ее за руку:
– Пошли, возвращаемся.
До начала работы оставалась еще пара часов, которые Нова и Мерси могли потратить на себя. К тому же Нова начала слишком много думать о Фрейе. И даже если сейчас она думает неправильно, в конце концов может прийти к верной мысли. Понять.
И тогда Нова сломается окончательно.
Девочки свернулись под одеялом, и Мерси продолжила свой рассказ – примерно с того места, на котором закончила: как они переехали птицу. Ей не хотелось, чтобы оставалась только чернота, там был и свет тоже, и Мерси не хотелось его забывать. Если забыть про свет, то потом не будешь знать, как его вернуть.
– Нам пришлось целую неделю просидеть в Лагосе. Мы ждали документов. Папа сказал, что дальше будет Анкара или Стамбул, но получился Измир.
Мерси рассказывала все подробности, какие только могла припомнить. Чтобы никогда уже не забыть их.
Она рассказывала, как, проходя паспортный контроль, поцеловала амулет – не потому, что так уж сильно верила в его силу, а просто на всякий случай. Как надеялась, что амулет, против ожидания, все же обладает некой силой, а не только защищает саму Мерси. Папа первым отправился на таможенный досмотр, и когда его пропустили, у Мерси возникло чувство, что все возможно.
– В Лагосе я в первый раз в жизни увидела море, а теперь увидела небо. Как небо выглядит на самом деле. Оно мне всегда казалось плоским, но в самолете я как будто оказалась внутри неба, как будто оно на самом деле море, только больше, потому что обнимает весь земной шар. Многие думают, что после смерти человек попадает именно туда, в это небесное море. Папа говорил, что давление в самолете плохо скажется на моих барабанных перепонках, они еще не восстановились, но оказалось наоборот. Небо было морем, оно шумело, пело и гудело, но заглушало звуки в голове, и когда мы приземлились в Измире, мне снова так хотелось в небо…
– Какая она была, Турция?
Мерси закрыла глаза и постаралась вспомнить увиденное.
– Измир лежал в голубой бухте, вокруг горы, – сказала она, – а в гавани стояли корабли – выше дома и длиной в несколько кварталов.
Мерси не понимала, как круизные суда могут плавать.
Удержаться на воде не могут даже ее братья, а ведь они гораздо меньше и легче.
Там, где должны быть костяшки
Четыре года назад
В аэропорту было тесно, как на рынке в Кано. В толпе Мерси заметила мужчину со шведским флагом на рюкзаке. Она подошла к нему и спросила, не из Швеции ли он. Да, он из Швеции; в названии городка оказалось столько букв, что Мерси тут же забыла его. Она сказала, что ее семья направляется как раз в Швецию; мужчина улыбнулся и принялся рыться в рюкзаке. Словарь, который он подарил Мерси, был затертым, с рваной обложкой, несколько страниц подклеены скотчем.
Спустя две недели, проведенные в номере измирской гостиницы, Мерси выучила, что “dead” по-шведски “död”[27]. “Boat” по-шведски пишется “båt”[28] и даже звучит похоже. Как “brother” и “broder”[29]. А “heaven” было “himmel”[30], а “sea” – “hav”[31]. Может, не так похоже, но выучить легко.
Они редко выходили из маленького номера – неделю ждали человека, у которого были нужные контакты.
Человек этот принес им обещания и мечты в обмен на десять тысяч долларов; когда папа протянул ему сверток с деньгами, мужчина спросил, нужны ли им спасательные жилеты. “Fifty dollars extra”[32], – объявил он.
– We only need three[33], – сказал папа, указывая на маму и близнецов, которые не умели плавать.
– Fifty dollars anyway[34].
Пока папа перебирал деньги в бумажнике, мужчина не отрываясь смотрел на Мерси, на грудь.
– Let me see… Your muska[35]. – Он улыбнулся и поманил ее пальцем.
– Muska?
– Amulet[36].
Мерси протянула ему амулет. Мужчина открыл его и одобрительно кивнул. Потом показал Мерси свой амулет – очень похожий, только кожаный ремешок у него был коричневый, а не черный, и молитва внутри была вышита другая.
Мужчина повернулся к папе.
– Never mind the fifty dollars. Life jackets’ on da house[37].
Последние два дня, проведенные в гостиничном номере, они считали уже не часы. Они считали минуты, которые, в свою очередь, состояли из секунд, но время не шло быстрее, даже если Мерси спала.
Когда они сели в автобус, который должен был доставить их дальше, Мерси взяла братьев за руки.
– Всего два часа – и мы на корабле.
Автобус был переполнен. Люди в нем ехали счастливые и радостные, сдержанные и сосредоточенные. Мечты лились потоком, и Мерси спрашивала себя, сколько их сбудется, а сколько так и останется мечтами. Можно знать, как пишется “Европа”, но не знать, как составить фразу с этим словом.
Мерси с близнецами пришлось устроиться на двух сиденьях, мама с папой сидели напротив них, через проход. Мерси взъерошила братьям волосы.
– Помните, куда мы едем?
– К белым медведям, – хором ответили близнецы.
– В Швеции не водятся белые медведи… Но да, мы едем туда. А где мы окажемся сначала?
Близнецы восхищенно воззрились на нее. Старшая сестра! Им она казалась взрослой, она же знает столько всего – не то что они.
– Сначала мы приедем в Грецию, на Самос, – сказала Мерси.
Она попросила у папы карту, развернула ее на толстеньких ножках близнецов и показала стрелку, которую папа нарисовал между двумя мысами, через пролив шириной почти в четыре мили.
– Вот здесь мы сядем на лодку и поплывем вот сюда, и это не самый короткий путь, как можно подумать… – Она показала близнецам узкую часть пролива. – Здесь опаснее. Но вот здесь открытое море, здесь не так рискованно.
– Что такое “рискованно”?
– Это когда опасно.
Брат показал на широкую голубую бухту.
– А там не опасно?
– Нет. – Мерси сложила карту.
Ей представлялся большой корабль, вроде круизных лайнеров из измирской гавани.
Мерси обняла братьев, длины рук ей почти достало обхватить их полностью, ей казалось, что она обнимает двух кукол. Там, где на руках бывают костяшки, у близнецов были ямочки. Иногда ей хотелось укусить их за плечи и надуть им животы, как шарики, чтобы раздался громкий треск.
Несмотря на открытые окна, в автобусе было жарко, как в печке, и близнецы изнывали.
– Хочу к маме, – сказал один, и второй сейчас же сообщил то же самое. – Жарко. Отпусти.
Через пару часов они приехали в какой-то городок. Мерси еще никогда в жизни не видела таких больших красивых домов и такое множество шикарных автомобилей. Почти все здесь разгуливали в купальных халатах и тапочках. Люди в халатах были старые, толстые, и почти все – молочно-белые.
Солнце здесь садилось не так быстро, как дома. Темнота подкрадывалась медленно, словно кто-то заводил сложенные лодочкой руки над мухой, потихоньку, все ближе, ближе – и наконец накрывал.
И перед наступлением ночи – пылающее красным зарево.
Автобус остановился на гравийной дороге непонятно где – в паре километров от набережной с барами и ресторанами, неоновым светом, пальмами и розами на клумбах. В темноте виднелись голые, резко очерченные скалы, колючие кусты и горы мусора.
Ниже разворотного круга выдавался в море пирс. Отсюда они и должны были отплыть, но огни в бухте не горели, и на воде ничего не было. Море и небо слились в одну черную массу.
После смерти человек попадает в небесное море.
Около сорока теней двинулись к пирсу – в основном мужчины, но была и группка женщин, а еще Мерси насчитала восемь детей, включая ее саму и близнецов. Все они стали ждать, глядя, как исчезают на дороге задние фары автобуса.
На круге остановился джип с тонированными стеклами. Из него вылезли двое мужчин.
Вскоре послышался звук мотора, и к пирсу подплыло что угодно, только не лодка. Среди сорока теней поднялся ропот. Даже если это судно и было самой большой из виденных Мерси резиновых лодок, все они в нее явно не поместятся.
– Hey… You are family from Nigeria[38]? – К ним подошел один из мужчин. – You paid too late. – Он потыкал пальцем в бумагу с какими-то подписями. – Can you read? Are you analfabets? – Он ухмыльнулся и пожал плечами. – Anyway… we need more money.
– How much?[39] – устало спросил папа.
– Three hundred dollars[40].
Мерси знала, что у них осталось всего полторы тысячи, но отец заплатил, не прекословя.
Мерси помогла маме застегнуть спасательные жилеты на братьях, а потом отдала ей свой жилет. Жилет оказался маме мал, но все же лучше, чем ничего.
Они сели в лодку. Жилеты были на всех, кроме Мерси, папы и семи чернокожих мужчин.
Море казалось тяжелым и маслянистым. Тьма съела все краски, и мир лежал перед Мерси серо-черный.
Your lucky day.
Они знали, что эта лодка последняя. Все следующие будут досматриваться греческими береговыми пограничниками не в пример строже. Им повезло.
Кое-кто из их соседей по лодке прождал в Турции гораздо дольше, чем они, – несколько лет.
Повезло.
Стояла хорошая погода. Легкий теплый ветерок, ясное ночное небо усыпано звездами.
Это их счастливый день.
С их отцами и еще несколькими мужчинами
“Ведьмин котел”
Кабинет психотерапевта Луве Мартинсона был таким тесным, что мог вызвать приступ клаустрофобии. Интересно, каково здесь пациентам. Единственное окно выходило на густой ельник, и в кабинете как будто не хватало света, хотя горели и люминесцентная трубка на потолке, и настольная лампа.
В первую минуту Кевину показалось, что в психотерапевте есть нечто женоподобное, в жестах, в чертах лица. Ему было лет сорок, короткостриженые волосы выкрашены черной краской, у корней пробивается седина.
– Найти этих девочек необходимо, – начал Кевин. – Но угрозыск, в отличие от полиции Евле, видит в них в первую очередь потенциальных свидетельниц, а не преступниц.
Кевин в нескольких словах обрисовал, на какой стадии находится расследование, и попросил Луве рассказать все, что тому известно о девочках, – все, что может пригодиться в расследовании.
Луве откинулся на спинку кресла.
– Да, конечно… Но сначала я хочу кое-что сказать. Ваш начальник упомянул, что у него плохие новости, но объяснить, касаются ли они Новы или Мерси, не захотел. Какую же новость он не захотел обсуждать по телефону?
Даже голос психотерапевта показался Кевину слегка женственным. Высокий, хрипловатый.
– У нас только что появилась информация о человеке, которого мы считаем отцом Мерси.
Кевин рассказал о мужчине, выпавшем из самолета; когда он назвал имя, записанное в удостоверяющих личность документах, Луве закрыл глаза и кивнул.
– Вы можете подтвердить, что отца Мерси звали именно так?
– Да.
Кевин достал телефон и показал ему фотографию с паспорта.
– А вот как он выглядит.
– Погодите-ка…
Луве щелкнул мышкой и развернул монитор к Кевину. На экране была интернет-страница какого-то технического университета.
Вудил, Нигерия, прочитал Кевин и быстро просмотрел фотографии преподавателей. В нижнем левом углу была фотография того же человека, что и на снимке в паспорте.
Значит, отец Мерси преподавал в университете.
Этим все сказано.
Глаза у Луве заблестели, он откашлялся.
Человек, которому неуютно проявлять чувства, подумал Кевин. В то же время психотерапевт выглядел едва ли не хрупким; может быть, работа с подвергшимися насилию девочками наложила на него свой отпечаток? Психологи часто отзеркаливают эмоции, жестами и выражением лица возвращают пациентам их же чувства, чтобы те ощущали себя в большей безопасности и легче открывались. Такая техника применяется и на допросах. Кевин спросил себя, не перенимал ли он реакции людей, которых допрашивал.
Стыда, какой бывает во взгляде насильника или жертвы.
Часто в обоих случаях стыд выглядит одинаково, подумал Кевин.
– Сейчас самое главное – найти Нову и Мерси… – Луве понизил голос. – Уверенности у меня нет, но мне кажется, что они могли вернуться к единственной известной им жизни. К проституции и наркомании. И мне кажется, все кончится катастрофой. Они носят в себе… Ненависть, желание отомстить. Где-то внутри у них клокочут чувства.
Кевину вспомнился французский фильм “Трахни меня”. Две молодые женщины пускаются в одиссею: секс, наркотики, насилие. И устраивают настоящую бойню, истребляя мужчин.
– Можете предположить, к кому они могли бы вернуться?
После недолгого раз мышления Луве ответил:
– В прошлом году Мерси оказалась замешанной в скандале. Проституция. Она тогда жила в Емтланде, в Брэкке, и здесь оказалась главным образом из-за того, что там произошло.
Брэкке, подумал Кевин. Что-то знакомое.
Луве рассказал, что Мерси спала за деньги с несколькими парнями из маленького емтландского поселка.
– А потом с отцами двух из этих парней и еще с несколькими мужчинами, – прибавил он. – Был суд, мужчин приговорили к наказанию.
Год назад Кевин следил за процессом по газетам, но теперь помнил только, что девочка – иммигрантка.
Значит, этой девочкой была Мерси.
– На вашем месте я бы начал с проверки старых приятелей Новы из Фисксетры. – Луве серьезно взглянул на Кевина. – Она осторожничала с именами, но три я точно знаю… Алекс, Фадде и Альбин, приятели ее брата.
– Алекс, Фадде и Альбин? А фамилии?
– Фамилий она не называла. Но они входят в компанию парней, которым она продавалась. Делиться с вами подробностями кажется мне нарушением ее границ.
– Спасибо, – сказал Кевин. – Есть еще что-нибудь, что мне стоило бы знать?
– Вряд ли. Это все?
– Я хотел бы поговорить с терапевтом, который вел Фрейю Линдхольм. Проводите меня к нему?
– К ней. Ее кабинет в конце коридора, но сейчас там ваш коллега беседует с Эрканом. – Луве поднялся. – Я могу сходить за ней, и вы поговорите в моем кабинете.
Кевин кивнул. Эркан, подумал он.
Который угощал полицейских турецкими конфетами.
Как восковые крылья
Промышленная зона Вестберги
– Когда я была маленькой, Налле часто рассказывал мне всякие истории, – сказала Нова. – У тебя тоже хорошо получается. Когда мы переедем в Сансет-Бич, ты сможешь выучиться на писательницу и зарабатывать книжками.
Мерси коротко рассмеялась, и смех у нее был такой же, как голос. Хриплый и какой-то неторопливый.
Мерси молчала, и Нова начала терять терпение. Ей хотелось знать о Мерси больше.
– Что было дальше? – спросила она.
– Мы сели в резиновую лодку, которая была не резиновая, а из плотного пластика, кое-где заклеенная скотчем и заплатками. Палуба – фанерная, вся в трещинах. Как только мы вышли в море, в лодку начала просачиваться вода.
Мерси продолжила рассказ. Лодкой правил какой-то парень из Чада, и еще им повезло, что было чем вычерпывать воду.
– Представляешь? Чад! Человек родился в стране, которая вообще не имеет выхода к морю. И этот человек управляет лодкой. Прошел десятиминутные курсы, рулит при помощи мобильного телефона – и отвечает при этом за сорок человеческих жизней. Одна только наша семья, пять человек, заплатила больше десяти тысяч долларов… Сорок поделить на пять будет восемь, восемь помножить на десять тысяч долларов – итого восемьдесят тысяч. Сколько это в кронах? Тысяч шестьсот-семьсот?
Рассказ Мерси, очень подробный, позволял Нове увидеть все глазами подруги.
Вскоре голос Мерси изменился, Нова услышала в нем злость. Мерси рассказывала, как сидела на борту и держалась за папу, а мама с близнецами сидели ниже, на фанерной палубе.
– Фанера трещала, словно чья-то гигантская рука пыталась раздавить лодку.
Слушая Мерси, Нова закрыла глаза. Рассказ подруги был таким живым, что Нова словно видела все сама. Как будто смотрела фильм.
Наконец береговые огни скрылись из глаз; остался только свет луны, и море стало похоже на пыльный пол. “Пол” медленно покачивался. Мерси этого не видела, но ощущала животом.
Мерси молча полежала рядом с Новой, а потом фильм продолжился.
Это посасывание в желудке – ощущения моря – ее и пугало. Такое же посасывание чувствовала Нова, перед тем как слететь с катушек и накинуться на кого-нибудь с кулаками.
Как странно. Страх и злость ощущаются телом одинаково.
– Знаешь, кто такой Икар? – спросила Мерси.
– Я даже имени такого не знаю.
– Могу ошибиться, но ему надо было бежать из тюрьмы или вроде того. И его отец сделал ему крылья из воска. Отец предупредил, чтобы он не взлетал к солнцу, потому что тогда воск расплавится, но Икар все равно полетел к солнцу, рухнул в море и утонул.
– А потом?
– Море, по которому плыла наша адская лодка, было тем же морем, в которое упал Икар. Я потом прочитала… Оно называется Икарийское, часть Эгейского моря. После смерти человек попадает в небесное море, понимаешь? Везде говорится, что это история о гордыне и заносчивости.
– Вроде да. Только я не очень знаю, что такое гордыня.
– Наше путешествие было гордыней. Совсем как те восковые крылья.
Тот, что крепче
Четыре года назад
Мерси знала, что все злое исходит изнутри, но иногда злое бывает результатом процессов вне твоего тела. Результатом злобы других людей, как будто злоба заразна, а еще невидимой силы, разлитой в воздухе. Сейчас такими силами были море и ветер.
Время ощущалось как нечто ненадежное – как когда Мерси не могла уснуть и подолгу вертелась в кровати. Она проголодалась, но ей не хотелось ничего съесть, и, хотя она замерзла, она не закуталась в покрывало, которое дал ей папа. Отец сидел с отсутствующим видом, но иногда улыбался ей или гладил по щеке.
Мерси переполняло чувство, которое она не могла назвать словами. Не страх, но похоже на страх.
Луна светила все слабее, темнота посерела. Кто-то включил карманный фонарик, и по морю взад-вперед заходил конус света. И все время – звук воды, которую вычерпывают и выливают обратно в море.
Ему не было конца, как не было конца воде, и сколько бы они ни выливали, вода снова просачивалась в лодку.
Именно тогда Мерси отделилась от себя прежней.
Все началось со звука.
Трещина в фанере вдруг раздалась до нескольких сантиметров в ширину, черная дыра через всю палубу, лодка накренилась влево, кто-то свалился в воду, другие стали кричать, кто-то попал Мерси локтем в лицо, и она кувыркнулась спиной вперед, прямо в холод и черноту.
Ноги запутались в веревке, на которой держались кранцы, и Мерси потащило вниз, но она сорвала веревку и выплыла на поверхность. Лодки не было. В воде полно людей, но их явно мало! Люди отчаянно кричали, Мерси тоже стала кричать: где все, где близнецы, где мама с папой? Она нырнула, увидела поодаль оранжевое пятно и поплыла туда, вцепилась, потащила. Что-то легкое…
Легкое, как ребенок.
Вытащив спасенного на поверхность, Мерси увидела, что это Нонсо. Младший из близнецов, тот, что родился почти на час позже, с чуть неправильным лицом и одной почкой, поменьше ростом, чем брат. Нонсо, который со стаканом воды в руках скакал по кровати Мерси, облил ее, и она дала ему затрещину. Нонсо, который любил подольше поспать по утрам и который научился считать быстрее брата.
Кашляет водой, но жив. Мерси подняла его голову над водой и поплыла на спине.
Она не знала, долго ли плыть, но понимала, что плывет в правильном направлении, потому что слышала, как волны плещут о камни. Глаза жгло от соленой воды, но вот она ушиблась пятками о твердое и острое, о камни на дне; измученная, Мерси упала на песок, чувствуя, как под спасательным жилетом бьется сердце брата.
Жилет был распорот. Мерси увидела, что он набит газетной бумагой.
Все, кто приплатил за спасательные жилеты, набитые турецкими газетами, камнем пошли на дно.
Из тех, кто не умел плавать, уцелел только Нонсо.
Второго брата Мерси – того, что был крепче, Рами, того, что был часом старше, поглотила глубина. Так же, как маму.
Папа спасся, он вылез на каменистый берег через десять минут после Мерси и Нонсо.
Он то вопил и рыдал, то прижимал их к себе и говорил, как любит их.
Он трясся от холода.
Он их упустил.
Он видел, как они исчезают.
Когда их подобрал греческий траулер, Нонсо начал кашлять. У него внутри как будто забулькало, лицо сначала покраснело, потом посинело.
Нонсо сравнялся возрастом со своим старшим братом.
Он появился на свет на час позже – и успел прожить этот час.
Вода задушила Нонсо уже на берегу. Старые рыбаки плакали, когда в самосской гавани через весь пирс несли маленький труп.
Мерси знала, что горе – как море. Высокие волны сменяются мелкой рябью, но море никогда не успокаивается.
Как чудесно было взлетать все выше! Все стало таким маленьким.
Внизу, под ним, солнце отражалось от морской поверхности, и Икару оно виделось небом, море стало небом. И когда Икар начал падать, ему казалось, что он поднимается вверх.
Необходимая дистанция
“Ведьмин котел”
Суровая Кэти Бейтс из “Долорес Клейборн”, подумал Кевин.
Женщина, которая одиннадцать месяцев была психотерапевтом Фрейи Линдхольм и контактным лицом интерната, производила впечатление опытного психолога. Она сидела в кресле, в котором недавно помещался Луве Мартинсон. На столе лежала история болезни Фрейи: журнал в пять сантиметров толщиной.
– Когда вы видели Фрейю в последний раз перед исчезновением, вы не заметили ничего необычного? – спросил Кевин.
Женщина подалась вперед, утвердила локти на столе и сцепила перед лицом пальцы маленьких, но сильных рук. Жест, выражающий смирение, как во время молитвы – или, как сейчас, демонстрирующий: она здесь главная.
– Кое-какие новые препараты из тех, что продаются через интернет, я упустила, – призналась она, – а заметить физические признаки наркотического опьянения трудно. Могу предположить, что она сидела на каких-то успокоительных. Была, я бы сказала, опасно умиротворенной.
– И что это означает?
– Ты думаешь, что человеку полегчало, что наступил прогресс – и вдруг он лишает себя жизни. Распознать такое состояние очень нелегко. И лишь когда человек уже покончил с собой, задним числом понимаешь, что им манипулировали.
– Что-нибудь еще заставляет вас думать, что Фрейя совершила самоубийство?
Женщина как будто встревожилась.
– Голод, – сказала она.
– Не понял?
– “Голод” – это рок-группа, которая призывает своих фанатов покончить с собой. Фрейя их боготворила.
Кевин знал об этой группе понаслышке, но с музыкой знаком не был. Он подумал и сказал:
– Если я правильно понял, Фрейя рассказывала вам, что принимала участие в съемках порнофильмов. Что именно она говорила?
Терапевт полистала историю болезни. Пять сантиметров бумаги, сотни страниц – и ни намека на то, что же произошло с Фрейей.
Ощущение беспомощности и отчаяния.
– Вот, – объявила терапевт. – Фрейя заговорила об этом всего однажды и выразилась так, дословно… Я несколько раз была флаффером – вроде нормально, но не по мне. Как-то по-извращенски, на самом деле. Почти все девушки иммигрантки, еле понимают по-английски. Однажды мы выехали на какой-то склад, там было много комнат, как бы целая фабрика, и когда я увидела, чем они там занимаются, то сказала “нет”.
Женщина закрыла папку и вздохнула.
Возможно, на этом складе ее и держат, подумал Кевин.
– Как по-вашему, могла Фрейя участвовать в съемках роликов, где снимались Нова и Мерси?
– Не знаю, но не исключено.
Кевин кивнул.
– Насколько близко дружили эти три девочки?
– Трудно сказать. Мне кажется, она больше дружила с Алисой.
– Алиса? Это которую вчера забрал отец?
– Да.
– А насколько хорошие отношения были у Фрейи с Эрканом?
Женщина некоторое время сидела с озадаченным видом, потом ответила:
– С Эрканом у всех девочек хорошие отношения. Даже слишком… Он не учился специально на психотерапевта, и мне кажется, что он с девочками не соблюдает необходимую дистанцию. Есть риск, что он перейдет границу, и тогда дело плохо.
Оно уже плохо, подумал Кевин.
В остальном беседа с терапевтом Фрейи ничего не дала. Все, что знал Кевин, уходя из “Котла” – это что Фрейя, возможно, покончила с собой, что ее ближайшей подружкой в интернате была Алиса Понтен, а также что Фрейя посещала какой-то склад, где снимали порнофильмы, не исключено, что в промышленных масштабах, и может быть, пост в Фейсбуке она написала, сидя именно на этом складе.
Кто-то заказал пиццу, и Кевин утянул кусок. Возможно, не исключено и может быть. Три вызывающие раздражение сестры, подумал он, сидя над куском пиццы.
И еще этот Эркан. Который, по словам терапевта, был в хороших отношениях со всеми девочками.
– Вкусно?
Женщина из полиции Евле села напротив него, и Кевин проглотил последний кусок.
– Эта “Тропикана” вне конкуренции, ничего вкуснее не ел, – признался он. – Самую вкусную пиццу почему-то делают не в Стокгольме… Вы закончили с Эрканом?
– Да, он ваш.
Женщина протянула Кевину какую-то бумагу.
– Список звонков, поступивших ночью на его мобильный. Только что прислали из телефонной компании.
Список оказался не слишком длинным.
Один-единственный телефонный номер. Когда коллега из Евле рассказала, кто абонент, сценарий начал проясняться.
Эркану Джихану Денизу, согласно полученной информации, было тридцать три года, но выглядел он моложе. По улыбке, с которой он встретил Кевина, и не скажешь, что Эркан три часа просидел на допросе.
Высокий, худощавый, широкоплечий парень. Если судить только по внешности, то понятно, почему он пользуется у девочек популярностью. Но Кевин не сразу сумел найти соответствие среди актеров, что случалось с ним нечасто.
Они пожали друг другу руки, Кевин сел на свободный стул и стал рассказывать, что он, в числе прочего, расследует дела, связанные в детской порнографией и сексуальным использованием детей и подростков.
– Наконец-то появился полицейский, который действительно сумеет помочь, – прокомментировал Эркан. – Все остальные считают Нову и Мерси смертельно опасными.
– Действительно сумеет помочь? Что вы имеете в виду?
Эркан улыбнулся.
– Ну, что вы работаете со всяким таким… Короче, что вы понимаете их проблемы.
Кевин ответил ему улыбкой, не выпуская из рук сложенную бумагу с телефонным номером.
– И вы понятия не имеете, куда они делись ночью или где предположительно могут сейчас находиться?
– Если бы я знал – разумеется, сказал бы.
– И тогда вы, говоря вашими словами, смогли бы “действительно помочь”?
– Да, конечно.
– Ну так помогите. Минута и сорок семь секунд – это сколько?
– В смысле?
Улыбка Эркана немного увяла, и Кевин наконец увидел, что он похож на Дева Пателя в “Миллионере из трущоб”.
Кевин развернул бумагу с полученным от телефонной компании номером и положил на стол.
– Минута и сорок семь секунд – столько длился телефонный разговор. Звонок сделан на ваш мобильный сегодня утром, в три минуты шестого. Кто вам звонил и почему вы не повесили трубку?
Эркан взглянул на бумагу, и лицо у него застыло.
– Наверное, кто-то случайно нажал “вызов”.
Ляп, подумал Кевин.
– Случайно нажал кнопку кто-то, у кого телефонный код 0293? Это стационарный телефон, и если быть точным, то он находится в Тьерпе. На таком телефоне случайно нажать кнопку трудновато.
– Я имел в виду – ошиблись номером.
Снова ляп.
– Ошиблись номером. Наверное, ошибся очень приятный человек, раз вы так долго разговаривали? Кто звонил, Эверт или Гуннви?
По глазам Эркана было видно, как у него мечутся мысли, как он пытается изобрести ложь более правдоподобную, чем та скверно продуманная, которую он уже выдал Кевину. Наконец он сказал:
– Понятия не имею, кто такие Эверт и Гуннви. У меня и так фарш вместо мозгов после ночной смены, да еще я несколько часов отвечаю на ваши вопросы. А, вспомнил, как было дело… Не люблю отвечать на звонки с незнакомых номеров. Так что я его сбросил, но, наверное, нажал не ту кнопку и случайно принял вызов. Поэтому линия и оставалась занята так долго.
Ладно, подумал Кевин. Это вранье уже получше, но все равно вранье.
– У Эверта и Гуннви летний домик недалеко от Тьерпа, – объяснил он. – Полиция Евле уже поговорила с ними, а в эту минуту Эверт и Гуннви у себя дома, в Уппландс-Весбю, недоумевают, кто влез к ним в домик и звонил по их телефону. Вы все еще не знаете, кто звонил?
Эркан вздохнул, но промолчал.
– Могу предложить возможный сценарий, – продолжал Кевин. – Вы выпустили Нову и Мерси из интерната, чтобы они за деньги переспали с двумя парнями из Евле, свидание не удалось, девочки угнали машину и поехали на юг. Оказались в Тьерпе, влезли в домик и позвонили вам, прося помощи. Не знаю, о чем вы говорили минуту сорок семь секунд – просто велели им убираться к черту или переправили их дальше. Что именно вы им сказали?
В фильме “Миллионер из трущоб” главный герой, которого играл молодой Дев Патель, принимал участие в индийском аналоге “Кто хочет стать миллионером?”. Когда ему задавали решающий вопрос, он опускал глаза. Внутри была пустота.
Именно так сейчас выглядел Эркан, и, подобно герою Дева Пателя, у него для спасения осталась всего одна соломинка. Правила игры разрешают звонок другу.
– Может быть, вы хотите, чтобы мы позвонили адвокату? – спросил Кевин.
Каждая сама по себе
TeenDaughterDaddySwapping.mp4
Оказавшись в Европе, они начали побираться и воровать.
Она сидела на картонке у входа в “Лидл”. В Греции солнце было не таким жарким, как дома, но и не таким ласковым. Оно резало, как нож, кололо глаза.
Папа просто молча сидел рядом с ней, он забывал смотреть людям в лицо. Кто же захочет бросать деньги зомби, думала она.
Оба они стали другими людьми.
Провалились в иной мир, выбраться из которого невозможно.
Мимо проходили тени, ноги стригли свет, как ножницы.
Свет ослепил Мерси, когда мужчина пристегнул ее руки себе к коленям.
Сценария не было. Но предполагаемые зрители будут знать, о чем этот ролик.
О двух папах и их дочках.
Мерси играла роль Блэки. Мужчина, игравший ее папу, навалился на Нову и прижал ее лицо к матрасу.
– Open your mouth[41].
Мерси как можно шире отрыла рот и высунула язык, глядя мужчине в глаза. Он зарычал и ударил ее по щеке. Хорошо, что не надо сопротивляться, пусть просто продолжает.
Мерси сплюнула на матрас.
Мужчине, который играл отца Новы, было около пятидесяти – одутловатый, с жидкими волосами, он ни капли не походил на Нову. У замбийца, изображавшего отца Мерси, тоже имелся лишний вес, и ему тоже было около пятидесяти. Он обмяк и встал. Нова осталась лежать на животе.
– Twenty minutes off, – объявил Цветочек. – Next scene we swap daddys[42].
– I will miss you, little insect[43]. – Отец Новы улыбнулся Мерси.
Акцент звучал знакомо, но у Мерси кружилась голова, и она с трудом соображала.
Мужчины вышли, и Мерси осталась лежать, вытянувшись на спине. Одеяла не было, и закрыться от всего получалось, только если зажмуриться.
У девочек не было сил на разговоры. Лучше каждой остаться самой по себе и отдохнуть.
А еще лучше – поспать. Десяти минут хватит с лихвой.
Когда они не побирались, она читала словарь, чтобы время шло быстрее.
Словарь был весь в пятнах от сырости, страницы волнистые, как море, и ей слышался смех братьев, как когда они пытались говорить по-шведски в номере измирской гостиницы.
Она знала, что папа никогда не сможет ничего украсть, и все же ему придется попробовать. Он сказал, что добудет денег, и уже через два часа вернулся. Денег было столько, что хватило на два билета на пароход.
Все пятнадцать часов они проспали в комнате отдыха над машинным отделением. Здесь не было иллюминаторов, и не надо было смотреть на то громадное, беспощадное, что плескалось снаружи. Стучал мотор, он не сломается, пароход выдержит любой шторм.
Когда они прибыли в Пирей, была гроза. Первую ночь они спали в парке.
Утром Мерси проснулась от того, что папа пел ей. Она и забыла про свой день рождения. В тот день ей исполнилось тринадцать лет.
Мерси проснулась от того, что кто-то массировал ей промежность, и тут же учуяла запах жирного парфюмированного масла.
– Давай, живее. – Голос Цветочка.
– Он тяжелый, как сто чертей, – сказала Мерси, не открывая глаз. – Не знаю, хватит ли у меня сил.
На каждом углу она видела маму и близнецов – молчаливые узлы под одеялами и старыми газетами. Как-то вечером отец, решив, что она спит, выскользнул на улицу. Мерси последовала за ним.
Сначала папа посетил открытый допоздна магазин одежды, вышел оттуда с пакетом в руках. Потом отыскал общественный туалет; вышел он оттуда в новой белой рубашке и джинсах. К тому же он вымылся.
– Соберись, – распорядился Цветочек. – Лежать, как бревно, и хныкать – это роль Новы. А ты посопротивляйся немножко. Они скоро вернутся. Чем лучше получится сейчас, тем больше наличных в следующий раз.
– Знаю, – сказала Мерси, не открывая глаз.
Она наверняка заметит, когда они вернутся.
Папа уходил и возвращался так несколько вечеров подряд. В пятый вечер он разделил деньги на две кучки и половину отдал ей. В свои тридцать пять он походил на сутулого старика в грязных брюках и порванной подмышкой рубахе.
У него был вид человека, бывшего в употреблении.
– Нам надо держаться вместе, – сказал он.
– В таком случае ничего от меня не утаивай. Расскажи, где ты взял деньги.
– Ты еще слишком маленькая, чтобы понять… Спи, мой ангел.
– Нет. Рассказывай.
Она уставилась в темноту. Ей показалось, что она видит контуры полного тела мамы, слышит легкое посапывание братьев.
И тогда он все рассказал.
Рассказал, что продавал себя другим людям.
В горле пересохло, в животе сделалось неприятно, но как хорошо было, когда он объяснял – он пошел на это ради нее. Пусть она не стыдится. Не чувствует себя грязной.
Ни за что, никогда.
Мерси открыла глаза.
Мужчина, игравший отца Новы, погладил ее по щеке.
– So pretty when you’re angry[44], – сказал он, и Мерси вспомнила, где слышала этот акцент.
В Олвейслэнде.
В Емтланде.
Стоит ли хлопот?
Квартал Крунуберг
– Эркан Джихан Дениз, – сказал Кевин и свернул на Е-4.
В трубке затрещало. Пришлось повторить имя.
Потом ему пришла в голову странная мысль.
– Проверьте еще некоего Луве Мартинсона.
Просто ощущение: с Мартинсоном что-то не так.
Что касается Фрейи Линдхольм, то тут он пока застрял. Допросив Эркана, Кевин еще переговорил с девочками из интерната, но они, похоже, не особенно хорошо знали Фрейю, как не знали и промышленной зоны, где можно снимать видеоролики.
Передав коллегам необходимую информацию, Кевин закончил разговор. Продолжая ехать в южном направлении, он посмотрел на часы. Свои восемь он отработал более чем, к тому же нужно оставить “тойоту” на Бергсгатан.
Может, заглянуть сегодня вечером к Себастьяну? Добраться с Бергсгатан до Вальхаллавэген, где обитал Себастьян, можно на “веспе”.
Было уже темно, когда Кевин съехал в гараж полицейского управления и поставил машину на место. Входя в лифт, он чувствовал, что от усталости в глаза как песку насыпали.
Кевин взял в кафетерии кофе с круассаном и сел за столик. Достал обнаруженный в доме на Стуран ноутбук, сунул вилку в розетку под столиком и включил компьютер. Через какие-нибудь полминуты система предложила ему ввести пароль. Имя пользователя уже стояло в строке – имена отца и матери, написанные в одно слово, – и Кевин предположил, что пароль окажется таким же.
Кевин ошибся. Он перепробовал несколько вариантов. Влезть в компьютер несложно, нужно только специальное оборудование. Пойти к программистам, посидеть у них час-другой. Но стоит ли дело хлопот?
Нет, решил Кевин, выключил ноутбук и закрыл крышку.
По какой-то причине фраза “влезть в компьютер” засела у него в голове. Пряча компьютер в сумку, Кевин понял почему.
С той минуты, как Вера предложила ему заехать к Себастьяну, Кевин чувствовал, что ему нужен предлог. Заехать просто так ему было сложно, да и Себастьян наверняка его не пустит.
А теперь предлог вот он, в сумке.
Надо всего лишь притворяться
Black girl, 14 yo, full service[45]
На Мерси было розовое летнее платье и белые хлопчатобумажные трусы в красных сердечках.
Она изображала четырнадцатилетнюю девочку и, чтобы выглядеть моложе, убрала волосы в два крысиных хвостика. Реквизит состоял из пары-тройки мягких игрушек, куклы и дополнялся несколькими дилдо разнообразного назначения.
Остальное – актерская игра, в зависимости от того, чего захочет человек по ту сторону веб-камеры.
В соседней кабинке сидела на кровати Нова – с таким же реквизитом; наверное, ночью им предстоит делить одну кабинку. Совместное выступление приносит больше денег.
После записи ролика это ее первая рабочая смена, но клиентов пока не было, и Мерси лежала на кровати с айпадом Цветочка. Она коротала время, записывая свою историю.
Странно, но ей хотелось поговорить с кем-нибудь посторонним. Вроде Луве.
Папа трахом протащил нас через всю Европу, писала она. Черный член всем нравился, от педиков из “Золотой зари”[46] до деятелей из дипломатических особняков Вены. И в то же время нас везде ненавидели. Ненависть была на флагах и плакатах, на наклейках, на стенах домов и на фонарных столбах. У греческого “Золотого рассвета” – черный знак на красном фоне, все вместе похоже на нацистский флаг. В Болгарии они назывались IMRO[47] и имели своим символом золотого льва. Румынская, как-ее-там, организация и венгерская “Йоббик”[48] – разные кресты. Австрийская партия свободы – синий цветок, а в Германии логотип походил на знак “Стоп”. В Мюнхене я подобрала котика. Он хромал на заднюю лапу, был похож на комок пыли, и я назвала его Дасти.
Мерси прервалась. Загорелась красная лампочка.
– Hello?[49]
Она его слышала, но не видела. Быстро свернула документ, открыла вкладку порносайта и выпрямилась. Экран она прижала к груди и постаралась принять смущенный вид, словно ее застали за недозволенным занятием.
– What are you doing?[50]
Слышно было, что английский ему не родной. Наверное, японец.
Мерси опустила глаза и показала ему экран.
– Nice, – сказал звонивший. – Are you home alone?[51]
– Yes.[52]
– And what you have been doing today?[53]
По голосу было ясно, что он мастурбирует.
– Just been playing with my toys[54]. – Мерси склонила голову на бок и закатила глаза.
Он просто голос. Она даже не запомнит ни его, ни то, что он попросит ее сделать.
Мыслями Мерси вернулась в Гамбург.
Ей приходилось помогать отцу, и побираться было недостаточно.
Надо всего лишь притворяться.
Мерси задрала розовое платьице и продемонстрировала звонившему трусы в красных сердечках.
Он всего лишь голос.
Зло обитает в провинции
Ути
Себастьян жил в студенческой квартире на Вальхаллавэген уже больше двадцати лет.
Кевин там никогда не бывал и, хотя много раз проезжал мимо его дома, никогда не обращал на него внимания. Градостроители, словно стыдясь этой бетонной коробки, расположили ее – осколок времен, когда Швеция имела репутацию западноевропейской ГДР – так, чтобы не было видно с эспланады.
Кевин вышел из лифта в темный коридор и направился к двери в самом его конце, к пожелтевшему матовому стеклу. На месте дверного звонка красовалась дыра с обрезанными проводами. Кевин постучал. В двери был глазок, и Кевин предположил, что Себастьян сейчас рассматривает его, Кевина, и раздумывает, открывать или нет. Возле глазка наклейка со словом СЭКАИ.
Кевин достал из сумки ноутбук, чтобы Себастьян его увидел, и через несколько секунд замок щелкнул. Дверь открылась – сантиметров на десять, Себастьян не снял цепочку.
– Чего тебе?
Черная щель между дверью и стеной.
Кевин показал ему ноутбук.
– Вот, включить не могу. Подумал – может, ты поможешь. Это папин. Я его нашел в доме на Стуран.
Послышался вздох, щель между дверью и стеной стала уже, и звякнула цепочка – Себастьян снял ее.
– У вас в угрозыске что, таким не занимаются? – спросил он, открывая дверь и глядя Кевину в плечо.
– Не совсем.
Себастьян – Джон Гудман, утративший осанистость – был одет в джинсы и белую майку. Он сутулился. Может, у него неладно со спиной? Голова торчит как будто из грудной клетки.
Когда Кевин вошел и Себастьян закрыл за ним дверь, Кевин увидел, что с внутренней стороны двери, у глазка, тоже имеется наклейка – со словом УТИ. Себастьян запер дверь, и стало темно, если не считать мерцавшего в комнате компьютерного экрана.
Сухой, металлический запах: пыль, электричество, озон и сигаретный дым. Такой же запах стоял в угрозыске – в архиве и Салоне.
Себастьян ушел в комнату; Кевин задержался в прихожей. Отсюда было видно всю квартиру. Налево – кухонька с маленьким холодильником, разделочный стол завален газетами и DVD-дисками, направо – туалет без двери; Кевин успел заметить ворох одежды на унитазе, еще несколько связок газет и неопознаваемый спуток каких-то проводов.
Штабели картонных коробок, бумажных пакетов, стопки книг, комиксов, дисков с фильмами и видеоиграми, вороха грязной одежды доходили до пояса, а то и чуть не до потолка.
Кевин увидел множество компьютерных деталей, несколько мониторов, клавиатур и старых жестких дисков, ящик с виниловыми пластинками, старый проигрыватель, пишущую машинку и коробки, куда были ссыпаны модели военных кораблей и танков. С потолка свисала модель “юнкерса”, на стене помещались самурайский меч и реплика израильского “узи”. Комната производила впечатление не убираемого много лет чердака, места, куда человек сгружает то, с чем ему не хватает духу расстаться.
Были здесь еще киноафиши, в основном представлявшие японскую мангу, но Кевин заметил и несколько постеров с хентаи, рисованной порнографией.
Значит, они оба интересуются кино, хотя в случае Себастьяна речь исключительно о фильмах рисованных и японских.
В комнате была расчищена дорожка, ведущая к компьютеру, перед которым лежал матрас; Кевину она напомнила проход в церковном зале, ведущий к алтарю. Компьютер стоял перед единственным в этой комнате окном с опущенными жалюзи; на подоконнике выстроились безделушки – фарфоровые куколки и чучело сокола.
Чтобы освободить место, Себастьян сдвинул пару ящиков. Принес табуретку, поставил. Себастьян и смотрел на Кевина, и не смотрел. Когда он усаживался на матрас, взгляд был направлен на что-то еще.
– Я, конечно, могу помочь тебе с компьютером, но все-таки: почему ты пришел ко мне? С чего Вера так встревожилась?
С того, что ее сын больше не называет ее мамой, подумал Кевин, но что ответить – не сообразил.
Они две птицы, которые разлетелись в разные стороны.
– Извини. Не знаю, что сказать, – признался Кевин. – Мы так давно не виделись, а на похоронах поговорить не успели. Да, Вера просила меня заехать к тебе, но я и сам собирался. Несколько раз.
– Но так и не заехал?
– Я иногда вспоминал о тебе. Думал, какой ты теперь.
Себастьян устало взглянул на него.
– Я такой же, каким был в двадцать лет. Провинциал, который перебрался в Стокгольм, чтобы учиться.
Как и отец Кевина, Вера и ее муж были уроженцами маленького городка в Онгерманланде. Себастьян вырос там и перебрался в Стокгольм, а примерно через пару лет в столицу переехали и его родители. По официальной версии Вера переехала потому, что отец Кевина нашел ей место в стокгольмской полиции, но все это были пустые разговоры: Вера вполне могла сама найти себе место.
– Я скучаю по тем летним месяцам в Онгерманланде, – сказал Кевин. – Мы снимали там домик…
– Скучаешь по Онгерманланду? – Себастьян усмехнулся. – Ты представления не имеешь… – Он достал сигареты, одну сунул в рот, другую протянул Кевину. – Давай я посмотрю, что с компьютером.
Кевин взял сигарету и положил ноут на матрас.
– О чем я не имею представления? – спросил он, пока Себастьян подключал ноутбук к розетке и поднимал крышку.
Себастьян включил компьютер, и теперь его внимание было направлено на экран.
– Как люди выживают в какой-нибудь дыре? – спросил он, быстро щелкая клавишами. – Героин, алкоголь, нездоровая любовь к моментальным лотереям. И устремления у них попроще. Они мечтают построить новую веранду, устроить зимний сад, провести отпуск на Самуе. – Голос был равнодушным, но Себастьян явно презирал то, о чем говорил. – Мне пришлось уехать оттуда. Иначе я бы сдох.
Кевин закурил. Себастьян потянулся за пластмассовой банкой, достал из нее флешку, вставил в ноутбук. Экран он развернул к себе, и Кевин не видел, что он делает. Наверное, устанавливает какую-нибудь программу.
– Когда поезд уходит, остаются дураки. – Себастьян сунул незажженную сигарету в рот. – Больные, ленивые или вялые. Строят баню, покупают новую машину, а потом насилуют подружку или дочь. Зависают на порносайтах, создают себе искусственную реальность, которую питают сетевыми приложениями к вечерним газетам. Изнасилования происходят в провинции. Зло обитает в провинции. При виде такого ботана, как я, у всяких психопатов и любителей кататься на снегоходах просто руки чесались.
Надо же, подумал Кевин. Он ожидал увидеть Себастьяна молчаливым и осторожным – именно такой Себастьян открыл ему дверь.
– Мне хотелось творческую работу, – продолжал Себастьян – он наконец зажег сигарету. – Я любил рисовать. Может, помнишь?
Кевин кивнул. В детстве на него производили впечатление и картины Себастьяна, и его комиксы.
– Найти такую работу в провинциальной дыре не так-то легко. – Себастьян вытащил флешку. – Я одно время занимался в местном центре живописи, свел знакомство с тамошними художниками постарше и быстро понял, что бо́льшая часть так называемых творческих людей – бездельники, каких поискать. Все рассказывают, что они создадут и что создали, но, если посмотреть их работы за последние несколько лет… да вменяемый человек такое за неделю сделает. Иногда я понимаю, почему биржевики презирают художников. Они по шестнадцать часов в день горбатятся, как можно разумнее размещают и инвестируют большие суммы, прилагают всю свою фантазию и творческие способности, чтобы получить максимальную прибыль, – а эти чудики только пьянствуют и жалуются, что у них нет вдохновения. – Он убрал флешку в банку и подключил ноутбук к собственному компьютеру. – Нет, художники и писатели – бездельники, каких свет не видел. Я думаю, они поэтому и стали художниками и писателями. Есть у тебя какая-нибудь идея – и хватит, а отчета с тебя никто не спросит. Ну их к черту.
Кевин предположил, что Себастьян говорит о своих рассыпавшихся в прах мечтах стать художником и о собственных недостатках.
– А ты что? Перестал рисовать?
– Да. Не захотел становиться, как они.
И переехал сюда, подумал Кевин. Выучился на программиста, кончил курс креативного программирования. Работы не нашел или не захотел искать.
– Ты где-нибудь работал после университета?
Себастьян фыркнул и затушил сигарету в блюдце с объедками.
– Работал маляром на стройке. Таскался целыми днями со шлифовальным диском на длинной палке и зачищал стены. Тяжело было, пылища адская, и когда я в половине пятого приходил домой, мне хотелось только лечь на диван и уснуть. Сил не хватало даже принять душ, смыть с себя пыль. Около девяти вечера я просыпался, жевал что-нибудь перед телевизором, а около одиннадцати опять засыпал. В шесть утра вставал – мышцы болят, во рту привкус пыли. Ни черта это все не имело общего с тем, чего мне хотелось. Нет, нельзя откладывать мечты на потом.
Поэтому ты сидишь здесь, подумал Кевин. Реализуешь себя, осуществляешь свои мечты.
Себастьян встал и перегнулся через компьютер. Диалоговое окно сообщило, что компьютеры подключены друг к другу.
– Придется подождать, – сказал он, стоя спиной к Кевину. – Ты еще что-то хотел?
Кевин затушил сигарету о ту же тарелку, что и Себастьян.
– Ну, может, повспоминать прошлое. Мы же часто виделись, когда я был маленьким. Ты был классный, хорошо ко мне относился.
– Помнишь, как мы однажды ночевали в палатке на Гринде? – Себастьян так и стоял над компьютером, спиной к Кевину.
Наверное, он говорил о том лете, когда дядя совершил насилие.
Да, да. Лето имени Паненки. Еще в нем были Вера и Себастьян.
Себастьян снова сел на матрас.
– Ты захотел спать у меня в палатке. Помнишь?
– Ну… Не очень.
– А помнишь, как ты наутро ответил своему отцу?
– Нет.
Теперь Себастьян смотрел на него в упор. Он немного улыбался краем рта, и Кевин узнал прежнего Себастьяна. Но глаза стали другие.
– Отец спросил тебя, как спалось, и ты сказал, что я всю ночь лез обниматься.
Кевин похолодел.
– Ты что, смеешься?
Себастьян затряс головой.
– Если бы. Тебе десять лет. Мне – двадцать три. Знал бы ты, какая жизнь у меня потом началась. Ты, конечно, не помнишь, но я довольно часто вспоминаю тот день.
Почему, почему все молчали, подумал Кевин. Даже Вера.
Какое-то время он раздумывал, могло такое произойти или нет, но потом выбросил эту мысль из головы. Если бы Себастьян что-нибудь с ним сделал, он бы помнил.
– Почему ты сейчас об этом заговорил?
– Потому что, когда я думаю о тебе, я всегда вспоминаю именно тот случай. Но теперь я знаю, что тебе никто ничего не рассказывал. Наверное, твой папа и Вера забыли тебе сказать, что иногда ты бывал истинным засранцем.
Себастьян закурил еще одну сигарету и бросил пачку Кевину. Как-то агрессивно бросил.
Он ни словом, ни делом не дал понять, что не хочет видеть Кевина, но Кевин почувствовал, что он тут нежеланный гость. По жестам Себастьяна было видно, что с него хватит. Кевин отложил сигареты.
– Мне пора, – сказал он. – Рад был повидаться.
– Да ну. – Себастьян улыбнулся.
Улыбка прежнего Себастьяна, но глаза – Себастьяна нового.
Когда дверь у него за спиной закрылась, он перевел дух.
Дождь перестал. Кевин завел “веспу” и, прежде чем тронуться, бросил взгляд через плечо. От окна Себастьяна остались две полоски слабого света, пробившегося между жалюзи.
Здесь, на улице, можно дышать, подумал Кевин. Но там, внутри, воздух не доходит до легких, он застревает в глотке, затхлый, сухой от пыли и мертвых насекомых.
“Ути” и “Сэкаи”.
Мечтать, может быть, дело бессмысленное
Свартбэкен
Час волка начинается около трех, в ту пору ночи, когда в человеческом теле включается критический режим, кровяное давление падает, а обмен веществ сильно замедляется. А вот уровень мелатонина, наоборот, подскакивает. Высокие дозы этого гормона становятся причиной ночных кошмаров у тех, кто спит, и вялости, тошноты и головной боли у тех, кто бодрствует.
Луве отодвинул одеяло и потянулся к пузырьку с таблетками, стоящему рядом с упаковкой “Тестогеля”. Пластмассовый пузырек упал на пол; Луве включил лампочку и поднял его.
Он не знал, стоит ли и дальше принимать лекарство, но все же проглотил обе таблетки. Снотворное и пароксетин, антидепрессант, который с ним уже несколько лет.
03.36. Экран телефона показал: пришло новое сообщение.
На кухне Луве включил чайник и принялся искать сигареты в шкафчике для специй. В пачке осталось всего три штуки; Луве достал одну, размял пальцами. После полугода в компании пакетиков с приправами и бульонных кубиков табак высох.
Пару ложек растворимого кофе залить кипятком. Луве сел под вытяжку, закурил и стал читать сообщение.
Привет, Луве, это Мерси.
После того как мы сбежали, во мне все начало бурлить. Я рассказываю о своей жизни Нове, но она слишком хорошая и, наверное, слишком многое пережила сама. Она считает мои рассказы совершенно нормальными. А мне надо рассказать кому-нибудь, кто знает: то, что я говорю, не нормально. Кому-нибудь, кто сможет помочь мне разобраться, что у меня на душе.
В общем, так: половину времени я хорошо себя чувствую. Живот не болит, меня не тошнит. А другую половину мне как будто на все наплевать, хочется, чтобы все провалилось к чертям.
Когда я заканчиваю работать, то чувствую себя неплохо. Потом мне становится все хуже, пока я снова не начинаю работать.
В библиотеке в Санкт-Паули я читала книжку про мальчика, который работал в шахте. Когда мне плохо, я думаю про него. Чтобы, когда работаю, прекратить жалеть себя.
Луве затушил окурок. От едкого дыма щипало глаза.
Это хороший знак, подумал он. Хороший знак, что она пишет, независимо от содержания.
Я могу работать, и это значит – я сильная, для меня еще не все кончено. Значит, я могу жить. Тело функционирует, оно не превратилось черт знает во что после изнасилования, оно способно принимать парней добровольно.
Способно принимать парней добровольно. Формулировки у нее такие прямые, такие… Луве не знал, как сказать. Слова раненого человека, может быть?
Да. Ее формулировки – формулировки раненого человека.
В нескольких строчках Мерси сказала больше, чем за все время сессий. Может, физическое отсутствие психотерапевта сработало для нее как катализатор?
Проще открыться воображаемому психотерапевту, чем человеку из плоти и крови, с изучающим взглядом и с блокнотом, в котором он отмечает все твои слова.
Луве знал, что не дает Мерси пойти на дно.
Мысль о том, что отец жив.
Он и сам мечтал, хоть и о другом. И хотя мечтать, может быть, дело бессмысленное, а иногда мечты приводят к сомнениям, они помогают удержаться на поверхности.
Тюбик “Тестогеля” – самый короткий путь к тому, чего не хватает. Луве вернулся в спальню, отвинтил крышечку.
И стал втирать мазь в руки и живот.
Один на целом свете
Три года назад
Газета была на английском. В статье рассказывалось о мальчике, чье лицо покрывала копоть. Негрязными оставались только глаза – большие, с яркими белками, они блестели, словно он недавно плакал. Мальчика звали Лайам, ему было семь лет; сто лет назад он работал на шахте. По четырнадцать часов в день сидел под землей и открывал затворки вагонеткам с углем. В шахте было так тесно и жарко, что он с трудом дышал.
Часто мне приходится сидеть без света, и мне страшно. Я никогда не сплю. Иногда пою, если где-то рядом свет, но только не в темноте. В темноте я не смею петь. Когда появляются крысы, я не решаюсь пошевелиться. Они отвратительно пищат, они холодные и мокрые.
Не может такого быть, подумала Мерси. Англия же в Европе.
Чаще всего затворки в шахте открывали мальчики и девочки лет четырех-восьми. Когда они подрастали, то переставали умещаться в узких подземных проходах.
Из-за темноты они теряли чувство реальности. Думали, что шум и грохот – это подземные чудовища, которые вот-вот явятся и утащат их.
Мерси снова посмотрела на мальчика на картинке. Желудок свело, когда она подумала про Нонсо, какие у него были глаза, когда она вытащила его из воды.
Когда произошел обвал, выжил только Лайам, его папа и младшая сестра работали в той же шахте. Лайама нашли в маленьком воздушном кармане глубоко под землей – он лежал, весь покрытый черной пылью, и обнимал мертвого кота.
Кот – мой лучший друг. Когда он приходит ко мне, трется о ноги и мурлычет, мне становится не так одиноко.
Мерси подумала о Дасти. Как славно держать его в руках. И как удивительно жизнь этого мальчика похожа на ее собственную.
Конечно, она не работает в шахте, но она, как и Лайам, потеряла почти всю семью. К тому же она приносит в семью деньги, продавая себя.
И кот еще. Мерси с отцом теперь лучше спали по ночам, потому что Дасти не подпускал к ним крыс, совсем как те кошки в шахте. Которые даже считались принятыми на работу. Охотились на мышей и крыс и получали плату – молоко и свой угол, с корзинкой и теплым одеяльцем.
Мерси устыдилась, что не подумала купить Дасти корзину, где ему было бы удобнее спать, а еще устыдилась, что сравнила себя с тем английским мальчиком. Ей-то живется не в пример лучше.
Мерси читала, как мастер грозил Лайаму, что, если тот не выполнит работу, его заберут черти, а когда мальчика вытащили из шахты, взрослые говорили, что его Бог спас, хотя Лайам все равно умер всего через несколько месяцев, от чахотки. К тому времени его мать уже успела умереть, тоже от чахотки, так что, когда он наконец отошел к Господу, он был один на целом свете.
Ненавижу религию, подумала Мерси и положила газету.
Из библиотеки она отправилась на остановку автобуса, где ее ждали папа и Дасти. Она расскажет папе про Лайама, только сначала купит Дасти корзинку.
Пара евро за плетеную кошачью корзину, выстланную стеганым одеяльцем.
Но когда Мерси пришла на остановку, папы там не было.
И Дасти тоже не было.
А потом его накрыл ужас
Серая меланхолия
В семь часов утра Свен-Улоф Понтен поставил машину возле бизнес-центра на Фрёсундаледен. На фасаде, почти под крышей, помещалась вывеска с логотипом, который Понтен сам придумал дома в Стоксунде, лет двадцать назад. Наклонная “П”, выписанная красным Airal Bold, протянулась над названием фирмы. Умышленно некрасиво, но просто и эффективно.
Свен-Улоф некоторое время постоял, созерцая вывеску и пытаясь прогнать мысли об Алисе воспоминаниями о тех первых, непростых годах, когда “Рекламное бюро Понтен” было всего лишь небольшим предприятием.
Но ностальгия не смогла вытеснить тревогу и тяжкую грусть.
Ты больной человек, папа. Я никогда не стану такой, как ты.
Алиса, которой, может быть, следовало бы некоторое время провести без него, чтобы снова его полюбить. Как в детстве.
Но сейчас он не мог думать о ней.
Свен-Улоф поднялся на лифте на четвертый этих и констатировал, что приехал первым. Приезжать первым и уезжать последним. Хороший девиз, если хочешь добиться успеха.
Собрание руководства назначено на восемь. Помощница Свена-Улофа появится без четверти восемь, остальные четверо участников притащатся в последнюю минуту.
Свен-Улоф прошел в кабинет для совещаний, поставил портфель на стол и достал документы, которые следовало обсудить. У бюро есть все шансы подписать контракт с одним французским гигантом. Договор потянет на двадцать пять миллионов.
Но минут десять дело может подождать.
Он расстегнул “молнию” на внутреннем кармашке портфеля, достал заветный телефон, вышел в коридор и направился в туалет.
Руки слегка дрожали. Свен-Улоф запер дверь и поднял крышку унитаза.
Расстегнул брюки, стащил трусы и сел.
Он уже раз двадцать успел посмотреть видео, которое переслал ему Цветочек, но стоило ему запустить запись снова, сердце застучало быстрее.
Примитивная эстетика, резкая картинка, девушки без косметики. Цветочек, может, и не особо умен, но знает, что надо людям. Потрахаться хочется с девушкой, живущей по соседству. Чем фантазии ближе к реальности, тем чувствительнее они затрагивают струны души.
Сейчас на экране телефона перед Свеном-Улофом была фантазия, ставшая реальностью.
Его первая черная девушка.
Open your mouth.
Снимали немного наискосок. Блэки лежала на спине: рот широко раскрыт, язык высунут, а сам он сидел на ней верхом. Эрекция сейчас, без виагры, снова была мучительной. В ролике он видел собственное лицо, звериную гримасу, лоб словно выдвинулся вперед, а глаза ушли под брови. Он видел, как легонько бьет девушку по щеке.
Свен-Улоф судорожно переводил взгляд с лица девушки на собственный член. Такой знакомый. Он знал каждую жилку, каждое пятнышко, он все быстрее водил кулаком, стараясь, чтобы семяизвержение произошло одновременно с тем, что на экране.
Больше всего ему хотелось быть здесь, внутри.
Внутри головы.
Свен-Улоф Понтен умел удалять нежелательные мысли посредством мастурбации.
Мгновенное чувство облегчения и какого-то душевного освобождения; иногда приходилось тут же повторить, вот и теперь он за двенадцать минут опустошил себя дважды.
А потом его накрыл ужас, но здесь у него под рукой не было ящиков со спасительными папками. Папки, оставшиеся в кабинете для совещаний, содержали пятилетний маркетинговый план для французского предприятия, желавшего пустить корни в Северной Европе, и Свен-Улоф надеялся, что страх можно будет прогнать упорной работой. А чтобы сосредоточиться на работе, ему нужен сеанс мастурбации. Иногда утверждают обратное: что пик работоспособности наступает, когда ты переполнен семенем, но это не его случай.
Свен-Улоф уже полчаса готовился к докладу, когда появилась его помощница. Двадцать один год, практически без опыта работы, но обладающая бронебойной целеустремленностью, а также редким качеством мыслить вне заранее выставленных рамок.
По мере того как остальные входили в кабинет, Свен-Улоф в уме ставил напротив каждого галочку.
Без пяти восемь. Руководитель экономического отдела, Рогер, тридцать девять лет. Эффективный подхалим. Без трех минут восемь. Отдел по работе с клиентами. Кристер, сорок шесть. Очень полезный для бюро человек. Вместе с Кристером появился Ибрагим. Двадцать семь лет, креативный директор, нанят недавно. Хорошие отзывы, но выдержит ли он напряжение? Ровно восемь. Начальница отдела кадров. Катарина, сорок два. На пути к выгоранию.
– Ну, пора этому договору в наш уютный дом, – Рогер, подхалим.
– Большие проекты не сидят по уютным домикам, дела не делаются в тихой гавани, – с улыбкой заметил Свен-Улоф. – Их удел – завоевывать мир.
Он раскрыл папку; излагая повестку дня, он заметил, что руководитель экономического отдела принес с собой вечернюю газету.
– Это что? – спросил Свен-Улоф, указывая на газету. – Так-то вы подготовились к совещанию? Думаете, в ближайшие часы нам пригодятся последние сплетни о знаменитостях?
Руководитель отдела извинился; когда он убирал газету, Свен-Улоф уже не улыбался.
– Хотя дайте-ка на минуту, – сказал он. Руководитель отдела поколебался.
– Газету?
– Да… Позвольте, я взгляну.
Всю верхнюю часть полосы занимало начало заголовка – “Тара, 15 лет, новая жертва”, здесь же помещалась фотография. Темные волнистые волосы над бледным лбом, два глаза.
Он развернул газету.
“Тара, 15 лет, новая жертва убийства во имя чести”.
Увидел ее улыбку, щербинку между зубами, родинку над верхней губой.
Мокрощелка
Фарста
В десять часов Вера заехала в Танто за полусонным Кевином. Он снова задремал в машине и проспал всю дорогу до Фарсты, до дома престарелых. Они приехали навестить его мать.
Впервые за долгое время Кевин заснул глубоко и проснулся, лишь когда Вера заглушила мотор.
– Извини, – сказал он. – Похоже, ты на меня действуешь расслабляюще.
Вера улыбнулась, но Кевин понял, что она за него тревожится.
– Есть места, где один из видов пытки – не давать людям спать… Кевин, чем ты занимаешься по ночам?
– Смотрю фильмы. – Он потер глаза, пытаясь припомнить, что все-таки сработало как снотворное.
– Ты скорбишь, – сказала Вера.
Да, она права.
Его мать не узнала ни его, ни Веру, и Кевин сразу понял: сегодняшнее посещение умножит ряд тех, что становились тем короче, чем ближе подступала смерть. Хорошо, что сегодня с ним Вера.
Мама сидела в кресле в общей комнате; когда медсестра сообщила, что приехал сын, она не отвела взгляда от телевизора.
Кевин помнил, как она десять лет назад сидела вот так в кресле дома, на Стуран.
Тогда лицо у нее было круглее, а взгляд яснее, но разница с тем, что он видел сейчас, заключалась не в этом.
Тогда мама выглядела доброй. Теперь доброта исчезла.
Они опустились на диван напротив нее, и старуха наконец взглянула на них.
– Это вы меня сюда засадили? – прошипела она – Ты и эта шлюха…
Медсестра уже предупредила Кевина, что состояние матери ухудшилось, но все же он испытал потрясение. Из отца ругательства сыпались, как из мешка, но чтобы ругалась мать, Кевин еще не слышал.
Мать пристально смотрела на Веру, и та отвела взгляд.
Кевин потянулся погладить мать по руке, но та с отвращением отдернулась от него, как от заразного.
– Брат к тебе не заглядывал? – Кевин очень надеялся, что говорит непринужденным тоном. – Он говорил, что собирается к тебе после похорон. Прилетел из Америки и…
– Сука драная… – Мать бросила взгляд на Веру, после чего снова уставилась в телевизор.
Двое парней и светловолосая девушка нырнули в бассейн с таким видом, словно высшее достижение в их жизни – это плескаться в воде, а может, так оно и было. Через год никто не вспомнит их загорелые мускулистые тела. Может быть, победитель заплыва в этом сериале будет ставить диски на финском пароме.
– Я в машине подожду? – тихо спросила Вера.
Вера нравилась маме, они много лет близко дружили.
– Не уходи пока, – прошептал Кевин. – Просто у нее сегодня плохой день. Мы ненадолго.
Вера сжала его руку.
– Шлюха, – повторила мать, в упор глядя на них. – Проститутка.
О людях в глубокой деменции обычно говорят, что они стали неузнаваемы, что они утратили себя, изменились как личность. Кевин спрашивал себя, не оскорбительно ли говорить так о больных. Мать стала почти неузнаваемой. С прошлого раза ее состояние сильно ухудшилось.
Вера отпустила его руку, озабоченно улыбнулась и встала.
– Наверное, лучше все-таки оставить вас наедине.
Когда Вера выходила, по экрану телевизора уже бежали заключительные титры. Едва Вера скрылась, как мама что-то пробормотала.
– Что-что?
Мать уперлась в него взглядом и повторила, уже громче:
– Ей было всего тринадцать… Мокрощелка паршивая.
– Ты о ком?
– Шлюха. Его шлюшка.
Голос оборвался, мать закашлялась. С подбородка потянулась нитка слюны.
На экране пошла реклама какого-то спреда. Кевин поднялся, подошел к матери и положил руку ей на плечо.
На этот раз она не оттолкнула его. Не ответила, но все же погладила по руке.
Был ли это жест приязни? Или мать просто давала понять, что ему пора уходить?
– Мама, я сейчас уйду, но вернусь через пару дней. Может быть, тебе будет получше.
К парковке Кевин шел, не оборачиваясь.
Когда он усаживался на пассажирское место рядом с Верой, у него зазвонил телефон. Звонил следователь, с которым Кевин разговаривал после посещения интерната в Скутшере.
– Я насчет Луве Мартинсона, – сказал следователь. – Его, оказывается, зовут по-другому, к тому же он проходит по программе защиты свидетелей.
Мартинсон сменил имя? И он – в программе защиты свидетелей?
– И каким образом он в этой программе?
– Пока неясно, но поговори с Лассе. Думаю, он в курсе.
Когда тянет с фабрики
“Ведьмин котел”
На столе лежал старый дневник Луве. Дневник был раскрыт, и Луве спрашивал себя, он ли написал все это. Запись как будто сделал другой человек.
Девочка-подросток в первую очередь – объект оценки, прочитал он. Она одинаково восприимчива и к критике, и к лести. Она – экспонат, которому присваивают тот или иной класс. Грудь, ягодицы, походка, одежда.
Ее подростковое “я” – это всегда версия ее самой, подобно фальшивой улыбке в сверкающем лезвии бритвы.
Повзрослев, она будет вспоминать годы отрочества как некую неясную болезнь. Как инфекцию, от которой ей так и не удалось до конца излечиться.
Запись была датирована началом девяностых, когда Луве еще учился на психолога. Дневник он нашел зажатым между книгами по психологии развития; должно быть, он попал туда по ошибке, после переезда.
Фальшивая улыбка в сверкающем лезвии бритвы, подумал Луве и закрыл дневник. Во всяком случае, формулировка точно его собственная.
Он вышел в коридор и направился к кабинету, в котором проводились сессии психотерапии.
После того как Свен-Улоф Понтен забрал Алису, группа как будто наполовину опустела.
Луве вошел и сел. Четыре оставшиеся девочки сидели тихо как мыши.
– Давайте поговорим о том, что случилось. Говорить может, кто хочет, но по очереди. Кто начнет?
Руки подняли все четыре, и Луве дал слово той, что успела первой.
– Почему легавые увезли Эркана? – спросила девочка.
– Его задержали и пока отстранили от работы. И, мне кажется, не стоит строить предположения, не зная, что произошло. Вечером придет его сменщик.
– Полицейские нашли Фрейю?
Луве энергично затряс головой.
– Нет, но даю вам честное слово: как только я что-нибудь о ней узнаю, вы будете первыми, кому я скажу. Сейчас важнее всего, как вы себя чувствуете…
– А Повелителя кукол полиция нашла? – перебила его одна из девочек.
– Насчет него я тоже не знаю.
Окно, перед которым сидела девочка, выходило на бурый склон, поднимавшийся к лесу, и Луве показалось, что там что-то движется. Кролик?
Похоже на кролика, но зверек быстро исчез.
Там один мужик разводит кроликов.
Луве почти дословно помнил, что Нова рассказывала по время последней сессии.
Я пошла туда, взломала дверь и свернула крольчонку шею. Потом мы его похоронили в лесу. Хотите – проверьте. Мы там крестик поставили – связали две палочки резинкой для волос.
Луве кашлянул.
– Напоминаю: если хотите – можете высказаться.
– Я хотела спросить про Нову, Мерси и Фрейю, – сказала следующая девочка, и ее соседка согласно закивала. – Здесь как-то пусто стало. Понимаете, да?
Ее прервал короткий стук в дверь.
– Да? – сказал Луве. На пороге стояла бывшая терапевт Фрейи.
– У вас найдется минутка?
Луве поднялся и вышел.
Терапевт задумчиво смотрела на него.
– Ко мне только что заходила уборщица… Утром она убирала в комнате Алисы и нашла вот это. – И она протянула Луве черную майку.
– Ну да, девочки часто затыкают вентиляцию, когда с фабрики тянет вонью.
Терапевт вздохнула.
– Это не Алисы. Это майка Фрейи.
Луве вгляделся в майку. На груди большими красными буквами значилось “Голод”.
– Любимая майка Фрейи, – сказала женщина. – Как по-вашему, Алиса может что-нибудь знать об исчезновении Фрейи?
Рано или поздно запретят
Нюнесвэген
Кевин не знал, насколько он может распространяться, но спросила-то Вера.
– Луве Мартинсон проходит по программе защиты свидетелей, – начал он. – И не далее как полтора года назад, весной 2011 года, его звали по-другому.
– И что это значит?
– Пока неясно, но что-то там было… Может быть, он выступил свидетелем.
В машине Веры пахло сигариллами, как в отцовской. Для Кевина этот запах с детства означал безопасность.
Ему давно уже хотелось задать один очень важный вопрос, но Кевин долго не знал, как его сформулировать. Сейчас вопрос наконец оформился.
– У вас с папой были отношения?
Ответ оказался быстрым и коротким.
– Да, – сказала Вера и выбросила окурок в окно.
Ее ответ словно подтвердил его неясные догадки. Кевин ощутил облегчение.
Представил себе их вместе.
Клинт Иствуд и Хелен Миррен.
Вера и его отец почти тридцать лет работали вместе, близко общались, и Кевин без особого труда представил их в одной постели.
То, что он услышал, вдруг показалось ему само собой разумеющимся.
– И долго?
Вера завела мотор.
– Начали, когда были подростками. Закончили лет пятнадцать-двадцать назад.
Как там мама сказала? Ей было всего тринадцать… Мокрощелка паршивая.
Вера вырулила с парковки.
– Ты злишься?
– Нет, на вас – нет. – Кевин открыл бардачок, где лежали сигариллы. – Можно одну?
Вера кивнула.
Пока Вера гнала машину через квартал высоток, оба молчали. Кевин закурил и опустил окошко.
– Как там Себастьян? – спросила Вера.
Кевин рассказал про те выходные, на Гринде, и как он, подросток, заявил, будто Себастьян всю ночь лез к нему обниматься и не давал спать.
И как папа и Вера отругали Себастьяна.
– Мы все не так поняли, поторопились. – Вера выехала на Нюнесвэген и поехала на север, в город.
Державшаяся несколько часов сухая погода кончилась, снова зарядил дождь. Кевин воспринимал каждую каплю как личное оскорбление. Он где-то читал, что шведы в представлении многих иммигрантов вечно жалуются на погоду. Впустую тратят энергию на то, на что не могут повлиять. Может быть, он совершает ту же ошибку, роясь в отцовском прошлом. Сладить со смертью он все равно не в силах.
А тайны будут всегда.
Вера кашлянула.
– Я в последнее время много думаю о Себастьяне… Может быть, я слегка категорична, но мне кажется, у него мания величия.
– Сильно сказано, – отозвался Кевин, хотя ему казалось, что все еще сложнее.
Побывав у Себастьяна, Кевин озаботился узнать побольше о словах “ути” и “сэкаи”. По-японски это значило “дом” и “мир” соответственно; так Кевин получил намек на возможную проблему Себастьяна.
– Он отказывается разговаривать со мной, – продолжала Вера. – Но постоянно дает понять, что у него в жизни есть некая миссия, столь великая, что по сравнению с ней все наши занятия не имеют смысла. И пока он убеждает себя в своем великом предназначении, он палец о палец не ударит, чтобы устроить повседневную жизнь. Найти какую-нибудь обычную работенку. – Вера стукнула по рулю. – Реалистичную цель в жизни, какой бы малой она ни была. Вот что мне делать?
– И что, по-твоему, будет дальше?
Вера покачала головой.
– Не знаю. Я все перепробовала. Психологи, стажировка, поездки за границу. Все это он отверг. Перед тем как уйти на пенсию, я взяла отпуск на две недели – думала, мы вместе к чему-нибудь придем, узнаем друг друга получше. Я вернулась на работу уже через несколько дней. Он отказывался выходить из квартиры.
– Ути и сэкаи, – сказал Кевин.
– Как?
– Себастьян – хикикомори.
– Что-что? – Вера с недоумением посмотрела на него.
– Хикикомори.
Вера прибавила газу и объехала какую-то машину.
– И что это значит?
– Хикикомори – настоящая эпидемия в Японии и других странах Восточной Азии. В одной только Японии хикикомори больше миллиона. Но и у нас они появляются все чаще. Люди, которые выбирают добровольную изоляцию. “Ути” значит “дом”, а “сэкаи” – “мир”. Он против всего мира.
– Вон что… И как с этим бороться? Есть какое-нибудь лекарство?
Кевин ждал этого вопроса. Вера вся нацелена на результат, недаром коллеги прозвали ее “Замдиректора”, но тут простых решений не было. Люди – не фабрики.
– Ну… В Умео и Упсале работали с хикикомори, но про результаты мне ничего не известно.
– Понятно, – резко сказала Вера. – Если надо выплачивать студенческий заем, можно уйти в загул, и ничего не произойдет. Сиди дома, философствуй о несправедливостях мира. Во всяком случае с Себастьяном все именно так. Он уже лет двадцать торчит в квартире на Вальхаллавэген, никак не отклеится от своего идиотского компьютера.
– Есть и другие причины, – заметил Кевин. – Требования общества, погоня за статусом и деньгами, ожидания близких…
– И семьи, насколько я понимаю… – грустно заметила Вера.
Кевин не знал, что сказать – только какие-то уклончивые фразы: что все, наверное, сложнее и не зависит от одних только методов воспитания.
Если он правильно помнил, японское слово “хикикомори” означает “отходить в сторону”, “замыкаться”. Такие люди остаются дома, потому что выгорели, страдают от социофобии, они часто ищут убежища в интернете и альтернативных мирах. Если верить статистике, часто хикикомори – молодой мужчина, который переживает жизненный кризис; отец в его жизни отсутствует, а с матерью он находится в зависимых отношениях.
В случае Себастьяна все так и есть.
– Японские родители говорят своим детям “лети”, но при этом крепко держат их за ноги.
– Откуда ты все это знаешь? – спросила Вера. – Интересуешься японской культурой?
– Из Гугла.
– Ну, тебе виднее. – Вера пожала плечами.
Кевин выбросил окурок и поднял окно. В пробке Вере пришлось сбавить скорость; перед ними протянулась вереница красных габаритных огней, однако вместо того, чтобы вежливо тащиться в пробке, Вера свернула на обочину и объехала машины в той же не признающей ограничений манере, с какой водил машину отец.
Несмотря на тесноту – до зеркал бокового вида было каких-нибудь сантиметров двадцать, – Вера не снижала скорость. Когда у нее зазвонил телефон, она вытащила его из кармана куртки и ответила – все на тех же сорока километрах в час.
С тех пор как в Албании пару лет назад запретили говорить по телефону за рулем, Швеция осталась единственной европейской страной, где это еще можно. Хотя рано или поздно и здесь запретят. Но Веру запрет не коснется.
– Себастьян?
Она с удивлением взглянула на Кевина. Из трубки донесся голос ее сына.
Кевин услышал, как Себастьян произнес его имя, и Вера протянула ему трубку.
– Он хочет поговорить с тобой.
Пока Себастьян рассказывал, что ему удалось запустить ноутбук, который Кевин обнаружил в родительском доме, Вера притормозила, а потом и вовсе остановилась на обочине.
Сначала Кевину показалось, что Себастьян пьян или под кайфом.
Потом – что на состояние Себастьяна повлияло то, о чем он рассказывал.
А еще потом Кевин понял, что ничто уже не будет, как прежде.
День одиннадцатый
Декабрь 2012 года
Жизнь должна быть как книга, которую не хочется заканчивать
Патологоанатомический институт
Эмилия Свенссон, сорока девяти лет, выросла в доме, выстроенном по программе “Миллион” в Брандбергене, к югу от Стокгольма. Квартирка принадлежала ее родителям, Ингер и Гуннару, оба родом из Вестерботтена. Рост Эмилии составлял метр восемьдесят семь без каблуков, тогда как в Ингер было метр пятьдесят три, а в Гуннаре метр шестьдесят семь. Кожа у Эмилии была коричневая, мягкая, у Ингер и Гуннара – сухая, цветом серовато-бежевая. Эмилия родилась в городке на востоке Нигерии, недалеко от границы с Камеруном. К Ингер и Гуннару она явилась, как благословение Господне, светлым летним вечером в середине шестидесятых.
Мужчина, лежавший перед Эмилией на поддоне из нержавеющей стали, тоже был родом из Нигерии, только его городок располагался на севере страны, и в Швецию этот человек попал совершенно иным путем.
Двумя неделями раньше он незаметно пробрался на борт аэробуса А320 “Брюсселс Эрлайнз”, летевшего в Стокгольм. Подкупив одного из механиков, он устроился в люке для заднего левого шасси.
Первые десять минут после взлета в Брюсселе температура была нормальной, но уже над южной Данией опустилась до уровня температуры на Марсе.
Судмедэксперт Эмилия Свенссон читала протокол вскрытия.
Предполагаемая причина смерти – сильное обморожение и недостаточное снабжение кислородом вследствие разреженности воздуха. Когда люк шасси открылся, покойный был уже мертв.
Покойный был уже мертв, подумала Эмилия.
Сухой язык Иво Андрича наводил на мысли о краткой сводке новостей.
Существует несколько задокументированных случаев, когда люди прятались в люках для шасси, откуда потом выпадали. Примеры – Нью-Йорк, 2000 год и 2007 год. Травмы, полученные пострадавшими, в общем и целом идентичны травмам альпинистов.
Пролетев по воздуху восемьсот метров, тело упало на Лильехольмсбрун, где его переехал грузовой автомобиль.
Асфиксия, обморожение и ушибы. Около семидесяти пяти процентов костей сломаны или раздроблены, имеют место обширные травмы черепа.
Бесформенное исхудавшее тело, глаза выпучились и неотрывно, с пустым выражением смотрят на нее.
Но и обезображенный, этот человек оставался красивым. Теперь они знают, кто он. Его дочь находится в Швеции, где – неизвестно. Ее зовут Мерси, и ее разыскивает полиция.
Эмилия накрыла тело и задвинула поддон в морозильную камеру.
Socio interruptus.
Жизнь – последовательность прерванных социальных связей, подумала Эмилия. Сослуживцы приходят и уходят, в семьях случаются разводы, а друзья переезжают. Меняется среда обитания. Смерть – самое радикальное из таких прерываний. Эмилия старалась не вдаваться в пустые размышления о биографии покойных.
Хотя иногда не могла удержаться. Дочь этого умершего мужчины еще не знает, что он умер. В мире шестнадцатилетней Мерси отец еще есть, и socio interruptus еще не произошел.
Эмилия вспомнила свою первую экспертизу – она тогда еще не научилась не думать о мертвых.
Один мужчина толкнул свою жену, и она так сильно ударилась, что умерла. Они были женаты шестьдесят лет и, по словам мужчины, прежде никогда не ссорились. Но именно там и тогда он, по какой-то банальнейшей причине, взорвался. Когда Эмилия и ее коллеги приехали к старикам, муж ждал их в прихожей. Сидел на стуле и причесывал погибшую жену. Мы так хорошо жили, сказал он.
Муж скончался через несколько дней. С формальной точки зрения – не самоубийство, просто сердце не выдержало.
Эмилия вышла из морга, открыла дверцу машины и села за руль.
Следующая остановка – Крунуберг, техническое исследование компьютера, который Кевин Юнсон оставил там с неделю назад. Компьютер содержал в себе socio interruptus более тяжелого свойства, и Эмилия надеялась, что молодой коллега это переживет. Как несправедливо, подумала она. Жизнь должна быть книгой, которую не хочется заканчивать, а не книгой, которая обрывается на полуслове.
Еще Эмилия получила ответ из лаборатории в Линчёпинге. Ответ следовало передать бригаде полицейских, которые расследовали дела о проституции.
Когда она отъезжала от патологоанатомического института, в Сольне пошел первый снег.
Наука говорить непонятными словами
Промышленная зона Вестберги
С самого детства кошмары Новы питала одна сказка. Речь в ней шла о великанше по имени Грила. Великанша жила в пещере, была злая, уродливая с крючковатым носом, усеянным волосатыми бородавками. Из пещеры она вылезала, чтобы поискать непослушных детей себе на ужин. Поблизости всегда оказывались какие-нибудь сорванцы, которые прямо-таки ждали, чтобы их съели.
Кошмары всегда были одинаковы, и Нова просыпалась с отвратительным привкусом страха во рту.
Сейчас она чувствовала тот же привкус.
Проведя восемь дней в Вестберге, отрезанными от мира, они, чтобы убить время, стали давать друг другу маленькие задания.
Непослушные сорванцы.
Нова стащила в каком-то магазине дорогие спреи для волос, кремы и косметическое масло и теперь расставляла флаконы и баллончики рядком на столе.
Выбираться в город само по себе было рискованным предприятием. Они уже два дня как объявлены в розыск, их фотографии и имена напечатаны в газетах. Нова коротко постриглась и выкрасила волосы в черный цвет, но ее все равно можно узнать.
Несколько дней назад Мерси подцепила клиента и обработала его на автозаправке в Книвсте. Того самого мужика, который играл в видеоролике отца Новы. Мерси удалось угнать его машину, серебристо-серую BMW. За машину они получат от Цветочка тридцать тысяч, хотя он и вздрючил их за неосторожность.
Кроме как добывать деньги, заняться было особенно нечем, и они на стенку лезли от скуки. Нова рассматривала украденное. Некрасивая старинная ваза; русские шахматы, в которые они не играли. Под диваном помещались три коробочки с бокалами для шампанского из “ИКЕА”, ценой в сто семнадцать крон. Поездка на такси до Кунгенс-Курва, где Мерси их стащила, и обратно обошлась Мерси гораздо дороже.
Еще у них имелось изрядное количество сигарет и конфет, и, хотя девочки заплатили только за половину этого добра, они все равно экономили деньги.
Транжирить не стоит.
Они собираются в США.
Мерси курила, сидя в кресле. Дым утягивало в плохо заклеенное окно. Нова замоталась в одеяло.
– Тебя моя добыча не впечатлила, да?
Мерси рассмеялась и сжала ее руку.
– Ну… Тебе как будто скучно играть в кражи. Тебе и со мной скучно?
Нова подумала, а потом сказала:
– Скучно с тобой? Ты же идеальная.
И это сущая правда. Они могли говорить обо всем, могли открыться друг другу, нечего больше было стыдиться.
– Ты лучше всех. Но что ты во мне нашла? – спросила Нова.
– Ты единственный человек в мире, которого мне не хочется убить.
Пару секунд они смотрели друг на друга, потом захохотали.
Как просто стереть все серое, прогнать скуку и печаль, если ты не одна!
Чтобы скоротать время, девочки затеяли писать Луве. В конце концов, тот факт, что Нова и Мерси столько говорят друг с другом – его заслуга.
У Мерси появилась потребность выговориться.
Как будто от этого зависело все.
Она потушила сигарету и тут же закурила новую.
– Помнишь, как мы познакомились?
Нова помнила. Они познакомились в “Ведьмином котле”, утром, после завтрака.
– Твой первый день в Скутшере. Мы вышли на парковку, курили, болтали.
– Да, и ты отдала мне свою последнюю сигарету.
Нова посмотрела на пустую пачку.
– Девушка, которая отдает последнюю сигарету, – продолжила Мерси, – наверняка хорошая девушка.
Мерси задумчиво выдула несколько колечек, и они медленно поплыли к окну, в которое тянуло сквозняком. Сколько Нова ни пыталась, она так и не научилась выдувать дым колечками.
– Помнишь ту девчонку, из какой-то дыры возле Евле? Она еще думала, что в Стокгольме так же круто, как в Нью-Йорке?
– Ага. Она столько таблеток жрала, что у нее внутри прямо бренчало.
– А говорок у нее был! Нукагдила?
Нова тогда не сразу поняла, что нукагдила означало “ну, как дела?”. Просто так говорили в деревушке под Евле.
– Окнорм, – усмехнулась Мерси, и Нова поняла, что это значит “нормально”.
Нова разорвала пакет и высыпала чипсы на бумажную тарелку.
– А старая заведующая, которая была до Луве… Она всерьез думала, что я не люблю кровяную колбасу потому, что она для меня связана с каким-то ужасным переживанием. Но кровяная колбаса же просто ужасная гадость. Она видела психологию во всем, что мы говорили или делали.
– Знаешь, что папа говорил мне про психологию?
Нова помотала головой.
– Что это наука говорить непонятными словами то, что все и так знают. – Мерси повертела в руках флакон шампуня из “Оленс” и продолжила: – В первые дни в Брэкке, до того как туда привезли шведские книги и газеты, я читала только надписи на шампунях да еще свой словарь. На шампуне шведские, норвежские и датские надписи шли подряд, производители место экономили. – Она подняла флакон повыше. – Надписи на шампуньском языке.
– Такого же не бывает?
– Ребята в Брэкке так говорили.
Нова взяла горсть чипсов и налила в газировку красного вина. Если это вино смешать с кока-колой, то пить можно.
Цветочек дал понять, что им не стоит здесь задерживаться. Что им пора двигать дальше.
И все они выступают под одним псевдонимом
Квартал Крунуберг
Судмедэксперт Эмилия Свенссон курила под густым снегопадом, стоя у гаража полицейского управления в Кунгхольмене. Справа тянулись к безрадостному небу голые деревья, слева угадывался светлый фасад здания. Делая затяжки, Эмилия рассматривала сине-желтые полицейские “вольво”, и ей подумалось, что шведские полицейские машины и английский марципановый торт объединяет баттенбергская разметка. Коллега как-то рассказывал, что после долгих испытаний на борта машин экстренных служб решили наносить разметку, похожую на квадратики баттенбергского торта. Шахматный рисунок видно лучше всего.
Так полицейские машины оказались разрисованы сине-желтыми прямоугольниками.
Главное – сделать что-либо заметным, подумала Эмилия и отбросила окурок. Увидеть неожиданное в ожидаемом.
Ларс Миккельсен, занимавший в угрозыске одну из начальственных должностей, попросил ее о помощи. Он объяснил, что собирается – не сказать, чтобы общепринятым способом – установить личности нескольких человек, распространителей детской порнографии в интернете. Эмилия с готовностью согласилась: то, о чем просил Миккельсен, входило в ее компетенцию, к тому же ей хотелось понаблюдать работу уголовного розыска изнутри.
Лассе упомянул, что им поможет “серая шляпа”. В ответ Эмилии пришлось признаться, что она незнакома с этим понятием.
Возвращаясь в тепло полицейского управления, она уже знала: “серая шляпа” – это хакер. Как в классических вестернах хорошие парни носят белые шляпы, а плохие – черные, так в мире хакеров существую те, кого называют “серые шляпы”. Они занимаются всем понемногу и по обе стороны закона. И не так уж отличаются от прочих граждан, подумала Эмилия. Она поднялась на лифте туда, где ждали ее у кофейного автомата Лассе и “серая шляпа”.
Эмилия представилась мужчине, который в ответ нервно кивнул, не пожав протянутую руку.
– Себастьян Дагерман, – сказал он, не отрывая взгляда от кофемашины. – Моя мать здесь служила, руководила отделом.
Они унесли свои дымящиеся стаканчики в кабинет для совещаний, где на столе ждал ноутбук.
Миккельсен объяснил, что компьютер принадлежал бывшему служащему стокгольмской полиции, который скончался больше месяца назад.
– Ноутбук обнаружил сын того человека, – добавил Миккельсен. – Кевин Юнсон, тоже наш коллега. Нашел компьютер в отцовском доме.
Компьютер покойного полицейского оказался битком набит детской порнографией.
– Около шести тысяч фотографий и девятьсот пятьдесят семь видеороликов. Большинство имеют тэг “PTHC”, – добавил Миккельсен.
– Preteen hardcore[55], – расшифровал Себастьян.
Миккельсен отпил кофе и повернулся к Эмилии:
– Часть вашей задачи – проанализировать записи с технической точки зрения. Другая часть – сам компьютер.
Эмилия узнала, что ноутбук куплен несколько лет назад в крупном сетевом магазине электроники на южной окраине Стокгольма, платили за него кредитной картой, принадлежавшей владельцу.
Не считая отпечатков Себастьяна и Кевина Юнсона, компьютер был чистым, как из операционной.
– Это само по себе примечательно, – заметила Эмилия. – Должны же на нем остаться отпечатки отца Кевина? А если их нет, возникает вопрос, зачем он их стер.
Миккельсен кивнул.
– Да. Но давайте сосредоточимся на том, что у нас уже есть. На содержимом компьютера.
Он повернулся к Себастьяну и жестом дал понять, что теперь его очередь говорить.
– Я обнаружил сто шестьдесят три IP-адреса, с которых поступил содержащийся в компьютере материал. – Себастьян нагнулся к ноутбуку. – Общего у них то, что их все использует Asus – роутер с громадной брешью в системе защиты. Роутер навороченный, там есть USB-порт, куда можно подключить, например, внешний жесткий диск. Проблема одна: пока роутер не выключен, содержимое твоего компьютера видно всему миру. И хоть сколько-нибудь опытный хакер может творить с ним все, что захочет.
Эмилия поняла, что именно этим и занимается Себастьян. Как хорошо, что шляпа у него не черная, подумала она.
– Субъект, известный нам как Повелитель кукол – не один человек, – продолжил Себастьян. – Там где-то двадцать три человека, и все они выступают под общим псевдонимом. Их наверняка больше, но пользователей Asus, во всяком случае, двадцать три. В разных чатах и на страницах контактов они выступают под этим общим именем. – Себастьян откашлялся. – Ваш бывший коллега, владелец компьютера, был одним из них. У них одна на всех аватарка, одинаковые обновления статуса, одна и та же тактика. Армия сетевых педофилов… Люди терпеливые и усердные. Множество мужчин обрабатывают одну девушку… Могут этим заниматься круглые сутки. Девушка думает, что у нее тайный обожатель, а на самом деле ее атакуют десятка два мужиков, которые работают в связке.
Голос Себастьяна был монотонным, лицо ничего не выражало, но Эмилия чувствовала, что под личиной деловитости клокочет гнев.
– К тому же на компьютере есть и оригинальные записи, – продолжил он. – Ролики не скачаны откуда-то, а записаны конкретно на этот жесткий диск. Запись велась на камеру марки Canon, дата – девятнадцатое августа 2007 года.
– Чуть больше пяти лет назад, – заметила Эмилия. – Я проверила звук, проанализировала частоту электросетей. В прошлом году у нас было семьдесят два случая, из которых двадцать девять связаны с анализом речи. В этом насчитаем еще больше.
– А как происходит анализ, чисто практически? – спросил Лассе.
– В электросети поддерживается напряжение тока в пятьдесят герц, оно создает тихий, но слышимый гул. Но частота в пятьдесят герц не вполне постоянна. В зависимости от нагрузки на сеть она варьируется в пределах нескольких тысячных герца. Эти колебания со временем создают уникальный рисунок, и если его зарегистрировать, то можно получить некоторую базу данных и благодаря ей установить, когда был записан звук.
– И для чего нужна эта информация? – Себастьян достал телефон – видимо, решила Эмилия, чтобы записывать ее объяснения.
– Мы можем вычленить этот гул и сравнить его с теми, что есть в базе данных. Так мы определим время записи и даже поймем, была ли запись подделана или, например, смонтирована из фрагментов других записей.
– В тех трех роликах звучит мужской голос. – Миккельсен серьезно взглянул на нее. – Он совпадает с голосом владельца компьютера?
У Эмилии имелось для сравнения около двадцати записей с образцами голоса, с допросов, которые годами вел скончавшийся недавно полицейский.
– Да. Стопроцентное совпадение. Один и тот же человек.
Голос все еще звучал у нее в голове.
– И это бывший шеф угрозыска Юнсон?
– Как я и говорила: стопроцентное совпадение.
Агрессивный, громкий голос у нее в голове.
А ну встань, засра…
Голос отца Кевина. Известный полицейский, начальство.
Сколько же грязи.
Это как избавиться от части себя
Росендальсвэген
Стокгольм покоится на горной породе, которой шестьсот миллионов лет и которая исполосована трещинными долинами. Они словно морщины на лице, постаревшем от жизни столь безжалостной, что она сокрушила даже гранит.
Между островами Сёдермальм и Юргорден образовался заполненный слезами грабен; кручи Сёдера дышат полной грудью, а берег Юргодена задыхается, едва поднимаясь над водой.
Время шло к полуночи. Кевин сидел у окна спальни в Верином доме, построенном на сломе столетий, и смотрел на расстилающийся под ним Юргордсбруннсвикен.
Вода посерела под лунным светом.
Человек как таковой состоит только из памяти, подумал Кевин и отпустил йойо.
Если с человека содрать кожу, срезать с костей плоть и посмотреть на него, очищенного от веры, надежд и иллюзий, то не останется ничего, кроме памяти.
И никакой правды.
Доискиваться правды – это зачастую все равно что искать подтверждения своим предрассудкам. Можно легко ошибиться. К действительности надо относиться враждебно-критически.
Еще неделю назад его воспоминания были совершенно иными.
Все изменилось на Нюнесвэген, после звонка Себастьяна – тот рассказал о видео, обнаруженных на компьютере.
У Кевина хватило сил только на один ролик. Всего-то минута семнадцать секунд.
Папин голос, безликая комната и голая веснушчатая девочка лет одиннадцати-двенадцати.
Его первым желанием было поехать на Стуран и спалить дом. Потом поехать в Танто и сжечь садовый домик тоже.
Стереть остатки отца, которого не существовало.
Уничтожить свое прошлое и начать все сначала.
Вырвать с корнем воспоминания.
Но Кевин никуда не поехал и ничего не сжег.
Он поехал с Верой, в ее дом на Юргорден.
И вот, неделю спустя, Кевн все еще живет у нее.
Пережевывает отца.
Папа, папа.
Ни о чем другом он практически не говорил.
Как когда трогаешь языком сломанный зуб.
В детстве Кевин иногда представлял себе, как будет, если папа умрет. Каждый раз ему казалось, что это как потерять часть самого себя. Теперь он думал иначе.
Это как избавиться от части себя.
С какой же легкостью начинаешь ненавидеть, если тебя обманули с любовью.
Перед глазами у него стояла мать, в ушах звучали ее обвинения. Ей было всего тринадцать… Мокрощелка паршивая. Значит, не Веру она видела в сером тумане деменции.
Кевин так и не съездил к матери еще раз. Не позвонил брату, вообще не разговаривал ни с кем, кроме Веры. И договор на продажу дома он тоже не подписал, на телефоне было с двадцать пропущенных вызовов от маклера. И примерно столько же – от брата. Когда звонил Лассе, Кевин не брал трубку. И когда с ним желала поговорить эксперт Эмилия Свенссон, он тоже не отвечал.
Зажав в руке йойо, Кевин улегся на кровать в гостевой комнате Веры.
Вера рассказала про папин шрам. Большой шрам у него на животе, слева – отец показывал его более чем охотно, словно медаль за отвагу. А было самое обычное задержание, безо всякого геройства. Известный наркодилер, которого следовало выдворить с Гулльнарсплан, вытащил нож и пырнул отца в бок. Неглубоко, но все же пришлось зашивать. Теперь Кевин понимал: наверное, человек, переживший несколько инфарктов, находил некоторое утешение в том, чтобы показывать полученный в стычке шрам.
Воспоминания Кевина об отце растворились, как рисовая бумага в кислоте.
А ведь Кевин посмотрел всего один ролик.
И в то же самое время загружать файлы
Росендальсвэген
Вера сидела за письменным столом. В окнах свистел ветер, лужайка имела унылый вид, а в центре всего висело отражение ее, Веры, ненавистного лица.
Вера включила компьютер и стала открывать папки.
Она соврала Кевину насчет своих отношений с его отцом. Они перестали спать друг с другом не лет пятнадцать-двадцать назад. Скорее, пять лет назад.
Вера щелкнула по папке, озаглавленной “ЛЕТО 2007”.
По словам Лассе из угрозыска, Canon был подключен к компьютеру через USB-порт в 17.43 девятнадцатого августа 2007 года.
Вера стала рассматривать фотографии. Кевин до жути похож на него. Те же глаза, та же линия подбородка, та же кривая улыбка. Вера задержала взгляд на одном снимке, сделанном девятнадцатого августа 2007 года.
У нее подскочил пульс.
Воскресный день девятнадцатого августа 2007 года выдался душным, день позднего лета, и они, ни к чему такому не готовясь, уплыли на лодке в шхеры и поставили палатку. Их последние две ночи вдвоем, последний раз, когда они спали друг с другом.
На фотографии они лежали на солнце, растянувшись на покрывале. Фотографию делал он, поэтому видны были только лица и два поднятых стаканчика с белым вином.
Примерно в то же время на его компьютере появился ролик – нарушение закона.
Вера не сводила глаз с даты. 19.08.2007.
Нельзя быть в двух местах одновременно.
Невозможно ставить палатку в шхерах – и в то же самое время находиться в городе и загружать файлы.
Хватит ли одной фотографии с датой, чтобы очистить его имя?
Наверное, нет, но больше у Веры ничего не было. Ей хотелось вспомнить, что в тот день они покупали вино и заходили еще в какие-то магазины в городе. Все воскресенье ловили солнце и занимались любовью. Само собой, никто не знал, где они.
Даже если ей удастся получить выписку со счета за тот день, она все равно ничего не докажет.
Вера вдруг заколебалась. Может быть, они плавали на шхеры неделей раньше, а фотографии она загрузила неделю спустя? Как вообще датируются файлы с изображениями?
Скрипнул пол, и Вера услышала, как вошел Кевин. Она быстро закрыла фотографию. Может, она ошибается?
Надо знать наверняка.
Кевин положил руки ей на плечи, и она закрыла глаза.
– Вера, ты хорошо себя чувствуешь?
Кто-то хочет навредить тебе, подумала Вера.
Большинство птиц там и умирает
Промышленная зона Вестберги
Нова значит “новая звезда”. В течение какого-то времени ее свет усиливается, она сияет, она ослепительна.
Когда они встретились в первый раз, Нова излучала столь яркий свет, что Мерси видела ее не очень ясно.
Ей было все равно, что говорит и делает Нова; хотелось только быть рядом с ней и делать то же, что и она.
Поначалу она боялась, что Нова ее покинет; когда Новы не было рядом, вокруг Мерси все становилось темным.
И вот Нова сидит на диване, у нее посеревший вид, она ест чипсы и пьет красное вино, смешанное с кока-колой.
Можно подумать, что Нова – маленькая девочка. Но она “подстилка”, как и сама Мерси. Подстилка значит проститутка.
– А еще какие-нибудь странные слова знаешь? – спросила Мерси.
– Тихий хоккей с мячом.
– Это что?
– Гольф.
– А еще?
Нова подумала и сказала:
– Спать за общественный счет.
– Не поняла…
– Это когда бродяга ночует в автобусах.
– Сухоглаз.
– Чего?
Мерси изобразила: уставилась перед собой, взгляд стал спокойным, но ни на чем не сфокусированным.
– Прекрати. У тебя вид какой-то мутный.
– Трахаться влохматую, – продолжила Мерси, хотя обе знали, что это значит. Слово же существует только в их языке. Но fuck hair звучит забавно; может, оно и в английский уйдет.
Скоро слова им надоели, и девочки свернулись на матрасе, под покрывалом.
Среди всевозможной порнухи в айпаде Цветочка нашлось приложение с фильмами о природе, и девочки от нечего делать стали смотреть их.
Короткие, минут на пять-десять, ролики поначалу были красивыми. Чудесные пейзажи, удивительные животные: ящерицы, птицы, рыбы. Потом пошел фильм, в котором орлан схватил птенца. Схватил прямо из гнезда, унес, бросил на скалу, а потом стал расклевывать, рвать заживо. Голос диктора с гордостью повествовал о том, сколь поразительны в своей уникальности эти кадры.
– Меня сейчас вырвет, – сказала Нова и подползла поближе.
Прекратить смотреть было невозможно. Ролики становились все отвратительнее. Звери совокуплялись, убивали друг друга – и все это в замедленной съемке. Какие-то мужчины в камуфляжных шляпах в бинокль наблюдали, как медведь забирается на медведицу, а лев нападает на газель.
Только теперь Мерси начала кое-что понимать о человеке. Ей трудно было передать свои мысли словами, но она все же сделала попытку.
– Мы очень холодные. Нам кажется, что чужие страдания – это красиво. Мы хуже зверей. Звери просто хотят выжить.
Глаза у Новы блестели.
– Если бы вместо животных были люди, такие фильмы запретили бы без вариантов.
Мерси вспомнились последние съемки, проходившие в подвале. Один из парней перед началом отвел Нову в сторону, но Мерси слышала, что он говорил.
Что бы я с тобой ни делал – помни, это просто кино, это не по-настоящему, и если я буду с тобой груб, это все ради фильма, ради того, чтобы он получился хорошим.
Помни, что ты мне нравишься.
Именно этот парень обошелся с Новой, как последний скот.
На экране айпада пошел новый фильм. Он вроде был спокойнее, чем остальные, и Мерси погладила Нове лоб. Они смотрели, как через экран пролетает стая птиц.
– Смешно, – заметила Нова. – Они почти точно повторяют твой путь. Летят из Центральной Африки в Скандинавию, а отдыхают на Средиземном море. Набираются сил, чтобы лететь дальше.
– Большинство птиц там и умирает, – сказала Мерси.
На лестнице вдруг послышались шаги, и Нова встала.
– Пошли. – В дверях стояли Цветочек и еще какой-то парень, незнакомый.
У парня был жесткий вид, могучие руки покрыты татуировками.
– Мы куда? – спросила Нова и потянулась за курткой.
Цветочек оглядел Нову – пристально, сверху вниз, потом снизу вверх – и пожал плечами.
– Много будешь знать – скоро состаришься.
Они не знали, куда их везут. Через весь город, куда-то на восток.
Цветочек был под кайфом. Когда Нова увидела указатель на Фисксетру, Цветочек стал рассказывать, что будет дальше.
Дальше все пойдет к черту, подумала Нова.
Она это делала бесплатно
“Ведьмин котел”
Часы показывали двадцать минут одиннадцатого, поздний вечер, но Луве все еще сидел у себя в кабинете. Причина лежала на письменном столе: двадцать писем, написанных на розовой почтовой бумаге с цветочной каймой. На этот раз он не сможет ничего скрывать от полиции. Он больше не может их защищать.
Судя по содержанию письма, Мерси оказалась опаснее, чем он думал. Гораздо опаснее.
Проблема состояла в том, что Луве не очень знал, как помочь полиции найти девочек.
Теперь они писали ему обе. Старомодные письма на бумаге, которые, вероятно, отследить труднее, чем электронные. Почта в Стокгольме “окрашена” по региональному принципу, и понять, опустили письмо в ящик в Вэлленгбю или в Римском монастыре на Готланде, невозможно.
Здравствуй, Луве. Мы пишем тебе, потому что думаем – только ты нас и понимаешь.
Почерк Новы.
Можешь показать это письмо полиции. Все равно у нас, похоже, мало времени. Мы собираемся сбежать за границу, но куда – не скажем.
Во-первых, я хочу, чтобы ты понял, почему Мерси испугалась и набросилась на того парня в Евле.
Она хотела защитить меня, и у нее случился приступ паники. Иногда с ней такое бывает – она как будто не может контролировать себя. Ниже она сама все напишет, можешь показать полиции.
(Кстати, она тебе машет!)
Утром Луве узнал, что того парня из Евле выписали из больницы. Полиция допросила братьев, и правда выплыла наружу. Эркан оказался сводником.
Этим письмом мы прощаемся со Швецией, и ты – единственный человек, которого нам будет не хватать. История ужасно длинная, будет жалко, если ты уснешь.
Я передаю ручку Мерси.
Луве перевернул страницу, и глазам открылся аккуратный почерк Мерси. Нова выписывала буквы похоже. Луве знал, что она старается подражать подруге, но без особого успеха. Какой-нибудь графолог мог бы утверждать, что ручку держал слабохарактерный, застенчивый человек.
В Гамбурге я целую неделю искала папу и Дасти, но они куда-то исчезли. Я выучила наизусть каждую улицу в Санкт-Паули, раза по три в день (а то и больше) приходила на автобусную остановку, посмотреть, не вернулся ли туда папа. Мне странным образом казалось, что все, что случилось со дня нашего бегства, – сон, что я все выдумала, что я в каком-то зазеркалье.
В детстве, когда мне было трудно уснуть, папа говорил, что сон – как кошка: приходит, только когда бросишь думать о нем. Так оно и случилось!
Когда я однажды утром пришла на автобусную остановку, Дасти сидел на стене над кустом и лизал лапку. Он как будто приглядывал за мной, мне не надо было его искать. Он просто время от времени появлялся рядом.
Дасти был смешной кот, издалека узнаешь. Он хромал и был похож на клочок пыли. Некрасивый. Зато верный товарищ.
На полях, возле орнамента из вьющихся роз, кто-то из девочек изобразил кота.
Мерси описала, как она каждый день ходила в библиотеку на случай, если папа станет искать ее там. Она разместила в Фейсбуке объявление о том, что пытается найти отца, но безрезультатно.
Луве отложил письмо.
Фейсбук. Как же он раньше не подумал!
Луве залогинился и зашел на страницу Мерси, посмотреть, не бывала ли она в Фейсбуке в последнее время. Но последнее обновление статуса было еще летом, и пост написала не она.
Мерси – черная подстилка, которой лишь бы отсосать и вылизать. Врет она, что ей платят. Она это делала бесплатно.
Написавший эти слова парень на фотографии позировал в кепке. Горделивый швед, проживающий в Брэкке, в Емтланде. Луве понял, что написанное имеет отношение к проходившим на севере судебным процессам. Покрутив ленту на странице Мерси вниз, Луве увидел изрядное количество подобных высказываний.
Луве навестил страницу Новы, но последнее обновление было около месяца назад.
“Чем я занимаюсь?” – подумал он. Наблюдать за социальными сетями – самая что ни на есть основная полицейская работа.
Луве снова взял письмо и перевернул страницу. На самом верху листа был рисунок, не имевший отношения к тексту. Рядом со стилизованным цветком с рожицей в виде нуля значилось: “Цветочек отсасывает”.
Извилины больного мозга
Росендальсвэген
Старые дома на берегу Юргордсбруннсвикена стояли черные и тихие, светилось лишь окно построенной в начале двадцатого века виллы на холме. От голубоватого мерцания деревья, окружившие дом, казались ожившими.
Кевин проснулся и не смог уснуть снова. Тогда он спустился в гостиную, поискать какой-нибудь фильм. Он выбрал “Сияние” Кубрика – самый некоммерческий, какой только смог найти в Вериной коллекции. Телевизор в гостиной показал крупный план Дэнни – мальчика, умевшего видеть то, чего другие люди не видели.
Мертвецов и воспоминания мертвецов.
Кевин ощущал странную ясность в голове. Что, если бы у него была способность Дэнни видеть воспоминания мертвых? Воспоминания умершего отца?
Он закрыл глаза, пытаясь осмыслить подозрения коллег из угрозыска.
Мой папа – педофил, подумал он. Детотрах поганый. Даже собственные ролики записывал.
Как Кевин ни старался, он не мог до конца поверить и решил, что, пока есть хоть капля сомнений, он будет за эти сомнения цепляться.
Кевин понимал, что надо поехать в управление, надо сесть за проклятый ноутбук. И искать ядро своих сомнений.
Он должен найти несоответствие, которое решит все.
Кевин отпустил шнурок йойо и сосредоточился на телеэкране. Согласно широко распространенной конспиративной теории, высадка на Луне на самом деле снималась на Земле, режиссером выступил сам Стэнли Кубрик, который и рассыпал скрытые намеки на всю эту историю по “Сиянию”.
Сейчас Кевину требовалась собственная конспирологическая теория насчет роликов с отцовского компьютера.
Он быстро промотал фильм до одной из центральных сцен. Дэнни играет, сидя на полу в коридоре отеля. По узорчатому покрытию катится белый мячик, останавливается возле мальчика. Вот только узор на ковре в следующем кадре оказывается зеркально перевернут, или же Дэнни за какую-нибудь микросекунду развернулся всем телом на сто восемьдесят градусов. И то, и другое невозможно физически, так что это либо упущение сценариста, либо сознательно сделанный ляп.
На Дэнни свитер, украшенный ракетой и надписью “Apollo 11 USA”. Когда ковер зеркально переворачивается, рисунок на нем уже напоминает стартовую площадку NASA. Дэнни поднимается, идет по коридору и останавливается у двери.
Номер 237.
Расстояние между Землей и Луной обычно оценивают в 237 000 английских миль; по мнению самых упертых конспираторов, цифра на двери номера являет собой окончательное доказательство того, что Кубрик хотел указать на свое участие в фальшивом кинопроекте.
Фильм пошел дальше. Дэнни отказывался рассказать, что он видел в двести тридцать седьмом номере.
Может быть, он и правда просто играл? Фиктивный полет в космос с простым реквизитом: белый мячик изображает капсулу космического корабля, узорчатый ковер – стартовую площадку; есть еще свитер с ракетой и брелок с числом Луны.
Игра, подумал Кевин. Фальшивая картинка, декорация. Так же и Стэнли Кубрик играл с реквизитом в “Сиянии”. Игра всегда похожа на фейк, а фейк всегда можно разоблачить.
Кевин в задумчивости проделал несколько несложных трюков с йойо.
Сцены в “Сиянии” шли одна за другой. Кевин снова прокрутил вперед.
Джонни с лицом Джека Николсона, топор в двери. Here’s Johnny[56]!
За окном гостиной падал снег, и снег падал на телеэкране. Джек Николсон с топором гнался за сыном, мелькал сквозь снег, между кустами в лабиринте у отеля “Оверлук”.
You can’t get away![57]
А вдруг лабиринт – это на самом деле извилины больного мозга?
Кевин должен открыть дверь отцовского номера с цифрой “237”, что бы ни ожидало его за этой дверью.
Хватит жалеть себя.
К тому же надо позвонить Лассе и спросить, как Луве Мартинсон попал в программу защиты свидетелей.
До смешного непорочная
“Ведьмин котел”
Все началось с проклятого кровавого дождя. Послушав передачу по радио, Луве объяснил себе этот феномен. Частички песка из Сахары.
В тот же день, когда прошел кровавый дождь, исчезли Нова и Мерси.
Надо бы отправиться домой и поспать. В первый раз за много месяцев Луве не примет лекарство. Хотя без снотворного он вообще не жил, так же как без пароксетина.
И, наверное, без тестостерона.
Разные люди устроены по-разному, и это несколько самонадеянно – назначать лекарства самому себе в попытке полюбить снова. Вернуть себе вожделение, утраченное несколько лет назад.
То, что он хотел дать ей – и не смог.
В памяти всплыла картина.
Диван в доме, где так хорошо пахнет. В ее доме. Они целуются.
“Останешься на ночь?” – спрашивает она.
“Да”, – отвечает он, потому что это единственное его желание.
То самое, подумал он. Прежняя жизнь, которую он сейчас не может вернуть.
Луве прогнал мысли о ней.
Сейчас ему важнее причина, по которой он в половине третьего ночи все еще у себя в кабинете. Луве не оставляло чувство, что он просмотрел в письме Новы и Мерси что-то очень важное, что-то, от чего зависит все.
В письме ничего не говорилось о настоящем, зато рассказывалось о давних событиях. Как Мерси попала в Швецию, что предшествовало ее путешествию и что произошло в Гамбурге. И все же Луве казалось, что в тексте письма кроется что-то еще.
Он снова взялся за письмо.
В ушах зазвучал голос Мерси.
Меня разыскивала полиция, а спасла меня цыганская пара. Я села в их машину, не задавая вопросов, и они сказали, что отвезут меня в Бухенвальд, там я буду в безопасности.
Бухенвальдом назывался трейлерный табор в буковом лесу под Гамбургом. Ветер приносил туда постоянный гул со стороны аэропорта.
Надо мной, невысоко, с ревом пролетали самолеты, и я стала думать: может, именно в этом самолете сидит папа, а я живу здесь. Наверное, в один прекрасный день он действительно пролетел надо мной.
Цыган, подобравших Мерси, звали Флорин и Роксана, они приехали из Румынии. Из того, что писала Мерси, Луве понял, что оба были запойные алкоголики, но Мерси они явно нравились. Они не только спасли ее от полиции – они привезли ее туда, где она могла ночевать.
Рядом с текстом было изображение “фольксвагена-жука” и трейлера.
Табор устроили Флорин и Роксана, и они же позвали сюда своих родственников, а потом в таборе появились еще несколько мигрантов. “Когда живешь за границей, надо проявлять гостеприимство, – говорил Флорин, – потому что ты сам гость”. По-моему, хорошо сказано.
Мерси писала, что некоторые родственники Флорина и Роксаны откровенно невзлюбили ее, что четверо мужчин и одна женщина с самого начала выказывали недовольство водворением Мерси в табор. Я выучила, что negru и stricată значит “черная” и “проститутка”. Они плевали вслед Дасти и бросали в него камни.
В первый же вечер один из кузенов Роксаны предложил Мерси способ заработать денег на дорогу до Швеции.
Они поехали в город – якобы продавать розы пьяным туристам в барах Санкт-Паули. Другие девушки уже несколько раз так ездили; когда Мерси вышла из машины, они обняли ее и стали говорить, что бояться не надо.
Я точно помню, что все дома были кирпичные, а в небе полно чаек, потом я выпила спиртного, мне дали какие-то таблетки. После них мир стал как в тумане, а жизнь показалась терпимой.
“Терпимой?” – подумал Луве, откинулся на спинку стула и помассировал шею.
Так, хватит… На сегодня довольно. Точнее, уже на завтра.
Луве отпер чулан, зажег лампочку и достал с полки подушку и одеяло с логотипом клиники. Потом вытащил еще несколько одеял – матрасов или наматрасников здесь не предусмотрено.
Вернувшись к себе в кабинет, Луве отодвинул стул и стал раскладывать одеяла на полу. Одеяла были разных цветов и с разным рисунком; самое последнее, которое он расстелил перед собой, оказалось черным в розовых цветочках.
Тут Луве вспомнился рисунок из письма.
Вместо того чтобы закончить стелить постель, он вернулся к письму. Потом сел за компьютер и снова вошел в Фейсбук.
“Цветочек” – не такое уж оригинальное прозвище, и Луве принялся просматривать френдов Новы и Мерси в поисках человека по фамилии Блум[58], Блумберг или подобных, надо же с чего-то начать. Через десять минут Луве сдался.
Лучше оставлю это полиции, подумал он.
И вбил в окошко поиска псевдоним Мерси.
Блэки Лолесс.
Все ссылки вели на страницы хэви-метал-группы W. A. S. P. Луве помнил их по середине восьмидесятых, когда он сам был молодым. Они спровоцировали моральную панику в Швеции, которая тогда еще была чуть не до смешного непорочной. Или непрочной? Разница, в общем, не принципиальна.
Потом Луве вбил в окошко поиска “Нова Хорни”. Ссылка нашлась всего одна. Ярко накрашенная Нова казалась старше, чем на самом деле. Она обозначила себя как фотомодель и актрису, место проживания – Голливуд, Калифорния.
У большинства ее френдов были шведские имена, почти все они были парнями.
Одного звали Ульф Блумстранд.
Тот самый Цветочек? Который отсасывает?
У них на ладонях раны
Росендальсвэген
Вера проснулась оттого, что замерзла.
С нижнего этажа доносился слабый звук, и она подумала – наверное, Кевин смотрит кино. Радиочасы показывали 02.22, и первой мыслью Веры было спуститься и спросить, как он себя чувствует, но она решила еще полежать, пока сон не поблекнет. Ей снился Себастьян.
Вера повернула голову и посмотрела на портрет, висящий над бюро. Отец Себастьяна – если верить Кевину, вылитый Джон Гудман – умер девятнадцать лет назад. Ах, если бы можно было вырезать из мозга воспоминания! Но картины отчетливо стояли перед глазами, вызванные к жизни кошмаром.
Траурная церемония закончилась, первое, самое острое горе утихло.
Себастьян пришел к ней домой, и она открыла. Лицо у него светилось белым под лампочкой на крыльце, и Вера позвала его в дом. Они пили вино, и Вера со все возрастающей тревогой смотрела, как меняется взгляд ее двадцатиоднолетнего сына.
Пролетели час, второй. Вера вышла на кухню за пивом.
Она не заметила, что Себастьян пошел за ней.
Не заметила, что он прихватил с собой каминную кочергу. Тяжелую штуку из ржавого железа.
Вера не отрываясь смотрела на потрет. Они с отцом Себастьяна были такими разными.
Он в шутку описывал себя как моряка-одиночку без компаса, а она была поездом, который идет по рельсам. “А Себастьян кто? – подумала Вера. – Батискаф?”
Опустился на дно и критическим образом сжался под давлением окружающей среды.
В левой руке она держала две бутылки пива, правой закрывала дверцу холодильника. Краем глаза она уловила какую-то тень, но удар по шее оказался таким внезапным, что она его почти не почувствовала. Она упала на колени, бутылки покатились по полу. Чтобы защититься, она инстинктивно подняла руку, и второй удар пришелся по запястью.
Потом Себастьян уронил кочергу. Кочерга с тяжелым звоном упала на пол, Себастьян сел на пол, привалился к шкафчику под раковиной и заплакал.
Слова без речи. Глаза спрашивали у нее: кто ты, кто я сам, что это за место?
– Мама… – пробормотал ее взрослый сын, и глаза у него были как когда он только что родился. – Что я здесь делаю? Что тут было?
Два следующих дня Вера провела в больнице.
Теперь она знала, что смерть мужа никоим образом не сблизила ее с сыном. Но несмотря на тот давний случай, она через годы пронесла наивную надежду: а вдруг из всего этого все же выйдет что-нибудь хорошее.
Говорят, что, чем сильнее ветер, тем крепче корни. Какая банальность. Они с Себастьяном оказались деревьями, которые сломались от ветра.
Какая насмешка над человеком – его горькие сожаления, что жизнь не бесконечна, подумала Вера. Над человеком, который в собственных глазах возвысился над прочими животными, но которому так тяжело принять самое банальное знание о жизни: что она когда-нибудь кончится.
Следы, которые сама Вера оставила на своем жизненном пути, когда-нибудь сдует ветер. И не имеет значения, насколько они глубоки. Время сотрет их, рано или поздно.
Соберись, подумала Вера. Соберись, тряпка.
Она вылезла из кровати и спустилась по лестнице. Постояла у двери кухни, согревая босые ноги на мягком коврике. На том самом коврике, который лежал в прихожей у ее родителей. У ее мамы и папы, умерших тысячу лет назад.
Они нарекли ее Верой. Именем, происходящим от латинского “истина”.
Вера есть Истина. Но она врет всю свою жизнь. Врет или утаивает правду.
Вера увидела сосредоточенное лицо Кевина в голубоватом свете экрана.
Она никогда никому не рассказывала, что сделал с ней Себастьян девятнадцать лет назад, но сейчас расскажет. А еще расскажет о Пугале. О Густаве Фогельберге.
– Кевин?
Вера встала в дверях, надеясь, что вид у нее теперь пободрее, чем когда они ложились спать.
Кевин перевел на нее глаза, кнопкой на пульте выключил телевизор и приподнялся.
– Можно я посижу с тобой?
Он кивнул и снова откинулся на спинку дивана. На том же диване она сама лежала девятнадцать лет назад со сломанным запястьем и поврежденным шейным позвонком.
Вера села рядом с Кевином и рассказала, почему ей пришлось ходить в шейном корсете, когда Кевин был маленьким. Рассказала о своем сыне, о кочерге, а когда закончила, Кевин взял ее за руку.
Он смотрел на Веру, и глаза у него были как у его отца.
– Зачем ты мне все это рассказываешь?
От его взгляда внутри у Веры что-то пробудилось. Воспоминание о полоске песка у воды. Поцелуй. Запретное полуночное свидание в упсальском отеле. Вкус мужчины. Вкус предательства.
Вера опустила голову ему на плечо.
– В детстве мы с твоим папой очень близко дружили. И поклялись никогда не предавать друг друга, даже кровь на том смешали. Но однажды я именно что предала его…
Вера стала рассказывать о том лете. Ей было восемь лет, отцу Кевина – девять. Они бегали купаться на Онгерманэльвен, и раны у них на ладонях, оставшиеся после клятвы в верности, почти зажили.
– Мы по очереди раскачивались на веревке и прыгали в воду, а потом сидели на берегу и разговаривали. Вдруг перед нами появился какой-то человек, он спросил, нельзя ли посидеть с нами. Я сразу поняла, что тут что-то не так, что ему зачем-то нужен твой папа. Я помню, как от него пахло…
Ее голова так и лежала у Кевина на плече. Вера слышала, как бьется у него сердце – все тяжелее, все быстрее. Кевин ничего не говорил, и они сидели, не двигаясь. Только этот тяжкий стук.
– Тот человек заставил его спустить штаны, – сказала наконец Вера. – А я… я просто убежала. Убежала в лес и спряталась за вывороченным деревом. – Она откашлялась. – Потом я вернулась, тот мужчина уже ушел, а твой папа сидел и плакал. Я соврала ему, что убежала за помощью, но никого не нашла.
– Пугало, – сказал Кевин. – Густав Фогельберг.
Вера дернулась.
– Значит, он тебе рассказывал…
– Не совсем, – перебил ее Кевин. – Мне он рассказывал другую историю, в той истории тебя не было. Я нашел несколько статей про педофила Фогельберга в местных газетах сороковых годов. Густав Фогельберг по прозвищу Пугало. Зимой сорок шестого его нашли мертвым под мостом.
Вера чувствовала себя взволнованной и одновременно удивленной. Она знала, что сейчас они с Кевином думают об одном и том же.
Мог ли его отец стать педофилом из-за изнасилования, произошедшего летом сорок шестого года?
Молчание нарушил Кевин.
– У папы были враги? Кто-то, кто хотел бы замазать его грязью?
Вера задумалась.
– Много кто, – ответила она, но уточнять не стала.
День двенадцатый
Декабрь 2012 года
Более или менее придурки
“Ведьмин котел”
Ночь вышла почти бессонная.
Луве не мог сообразить, что ему делать с новыми фактами. Прав ли он, или все произошедшее – дикая случайность.
Эркан, думал он. Фейсбучный френд Ульфа Блумстранда.
В семь часов Луве откинул одеяло и убрал свое импровизированное ложе. Потом сел за стол, взял в руки телефон.
И позвонил в уголовную полицию.
Ему ответил тот же человек, что связался с ним неделю назад.
Луве рассказал, как получил письмо от Новы и Мерси, коротко изложил содержание письма. Он придерживался того, что могло оказаться важным для полиции – имена, места.
На одной формулировке он остановился, ему захотелось процитировать ее.
– Вот что пишет Мерси… “Тогда я этого не понимала, но теперь знаю: от десяти до двадцати процентов населения, самых разных типов, более или менее придурки. И Бухенвальд – не исключение. Тот говнюк получил по заслугам”.
Медицинский спирт и бинты
Три года назад
Кровь на внутренней стороне бедра смешивалась с какой-то жидкостью. Мерси открутила насадку душа и подмылась.
Вымылась как следует, прополоскала себя.
Слезы смешивались с водой из душа. Мерси зависла в пустоте между стоном и выдохом. В пустоте? Не совсем.
Из гостиной доносилась беспокойная мужская возня, чей-то пьяный голос; Мерси услышала, как открыли банку пива. Звук предвкушения. Мерси понятия не имела, сколько их там. В обычный день бывало от восьми до двадцати двух.
Больно становилось после четверых. Болевой порог – где-то на двадцать втором.
Именно они, между четвертым и двадцать вторым, оказывались разницей. Первые четверо – это расходы на жизнь, еду, жилье и так далее.
Двадцать второй – это стакан с пузырьками, несущими утешение.
– Next one[59]! – крикнула Мерси в комнату с неизвестными ей людьми.
Они знают, кто она. Молодая, черная. Новенькая.
В гостиной задвигались.
“Next one” оказался на вид застенчивым и неуверенным.
– Use a condom[60], – велела Мерси.
Она услышала, как он роется в сумке; вернулся с красным квадратиком в руке, закрыл за собой дверь.
Мерси заперла дверь. “Next one” глядел на нее.
– I don’t want to, – вдруг сказал он, и Мерси увидела, как у него заблестели глаза – Can’t we pretend[61]?
– Pretend what[62]?
– That we fuck…[63]
Какое-то время они смотрели друг на друга. В гостиной продолжалась возня.
– Come here[64], – сказала наконец Мерси.
Он сделал шаг, другой.
Мерси не могла оторвать взгляд от рисуночков на его трусах. Она видела, что у него начинает вставать. Видела, как ему стыдно.
Мерси схватилась за раковину и начала трясти ее.
Она стонала. Он смотрел. Она изображала, что ей очень, очень хорошо. Он изображал, что ему очень, очень хорошо.
Упал и разбился стаканчик, в котором стояла зубная щетка. Мерси порывисто вздохнула и закричала:
– Oh, Jesus… Fuck me. Fuck me harder.[65]
Он не знал, принимать ему участие в этом спектакле или нет.
Мерси играла, как на сцене. Он подыгрывал, как умел.
Потом они разошлись, и Мерси получила плату.
– Next one, – крикнула она в комнату с незнакомыми ей людьми.
“Next one” был дальнобойщиком из Польши. Пятьдесят лет, жесткая спина. Кончая, он плакал.
Бухенвальд. Мерси сидит на раскладном стульчике. Она больше не ребенок.
Ей тринадцать лет. Сейчас раннее утро, и она все еще пьяна. Краски виделись ей приглушенными; серо-коричневые стволы, поросшие зеленым мохом, и листья на земле казались желто-красно-бурым ковром.
Мерси открыла последнюю бутылку пива, отпила. Перед ней мерцала газовая горелка с помятой суповой кастрюлей Роксаны. Наверное, сейчас она поест в последний раз, на дорогу. Вчера вечером в третий раз за неделю приходил полицейский. Сказал, что они должны убраться отсюда в течение суток.
В рюкзаке у Мерси лежали сорок десятиевровых купюр, завернутые в полотенце. Столько у нее осталось после поездок в дом из красного кирпича, в гамбургском порту. Деньги от в общей сложности двадцати двух мужчин, которым надоели легальные бордели. Деньги, прошедшие через руки двух посредников – двоюродного брата Роксаны Гаврила и немки по имени Бербель.
Они называли свою работу vermittlung – посредничество, и Бербель забирала себе больше всех. Этой старой суке требовались деньги еще и на то, чтобы платить за косметику, одежду, выпивку, наркотики, игрушки из секс-шопа, камеры, порнофильмы и телевизоры, презервативы и противозачаточные таблетки, платить за аренду комнат и за всякие средства первой помощи вроде пузыря со льдом, медицинского спирта и бинтов. Последнее совершенно необходимо: невозможно предвидеть, что захотят вытворять мужчины.
Прошлой ночью один из них сломал руку украинке Ирине.
У них как будто два разных мозга.
Дважды Мерси выбрасывала амулет, полученный от врача, но потом передумывала и снова надевала его. Он был как проклятие. Если она его носит, то от суеверия, если выбрасывает, то опять-таки от суеверия. Надо было с самого начала его не брать. Астагфируллах.
Прошу прощения грехов и каюсь, подумала Мерси. Но не у Господа, не перед Ним.
Прости меня, папа.
Мерси думала об отце каждый день, каждый час, даже каждую минуту. Иногда от мыслей становилось больно. Как хорошо, что у нее есть Дасти.
Мы найдем тебя. Честное слово, найдем.
Мерси казалось, что папа добрался до Швеции и ждет ее там. Несколько дней назад ей приснилось, что они разговаривают друг с другом по-шведски; их речь была похожа на песню.
Она допила остатки пива, и тут к ней подошли трое мужчин.
– Stricată, – прошипел один и пнул сапогом спинку ее стульчика.
Растянувшись на земле, Мерси увидела у него за спиной еще двоих. Мужчину и женщину.
Родственники Флорина и Роксаны, они ненавидят ее за то, что она черная.
Мужчина, который толкнул ее, бросил на землю серый комок.
Сначала Мерси не разглядела, что это, потом ей захотелось, чтобы она не разглядела, чтобы не поняла, не осознала.
У нее в голове закричали голоса, все громче, громче, стало так больно, что из глаз полились слезы. Все еще лежа на земле, она потянулась за бутылкой.
Мужчина сделал шаг к ней. Свой последний шаг.
Ненависть сосредоточилась в одной точке посреди лба, именно в этой точке голоса в голове кричали злее всего.
Этот крик вобрал в себя всю ее ненависть. Мужчина перед ней был тремя мужчинами из “Боко харам”, он был врачом, укравшим их дом, он был турком, который продавал дырявые спасательные жилеты, он был всеми расистами, которые плевали им вслед и давали им грязные клички, он был тем жирным мужиком, который сломал Ирине руку, потому что слишком крепко держал ее, когда другой жирный мужик пытался трахать ее в рот, и он был Бербель, которая загребала себе все деньги.
Мужчина, стоявший перед ней, был все они в одном лице.
И он только что сделал свой последний шаг.
Мерси разбила бутылку о железный край горелки и бросилась на него. “Розочка” воткнулась в горло, мужчина хрипло забулькал, пытаясь кричать; Мерси вытащила “розочку” и пырнула снова, и снова, и снова; наконец она нагнулась над врагом и воткнула разбитую бутылку ему в горло так глубоко, что стекло застряло в жилах.
Крик в голове перекрывал вопли идиотов, которые пытались оттащить Мерси от кровавой слякоти на земле, и она стала яростно размахивать своим оружием, она вырывалась, царапалась и кусалась, пока наконец не вывернулась из их рук. Подхватив рюкзак с деньгами, Мерси бросилась прямо в лес, где стволы стояли так тесно, что никто не смог бы к ней подобраться. Но никто за ней и не гнался.
Перед ними только что открылся черный разлом. Открылся и испустил из себя злобу.
Сансет-Бич и дом с большим балконом
Фиши
Район высотных домов в Фисксетре выглядел именно так, как помнилось Нове.
Вернуться сюда было все равно что вернуться на место преступления. Когда они проходили мимо дома, в котором она выросла, у нее во рту появился неприятный привкус. Нова подняла глаза на свой балкон и представила себе, что там стоит Юсси – оперся на перила, в руке банка пива, в углу рта – сигарета.
Мерси приобняла ее.
– Как странно, что это именно здесь.
– Может, и не странно. Фиши – дешевое место, хотя и близко к центру. Иметь здесь нору, в общем, практично.
Цветочек снимал квартиру за три дома от высотки, где когда-то жила Нова. Одна из четырех его квартир, разбросанных по всему Стокгольму.
Цветочку и его приятелю, латышу Юрису, перепала возможность снять клип “один на миллион”, и по дороге Цветочек изложил, что это значит.
Один из хакеров, помогавших им устроить так, чтобы легавые не смогли отследить склад в Вестберге, где проходили нелегальные онлайн-трансляции, сумел раскопать личную информацию некоторых клиентов.
Одним из тех, кто дрочил на Нову и Мерси, оказался какой-то влиятельный мужик – не то юрист, не то полицейский, что-то в этом роде.
Хакер нарыл об этой личности много чего и пришел к мысли, что из клиента можно выдоить немало денег.
К тому же он явно положил глаз на Нову и пребывал в уверенности, что это она завела с ним отношения в чате и пообещала, что они с Мерси примут участие в БДСМ-игре, хотя все дело организовал Цветочек. Остальное Цветочек скрывал – сказал только, что у этого человека хата неподалеку от заповедника в Накке, он хочет, чтобы все произошло именно там.
Цветочек расписывал, что Нова и Мерси загребут сотню тысяч, а то и больше.
И, может быть, уже через пару дней смогут удрать из Швеции.
Когда они входили в подъезд, Нова постаралась прогнать плохие воспоминания.
Говорят же: чтобы достичь мечты, надо ее визуализировать. Нова стала представлять себе пальмы, пляжи, красивых людей и себя с Мерси в доме в Сансет-Бич, в доме с большим балконом и видом на лазурное море.
Она видела свое имя на звезде в голливудской Аллее славы.
Цветочек и Юрис курили на кухне, пока Мерси и Нова пытались отдыхать в убогой квартирке. Из мебели в их комнате имелась лишь скрипучая кровать девяностых годов; на ней они и пристроились.
Голые стены напоминали Мерси о первой ночи в бараке для беженцев в Брэкке. Было так тихо, словно всех зверей там, снаружи, погребло под снегом.
– Надо сваливать… – прошептала она Нове, чтобы Цветочек с Юрисом не услышали. – Что-то у меня плохое предчувствие. Если тот мужик полицейский, дело добром не кончится.
– Может, и не полицейский. Цветочек и про юристов трепал, он уже сам не помнит, что несет. Пошли, поболтаем с ними.
Они застали Цветочка и Юриса в разгар какого-то жаркого обсуждения; когда девушки вошли, те замолчали. Кухня оказалась такой же убогой, как спальня, хотя кроме стола здесь имелись еще четыре стула. Жалюзи опущены, на столе бутылка водки, пакет апельсинового сока и несколько бутылок из-под пива.
Юрис взял водку, налил в два стакана, долил апельсиновым соком.
– Я знаю, что у вас и дурь есть, – сказала Нова. – Нам бы расслабиться перед вечером.
Цветочек пожал плечами и выложил на стол пакетик, который Нова тут же сцапала. Мерси опрокинула в себя “отвертку” и поставила стакан перед Юрисом.
Юрис с недовольным видом смешал ей новую порцию. Когда они ехали сюда, Мерси заметила, что он то и дело косится на ее амулет. Она взялась за кожаный шнурок и потрясла украшением. Судя по некоторым татуировкам Юриса, он недолюбливал мусульман.
Юрис закрутил крышечку на пакете с соком, молча глядя на Мерси.
– Ведьмина сила. – Мерси помахала амулетом у него перед носом.
Юрис фыркнул, нижняя челюсть у него напряглась.
Руки у него были толщиной с ее ляжки. Но Мерси не унималась.
– Я исламская ведьма, – объявила она. Пристроила зажигалку под ладонью и высекла огонек. Юрис старался делать вид, что ему все равно.
Горячий язычок лизнул ладонь. Мерси дождалась пощелкивания, влажноватого звука плавящейся кожи. Она знала, с каким звуком горит человеческое тело.
Как горит девочка по имени Блессинг.
Юрис промолчал. Он беспокойно пошевелился, выпил пива и закурил. Цветочек сообразил, что устроила Мерси. Прошло не меньше минуты.
Убийца.
– Прекрати. – Цветочек схватил ее за запястье, пытаясь убрать ладонь от пламени, но Мерси была сильнее.
Сумасшедшая.
– Аллаху акбар, – механически произнесла Мерси, не изменившись в лице, лицо у нее оставалось совершенно расслабленным, рука твердой. Прошло, наверное, минуты две; Мерси могла бы сидеть так сколько угодно, пока вся рука не сгорит.
Нова схватила ее за плечо и попыталась увести, но Мерси не двинулась с места.
– Аллаху акбар.
Юрис сжал кулак и встал из-за стола; несмотря на габариты, двигался он быстро, удар пришелся Мерси прямо по руке, зажигалка отлетела под стол и скользнула дальше в комнату.
Мужчина, стоявший перед ней, был тремя мужчинами из “Боко харам”, он был врачом, укравшим их дом, он был турком, который продает дырявые спасательные жилеты, он был всеми расистами, которые плевали им вслед, он был жирным мужиком, который ломает девичьи руки и сует член в девичьи рты, он был старой стервой, которая загребает себе все деньги, и он был мужчинами, которые убивают котов.
Мужчина, стоявший перед ней, был ими всеми в одном теле.
– Не волнуйтесь, – прошипела Мерси, – я не этой рукой дрочу.
Она опрокинула стул и бросилась на Юриса.
Нарушение богослужения
Квартал Крунуберг
Снег, валивший несколько дней, смыло дождем за какие-нибудь пару часов. По шлему стучало, а к Сититерминалену сырость просочилась под непромокаемую куртку, которую одолжила Кевину Вера. Когда он остановился на красный свет, по спине потекли холодные ручейки.
Утром он проснулся, полный решимости. Позвонил Лассе и сообщил, что едет на работу. Лассе отозвался, что он очень рад и у него для Кевина задание.
Вера обняла его на прощанье.
И сказала: “До вечера”.
Когда Кевин уезжал, ему стало совершенно очевидно, что без Веры он не сумел бы пережить эту неделю. Вера, все понимая, находилась рядом, но не подстраивалась под него, так что они хранили одиночество вдвоем. В их совместной меланхолии было известное очарование.
Кевин взглянул на Центральный вокзал, пребывавший в состоянии какого-то вечного ремонта. Кто-то снабдил закутанную в пластик статую короля железных дорог Нильса Эриксона зелено-белыми шапочкой и шарфом. У входа жались под зонтиками несколько курильщиков. Все, кроме одного. Кроме одной дрожащей от холода, промокшей до нитки фигуры.
“Себастьян?” – подумал Кевин и поднял визор, чтобы лучше видеть. Да, он.
Себастьян разговаривал с каким-то мужчиной; судя по жестам, дискуссия шла жаркая. Мужчина положил руку Себастьяну на плечо, и оба зашагали к входу. Короткие шаркающие шаги свидетельствовали о том, что собеседник Себастьяна стар; перед тем как войти, старик остановился и принялся что-то искать во внутреннем кармане.
Кевин еще увидел, как Себастьян со стариком входят в зал ожидания, а потом потерял их из виду.
В полуоткрытую дверь кабинета для совещаний Кевин увидел своего шефа – тот помещался за спиной рослой женщины с черными кудрями. Наверное, это эксперт-криминалист Эмилия Свенссон, которую Лассе “позаимствовал” для работы с компьютером. Кевина ждало сильнейшее удивление. В его мире человек по имени Эмилия Свенссон – это молодая женщина не старше тридцати, с золотистыми волосами. А перед Кевином стояла темнокожая женщина лет пятидесяти.
Они пожали друг другу руки, Кевин кивнул Лассе, закрыл дверь и сел.
Лассе рассказал, что утром звонил Луве Мартинсон, получивший письмо от объявленных в розыск девочек. Лассе взял в руки листок с рисунками.
– В письме содержится подробное описание чего-то, очень похожего на непреднамеренное убийство. Мерси признается, что убила какого-то мужчину, три года назад в Гамбурге.
– Непреднамеренное убийство?
– Да, ну или умышленное убийство. Я перебросил несколько ниточек нашим немецким коллегам. Далее, Луве Мартинсон сообщает нам имя, которое может оказаться интересным. Ульф Блумстранд по прозвищу Цветочек.
Кевин слышал это имя в первый раз.
На столе стояли два ноутбука. Один из них Кевин узнал.
– Давайте поговорим о том, что мы обнаружили в компьютере, – предложил Лассе и повернулся к Эмилии. – Можете коротко изложить, что у нас есть?
– Нам помог Себастьян Дагерман, он приходил вчера, рассказал кое-что интересное…
Кевин дернулся.
– Погодите, погодите. С вами, значит, работал Себастьян, сын Веры?
Эмилия задумчиво посмотрела на него.
– Да. Это же он помог вам с компьютером?
– А инициатива кому принадлежала? Вам или ему? – спросил Кевин.
– Себастьян сам к нам пришел. – Эмилия включила свой ноутбук. – Он разработал программу, которая отслеживает распространителей детской порнографии. Благодаря багу в модемах Asus он может заглядывать в их компьютеры. Видит вообще все. Информацию о банковских счетах, личные документы, историю выходов в интернет. Можно сэкономить несколько месяцев работы.
– Как хорошо, – отозвался Кевин.
И правда хорошо. Да что там, это просто здорово. Кевин невольно улыбнулся.
Может быть, Себастьян наконец вылезет из своего пузыря.
– Только вот что, – вмешался Лассе. – Мы не знаем, легальна ли эта программа. Если окажется, что этот метод так или иначе нарушает закон, мы не сможем использовать добытые сведения как доказательство. Наши юристы сейчас все проверяют.
Эмилия развернула свой ноутбук экраном к Кевину и Лассе. Список IP-адресов пополнялся на глазах.
– Вот эти люди несколько дней назад выкладывали в Сеть или скачивали порно с участием детей. Или делают это прямо сейчас… – На экране возникли еще две цифровые последовательности. – И многие пользуются прямым соединением, то есть копируют файлы прямо с компьютеров друг у друга. – Эмилия явно испытывала гадливость. – Никогда в жизни с таким не сталкивалась… Материалов я не видела, но я и помыслить не могла, какой там трафик. А когда видишь цифры своими глазами, все становится таким реальным.
Кевин ее понимал. Список пополнился еще тремя IP-адресами, и на ум Кевину пришел злодей из “Воспитания Аризоны”, Леонард Смоллс, который вешал на мотоцикл детские ботиночки в качестве трофеев. My friends call me Lenny. But I got no fiends[66].
– Прежде чем я покажу, что мы обнаружили благодаря Себастьяну, – продолжила Эмилия, – я вот что хочу сказать. Никогда о таком не задумывалась, пока вы не попросили меня о помощи. Я просмотрела все нормативы, выпущенные законно избранными шведскими политиками с 2006 года. Ни одна директива не регламентирует использование полицейских ресурсов в случаях, когда речь идет о детской порнографии. Просто зло берет, насколько незначительной считается тяжесть этих преступлений.
– Да, – кивнул Лассе, – они все еще числятся в одиннадцатой главе как “преступление против закона и порядка”. Хотя логичнее относить их к шестой главе.
– Сексуальное насилие, – сказал Кевин. – Или вторая глава…
– Преступления против жизни и здоровья, – подхватила Эмилия. – А сейчас детскую порнографию ставят в один ряд с ерундой вроде “нарушения богослужения” или “беспорядков в общественном месте”.
Эмилия пощелкала клавишами своего компьютера и подключила его к ноутбуку.
– Человек, в чьем пользовании был этот компьютер… – Она запнулась. – Мне очень жаль, Кевин. Обнаруженное бесспорно указывает на вашего отца, но, пока у нас не будет стопроцентной уверенности, я предпочитаю говорить “пользователь”.
Кевин кивнул.
– Так вот, пользователь, в чьем владении находился этот компьютер, – продолжила Эмилия, – один из двадцати трех мужчин, которые выступают под именем Повелитель кукол, Puppet Master, или Master of Puppets. Эти мужчины рассредоточены по всей Швеции, от Веллинге в Сконе до Шеллефтео в Вестерботтене. У них один и тот же профиль, одна и та же аватарка, одинаковые обновления статуса, одинаковая тактика, и они работают в связке друг с другом. Сначала – обработка жертвы, но потом начинается производство фотографий, видеороликов, продукция распространяется по Сети. Есть еще трое пользователей вне Швеции: двое в Таиланде и один в США.
Эмилия показала весь список. Сначала IP-адрес, потом – имя и личный номер.
Первым в списке шло имя отца. Кевин опять почувствовал, как резануло в желудке.
Он стал просматривать остальные имена. Обычные шведские имена, мужчины в возрасте от восемнадцати до семидесяти пяти. Взгляд задержался на одном имени. Чувствуя себя абсолютно спокойно, Кевин уточнил личный номер. Что ж, логично, подумал он.
Дядя-извращенец.
Абсолютно логично.
Когда втыкаешь человеку в горло осколок
“Ведьмин котел”
Согласно теории шести рукопожатий, цепочка всего из шести знакомств отделяет какого-нибудь эскимоса, который роет выгребные ямы в Гренландии, от приглашения на обед с американским президентом. В шведских реалиях сеть из друзей друзей и, соответственно, друзей тех друзей покрывает всю страну. Все более или менее знают друг друга. Интересно, входят ли Цветочек и Эркан в эту категорию, размышлял Луве.
Он подлил себе кофе из термоса. Какое странное ощущение: уснуть и проснуться на работе. Как в лагере. Выбора нет, ты просто работаешь и работаешь дальше.
Через пару часов вернется Кевин, человек из угрозыска. Что ему сказать? Луве предпочел бы разговор, где не было бы полицейских и психологов.
Они бы стали говорить о чувствах. О чувствах к людям, о связях.
Луве снова взялся за письмо. Мерси описывала первую ночь в бараке для беженцев в Брэкке. Убийца она или нет, но в способности сопереживать ей не откажешь. Она не психопатка.
Стояла тишина, как будто все звери спали, зарывшись в снег. Я думала про Лайама, мальчика из английской шахты. Его откопали и спасли после обвала, но шахта все равно забрала его. Вскоре он умер от чахотки.
Потом Мерси писала о своем младшем брате, которого забрало море, он захлебнулся уже на берегу, в легких оказалось слишком много воды. И про кота Дасти, который сгинул в Гамбурге. Она думала, что кот исчез навсегда, но вот он объявился – лишь для того, чтобы через несколько недель его удавили.
Может быть, мне на роду так написано: сначала радость и облегчение, а потом смерть дурачит меня, отнимает и то, и другое. Именно так я в один прекрасный день найду папу – и он тут же умрет. Если только я сама сначала не упьюсь до смерти, как однажды почти упилась в Емтланде.
Время, проведенное в Брэкке, – это время, когда у Мерси притупилось восприятие секса, размышлял Луве. Наверное, ее проблемы с алкоголем оттуда же.
В лагере для беженцев Мерси было плохо, и она все чаще совершала долгие прогулки в небольшой поселок. Там на вокзале имелось кафе, где Мерси стала встречаться с парнем по имени Мортен. Он угощал ее газировкой, а его светлые кудрявые волосы заставляли Мерси забыть, что чувствуешь, когда втыкаешь человеку в горло осколок, слышишь, как он булькает, видишь, как у него потухают глаза.
С Мортеном она забывала, что ее семья уничтожена.
Потом он познакомил Мерси с двумя своими старшими братьями. Они жили в лесу, дома часто бывали еще двое-трое парней. И всем хотелось посмотреть на черную девочку.
Тем летом Мерси в один прекрасный день перестала возвращаться вечером в лагерь и начала ночевать у братьев на диване.
Луве перечитал письмо несколько раз, но больше всего его поразило именно это место. Мерси, на первый взгляд бессознательно, переключалась в рассказе с “я” на “она”.
Однажды ночью она проснулась от того, что Мортен был в ней. Я не рассердилась, мы и раньше целовались, так что я решила, что тоже этого хочу. Когда он кончил, она сползла ниже и сделала так, что он захотел еще, сама-то она не кончила, и во второй раз получилось по-настоящему хорошо. Потом мы сидели голые на диване и пили, пока я не уснула снова, растянувшись у него на коленях.
Изначально секс есть тоска по любви или признанию, размышлял Луве. Или просто стремление к чему-то интересному. После того как уляжется первая влюбленность, секс может стать побегом от скуки, от трудноопределяемой меланхолии, серой и пустой. Потом секс становится рутиной, и вполне можно решить, что приятнее взимать за него плату.
Когда я проснулась, в комнате были еще несколько парней, а Мортен лизал мне между ног. Первым делом она потянулась за бутылкой и основательно приложилась. Потом я засмеялась и сказала, что если еще кто захочет, кроме Мортена, то придется заплатить. Не так уж ей было и хорошо, чтобы заниматься этим бесплатно, и после той ночи я стала брать деньги и с Мортена, потому что вся его хорошесть куда-то делась, он оказался в точности как те, другие, только помладше.
Чем старше они были, тем больше у них имелось денег, а больше всего денег водилось у их папаш.
Вот это опасно, подумал Луве. Опасно невольное разделение на “я” и “она”.
С его помощью слагают с себя вину, дистанцируются.
Луве и раньше наблюдал такое поведение, и опыт говорил ему, что подобное с трудом поддается лечению.
Я хочу посмотреть сам
Квартал Крунуберг
– Дядя? Мамин брат? – Эмилия с сомнением посмотрела на него.
Кевин кивнул.
– Этот скот изнасиловал меня, когда я был маленьким. – Он пожал плечами, чувствуя почти облегчение. Ларс Миккельсен постукивал кончиком карандаша по столешнице. Звук походил на тиканье часов и нервировал ее.
– Кевин, это ужасно, – сказал наконец Миккельсен.
– Прости за вопрос, но какие отношения были у отца с твоим старшим братом?
– Они… – Кевин нахмурился, запнулся. Провел рукой по волосам и откинулся на спинку стула. – У них были неважные отношения, – констатировал он. – Не знаю, как обстояло дело, когда брат был маленьким, он ведь намного старше меня, мы редко общаемся, но… Нет, не может быть.
Он сомневается, подумала Эмилия. По глазам видно.
– Может, вернемся к компьютеру? – Кевин кивнул на ноутбук. – На нем, значит, не было отпечатков, хотя кто-то сунул его в сумку?
Эмилия понимала, что Кевин хочет обелить отца.
– Да, верно, – подтвердила она. – Обнаружены следы изопропилалкоголя, который обычно входит в состав средств для очистки клавиатуры. Но отпечатки там только твои. Хотя вообще должны были бы остаться отпечатки и того человека, который совал компьютер в сумку, если только он не был в перчатках.
– К тому же, – подхватил Кевин, – я позвонил в фирму, которая организовала переезд. Они допускают, что могли забыть одну коробку, но говорят, что вряд ли забыли. Так что не исключено, что эту коробку поставили в коридор уже потом.
Эмилия смотрела на молодого человека, который изо всех сил пытался сделать так, чтобы память его отца не была осквернена. Эмилия его понимала.
– А видеозаписи? – У Лассе был взволнованный вид. – Они могут оказаться поддельными?
Эмилия поразмыслила. Наверняка она знала только одно: голос в видеороликах с несовершеннолетними принадлежал отцу Кевина.
– Прямо сейчас могу сказать, что если речь идет о подделке, то это очень искусная подделка, и я собираюсь проверить записи несколькими разными способами. Испробую все, от очищения звука до проверки подлинности. Мы не знаем, где записаны эти видео, и я, к сожалению, не смогу произвести проверочную запись в том же месте, а такой прием часто помогает. Но я обязательно проверю, не поддельная ли она, у меня для этого есть несколько способов.
Очень часто, размышляла Эмилия, педофилы, делая монтаж, используют фотографии, потому что их проще выдать за настоящее, чем видеоматериалы. Все, что нужно, – программа для обработки изображений.
Получив задание от уголовной полиции, она всю неделю рылась в судебных протоколах. На первый взгляд законодательство могло показаться суровым, но нестрогие наказания в сочетании с расплывчатыми границами между тем, что считать преступлением, а что нет, заставляли обвинителя сомневаться, стоит ли затевать расследование. Плюс в некоторых случаях речь шла скорее о морали в вопросах секса, чем об истинном желании защитить детей от абьюза.
Эмилия припомнила так называемое “дело о манге”. Одного переводчика японских комиксов обвинили в распространении детской порнографии: полиция конфисковала иллюстрации, текст к которым, он, собственно, и переводил. Речь шла о хентае, порнографической манге, где подростки изображаются предельно сексуализированными. Верховный суд потом отпустил переводчика с миром, но бедняге пришлось побывать и в суде первой инстанции, и в апелляционном суде.
Если суды и дальше будут слишком часто смотреть не в ту сторону, то под запретом может оказаться любое произведение искусства, где изображены голые дети. И фильмы по произведениям Астрид Линдгрен, и картины Карла Ларссона.
– Во всяком случае, ничто не указывает на то, что ролики смонтированы, – сказал Лассе. – Их смотрел весь отдел, и…
– Мы все иногда ошибаемся. – Кевин опустил взгляд и вздохнул. – Я хочу посмотреть их сам.
Лассе кивнул и взглянул на часы. Эмилия почувствовала отвращение к тому, что ее ожидает, но Лассе поднял крышку ноутбука и развернул компьютер экраном к ним.
Кевин запустил запись. Когда Эмилия увидела отражение кадров в его глазах, она опустила веки и стала слушать.
Сначала музыка – тихая, фоном, вероятнее всего – старое аналоговое радио. Веселая музычка, и тем болезненнее контраст с агрессивными голосами.
А ну встань, засра…
Девочка послушно встает спиной к камере, наклоняется, отставляет зад; камера снимает ее влагалище крупным планом.
Сколько же грязи.
– Да, это папа. Значит, видео записали пять лет назад? – произнес голос Кевина.
Эмилия вздрогнула и открыла глаза.
Кевин пошевелился, челюсть у него напряглась.
– Неизвестно, – ответила Эмилия – Ее переписали с камеры пять лет назад, и, по словам одного из экспертов, кто-то подкорректировал свет при помощи редактора. Запись могли сделать лет пять-десять назад. Но не больше десяти.
Кевин вздохнул и закрыл крышку ноутбука.
У него изменилось лицо, поняла Эмилия. Теперь Кевин выглядел совсем уставшим и, кажется, постаревшим.
Опоздают на физкультуру
Скутшер
Перед Ботническим заливом, у фабрики в Скутшере, Дальэльвен разделяется на восточный и западный рукава, отчего образуется несколько островов. Самый крупный из них называется Рутшер, южная оконечность острова покрыта лесом, где попадались следы и волков, и медведей.
К двум деревьям у тропинки, которая близко подходит к крутому берегу реки, прислонены два велосипеда. На лесной опушке склонились над чем-то двое мальчишек.
Вообще-то мальчишки заехали сюда поискать бабочку-вампира. Они страшно редкие и во всей Швеции водятся только здесь, а еще они сосут кровь, как самые настоящие вампиры. При случае даже человеческую. Это интереснее, чем какие-то волки и медведи.
Мальчишки искали бабочку почти всю большую перемену, но сдались и на обратном пути наткнулись на могилу.
Твердую землю присыпало снегом, но у них получилось разрыть ее руками. На дне ямы виднелось что-то, по очертаниям похожее на пластиковый пакет.
Возле ямы размером с футбольный мяч был воткнут в землю маленький крест. Две палочки, связанные черной резинкой для волос.
Мальчишки опоздают на физкультуру минут на десять.
Надеяться на чудо
“Ведьмин котел”
Шведы не любят разговаривать с чужаками, однако всегда здороваются с незнакомыми людьми. Их национальное блюдо – пицца, национальный напиток – спиртное. Я выучилась пить, и это стало первым признаком того, что я потихоньку интегрируюсь в шведскую культуру.
Луве отпил кофе, но тут же выплюнул его обратно в чашку. Кофе остыл. Открутив крышку термоса, чтобы налить нового, Луве обнаружил, что кофе кончился.
Луве ушел на кухню и включил кофеварку. Слушая, как пыхтит машина, Луве пытался увидеть мир с точки зрения Мерси.
Мерси возмущает, что никого в Швеции, похоже, не интересует, как обстоят дела в Нигерии. После мятежа “Боко харам” террористическая группа сделалась сильной, как никогда, а ее новый лидер оказался куда харизматичнее прежних. Теперь “Боко харам” обрушилась и на мусульман, на всех недостаточно правоверных, и хотя в боевиков стреляли, они продолжали нападать; под действием наркотиков им все было нипочем. Они как зомби, как и она сама, как Мерси Беспощадная, черный разлом.
В мире Мерси все клокотало, перекипало и исходило бешенством.
Если учуешь в толпе сильный запах духов, надо насторожиться. Террористам-смертникам вдалбливают, что они гарантированно попадут в рай, поэтому они, прежде чем взлететь на воздух, поливаются духами.
Отец говорил Мерси: тот, кто не стоит любви, не стоит и ненависти. Астагфируллах.
Луве поздоровался с уборщицей, потом с медсестрой, которая совершала первый обход. “Ведьмин котел” потихоньку просыпался.
Луве спал плохо, но таблетки ему все равно не понадобились.
Он вышел в регистратуру, проверить почту. Могло прийти несколько новых заявлений насчет возможных насельниц, надо на них ответить. После ухода Алисы и исчезновения Новы и Мерси в интернате освободились три места, а частному предприятию не выгодно, чтобы эти три места пустовали дольше необходимого. Государство платит за каждую койку, и пустые койки означают потерянные деньги.
В почтовом кармане лежал конверт, адресованный Луве Мартинсону. По мнению Луве, в конверте содержалось не заявление от соцслужбы с предложением принять новую девочку.
Похоже, в конверте было частное письмо.
Едва Луве вскрыл конверт, как тут же понял, что там нечто гораздо большее.
Чудо означает, что произошло что-то хорошее, и само собой разумеется, что чудо – дело крайне редкое, в принципе несуществующее по сравнению с какими-нибудь страшными событиями. Катастрофами, например.
У надежды на ядерную аварию больше шансов сбыться, чем у надежды на чудо.
И все же Луве надеялся. Ведь чудо может означать то же самое, что и счастье.
У них похожий почерк, подумал Луве.
Отец Мерси жив.
Совсем как ты
Квартал Крунуберг
Эмилия ушла, и Кевин остался в кабинете для совещаний один на один с Лассе.
Некоторое время шеф задумчиво молчал.
– И… Как Луве Мартинсон оказался в программе по защите свидетелей? – спросил Кевин. – По словам следователя, с которым я разговаривал, он сменил имя полтора года назад. Я решил его проверить, потому что мне показалось – с ним что-то не так.
Лассе снова кивнул.
– Понимаю. Но учитывая то, что мне известно, проверка – пустая трата времени.
– И что же тебе известно?
– То, что я знаю, должно остаться между нами.
Лассе сцепил пальцы и перегнулся через стол.
– Луве в программе по защите свидетелей с 1988 года, со своих восемнадцати лет. Он помогал нам в одном расследовании, и я был одним из тех, кто рекомендовал включить его в программу. Когда в 2011 году решение пересматривали и начинали процедуру смены имени, без меня тоже не обошлось. Тогда он тоже давал показания, в рамках совершенно другого дела.
– Значит, Луве и раньше нам помогал?
– Да, и учитывая его профессию, это неудивительно. Еще когда я в первый раз звонил Луве, у меня возникло чувство, что он может оказаться тем самым человеком. Я ведь не знал, как его теперь зовут, но в его манере говорить есть что-то особое. И выбор профессии в его случае совершенно логичен.
– Логичен?
– Да. В детстве Луве пережил сексуальное насилие. Как и ты.
– И когда вырос, захотел помогать другим людям, оказавшимся в той же ситуации?
Кевин представил себе Луве, вспомнил, каким почти болезненно-хрупким он выглядел во время их разговора в интернате неделю назад. Кевин тогда решил, что терапевт воспринял эту хрупкость от девочек, с которыми работает.
Но возможно, она идет изнутри.
Из раны.
В ожидании высылки
“Ведьмин котел”
Тринадцать месяцев назад, в день, когда Мерси высадилась из автобуса в двухстах метрах от “Ведьмина котла” в сопровождении двух медсестер из Брэкке, в Мальмё, в конторе на Винтергатан, сидел и смотрел на экран компьютера некий мужчина.
Мужчина (он был служащим Департамента по делам миграции) узнал одну фамилию в списке тех, кто ходатайствовал о предоставлении убежища, но получил отказ. Служащий тут же распечатал документы, касавшиеся означенного человека.
Кто-то совершил ужасную ошибку. Служащий надеялся, что ее еще можно исправить.
Тринадцать месяцев спустя Луве Мартинсон держал в руках письмо и спрашивал себя, чем они там, в миграционной службе, занимаются.
Какой у отца Мерси красивый почерк.
Dear Mr Love Martinsson,
I hope you are the right person to contact in my case. I do not want to bother you with a phone call and instead I choose to write a letter that you can read when you have time[67].
В социальной службе отцу Мерси указали на Луве как на ближайшее контактное лицо, так как Мерси не отправили жить в какую-нибудь семью.
Он рассказывал, что за год с небольшим дважды посетил Швецию, чтобы попросить убежища. Во второй раз он явился в стокгольмский офис Департамента по делам миграции, где ему сообщили, что его дочь, по всей вероятности, находится в Швеции.
Дожидаясь ответа на свой запрос, он увидел фотографии дочери в шведских газетах; по тому, что писали о ней журналисты, он ее не узнал.
Если написанное было правдой, то после Гамбурга, с тех пор как они расстались, в жизни Мерси творилась какая-то совершенная жуть.
Луве хотелось заорать.
Отец Мерси должен был получить статус беженца уже в свой первый приезд в Швецию.
Луве, не веря своим глазам, читал дальше.
Возникла новая бюрократическая проблема.
Недавно шведская полиция объявила отца Мерси скончавшимся, и миграционная служба ссылалась на один циркуляр. Шведские органы местной государственной власти: 2005:52, порядок действий в отношении скончавшихся.
Формально отец Мерси находился сейчас в морозильной камере перевозящего трупы самолета, летящего в нигерийский Кано, а не сидел в стокгольмском офисе миграционной службы.
Кафка, подумал Луве и перевернул страницу. Конечно, когда покойник явился просить убежища, завыли все сирены; отец Мерси писал, что в первые часы после прибытия был уверен: он попал в дурной сон. Для начала у него конфисковали паспорт, на том основании, что паспорт наверняка поддельный, потому что человек, за которого он себя выдает, мертв. Один из служащих связался с полицией, и ему сообщили о мертвеце, обнаруженном на мосту в центре Стокгольма.
Согласно отчету о вскрытии, он или погиб от холода, или задохнулся в люке для шасси, после чего выпал из этого люка и приземлился на мост, где его переехала машина. Опознать труп было в принципе невозможно, но удостоверение личности, найденное при мертвеце, совпадало с документами отца Мерси.
Причиной того, что отец Мерси написал письмо, а не приехал сам, был тот факт, что он не мог передвигаться свободно: отец Мерси сидел в Стокгольме под стражей, в ожидании высылки.
Луве отметил, что почерк стал энергичнее и более наклонным, словно отец Мерси теперь писал быстрее.
I will go back in time a bit and tell you my story, from the sad day that I lost my daughter at the bus station in St. Pauli up to the moment that I arrived in Stockholm[68].
Все началось, когда двое охранников выдворили его с автобусной остановки. Несколько недель он болтался поблизости, но найти дочь не смог, а потом его подвез до Мальмё какой-то польский дальнобойщик. В Мальмё отец Мерси запросил убежища и получил отказ.
I know that Sweden is a tolerant country, but I could not prove my homosexuality. They simply did not believe me because I also told them that I was married and had a family. They say that a lot of people that seek asylum come with lies. If I had lied about my family instead of telling the truth, maybe they would have believed me[69].
Отца Мерси должны были выслать назад, в Нигерию. Он попал на самолет, который совершил промежуточную посадку в Брюсселе. Там отцу Мерси удалось сбежать.
It was there I met him. The man I believe is the man that they found on the bridge in Stockholm. His name was Moses, from Ghana, and we were around the same age. Sometimes Europeans have trouble seeing the difference between us West Africans[70].
Отец Мерси писал, что пару дней общался с Мозесом, а однажды утром проснулся и обнаружил, что тот исчез. Потом он обнаружил, что исчез и паспорт. Отец Мерси решил, что где-то потерял его, и лишь в Стокгольме ему пришло в голову, что паспорт, вероятно, украл Мозес.
Прокантовавшись восемь месяцев в Брюсселе, отец Мерси скопил денег на новый паспорт и “подушку безопасности”, с которой можно было двигаться дальше, в Швецию. О подробностях своего путешествия он не распространялся. Вероятно, на север он добрался с каким-нибудь дальнобойщиком. На этот раз пунктом его назначения был Стокгольм.
Now I will do anything to find my daughter. She is all I have.
Please Mr. Martinsson, can you in any way help me[71]?
За окном серели в тусклом дневном свете елки, была оттепель, но мелкий дождик ночью переходил в снег.
В голове у Луве начала оформляться одна мысль. Он отложил письмо.
Приоткрытая дверь
Скутшер
Снег снова начал таять, но на проезжей части держался предательский ледок, и Кевин поворачивал осторожно. На подъезде к Эльвкарлебю у него зазвонил телефон, и Кевин подключил наушники.
Звонили из клиники в Фарсте.
– Первое – брат передает вам привет. Он приезжал, сказал, что звонил вам несколько раз, но вы не отвечали. Вероятно, это по поводу продажи дома, не хватает только вашей подписи.
Значит, брат все еще в городе, подумал Кевин.
– Ясно. Я ему перезвоню.
– С вами хочет поговорить ваша мама. У вас есть минутка?
Кевин ощутил укол вины.
– Да, конечно… Кстати, как она себя чувствует?
– Она хорошо реагирует на новый препарат. Тяжелые симптомы пошли на спад.
– Отлично. Можете передать ей трубку.
– Сейчас, только… Она попросила меня кое-что записать, чтобы не забыть, почему она захотела позвонить вам. Может, я лучше сначала прочитаю?
– Да, пожалуй.
– Вот что она сказала: Папа ударил Кевина. Папа хотел попросить прощения, но не успел. Скажите Кевину: “Прости меня”. – Медсестра откашлялась. – Если это правда – сочувствую.
– Папа никогда меня не бил, – сказал Кевин. – Ни единого раза.
– Ясно… Ну и хорошо. Передаю трубку.
Кевин поднялся на мост через Дальэльвен, и в трубке затрещало.
– Здравствуй, милый… – Голос у матери был мягче и медлительнее, чем в прошлый раз.
– Здравствуй, мама. Ты хотела что-то мне сказать. И попросила медсестру записать на бумажке.
– Бумажка? Да-да… да, вот. Вот бумажка.
У матери в голове стоял туман, она говорила тягуче-замедленно, но во всяком случае реагировала на обращенные к ней слова.
Снова тишина, секунд на десять-пятнадцать. Потом мать сказала:
– Папа хотел попросить прощения. За то, что он тебя ударил.
– Папа никогда не бил меня.
– Плохо было, – сказала мать, словно не слыша его. – Совсем плохо, когда мы еще не переехали на Стуран. Я знаю, что ему было стыдно, но такой уж человек. Он…
– Мама, он меня не бил. Ты ошибаешься, ты…
И вдруг Кевин все понял.
Он увидел перед собой брата. Не взрослого задиру, а фотографию брата маленького, из фотоальбома.
Брат с удочкой в руках стоял на мосту – наверное, где-то на Гринде.
Папа ударил его, подумал Кевин. Не меня.
Отец не бил балованного младшего, милого шалуна, который получал все, на что укажет, включая красное йойо.
Папа бил старшего.
Что еще он с ним делал?
Кевину стало жутко, и он заговорил громче:
– Папа бывал жесток с братом?
Мать не ответила. Сначала Кевин решил, что она положила трубку, но фоном звучали голоса – наверное, переговаривались медсестры. Кевин, не отдавая себе отчета, прибавил скорость и проскочил указатель с ограничением в пятьдесят километров в час на скорости в восемьдесят. Мать ответила, только когда Кевин перестал ощущать сцепление с дорогой.
– Никто ни с кем не бывал жесток.
Кевин выжал сцепление, машину немного повело вправо, но потом шасси повернулись, как надо, сцепление восстановилось, и Кевин сбавил скорость.
– Пока, Кевин… – Мать положила трубку.
Кевин въехал в Скутшер. Он катил по узким дорогам между низеньких домов, но мысли его были не здесь. Он, пятилетний, сидит у отца на коленях, сжимая в руках “Донки Конга-младшего” – приставку “Game & Watch”, унаследованную после брата.
Всего через неделю он играл гораздо лучше отца, который винил свои неповоротливые руки с шершавой, в трещинах, коже. Руки он испортил, когда подростком ловил селедку в Онгерманланде.
Когда Кевин парковался возле “Ведьмина котла”, позвонил Лассе и в двух словах изложил биографию Блумстранда.
– Десять лет назад проходил по делу об изнасиловании тринадцатилетнего мальчика. Расследование закрыли, но это звоночек. К тому же его дважды арестовывали за распространение пиратских копий фильмов, включая порнографию. Это тоже звоночек, даже при том, что, насколько я знаю, детской порнографии там не было.
После этого разговора Кевин убедился в том, как прав был Луве Мартинсон насчет Ульфа Блумстранда.
Сегодня хрупкость Луве не бросалась в глаза, и Кевин спрашивал себя, не принял ли он силу за слабость.
Луве достал письмо, которое прислали ему Нова и Мерси, и стал пересказывать содержание. Кевин тем временем просматривал письмо.
Я все втыкала осколок ему в горло, втыкала до тех пор, пока не порвались сухожилия.
– Как по-вашему, Мерси способна еще на одно убийство? – спросил Кевин.
– Боюсь, что да.
Луве достал еще несколько листков.
– Вот письмо от отца Мерси.
– От отца Мерси?
Кевин взял письмо. По какой-то причине ему подумалось о двери, которая приоткрыта, хотя должна быть заперта.
– Я хотел дождаться вас, поэтому не стал разговаривать ни с ним, ни с представителями Департамента по делам миграции. Судя по содержанию, письмо мог написать только отец Мерси. Там говорится о вещах, которые Мерси рассказывала мне во время сессий, конфиденциально.
Кевин быстро прочитал шесть страниц письма.
Луве прав, подумал он, а это означает, что патологоанатомы работали спустя рукава. Он не был лично знаком с шефом судмедэкспертов, но знал, что Иво Андрич имеет репутацию перфекциониста. Хотя на других его перфекционизм, возможно, не распространяется. Случаи вроде этого иногда понижают в приоритетности.
Теперь дверь не полуоткрыта. Она открыта нараспашку, потому что никто ее и не запирал.
Кевин никогда не имел дела с Мерси, но ему казалось, что он в каком-то смысле знает ее, и в животе у него подсасывало не только от нетерпеливого ожидания, но и от радости.
– Я вот о чем думаю, – сказал Луве.
– О чем?
– Может, чтобы найти Мерси, стоит привлечь прессу?
Кевин поразмыслил.
– Может быть… Попросим ее отца выступить с обращением, просьбой дать знать о себе. Вдруг сработает.
Скоро мы их найдем, подумал Кевин и набрал номер угрозыска.
Разговаривая, он наблюдал за Луве. Тот сидел перед ним, скрестив ноги и сцепив пальцы на колене.
Так сидят все психологи.
В доме у христиан
Стоксунд
Эмилия Свенссон остановила машину перед домом Понтенов.
По имеющейся у нее информации, Свен-Улоф владел “BMW”, но сейчас машины не было видно.
Эмилия предложила поехать и поговорить с Алисой неожиданно для самой себя. Ей хотелось снять часть задач с Лассе и Кевина, но едва совещание закончилось, как на нее напала нерешительность. О чем она станет спрашивать? Однако когда Эмилия позвонила в лабораторию и попросила прислать фотографии майки, принадлежавшей Фрейе Линдхольм, а также рисунка на этой майке, как минимум один вопрос она сформулировала.
Эмилия вылезла из машины и пошла по выложенной камнями дорожке к таунхаусу, где проживали Понтены.
Ландгрен, Юхансон, Фрикберг, Сунд, читала она, проходя мимо почтовых ящиков. Все эти фамилии, равно как и неприметные таунхаусы красного кирпича, родом из шестидесятых, свидетельствовали: перед вами типичный шведский средний класс, а почтовый индекс проговаривался, что жить здесь не каждому по средствам.
Первым признаком того, что Эмилия собралась навестить дом, где живут христиане, оказался дверной молоток. Эмилия взялась за Христа и постучала в дверь Его пятками.
У Осы Понтен было кукольное личико, обрамленное подстриженными под каре светлыми волосами.
– Yes? – Женщина натянуто улыбнулась. – My husband is not here[72].
Эмилия растерялась.
– Здравствуйте, меня зовут Эмилия… И со мной можно говорить по-шведски.
Она объяснила, что она эксперт из уголовной полиции и ей надо переговорить с Алисой.
– Это не допрос, – прибавила она. – Я просто уточню у вашей дочери кое-какую информацию, но дело важное и срочное.
– Насчет тех двух девочек?
– Да, точнее, трех.
Женщина бросила взгляд на соседние участки, словно желая удостовериться, что за ними никто не наблюдает.
– Входите. – Она сделала шаг назад, пропуская Эмилию.
Оса была худенькой женщиной за сорок, с тонкими, почти острыми чертами лица и в будничной серой одежде, производившей впечатление чего-то холодного и застывшего.
Оса Понтен нервничала. Но ей явно было любопытно.
Они прошли через гостиную, дышавшую пятидесятыми, и Оса остановилась на пороге кабинета. Алисы не было, но в воздухе все еще висел запах лавандовых духов. Стены покрыты стеллажами с аккуратно расставленными папками, и Эмилия подумала, не бухгалтерские ли материалы в них содержатся. У стола со стопкой книг стояли два пустых стула.
– Я схожу за ней, а вы можете подождать в гостиной, – предложила Оса.
Эмилия села на черный кожаный диван и посмотрела в панорамное окно, выходившее на задний двор. Маленькая веранда, сад не больше тридцати квадратных метров. В гостиной – мебель пятидесятых-шестидесятых годов. Ничего дорогостоящего, подумала Эмилия. Послышался телефонный звонок.
Вниз по лестнице простучали быстрые шаги, и Оса ответила. В таких домах бывают тонкие гипсокартонные стены, и, хотя Оса понизила голос, Эмилия все слышала.
– Привет, Эрик… Да, он на работе, но Алиса дома. И еще – ко мне пришли. Я потом расскажу.
На полке слева от дивана стоял виниловый проигрыватель; прислушиваясь к разговору, Эмилия нагнулась и стала разбирать надписи на корешках пластинок.
– Да… Могу попросить Алису зайти к тебе потом… Свена-Улофа на выходных не будет, так что мы с тобой… Да, я позвоню… Целую.
Сначала несколько пластинок с классической музыкой и григорианскими хоралами, а потом Эмилия сильно удивилась.
Она встала с дивана, чтобы получше рассмотреть конверты.
“The Clash”? “Kraftwerk”?
– Чьи это пластинки? – спросила Эмилия, когда Оса Понтен вошла в гостиную.
– Старые пластинки Свена-Улофа. Он отказывается их выбрасывать.
Эмилия поставила “Autobahn”[73] на полку.
– Надеюсь, я не помешала. В смысле – если вам надо поговорить по телефону, я сама могу зайти к Алисе.
Оса улыбнулась.
– Ничего страшного. Звонила моя сестра.
Которую зовут Эрик и с которой ты изменяешь мужу, подумала Эмилия и улыбнулась в ответ.
– Ну что же, тогда подождем Алису?
– Она в туалете и не хочет выходить.
– Может, пойдем к ней вместе? – предложила Эмилия. Оса кивнула.
Слева от лестницы, ведущей на второй этаж, была видна гостиная, а по правой стене тянулись семейные фотографии Алисы и ее родителей, сделанные в ателье. Поднимаясь, Эмилия отметила, что они расположены в хронологическом порядке. Алиса делалась все младше и к концу лестницы стала грудным младенцем у отца на руках.
Лестница переходила в коридорчик с тремя закрытыми дверями. Последней была дверь туалета, рядом с которой висела репродукция рубенсовского “Поклонения пастухов” в рамке.
Порожка не было, и серое ковровое покрытие уходило под дверь туалета.
– Алиса? – Оса встала у двери. – Может быть, выйдешь?
– Нет.
Голос у семнадцатилетней Алисы был еще детским, и Эмилии стало неприятно.
В расследовании по делу Новы и Мерси Алиса упоминалась как потенциальная свидетельница, одна из формулировок врезалась Эмилии в память.
По словам терапевта Алисы, девочка стала сниматься в порно, взбунтовавшись против родителей.
По его же словам, в некоторых фильмах содержались сцены такой жестокости, что их можно было принять за реальное изнасилование.
Все это имело место три года назад.
Алисе было четырнадцать, подумала Эмилия. Она ходила в восьмой класс и, наверное, держала себя вызывающе, ничего удивительного. Девочка-подросток в футболке в обтяжку и в короткой юбчонке, ребенок, который учится быть взрослым. Иногда достаточно зрелый, чтобы принимать жизненно важные решения, но в той же степени наивный и подверженный манипуляциям.
Она постучала в дверь.
– Меня зовут Эмилия, я эксперт-криминалист и хотела бы задать пару вопросов насчет…
– Уходите. Пожалуйста.
Оса положила руку Эмилии на плечо. Жест вышел неожиданным, они несколько секунд смотрели друг другу в глаза. Мягко глядя на Эмилию, Оса беззвучно выговорила: продолжайте.
– Алиса, чего ты боишься? – спросила Эмилия.
Последовало долгое молчание. Судя по звуку по ту сторону двери, Алиса привалилась к стене.
– Почему ты не хочешь со мной разговаривать? Потому что я из полиции?
Эмилия подождала несколько секунд и, не дождавшись ответа, снова заговорила.
– У меня вопрос про майку, которую тебе подарила Фрейя Линдхольм. Я эту майку не видела, ее исследовали в полиции Евле, а потом переслали экспертам в Линчёпинг. Если не хочешь, не выходи. Но мне бы очень помогло, если бы ты уделила мне несколько минут. На майке отпечатано изображение. Надпись “Голод”, и…
– Фрейя сказала, что не вернется. Она подарила мне эту майку вроде как на прощанье, но майка мне оказалась велика, и я использовала ее как затычку от вони.
– Затычку от вони?
– Да, мы затыкаем вентиляцию, чтобы в комнаты не тянуло вонью с фабрики.
Снова молчание.
Из-за двери донеслись приглушенные всхлипывания.
– Фрейя тогда ушла из интерната не одна… – сказала наконец Алиса. – Я думала, они собираются сбежать все втроем, но две другие вернулись…
– Ты про кого? Кто вернулся?
– Нова и Мерси, – сказала Алиса. – А Фрейя – нет.
Обливали бензином
Евле
О прошлом Новы у Кевина уже имелось относительно ясное представление. Биография Мерси теперь тоже начинала вырисовываться отчетливее.
Живя в Брэкке, она общалась с парнями-шведами, регулярно продавалась им, а впоследствии и их отцам. Никого, кажется, не заботило, что она еще ребенок.
Судя по изложенному в письме, девочки сейчас вряд ли на севере. Заниматься емтландским следом не стоит.
Выезжая с парковки возле “Ведьмина котла” и направляясь к шоссе номер 76, на Евле, Кевин думал о женщине по имени Барбру Йоранссон. Похоже, она была единственным человеком, кто по-настоящему принимал участие в судьбе Мерси.
Барбру на общественных началах работала в лагере для беженцев в Брэкке, она регулярно ездила в поселок на поиски Мерси. Слухи ширились, и к концу того лета у Барбру накопилось достаточно, чтобы пойти в полицию. Само собой, в полицейском округе размером с небольшую страну, где трудились всего трое полицейских, не оказалось отдела, который ведал бы преступлениями на сексуальной почве. Но благодаря Барбру дело сдвинулось с мертвой точки, из полиции лена в Эстерсунде прислали помощь. Все закончилось семью обвинительными приговорами, из которых два вынесли отцам парней.
Полились потоки грязи и клеветы.
По словам адвоката, защищавшего мужчин, юная нигерийка соблазняла их, а после секса вымогала деньги.
Да вы посмотрите на нее. Она же выглядит на восемнадцать.
Кевин уже не помнил, сколько раз слышал подобные слова.
Она лгала моим клиентам, чтобы ввести их в заблуждение. А теперь ее ложь угрожает разрушить карьеру двух успешных и уважаемых людей.
Один из обвиняемых отцов был управленцем среднего звена в местной администрации, активный член Левой партии. Второй – практикующим психотерапевтом.
I’m not really a therapist. I’m the rapist[74].
Кевин был уверен, что цитата не из “Ходячих мертвецов”, однако именно этот сериал пришел ему на ум, когда вонь с бумажной фабрики усилилась.
Зомби истребляют человечество, людей на земле осталось немного, и все же они никак не могут скооперироваться, они с трудом уживаются друг с другом.
От зомби хотя бы знаешь, чего ожидать, подумал Кевин. Они предсказуемы, они никого не дурачат и не играют в игры. Они убивают лишь потому, что голодны, и на самом деле не более жестоки, чем животные.
А вот люди предают друг друга только так.
Люди жестоки по-настоящему.
Вот, например, Эркан. Образование – психология и социальная работа, хотя он и не психотерапевт. По словам начальника и коллег – душевный парень, глубоко увлеченный своим делом. И в то же время – сводник, который продает свои так называемые идеалы за деньги.
Запах с бумажной фабрики усилился, и Кевин припомнил, что говорил отец, когда они проезжали фабрику возле Крамфорса. Что там пахнет не сульфитом и не сульфатом.
Там воняет деньгами.
Кевин въехал в покрытый тонким слоем снежной слякоти Евле. Он проезжал это место бессчетное число раз, направляясь в Онгерманланд или обратно, но в сам город никогда не заезжал. Левый съезд вел к центру, и слева теснилась городская застройка, архитектурная мешанина. Как во многих шведских городах, очень мало что здесь было старше последнего по времени городского пожара. То тут, то там показывались помпезные, похожие на дворцы дома; справа тянулся какой-то бесконечный парк во французском стиле. Когда парк наконец закончился, Кевин свернул налево, на одну из центральных аллей, и покатил к речке.
На набережной выстроились лиственные деревья с узловатыми ветками; десятиметровый соломенный козел на другом берегу ждал, когда его кто-нибудь подожжет. Будучи главной городской знаменитостью, Козел из Евле претерпевал на удивление скверное обхождение. Его мало того что обливали бензином; к нему пригоняли старые американские машины, его обстреливали ракетами и огненными стрелами. Кевину было почти жаль его.
Эркан сидел под арестом в здании, похожем на коробку из жести и кирпича. Полицейский участок в Евле походил на уменьшенную копию следственной тюрьмы в Крунуберге, с той только разницей, что убогого вида постройка шестидесятых здесь была серой, а в Крунуберге – коричневой.
Главный следователь – женщина, с которой он разговаривал в Скутшере – ждала его на рецепции. Она объявила, что хочет кое-что показать Кевину, прежде чем он отправится к Эркану.
Пройдя длинный коридор, они оказались в небольшом кабинете.
На столе лежали два прозрачных пакета, в каких держат улики. В одном просматривались две веточки; содержимое второго было видно не так ясно.
Похоже на мятую бумагу.
Следовательница надела одноразовые перчатки.
– Двое мальчишек нашли в Рутшерском лесу, в Скутшере, у реки.
В конверте оказался пластиковый пакет, испачканный землей. В нем содержался обычный лист бумаги формата А4. Следовательница положила его на стол, и Кевин прочитал:
Я не могу жить дальше.
Продолжает выходить в интернет
Стоксунд
Едва забравшись в машину, Эмилия надела наушники с гарнитурой и позвонила Лассе.
– По словам Алисы, с Фрейей в ночь исчезновения были Нова и Мерси. – Она бросила взгляд на окно кухни.
Оса и Алиса Понтен сидели за столом, чуть подавшись друг к другу, словно вели доверительную беседу.
Эмилия завела машину, но с места пока не двинулась.
– Алиса сказала, что девочки приняли наркотики. Когда они вернулись, Нова была в таком состоянии, что ничего не соображала.
– Что еще?
– Мне кажется, Алиса боится Новы и Мерси и не решается рассказать все.
На первой скорости она выехала на дорогу, и тут на подъездную дорожку свернул еще один автомобиль. Эмилия остановилась на обочине.
– Мы вызовем Алису, – сказал Лассе; Эмилия в этот момент увидела в зеркале заднего вида, как из машины выбирается Свен-Улоф Понтен. Эмилия мельком заметила его лицо, и ей показалось, что у него усталый вид.
– И еще, – сказал Лассе.
– Что? – Эмилия не отрываясь смотрела в зеркало заднего вида.
– Мы получили факс из США.
Оса открыла мужу дверь. Когда дверь закрылась, Эмилия сдала назад, чтобы лучше видеть.
– В факсе содержатся персональные данные американского гражданина из тех двадцати трех, чьи IP-адреса содержались в списке, – продолжал Лассе.
Алиса и ее отец стояли посреди кухни лицом друг к другу. Эмилия видела лицо Алисы, но Свен-Улоф повернулся к окну спиной. Алиса закрывала лицо руками.
Она плачет, подумала Эмилия.
Лассе продекламировал наизусть:
– Джозеф Луис Маккормак. Родился 16 апреля 1951 года в Марионе, штат Иллинойс. Умер 21 ноября 2006 года в Атланте, штат Джорджия.
Там, за кухонным окном, Свен-Улоф обнял дочь, он утешал ее, как и положено порядочному отцу.
– Значит, один из Повелителей кукол умер?
– Да, шесть лет назад. – Лассе помолчал. – Вот только Джозеф Луис Маккормак продолжает выходить в интернет. Он в Сети прямо сейчас, пока мы с тобой разговариваем.
Глас мертвецов, подумала Эмилия.
Или еще один Повелитель кукол.
С нее хватит
Следственная тюрьма, Евле
Две веточки, скрепленные крестом.
И мятый лист формата А4, исписанный от руки.
Я не могу жить дальше.
У меня нет вещей, которые стоили бы хоть каких-то денег, но я хочу, чтобы Алисе достался мой шарф, потому что он ей нравится. Еще она может взять себе мою майку с “Голодом”, хотя она и не любит их музыку. Сигареты оставляю Нове и Мерси, пусть поделят. Прочее, что найдется у меня в комнате, можно просто выбросить. Или, Или! лама савахфани?
Я утоплюсь в реке, так создал меня Сатана.
Я умру, такова Истинная Воля. Не противиться природе. Я утеку по реке к морю. Моя плоть послужит пищей рыбам, мой скелет разложится и смешается с илом.
Veni, vidi, VIXI,
Фрейя Лувиса Линдхольм.
“Голод”, подумал Кевин. О котором говорила терапевт Фрейи.
Блэк-метал и культ самоубийства. Кевин вспомнил слова психотерапевта.
В последние дни Фрейя была спокойной и расслабленной. Опасно умиротворенной.
Если Фрейя совершила самоубийство семь недель назад, думал он, то кто тогда написал пост от ее имени?
– Письмо написали, чтобы его кто-нибудь прочитал, – сказал Кевин. – Зачем тогда его закапывать?
– Может, она передумала? – предположила следовательница.
– Как-то неестественно… Отпечатки пальцев есть?
– Да. От липких ручонок пары подростков – мальчишек, которые раскопали письмо. А также отпечатки их учителя, которому они это письмо показывали. Остаются еще три, из которых один набор наверняка принадлежит Фрейе.
А два других – Нове и Мерси, подумал Кевин.
– Вы знаете, что значат эти фразы? – Он вчитался в письмо. – “Или, Или! лама савахфани?”
– Последние слова распятого Христа, но почему она написала их в предложении, следующем после упоминания Сатаны? А “veni, vidi, vixi” – искаженное написание, но вы наверняка знаете, что это значит?
– “Пришел, увидел, победил”. Цезарь, после победы в каком-то сражении, – объявил Кевин. – Но первую, более сложную фразу, она написала правильно, к тому же выделила искаженное слово.
Следовательница взяла телефон и вбила слово в поисковик.
Vixi. Следовательница прокрутила список ссылок, Кевин читал через ее плечо.
– Вот это? – предположил он, указывая на цитату из энциклопедии.
Следовательница стала читать вслух:
– Vixi, значения. Первое: лат. “я жил”. Второе: семнадцать, согласно нумерологии – несчастливое число. Сумма римских пятерки, единицы, десятки и единицы. “Я жил” подводит к “Я жил, эрго: я умер”.
– Я пришла, я увидела, я жила?
– Какая-то логика в этом есть, – заметила следовательница и сунула телефон в карман. – Незадолго до исчезновения Фрейе исполнилось семнадцать. Несчастливое число.
– Она говорит об истинной воле. Звучит знакомо, но не могу сообразить, откуда я это знаю.
– Я тоже, поэтому погуглила. Думаю, она намекает на некоего Алистера Кроули, философа, который пытался избавиться от всего искусственного и обрести свое истинное “я”.
Кевин кивнул. Он знал, о чем речь.
– Я его читал. Он пустил о себе слух как о самом порочном человеке на свете, несколько лет назад я купил пару книг. Слух сильно преувеличен.
– Вам виднее. – Следовательница убрала письмо в пластиковый пакет, а пакет запечатала.
Возле допросной Кевин поздоровался с адвокатом Эркана.
Им оказался тощий мужчина трудноопределимого возраста с брюшком, седой ухоженной бородой и преувеличенно крепким рукопожатием.
Кевин уселся за стол. Адвокат и его клиент поместились напротив.
Судя по внешнему виду, Эркан чувствовал себя не так уж плохо. У него был вид простодушной невинности.
Кевин положил на стол телефон, нажал кнопку записи и, проговорив дату, время и место проведения допроса, задал первый вопрос.
– Что произошло в ночь исчезновения Фрейи Линдхольм?
Эркан взглянул на адвоката, и тот жестом распорядился ответить. Кевин изучал лицо Эркана, ища малейшие признаки того, что тот лжет или что-то утаивает.
– Я выпустил Фрейю, Нову и Мерси в начале первого ночи, – заговорил Эркан. – Около половины пятого Нова и Мерси вернулись, пьяные и под кайфом. Нова была вообще не в себе, а Мерси все-таки что-то соображала.
– А Фрейя?
Эркан покачал головой.
– По словам Мерси, Фрейя сказала, что с нее хватит и что она будет добираться автостопом до Стокгольма. А потом просто удрала.
– Они говорили, чем занимались между полуночью и половиной пятого?
Эркан вскинул руки.
– Принимали наркотики, пьянствовали. В лесу.
Кевин поразмыслил.
– Нова и Мерси звонили вам из домика возле Тьерпа чуть больше недели назад. Можете пересказать мне разговор?
– Да… Нова и Мерси позвонили, рассказали, что произошло; я запаниковал и попросил их связаться с одним человеком…
Эркан резко замолчал; он не улыбался, но глаза у него заблестели.
Адвокат вопросительно посмотрел на Кевина, что означало – пора приостановить запись и позвонить прокурору, если они хотят, чтобы Эркан рассказывал дальше.
– Адвокат показал, что арестованный желает сделать перерыв, – отметил он и, указав точное время, выключил запись, после чего набрал номер прокурора и включил громкую связь.
Прокурору Кевин сообщил, что проводит допрос, и защита хочет заключить сделку.
– Они сидят напротив меня и услышат ваши слова.
– Чего хочет защита? – спросила прокурор.
Адвокат наклонился к телефону и заговорил громче, чем нужно.
– Здравствуйте, Каролина. Как вам известно, ранее мой клиент не подвергался наказаниям. Мы рекомендуем обвинению остановиться на статье за пособничество проституции.
– Да? И что мы получим взамен?
– Кроме признания моего клиента в сутенерстве вы получите три имени, из которых два – из списка торговцев живым товаром. Третий покупал секс с несовершеннолетними.
Воцарилось долгое молчание. Наконец прокурор сказала:
– Я могу добавить к истории Эркана пару строк от себя.
– Спасибо, Каролина, – сказал адвокат. – Мы удовлетворены.
Прокурор отсоединилась. У Кевина появилось чувство, что она и адвокат в принципе уже договорились. Что телефонный звонок был всего лишь формальностью.
Адвокат взглянул на своего клиента.
– Теперь можете рассказать то, что рассказывали мне. Начните с человека, к которому вы направили Нову и Мерси, когда они позвонили из домика.
– Его зовут Ульф Блумстранд, – без выражения сказал Эркан. – Блумстранд – единственный, кто, по-моему, имел возможность их пристроить.
– Спасибо, но это лишь подтверждает наши подозрения. Мне нужно больше. У вас есть предположения о том, где найти Блумстранда или где он прячет девочек?
Эркан взглянул на адвоката, и тот снова ободряюще кивнул ему.
– Он работает с парнем, которого зовут Юрис Селезник.
Кевин записал имя.
– Что вы о нем знаете?
– Бандит какой-то… Мафия.
– Блумстранд и Селезник. Это два имени… А третье? Кто тот клиент, о котором вы говорили?
– Прошлым летом я свел Фрейю с одним человеком, – сказал Эркан. – Я узнал машину, а когда Фрейя садилась, узнал и того, кто был за рулем.
– Вы узнали и машину, и водителя?
– Да. Серебристая “BMW”. Свен-Улоф Понтен, отец Алисы.
Ему захотелось ударить ее
Серая меланхолия
– В детстве я думал, что человек – это тот, кто умеет сдерживать свои порывы. – Свен-Улоф Понтен повернулся к девушке на пассажирском сиденье. – Как объезженная лошадь сдерживает желание бежать свободно.
Девушка застенчиво улыбнулась, и он сменил полосу. Руль казался слишком тугим, да и все в машине было как-то неправильно. Свен-Улоф ненавидел водить маленький “ниссан” Осы.
– Быть человеком значит никогда не лгать, – продолжил он, – и во времена моего детства это требование было краеугольным камнем в представлении о том, что значит быть человеком по-настоящему. – Он сделал паузу и прибавил: – Представление… Слышишь, как глупо звучит?
Она, все еще улыбаясь, пожала плечами.
– Ja ne ponimaju…
Он не помнил, как ее зовут и из какой бывшей советской республики она приехала. Но знал, что она ни слова не понимает по-шведски, и именно поэтому с ней так хорошо говорить.
Она прибыла в Стокгольм на рижском пароме несколько дней назад – восемнадцать лет и, если не считать плохих зубов, довольно миловидная. Девушка страдала чем-то венерическим, и Свену-Улофу предстояло свозить ее к врачу по одному адресу в южном пригороде. Взамен она окажет ему услугу, и Свен-Улоф надеялся, что девушка не врала насчет того, что болезнь не передается оральным путем.
– Знаешь, что я делал на прошлой неделе? – Свен-Улоф снова посмотрел на нее.
Девушка склонила голову набок и отвела от лица темный завиток.
– I speak English, you know. Want to speak English?[75]
– Нет. Так лучше.
Снег тихо падал на дорожное полотно, когда Свен-Улоф проезжал Вестербрун. Мерцающие сумерки, одноцветные, за исключением красных точек с булавочную головку – габаритных огней едущей впереди машины.
– За восемь дней я выбросил на таких, как ты, сорок пять тысяч, – продолжал Свен-Улоф. – Оса думает, что я на работе, а на работе думают, что я лежу дома с ротавирусом.
Он усмехнулся, погладил ее по ляжке, включил поворотник и, прежде чем сменить полосу, бросил взгляд в зеркало заднего вида. Сзади полицейская машина. В горле вдруг пересохло.
Свен-Улоф вцепился в руль и немного сбросил скорость.
– Это ваша вина, понимаешь? Таких, как ты, – сказал он.
Девушка снова пожала плечами и отвернулась.
Но ему было абсолютно неважно, понимает ли она хоть слово из его речей.
Нужно выговориться. А с кем еще ему поговорить?
Свен-Улоф снова посмотрел в зеркало заднего вида. Полицейская машина так и держалась за ними; там, где Вестербрун переходит в Лонгхольмсгатан, в сторону Хорнстулла, он помигал правым поворотником и свернул на улицу поуже.
Полицейская машина проехала прямо; Свен-Улоф развернулся и снова выехал на Лонгхольмсгатан. Но легче ему не стало. Скорее наоборот.
– Послушай меня. – Он похлопал девушку по плечу. – Это важно, понимаешь?
– Da?
Девушка взглянула на него с беспокойством.
– Just listen, okay? Просто выслушай…
Девушка облизала губы. Рот у нее не закрывался как следует, и, если она не сжимала губы, зубы оставались видны.
Проезжая на восток по Хорнсгатан, Свен-Улоф продолжал говорить с девушкой по-шведски, рассказывать, как провел последнюю неделю: мастурбировал, трахался, бесцельно колесил на машине, заезжал домой в Стоксунд, чтобы, как обычно, пообедать с Осой, снова уезжал на машине, снимал еще какую-нибудь девушку, трахался, мастурбировал и снова мастурбировал.
Какое чувство освобождения – рассказывать, пусть даже девушка не понимает ни слова.
Она смотрела на него, рот полуоткрыт.
– Я в смятении. – Свен-Улоф хотел рассмеяться, но у него вышло только хриплое карканье.
Поворачивая возле Синкенсдамм на Рингвэген, он почувствовал, что щекам горячо, и понял, что плачет. Девушка погладила его по руке, сжимавшей рычаг коробки передач:
– Don’t cry. Keep talk. I listen.[76]
– Спасибо, – сказал Свен-Улоф и стал рассказывать о своем детстве, проведенном в емтландском Витваттнете.
С трудом подыскивая слова, он рассказал о приходе, потом об отце с матерью.
Через несколько минут он подумал: достаточно.
– Старейшины были бы довольны, – завершил он.
Снегопад еще усилился, и, когда они подъезжали к Сканстуллу, машины еле ползли. Девушка слушала, а может, и не слушала. Но вдруг она каким-то образом все же что-то поняла, подумал Свен-Улоф и остановился на Рингене на красный свет.
По ту сторону лобового стекла мерцал черно-белый мир; повыше, по диагонали, светился красным светофор. Свен-Улоф молча собрался, дождался, когда загорится желтый, а потом зеленый.
– Ты, может быть, думаешь, что я такой потому, что вырос в религиозной семье, – заговорил он; за ними засигналила какая-то машина. – Но тут ты ошибаешься. Если что и искорежило мою сексуальность, то это не Бог и не родители. Злым оказался мир без Бога, мир, который заставил меня усомниться в Его существовании.
Послышались еще гудки, но Свен-Улоф дождался, когда снова загорится желтый, а потом красный.
И тогда он тронул машину с места. Наискось пересек правую полосу, въехал на Сканстулльсбрун, по направлению к Гулльмарсплан.
– На несколько лет я потерял Бога, – продолжил он. – И снова обрел, уже став взрослым. Мне помогала Оса, но потом оказалось, что ее вера недостаточно крепка. Осе следовало лучше поддерживать меня.
– You talk a lot about Åsa, – заметила девушка. – Who is Åsa?[77]
Свену-Улофу стало трудно дышать. Он то и дело против воли смотрел на рот девушки, рот с выступающими зубами. Когда она улыбалась, то слишком обнажала десны. Когда расслабляла рот, губы не сходились, и зубы снова мерзко обнажались. В те немногие разы, когда рот закрывался до конца, девушка тянула нижнюю губу вверх, что придавало ей придурковатый вид. И все же она несомненно красива.
Внизу у Свена-Улофа затвердело. Извилистые пути инстинкта. Эрекция – признак того, что Свен-Улоф опять заблудился.
Ему захотелось ударить девушку, как он ударил Блэки.
Вложить в удар весь свой инстинкт и так избавиться от него.
– Я мастурбирую раз десять в день, не меньше, – заговорил он, и собственный голос зазвучал у него в голове, как в закрытой комнате. – Иногда вдвое больше, но меньше – никогда. К вечеру спермы уже не остается. Я только дергаю член, а потом поворачиваюсь и засыпаю головой в подушку. Простыня грубая, но в мозгах спокойно. – Свен-Улоф притормозил, въехал на круговой разворот, ведущий на Нюнесвэген. – Так все и началось, – пояснил он. – И этот изъян – возможно, непонятный – моей личности толкает меня на мерзости.
Свену-Улофу показалось, что девушка что-то спросила, но он продолжал говорить.
Когда они были недалеко от Глобена, метрах в двухстах позади них завыла полицейская сирена.
И в миг, когда Свен-Улоф ее услышал, он понял, что все, может быть, обернется так, как ему хочется.
Все наконец-то закончится.
Но прежде, чем все пойдет прахом, он высосет из жизни все до конца.
Девушка обернулась. Police! Police!
Но Свен-Улоф все говорил, говорил, говорил, потому что он еще не выговорился до конца.
Рассортированы по жанрам
Танто
Сумеречное состояние, twilight state, есть психическое нарушение, которое означает, что сознание человека ограничено и он не слишком хорошо воспринимает окружающий мир. Самый тяжелый вариант этого расстройства называется зомбификация, состояние, при котором человек, подобно аналоговому телевизору, не в состоянии принимать и обрабатывать информацию. Там только шум и помехи.
Тантобергет покоилась в серых сумерках; маленькие разноцветные домики светились в резких четырехугольных декорациях красным, желтым и зеленым. Когда Кевин парковал “тойоту” на Тантолундсвэген, в голове у него уже мало что осталось об обратном пути из Евле. Один час и сорок пять минут по самому скучному шоссе Швеции, никаких впечатлений от пейзажа, только семнадцать миль асфальта. От трения проносившихся мимо минут Кевин словно утратил кожу, стал хрупким. Шагая по гравийной дорожке к дому, он думал о зомби.
О Повелителе кукол Джозефе Луисе Маккормаке. Американском живом мертвеце.
И о Свене-Улофе Понтене, вот кто настоящее чудовище. Его давно пора арестовать.
Кевин отсутствовал больше недели. В доме было градуса два тепла, не больше. В воздухе плотной массой висела сырость. Дождя не было, только изредка падал снег, так что обошлось без тумана. Озеро Мэларен и Балтийское море слились во влажном поцелуе.
Кевин отпер дверь и включил слабо зажужжавшую напольную батарею. Потом сел на диван, взял телефон и позвонил Вере.
Как хорошо услышать ее голос.
Кевин пересказал разговор с Луве, описал поездку в Евле, и когда Вера спросила, почему же он чувствует себя выбитым из колеи, он не сумел найти хороший ответ.
– У меня как мозги отключились. Я как будто не вижу чего-то, что у меня прямо перед глазами. Как будто меня одурачили.
– Кто? Парень, которого ты допрашивал?
– Нет… Я все думаю про тот ролик. Голос отца… Там что-то не вяжется, но я не могу понять, что именно. Такая каша сейчас в голове.
– Включи себе какой-нибудь экшн, пусть глаза устанут.
– Как раз собираюсь.
Они закончили разговор, Кевин включил компьютер и принялся искать что-нибудь, что поможет ему расслабиться и уснуть.
Фильмы в папках были рассортированы по жанрам, Кевин щелкнул по “Ужасы и слэшеры” и стал прокручивать список в поисках фильма, который смог бы вытащить его из сумеречного состояния.
Взгляд зацепился за одно название. Учитывая обстоятельства, фильм мог бы сработать как противоядие.
Дышать ртом
Фиши
Нова смотрела на руку Мерси и думала: как люди учатся выносить такую боль. Другое дело, когда за деньги, но Мерси это сделала бесплатно. Во время съемок им часто бывало больно, но там терпишь, потому что тебя ждет гонорар. Хуже всего такое, от чего тошнит, хотя есть один прием.
Иногда помогает дышать ртом.
“Зачем она это сделала, с зажигалкой?” – думала Нова.
Мерси спустила одну ногу и коснулась пальцами пола; Нова помогла ей сесть. Как она сейчас нравилась Нове! Такая маленькая, изломанная.
Нова хотела поднять ее, но сил не хватило, и Нова завалилась на подругу.
И осталась лежать.
Ей хотелось еще немного ощутить тепло Мерси, прежде чем они двинутся отсюда.
Щека Новы покоилась у Мерси на груди, девушки полежали, пока было время.
– Не ломала ты шею никакому кролику, – сказала Мерси.
– Вот как?
– Нет, Нова… Конечно же, нет. Ты же любишь животных.
Нова поняла, куда клонит Мерси, и в голове стало как-то странно.
Во всем виновата я. Но Фрейя так канючила! Всю ныла и ныла, что хочет умереть.
Чтобы избавиться от этих мыслей, Нова, как учила ее Мерси, стала думать о другом.
Нова стала думать о Сансет-Бич.
Отдыхать им пришлось недолго: явился Цветочек, сказал, что пора двигаться, пускай приведут себя в порядок.
Первые два шага от кровати до двери Мерси одолела, опираясь на плечо Новы, причем одна ее рука болталась в воздухе.
– Я могу сама, – сказала Мерси и отпустила плечо Новы.
Пока она раздевалась и стояла под душем, Нова начала подкрашиваться перед зеркалом.
Она выбрала темно-красную помаду, которая так красиво смотрелась с ее по-новому выкрашенными, черными волосами, и Нова подумала, что у них все получится. Сто тысяч – не кот чихнул.
– Может, через неделю мы уже купим дом в Сансет-Бич, – сказала Нова.
– Нету никакого Сансет-Бич, – отозвалась Мерси из душа.
– Чего это нету?
– “Сансет-Бич” – это телесериал. А не реальное место.
– Реальное-реальное.
У них все получится. Получится, никуда не денется.
Hollywood here we come[78].
Мы своего не упустим.
Тем более что иногда просто надо дышать ртом.
То, что называется “музыка для лифтов”
Танто
Противоядием от сумеречного состояния оказался “Рассвет мертвецов”, слэшер 1978 года.
Два часа кровавых нападений, учиненных зомби. Кевин откинулся на спинку дивана. Сцены во время начальных титров разыгрывались в телестудии, где шло взволнованное обсуждение, не разразилась ли эпидемия. Люди превращаются в живых мертвецов, вот-вот предстоит столкнуться с кризисом.
You have not listened![79]
Фильм просто кишел ляпами, и список большинства несоответствий можно найти в интернете, хотя это неинтересно.
If we’d listened, if we’d dealt with this phenomenon properly[80]…
Гораздо успокоительнее находить их самому.
Кевин начал играть с йойо, вверх-вниз на шнурке, пусть живет собственной жизнью, пусть трюкачит от одной только скорости.
Он смотрел “Рассвет мертвецов” бессчетное число раз и сам составил длинный список ляпов. Съемочной группе оказалось страшно трудно не попасть в картинку. То виден каскадерский трамплин, то кто-то из съемочной группы мелькает за окном.
Снято коряво, но энергия этих эпизодов – чистая любовь. Каждый ляп на своем месте, они присутствуют в фильме как его необходимейшие части.
В Кевине бурлил адреналин, больше всего ему хотелось сейчас оказаться там.
Посреди этой анархии и символического разорения капитализма.
You have not listened!
Везде отступления от нормы, и это ожидаемо. Йойо, крутясь, ушло к полу, оттолкнулось от ковра, снова легло в руку.
Стреляли ружья, вдребезги разносило витрины, выла сирена, ревели моторы. Какофония успокаивала, а адреналин обострял чувства.
Но что-то было не так.
Что-то, чего он раньше не замечал.
Кевин остановил фильм, поймал йойо, крепко сжал. Отмотал на полминуты назад и снова запустил фильм.
You have not listened!
Можно слышать, не слушая, но нельзя слушать, не слыша. Кевин стал слушать.
Кровавые сцены в торговом центре шли под музыку, которую обычно выбирают, чтобы она оставалась незаметной. В “Рассвете мертвецов” она создавала извращенный контраст, уклон в сторону комического, и ощущалась как неправильная, как нечто, чего здесь не должно быть.
Музыка, которая звучит в торговом зале, подумал Кевин. Беспечно льющаяся мелодия – то, что называется “музыка для лифтов”. Она-то и привносила ощущение распада. Она-то и царапала слух.
Кевин остановил фильм, взял телефон и позвонил Эмилии, надеясь, что она еще на работе.
Он посмотрел в окно. На отливе лежал приличный слой снега, и Кевин понял, что снег, наверное, шел довольно долго. Может быть, даже все время, что он смотрел фильм.
– Я хочу послушать его снова, – сказал Кевин, когда Эмилия ответила и подтвердила, что она все еще в участке.
– Кого – его?
– Ролик с отцом и рыжей девочкой. Там фоном звучит музыка.
– Да, верно. Играет радио.
– Можешь прокрутить музыку еще раз?
Возможный анализ
Квартал Крунуберг
Когда Кевин позвонил и попросил включить звуковой файл, Эмилии покаалось, что голос у него усталый и нетерпеливый.
Через минуту и семнадцать секунд она вытащила проводок.
– Ты услышал что-то, чего не слышала я?
– Скажем так: часто ли в Швеции передают по радио блюграсс?
– Хороший вопрос. Чтобы определить музыку на записи, я пропустила мелодию через несколько приложений и программ, но безрезультатно. Единственное, что я знаю точно, – это что там звучат банджо, мандолина и скрипка. Звук тихий, качество неважное, но анализ показал, что это, вероятно, радиостанция в АМ-диапазоне, на шведском радио такого нет уже пару лет, да и раньше встречалось не слишком часто.
– Ролик записан не в Швеции?
– Скорее всего.
– Его могли записать в США?
– Да, а также в некоторых других странах, и я…
– По-моему, мелодия звучит как импровизация, что тоже не в пользу версии о шведском радио. А тот американский IP-адрес – где в США он зарегистрирован? IP-адрес Джозефа Луиса Маккормака, который умер?
– Атланта, Джорджия, – ответила Эмилия и тут же услышала на том конце вздох.
– “Deliverance”. “Избавление”. Goddamn, you play a mean banjo[81].
– Ты о чем?
– Про один фильм, там действие происходит в Джорджии, в районе Аппалачей, на родине блюграсса. Смотрела фильм, где беззубый мальчик играет на банджо? Это оттуда.
– Ну да, смотрела.
– Там звучит не “Dueling banjos”, мелодия вообще не имеет отношения к фильму, но ощущение лоу-фай[82] – то же самое. Какая-нибудь группа из американского Библейского пояса.
– Я тоже услышала на записи кое-что еще, – сказала Эмилия.
– Что-то, чего не услышал я?
– Да… Вообще я, прежде чем говорить с тобой, хотела бы проверить этот момент с одним коллегой, но какая разница, скажу сейчас… Я начинаю думать, что на самом деле голос твоего отца – это запись. Там фоном звучит белый шум, и колебания звука указывают на то, что запись могли сделать на кассету.
– Магнитофонную кассету?
– Да. Вероятно, во время съемок кто-то держал в руках диктофон с кассетой, на которой записан голос твоего отца. Может быть, звук наложили потом, чтобы осложнить возможный анализ.
Последовало долгое молчание. Наконец Кевин сказал:
– Спасибо. Тогда остается только узнать, кто именно держал диктофон.
Их прервал стук в дверь.
– С Кевином говоришь? – спросил Лассе. – Если да, включи, пожалуйста, громкую связь.
Эмилия подключила динамик и положила телефон на стол.
– Ульф Блумстранд имеет доступ к четырем квартирам, – начал Лассе. – У него два кондоминиума, в Риссне и Акалле, а еще его имя стоит в двух договорах аренды, квартиры в Рогсведе и Фисксетре. Я только что отправил тебе адреса.
– Еще что-нибудь можно связать с Блумстрандом? Нежилые помещения? Дачные домики?
– Нет, насколько мы знаем.
Кевин откашлялся.
– Лассе, ты хороший начальник.
– Спасибо… Я стараюсь.
– Что означает – тебе все равно, чем я занимаюсь в свое свободное время.
Какое-то время Эмилия и Лассе смотрели друг на друга, потом Лассе пожал плечами.
– У тебя усталый вид, – сказал Лассе. – Выдержишь еще встречу, прежде чем пойдешь домой? Кое-кто из тех, с кем ты работала в Бергсхамре, ждет тебя в буфете.
– Шварц? Он же на больничном после ранения?
– Нет. Ирса Хельгадоттир. Похоже, у нее что-то важное.
У мужика имеется домик
Накка
Ульфу Блумстранду было тридцать семь лет, но выглядел он на десять лет моложе. Факт, достойный удивления, если принять во внимание его образ жизни. Вот уже двадцать лет Ульф спал не больше шести часов подряд, обычно обходился тремя, максимум – четырьмя часами сна, и они редко выпадали на ночь, потому что по ночам он работал. С юных лет целью всех бизнес-инициатив Ульфа было обеспечить себя “антидепрессантами”, которые он сам себе прописал, но явными признаками употребления наркотиков были лишь слегка ввалившиеся щеки и неглубокие тени под глазами.
Хуже обстояло с внутренними, скрытыми органами, чего Ульф пока не ощущал: сердце и печень были поражены, почки работали в четверть силы, из легких скоро можно будет добывать уголь, а последствия синусита, который затянулся лет на семь-восемь, перекинулись на мозг.
Умереть – ну и ладно, не худшая альтернатива из возможных.
Все, что Ульф делал, он делал основательно.
Кроме одного.
Он никогда в жизни не любил другого человека.
Влечение к мужчинам он подавлял, и оттого у него развилась сильнейшая ненависть к женщинам.
Цветочек даже себе не хотел признаваться, но Мерси пугала его, и не только своим острым умом.
Она еще и психованная.
Хорошо, что на Юриса можно положиться. Цветочек покосился на здоровяка, сидевшего за рулем. Челюсть как у бойцового пса, руки – стальные балки.
– Ты не расскажешь про парня, к которому мы едем? – спросила Нова. Цветочек с каждым днем все больше ненавидел этот писклявый, бесивший его голос, но слушать его был вынужден каждый день.
Глядя в окошко, он сосчитал до десяти. Над дорогой вился снег, слева светились огни трассы, которую они скоро пересекут. Цветочек уже сам не помнил, в который раз болтовня Новы заставляет его сжимать кулаки в карманах, но понимал, что бить ее – не дело. Лучше пустить эту ярость на съемку фильма. И увидеть, как толстые члены втыкаются в ее мерзкую узкую глотку.
Человеку, которого они собрались доить, лет пятьдесят, он работает в прокуратуре и питает слабость к малолеткам вообще и к Нове в частности.
У мужика имеется домик недалеко от природоохранной зоны в Накке – идеальное место, до ближайших соседей несколько километров. Они припаркуются метров за двести от дома, в укромном месте, девчонки пройдут последний отрезок пути одни. Он их впустит, они договорятся о плате. Разденутся, сделают все, как он хочет. Чем извращеннее, тем лучше. У Цветочка уже имелось изрядно данных о его интернет-привычках, но, если хочешь поторговаться, всегда лучше иметь козырь понадежнее.
В минуту, когда мужик будет уязвимее всего, они с Юрисом ворвутся в дом. У Юриса пистолет, у него самого камера.
Потом все будет просто. Юрис расскажет, что у них на него есть нечто такое, что не обязательно показывать его жене или коллегам в прокуратуре. А дальше они объяснят, какую сумму считают подходящей за свое молчание.
От Фисксетры они взяли налево, проехали вдоль Сальтшёбадсвэген, параллельно шоссе, миновали клуб верховой езды; на пути к заповеднику дорога сузилась, стала хуже. Цветочек надеялся, что снегопада больше не будет.
Он попросил Юриса последний отрезок проехать помедленнее. В том месте, где они собирались остановиться, машину видно не будет, а сами они будут наблюдать за домиком в бинокль, не рискуя быть замеченными. Чего Ульф Блумстранд не рассчитал, так это того, что проклятый снегопад ухудшит видимость.
Когда они прибыли на место, его поразила тишина.
Девочки нервничали, даже Мерси казалась напряженной.
Цветочек взялся за бинокль.
Сначала он не видел в темноте ничего, кроме поземки. Потом на веранде засветилась лампа; недалеко от крыльца стоял автомобиль.
“Форд” старой модели. Интересно, зачем мужик с двадцатью тремя миллионами в банке ездит на такой рухляди. Хотя, может, с его стороны это просто мера предосторожности.
Вдруг Цветочек уловил перед домом какое-то движение.
На фоне стены мелькнула одна тень, потом еще одна.
Цветочек покрутил настройку бинокля, но больше ничего не увидел.
– Вот сука…
Что-то не так.
– Ждите здесь.
Они с Юрисом двинулись к домику, держась в тени деревьев на обочине. Цветочек почувствовал себя увереннее. Рядом с ним шагали сто двадцать кило преданных ему мускулов и “зигзауэр Р226”, та же надежная модель, что у копов.
Оба остановились за елками, метрах в десяти от веранды.
Цветочек сумел рассмотреть только опущенные жалюзи и попросил Юриса подержать бинокль; сам он достал мобильник и набрал номер клиента.
“Привет, это Нова, – написал он. – Скоро будем. Вы на месте?”
Потом он снова посмотрел в бинокль, подождал.
В доме никто не двигался. Никто и ничто. Только плотная, порождающая клаустрофобию тишина, в которой звук входящего сообщения прозвучал, как удар колокола.
Цветочек с тем же успехом мог бы вскочить и закричать: “Мы тут!”
– Черт, – прошипел он, выключил звук и стал читать сообщение.
“Я на месте. Жду”.
Ладно, подумал он и сделал Юрису знак возвращаться к машине.
В тот же миг тридцатисемилетний Ульф Блумстранд – которого и друзья, и менее расположенные к нему знакомые звали Цветочек – понял, что сценарий был обречен с самого начала.
– Не двигайся, – сказал голос у него за спиной.
Вот черт
Квартал Крунуберг
К тому времени, как Эмилия села за столик, Ирса Хельгадоттир уже допила кофе.
– Извини, что заставила ждать. Ты про что хотела сказать?
– Про мужчину, у которого был секс с Тарой.
– Так. Слушаю.
Ирса начала с того, что, хотя дело о смерти Тары формально было закрыто, оно ее не отпускало.
– Это мой первый случай с погибшим человеком, и когда убийство раскрыли, про сам факт купли-продажи секса как будто забыли. Мне показалось, что по отношению к Таре это как-то неправильно.
Голос у Ирсы был сосредоточенный, но щеки слегка покраснели, выдавая, как она взволнована.
– Понимаю, – сказала Эмилия. – И в наших базах данных этого человека нет?
– Нет… Но, когда я сегодня после обеда обратилась в отдел по борьбе с проституцией, мне там рассказали, что где-то с полгода назад к ним поступило несколько заявлений, где указывали те же приметы. Мужчина между сорока и пятьюдесятью годами, который водит серебристую машину. Судя по всему, “BMW”. И который подбирает девушек на северных окраинах города. Свидетели замечали его в Риссне, Халлунбергене и Бергсхамре…
– Погоди-ка…
Ирса отмахнулась.
– Насколько я понимаю, ты вчера проезжала Бергсхамру, когда ехала к Понтенам в Стоксунд?
Эмилия кивнула.
– Два часа назад Свена-Улофа арестовали недалеко от Глобена, – продолжила Ирса. – Девушка у него в машине оказалась русской проституткой, мы подозреваем, что она несовершеннолетняя. И я больше чем уверена, что когда придет ответ из лаборатории, то окажется, что именно с ним у Тары был секс перед смертью.
– Вот черт, – вздохнула Эмилия.
Люблю тебя… дорогая
Накка
Со своего места сзади Мерси не отрываясь смотрела на бурые пятна на спинке переднего сиденья. Она знала, что это пятна от молочного шоколада, потому что четыре дня назад она лежала на спине как раз на этом сиденье, и ее рвало смесью какао, бутерброда с сыром и спермы.
Отец Алисы заплатил ей пятьсот крон, далее расстегнул брюки, помастурбировал, обозвал черномазой шлюхой, сунул пальцы Мерси между ног, а свой член ей в рот. Ее вырвало, отец Алисы пришел в ярость и принялся избивать ее. Избивал он ее до тех пор, пока у него не зазвонил телефон. Тогда он вышел из машины.
Папа Алисы разговаривал с мамой Алисы, и голос у него был чистым, мягким и льстивым. “Скучаю. Скоро увидимся. Люблю тебя… Целую-целую”.
Мерси тем временем не сводила глаз с ключа в замке зажигания. Она совершенно спокойно перебралась на водительское сиденье, завела серебристую “BMW” и уехала.
Сейчас под рулем болтались те же ключи.
Юрис забыл вытащить их из зажигания.
В зеркале заднего вида что-то мелькнуло. К ним приближалась машина, и Мерси обернулась, чтобы лучше видеть.
Брат Новы научил ее, как распознать в машине без маркировки полицейский автомобиль.
Дополнительные фары впереди, отметила она, увидев в зеркале приближающуюся “тойоту”.
Тонированные стекла и длинная антенна.
– Поехали. – Мерси перелезла на водительское сиденье.
Вдруг раздался глухой хлопок – в отдалении, но не узнать пистолетный выстрел было невозможно.
“Тойота” подползала все ближе. Когда она наконец остановилась, Мерси завела “BMW” и рванула машину с места.
Разворот, машину с глухим стуком занесло в сугроб, но Мерси удалось вернуть ее на верный курс, и она понеслась к “тойоте”.
Ветер бросал снег в лобовое стекло. “Тойота” попятилась, потом отъехала в сторону; проезжая мимо нее, Мерси включила дальний свет и покатила дальше, на шоссе.
Они ехали в Сансет-Бич.
Все равно уже поздно
Домик в Накке
Ульф Блумстранд и Юрис Селезник сидели на стульях. Вокруг них стояли четверо парней.
Пуля попала Юрису в бедро, высоко, и верные Цветочку сто двадцать килограммов, хрипло дыша, тяжело осели на реечном стульчике, а “зигзауэр” сменил владельца.
– Меня зовут Алекс. – Один из парней взмахнул пистолетом Юриса. – А это – Фадде и Муссе.
Он указал на своих приятелей. Фадде направил на них пистолет-пулемет. Муссе держал топор.
Потом парень кивнул на четвертого, самого толстого.
– Альбин кажется безобидным, но только на первый взгляд. С ножом он управляется молниеносно.
Этого не может быть, думал Цветочек.
– Вам деньги нужны? У меня есть деньги…
Он сам услышал, какой прерывистый и писклявый у него голос.
– Поменьше болтай. – Алекс присел на корточки и посмотрел Цветочку в глаза.
– Ты сам-то знаешь, что ты псих ненормальный? Ты бы поосторожнее с наркотиками, а то у тебя от них язык делается длинный. Сам знаешь, как легко пустить слух, что ты, например, записываешь ролики, а потом вымогаешь деньги у клиентов… Мы могли бы посмотреть на твои штуки сквозь пальцы, если бы не сестренка Налле.
Сердце Цветочка сжала чья-то громадная рука, она проникла глубоко в грудь, и он кашлянул.
– Не понял… Какая сестренка?
Молодой человек покачал головой.
– Не понял, ну и не надо. Все равно уже поздно.
Кулак, стиснувший сердце Цветочка, сжался еще немного, и пульс загрохотал в висках.
Этого не может быть, повторил голос в голове.
Не может быть.
И тем не менее “это” было.
На самом деле.
В последний путь
Конец, шоссе номер 222
Когда они встретились, их жизни срослись, они научились читать мысли друг друга, их старую жизнь унесло, и будущее у них теперь одно на двоих.
Девяносто километров в час, под колесами узкая Эрставиксвэген. Они едут в Сансет-Бич, но сначала завернут в сторону Стокгольма, сто десять километров в час, повернут на Вэрмдёледен, снежный туман в воздухе, мимо “Накка-Форума”, едва видного в белой массе взвихривающихся кристалликов.
Сто пятьдесят километров в час. Они не знали, что у красной “тойоты” проблемы с тормозами, из-за чего на повороте возле Свиндерсвикен ее занесло.
Они понятия не имели, что “тойота” ударилась о дорожное заграждение и двести метров проехала на боку, после чего перевернулась вверх колесами и остановилась.
Они только видели, что “тойота” исчезла.
– Видела? Мы с ним разделались.
– С ним? Откуда ты знаешь, что “он”?
– Это всегда какой-нибудь он.
Сто восемьдесят километров в час.
– Девяносто процентов всех убийств и девяносто девять процентов всех изнасилований совершают мужчины, – сказала Нова. – А из ста педофилов только два – женщины.
Но чего они не знали – это того, что полицейский, преследовавший их в красной “тойоте”, уже позвонил и приказал развести мост в Данвикстулле. Не знали они и того, что полицейского зовут Кевин Юнсон и что позже он попадет под внутреннее расследование за служебную ошибку.
Они громко рассуждали, по какой же причине все катится к черту. Мужчины вроде Цветочка и Юриса, вроде Алисиного отца, из-за которого Мерси рвало какао, вроде всех тех мужчин, что решили, будто они особенные, но которые на самом деле ничуть не лучше остальных.
– Из-за них происходит девять из десяти автоаварий. А еще они любят мучить животных… Из тысячи любителей трахаться с другими видами… – Нова рассмеялась, – коровами, например, козами, собаками и беспомощными цыплятами девятьсот девяносто десять – мужчины, а единственную женщину, готовую сунуть в себя конский член, обучил и выдрессировал мужчина.
– Они придумали групповые изнасилования, атомную бомбу и электрический стул. Вот что у них в голове?
– А самомнение! Все знают, все могут. А на самом деле они – одна большая ошибка, эволюционный просчет. Одно в них хорошо: они чуть не миллиард раз в день или бьют, или убивают друг друга. Почему им вообще дается право голоса?
– Рождается мужчина – значит, рождается потенциальный людоед или педофил. Надо лишать их всяких прав с самого рождения.
– Убить десять случайно выбранных мужчин значит предотвратить сорок восемь изнасилований. Включая убийство и сексуальную эксплуатацию детей. Хорошо бы всех мужчин, прямо со дня рождения, подталкивать к самоубийству.
Они не видели мигалки возле моста Данвиксбрун.
Они задумались о своих отцах.
Один из них совершил самоубийство в Фисксетре, другой сгинул в Гамбурге. Они были хорошими папами. И плохо, что их больше нет.
Покончить с собой должны были все остальные мужчины, только не эти двое.
Девушки просто гнали машину дальше.
Знали, какие дороги привели их сюда. К последней черте.
Они видели комнату в пропахшей спиртным квартире в Фисксетре.
Видели теплый домик с мамой, папой и двумя толстенькими братишками.
– Все к черту, – сказали они и понеслись в никуда.
Account closed[83]
Account closed
Что было потом
Декабрь 2012 года
Иногда они даже глупы
Те-Вудлендс
– Darling[84]? – призывая его действовать, она кивнула на стоящий на полу пакет, и он подхватил его свободной рукой. Пакет не был тяжелым, жена совершенно спокойно смогла бы нести его сама. Он заглянул в пакет. Несколько покетбуков для очередной дискуссии в ее книжном клубе. “We Need to Talk About Kevin[85]” Лайонела Шрайвера.
Прочитал текст на задней обложке – не запомнил, ни единого слова в голове не осталось. В памяти почему-то застряло название издательства – Serpent’s Tail[86].
Он подхватил рюкзаки дочек, с купальниками, полотенцами и всем, что может понадобиться двум девочкам девяти и одиннадцати лет, которые отправляются в аквапарк Wet’n’Wild. Рюкзаки он сунул в багажник машины. Тихо выругался: резануло в пояснице. Ему всего сорок восемь, он занимается спортом, но поясница все равно дает о себе знать. Тело упорно напоминает, что уже не молодо. После каждой тренировки у него как будто не убавляется, а прибавляется по килограмму.
Девочки забрались на заднее сиденье. Он обошел машину и открыл дверцу жене. Пока ее машина в ремонте, ему приходится быть за личного водителя. Женщина, определенная книжным клубом в героини недели, жила не слишком далеко, в Плезант-коув на том берегу озера Вудлендс, и туда можно было бы отлично прогуляться пешком. Но в Те-Вудлендсе теперь не так безопасно, как когда-то.
Когда-то они переехали в мечту. Вилла в двести квадратных метров, рядом озеро, на участке растут пальмы; статистика твердила, что этот район во всем Хьюстоне самый безопасный. Девять из десяти жителей – белые, черных, насколько он знал, всего двое из ста, мусульман вообще не зарегистрировано. Средний годовой доход был одним из самых высоких в этой части штата, и то, что женщины зарабатывали едва ли половину, гарантировало, что здесь уважают семейные ценности и мужчины ценят женщин, которые ответственно относятся к роли хозяйки и матери.
Через десять лет по району поползла тревога. Несколько месяцев назад педофил объявился снова; фотороботы демонстрировали мужчину средних лет, с латиноамериканской внешностью. Жертвами педофила становились исключительно девочки, самой младшей было всего десять лет. В местной газете “Вилладжер” ему дали прозвище “Призрак из Вудленда”.
Он обернулся и посмотрел на дочек; дышать стало трудно. Из всего, что он сделал в жизни, включая невероятные успехи в программировании, они были его лучшим творением.
– Ready for Wet’n’Wild[87]? – спросил он.
Девчонки взвыли от восторга и, вскинув руки, принялись скандировать: “Splash Town! Splash Town! Splash Town!”
Он рассмеялся, завел машину. Заработал кондиционер. Скоро Рождество, но на улице все еще градусов двадцать тепла. За двадцать лет под техасским солнцем он к этому так и не привык. Он вытер пот и вырулил на улицу.
– Когда вы в клубе заканчиваете?
Жена посмотрела на него как на идиота.
– Думаю, мне ничего не остается, как только подстроиться под тебя. Когда ты работаешь дома, тебя часто спрашивают, когда ты заканчиваешь?
– Я должен забрать девчонок в половине пятого. Вы к этому времени закончите?
– Нет. У нас будет заключительное обсуждение “Gone Girl”, это не меньше двух часов, а потом еще фуршет. Далее у меня презентация новой книги, так что, сам понимаешь, в три часа вряд ли уложимся. Может быть, часа четыре.
И она отвернулась. Он повернул к южному берегу озера.
Дома располагались на насыпных мысах этого искусственного озера, все вместе походило на кувшинку, и почти у каждого дома виднелся голубой прямоугольник. Интересно, смирилась ли она с тем, что он, когда покупал дом, не посчитал бассейн чем-то важным.
Ее невозможно понять, подумал он и посмотрел на нее. Десять лет назад все считали ее красавицей, но сейчас он затруднялся на этот счет. Там, где он сам все еще видел молодое, красивой лепки лицо, человек, встретивший ее в первый раз, увидел бы дряблую тетку с лишним весом.
Ее постоянное недовольство им начинало тревожить его. Неужели она ему неверна?
Он высадил жену у дома подруги, развернулся и по той же дороге поехал назад.
На заднем сиденье началась нетерпеливая возня, и когда они проезжали по южному берегу озера, он указал на воду.
– Видите змея, вон там? Знаете, откуда он?
Недалеко от берега высилась скульптура: выкрашенное зеленой краской тело озерного чудовища полукольцами выгибалось над поверхностью воды.
– Из Швеции, – хором сказали девочки, и они все втроем рассмеялись.
– Верно, – подтвердил он, хотя на самом деле чудовище было родом скорее из Скандинавии вообще, чем конкретно из Швеции. – Скульптура называется “Явление Змея”. Если хотите, я расскажу, как Тор его победил. Это произошло недалеко от тех мест, где я вырос. В деревушке в старой-старой стране чудес, которая зовется Онгерманланд.
– Он-гер-ман-ланд. – Девочки вполне сносно выговорили шведское слово.
– Расскажи!
– Да, папа, расскажи!
Выворачивая на федеральную автостраду номер 45, к району Спринг и аквапарку, он завел историю о том, как Тор отправился на лодке рыбачить вместе с великаном Гимиром, и было это на онгерманландском побережье.
– Ёрмунганд, Мировой Змей, попался, но, когда Тор уже собирался убить его, Гимир перерезал веревку.
Совсем как отец, он постепенно то примешивал личное, то что-то выдумывал. Например, возвышенность на Хёга-Кюстен образовалась оттого, что Тор, жестоко разочарованный тем, что змей ушел от него, ударил молотом по земле так, что весь Онгерманланд опустился метров на двести. Земля еще не очень пришла в себя после этого удара, и чтобы она выправилась, понадобится не одно тысячелетие.
– Тор много лет ждал возможности убить змея, – пояснил он.
– Сколько? Две тысячи лет? Три?
– Даже еще дольше. Столько лет, сколько вы только можете себе представить. А перед самым концом времен они снова встретятся в великой битве, которая называется Рагнарёк.
Последний отрезок дороги он проехал медленнее – надо было покрасивее рассказать о великой битве богов и великанов, а потом – как Тор умертвит Мирового Змея мощным ударом своего молота.
– Тр-рах! – Он отпустил руль и взмахнул руками. – Как громом поразит!
Девочки на заднем сиденье рассмеялись, и он решил опустить конец истории. Ту часть, которая повествует о том, как Тор, тяжело раненный, покидает поле боя, убив змея, как змеиный яд начинает действовать и сам Тор падает замертво. За это он и любил скандинавские мифы: боги и герои в них несовершенны. Иногда они даже глупы.
Он высадил девочек у аквапарка и помахал четырем молодым добровольцам из церкви, под ответственностью которых три часа будут находиться двенадцать детей. Все будет в порядке. Баптисты, в общем-то, хорошие люди. Но если бы не его жена и ее родня-баптисты и если бы в Штатах это не было полезно для карьеры, он бы никогда не крестился.
Он решил не ехать сразу назад, а сначала посидеть в машине.
“Serpent’s Tail”? Змеиный хвост?
Да, именно, подумал он. Так называлось то издательство.
Смешно. “Serpent’s Tail”, как в скульптуре “Явление Змея”, которая заставила его вспомнить о Торе и Мировом Змее.
We need to talk about Kevin, подумал он. Вспоминая потом эти минуты, он пришел к выводу, что они и были началом его личного Рагнарёка.
Но пока он просто пожал плечами и включил радио. По дороге домой ему даже в голову не пришло, как зовут его младшего брата.
Сосед, немолодой мужчина, помахал ему, когда он парковал машину на дорожке, и он, входя в дом, помахал в ответ.
Два с половиной часа в пустом доме. У него уже ощутимо встало.
Все было так быстро
Полицейское управление, Стокгольм, допросная IU
О женщине, сидевшей по ту сторону стола, отзывались лучше, чем о большинстве руководителей внутренних расследований. Она производила впечатление человека, способного сочувствовать, и вопросы задавала примерно такие, каких Кевин ожидал.
Рядом с Кевином сидел адвокат, который должен был помочь ему с формулировками. За плечами у адвоката имелся тридцатилетний опыт внутренних расследований. Самый компетентный адвокат из возможных.
И все же в допросной висело затхлое ощущение закрытого пространства.
Следовательница включила запись.
– Итак, продолжим допрос. Кевин, я хочу, чтобы вы снова рассказали все с самого начала. Как развивались события после того, как вы, около половины двенадцатого ночи, обнаружили “BMW” в Фисксетре?
Взгляд следовательницы выражал скорее сочувствие, чем враждебность, но Кевина все равно замутило.
– Если бы тот “BMW” не выделялся так среди других машин, я бы его упустил, – начал Кевин. – Он выезжал с парковки, я увидел на передних сиденьях двух мужчин. Сзади, в левое окно, упиралась чья-то голова. Я развернулся, последовал за ними, а по дороге пробил “BMW” по базе, и оказалось, что она принадлежит Свену-Улофу Понтену. Тогда я убедился, что преследую нужную машину…
Он замолчал, подумал. Как трудно во всем разобраться.
Наверное, это правильно – когда сидишь с неправильной стороны стола?
– Я съехал в туннель под Сальтшёбаденследен. И тогда уже решил выключить фары, – продолжил он после паузы, которая показалась ему длиннее, чем была на самом деле. – Дорога стала хуже, но ехать за “BMW” все-таки было легко. Когда они остановились, я тоже остановился, метрах в сорока-пятидесяти позади них. Заглушил мотор и достал бинокль…
Кевин снова замолчал и на этот раз, прежде чем продолжить, досчитал до трех.
– Сначала я заметил мужчину, который скорчился под елками. Я предположил, что это Блумстранд. Потом увидел еще одного, они вместе двинулись по обочине между елками…
– И тогда вы завели машину и подъехали поближе?
Кевин потянулся за стаканом и отпил. У воды был такой вкус, словно ее налили в стакан давным-давно.
– Да, я завел машину и тут услышал выстрел. Сразу после этого “BMW” завелась, развернулась, и они, вероятно, меня увидели.
– Фары вы так и не включали?
Я говорю правильные слова, но какая разница, подумал он.
Я сижу с неправильной стороны.
– Да, разумеется, не включал. Но когда они проехали мимо меня, я включил фары и сдал назад. Потом я чуть не свихнулся, пока развернул машину на узкой дорожке, и “BMW” успела далеко уехать. Я вернулся к Сальтшёбадсвэген… Сальтшёбадследен, и поехал за ними. Я думал, их унесет на обочину, все было так быстро. В туннель я въехал на скорости девяносто километров в час, и мне пришлось угадывать, где они. Я повернул в сторону города. Видимо, для возвращения в город они выбрали дорогу поуже, Сальтшёбадсвэген, и я выбрался на трассу пошире. Поэтому я даже обогнал их, когда выехал к двести двадцать второй.
– Вермдёледен?
– Да. Я увидел их, включил мигалку и связался с ближайшими полицейскими. У дорожной полиции в Хенриксдале две машины, и они подтвердили, что присоединяются, хотя наверняка они не успели даже выбраться на шоссе. Или успели?
– Нет, не успели. Продолжайте.
– Я… Я догадывался, что они не успевают, поэтому позвонил охране моста в Данвикстулле.
– С какой скоростью вы ехали?
– Не знаю. Может быть, сто тридцать в час.
– Дорожная камера зарегистрировала, что ваша машина двигалась со скоростью сто восемьдесят километров в час. – Следовательница полистала бумаги. – Одновременно вы вели телефонный разговор с охраной моста, которой продолжался одну минуту двадцать секунд.
– Может быть, – сказал Кевин.
– Из-за этого разговора вы потеряли контроль над машиной?
– Нет, у меня была гарнитура. Тот факт, что у “тойоты” неисправны тормоза, еще не подтвердили?
Адвокат кашлянул.
– Факт подтвержден продавцом. – Адвокат повернулся к следовательнице. – Кевина обвиняют не в неосторожной езде. Давайте вернемся к существу дела.
Женщина кивнула.
– Мост… Кевин, почему вы отдали приказ о разводе моста?
Она сидела по правильную сторону стола.
Он – по неправильную.
– Я счел, что развод моста – единственная возможность остановить их. Я признаю, что поторопился, но все было так быстро.
Следовательница взяла еще один документ.
– По словам дежурной, сначала она отказалась выполнить ваш приказ, но, несмотря на то что она перечислила возможные риски, вы стояли на своем и сказали, цитирую: “Разводите этот долбаный мост, иначе пеняйте на себя”.
– Вот как. Ну ладно.
Долбаный мост, подумал Кевин. Неужели я так сказал?
– Я мало что соображал, – прибавил он.
– Вы плохо спали в последнее время?
– Да.
– Как по-вашему, это могло повлиять на ваше решение?
– Да.
Кевину не мать
Росендальсвэген
Вера сидела в своем кабинете, из окна которого открывался вид на Юргордсвикен. Ей нравилось сидеть здесь, в этой комнате на втором этаже, смотреть на лед и видеть, как бледнеет небо перед закатом. Искрящаяся белая полоска вдоль каменной набережной, время от времени потрескивает оконное стекло: зима подступает все ближе. Хотя лед застыл только сегодня ночью, подумала Вера. Он может растаять уже завтра.
Старый военный велосипед Себастьяна весь проржавел, шины в трещинах. Удивительно, что он вообще способен катиться. Как удивительно и то, что Себастьян сел на него и приехал.
Неужели он меняется? Неужели “ути” утратило важность, и Себастьян просто хорошо себя чувствует среди себе подобных, в “сэкаи”?
Вера надеялась на это. Всегда надеялась.
Разговаривая утром с сыном, она упомянула, что Кевин видел его на Центральном вокзале в обществе немолодого мужчины; к ее удивлению, Себастьян кое в чем ей признался.
С искренним раскаянием он выложил, что продавал информацию уголовникам – взламывал базы данных разных предприятий, влезал в компьютеры частных лиц. Так он добывал средства на жизнь весь последний год. Но теперь с этим покончено, утверждал сын, и Вера решила поверить ему.
Она вышла на крыльцо.
– Как глупо… Ты дал себе труд приехать сюда, я как раз собиралась в город.
– Я хотел поговорить с тобой о Кевине. – Себастьян поставил велосипед.
– Он говорит, что ты помог ему с тем американцем, Джозефом Маккормаком.
– Я про другое.
Они сели на крыльце.
– Но сначала вот что. – Себастьян поерзал; похоже, он подбирал правильные слова. Он помолчал и продолжил: – Ты знаешь, что я разработал программу, которая поможет выслеживать и сажать педофилов. Шведская уголовная полиция пока ищет возможность работать с моей программой, но я поделился ею еще кое с кем… Один парень помог мне выйти на ФБР, они хотят купить программу и уже предложили мне десять “лимонов”. Но я отказался, потому что…
– Стоп. – Вера смотрела на сына, которого содержала всю его жизнь. – Десять миллионов?
– Долларов.
В эту минуту Себастьян выглядел совсем как в детстве.
Как когда он набедокурил и знал, что его проступок раскрыт.
– Потому что американцы хотят купить патент на программу. Они собираются продавать ее по всему миру и зарабатывать миллиарды на том, что должно быть бесплатным. Но… Все идет к тому, что я все-таки программу продам, потому что, пока она бесплатная, она во многих странах будет считаться нелегальной, вероятно – во всем Евросоюзе, а значит, и в Швеции.
У Веры перед глазами сверкнуло, как будто в мозгах произошло короткое замыкание. Мозги у меня слабеют, подумала она. Вот, значит, как это начинается.
– Так ты ее все-таки продашь?
– Все к тому идет. Моя программа не соответствует шведским законам. Она нарушает некоторые положения о конфиденциальности, и ее в принципе можно приравнять к незаконной прослушке. По-моему, наша уголовная полиция от нее все-таки откажется. А это означает, что отправить за решетку тех, из списка двадцати трех, будет нелегко.
– Повелителей кукол?
– Да, один из которых – дядя Кевина.
Голос у Себастьяна вдруг стал не как у ее сына, а как у острого умом коллеги, который, в отличие от нее, полностью в курсе происходящего.
– Ладно. Значит, ты хочешь продать программу в США, потому что думаешь, что выход на рынок придаст ей законности и тогда ее можно будет использовать и в Швеции?
– Да, это единственная причина. Я все продумал. В конце концов, это лучшее решение, но деньги я себе не оставлю. Они отправятся прямиком в ЕСРАТ[88] или какую-нибудь подобную организацию, может быть, небольшую. Представляешь – отдать стокгольмскому “Атсубу”[89] сто миллионов!
– Ты сошел с ума.
У Веры в глазах стояли слезы. Она никогда еще не чувствовала такой гордости за другого человека.
И этим человеком оказался Себастьян.
Она закурила сигариллу, сын – сигарету.
– Теперь насчет Кевина, – сказал Себастьян. – Я почти уверен, что он вот-вот совершит большую глупость. Судя по тому, что он говорил, когда мы с ним виделись в последний раз, он собрался добраться до своего дяди, и я не уверен, что законным путем.
– В каком смысле?
– Он говорил, что кого-то наймет.
Черт, подумала Вера. Что у Кевина на уме?
– Я забеспокоился и влез в его компьютер…
– Что-что ты сделал?
– Влез к нему через троян. Он постарался скрыть следы, но я нашел доказательства. Похоже, он задумал кое-что незаконное. Запасся чертежами дядиного дома, а также связался с двумя парнями, по-моему, теми самыми, которые избили в Накке Цветочка и того латыша.
Вера вздохнула. Кевин и так уже под расследованием из-за служебной ошибки, но это уже совсем другой масштаб.
Они посидели молча, и Вере казалось, что она опускается все глубже. Сквозь деревянные ступеньки, в слои земли и дальше, в скальную породу.
Я Кевину не мать, подумала она. Пусть сам себя винит, пусть принимает последствия своего выбора.
Она отбросила окурок в темноту, и когда погасли красные искры, на дороге показались фары машины. Такси.
Вера достала телефон, не зная зачем. Позвонить Кевину, сказать, чтобы приехал, и она его отругает? Или вызвать такси, поехать в “Пеликан” и схватиться с ним там?
И тут телефон у нее в руке зазвонил.
Вера посмотрела на Себастьяна.
– Это он.
– Ответь.
Звонок, другой. Она собралась с силами. А когда ответила, Кевин прерывающимся голосом сказал, что должен ехать в Фарсту, потому что мама умерла. И Вера расплакалась.
Сладкий, похожий на молочный
Те-Вудлендс
Самый успешно распространяющийся вирус – это жадность, а не деньги сами по себе. Другие эффективные вирусы – алкоголь, никотин, кофеин и конопля.
Сексуальность – единственный невирусный наркотик.
Сексуальность – это драйвер.
Без него ничего не работает.
Без драйверов компьютеру конец, думал он, поднимаясь в домашний кабинет.
Он включил компьютер и, дожидаясь, пока тот загрузится, стал убирать и ставить на полки лазерные диски, которые имели тенденцию скапливаться на столе. В общей сложности его коллекция состояла из чуть более двух тысяч дисков, и какой-нибудь истовый коллекционер описал бы ее как безличную и заурядную.
В последние годы он начал слушать пластинки, которые нравились ему в детстве; одна из них лежала на столе. Он купил ее, еще когда жил в Швеции. Отправив пластинку на полку с Фредом Окестрёмом, он сел за компьютер.
Рядом с клавиатурой лежало красное йойо.
We need to talk about Kevin, подумал он.
Перед возвращением в Штаты он наведался на садовый участок, поговорить насчет продажи виллы, но Кевина не оказалось дома. Он заглянул в окно. Йойо лежало на столе, и он не устоял. Как во времена его детства, ключ висел на гвоздике под крышей сарая, и он просто зашел и украл йойо.
Как может такая некрасивая ерунда быть настолько значимой?
Йойо было невероятно важным для отца. Наверное, именно поэтому его получил именно Кевин.
Он убрал йойо в ящик стола и щелкнул по ярлыку, другой рукой расстегнул шорты.
Контакт напоминал о конфиденциальности обмена; со вчерашнего дня этот обмен составил двадцать пять гигабайт.
Он снял шорты и щелкнул еще по одному ярлыку, который привел его в безопасное место – там не нужно таиться, там можно давать файлам названия, не скрывая их истинного содержания.
Если кто-нибудь, против ожидания, отследит его действия, то благодаря дополнительным мерам безопасности эта ищейка не поймет ни кто он, ни что он находится в Хьюстоне.
Звать его будут иначе, чем на самом деле, и “сидеть за компьютером” он будет на сотню миль восточнее, где-нибудь в Атланте, в Джорджии.
Он выделил несколько фотографий, обозначенных как “Unknown girl, 11 y old, no.1–16[90]”, и открыл их в зашифрованной программе.
Этим фотографиям больше восьмидесяти лет, они родом из Веймарской республики.
Он посмотрел на первый из этих старых черно-белых снимков. Поразительно хорошее качество, резкость безупречная, а еще в старых снимках есть художественное достоинство, какого в наши дни не сыщешь.
Девочки показывали маленькие, нераспустившиеся бутоны. Он спустил трусы до колен.
После инцидента ему пришлось оставить университет. Психолог утверждал, что его сексуальность соответствует уровню тринадцатилетнего подростка.
Лаская себя, он рассматривал фотографии, но внизу все было мертво.
Отец сидит на кухне в доме на острове Дьявола, в одной руке пиво. Сам он сидит напротив, и во внутреннем кармане у него спрятан диктофон. Опьянение и деменция – идеальное сочетание, если надо заставить кого-нибудь произнести слова, которые не стоило бы произносить. А уж он постарался спровоцировать, он постарался вести себя в те полчаса как можно оскорбительнее.
– Ах ты засранец… – кричит отец. – А ну встань… – Он сам поднимается, его шатает, он хватается за стол. – Врезать бы тебе… Встать!
Он подчиняется отцу, встает.
Рассказывает, как его возбуждают девочки-подростки, лет одиннадцати-четырнадцати. Говорит, что он этого не стыдится.
Вываливает всевозможное дерьмо, что было и чего не было, потому что ничем не рискует. Человеку, страдающему старческим слабоумием и к тому же пьяному, можно рассказывать, что угодно. Когда старик проспится, он ничего не будет помнить.
– Я педофил, понимаешь?
Кажется, его слова с размаху падают на отца, как на него самого когда-то падали удары, которые раздавал старик. Ноги у отца подкашиваются, он опускается на стул, молча сидит несколько минут.
Глаза блестят от слез.
– Сколько же грязи в тебе… – говорит он наконец. Голос спокойный, как будто он все и так знает, всегда знал.
Он легонько подул на член, чтобы тот снова затвердел, но ничего не произошло, и он начал массировать его одной рукой, а другой открыл файл под названием “Lolita 12 y old w 3 men 2005-11-17[91]”.
Зарегистрировался как Джозеф Луис Маккормак из Атланты, штат Джорджия.
Та же рыжая девочка, которую он когда-то снимал с диктофоном в руке. И сам был в том же номере мотеля в тот же вечер.
У нее была прохладная шершавая кожа. И запах – сладкий, похожий на молочный.
Он стал смотреть ролик. Во рту появился привкус железа, кровь запульсировала, и эрекция вернулась.
Девочка стояла на четвереньках. Обладателем самого внушительного орудия был мистер Маккормак, доцент восточной философии, подвизавшийся в университете штата Джорджия.
Девочка легла на спину и позволила им кончить на себя. Он не испытывал стыда.
Ей за это заплатили, и к тому же в глубине души ей нравилось.
Ей нравится. Она это обожает. Похотливая сучка, мокрощелка, непотребная…
Он сидел, подавшись вперед, сантиметрах в двадцати от экрана, как вдруг…
Экран погас.
После показавшегося ему вечным ожидания на экране возникло сообщение. Шесть слов, белым по черному; он понял, что это не техническая неисправность.
Этого не может быть, подумал он.
Но это произошло.
ПРИВЕТ ОТ СЕРОЙ ШЛЯПЫ.
Хьюстон медленно погружался в наркотически-печальную дремоту. Фредрик Юнсон, брат Кевина Юнсона, служащего стокгольмской полиции, сидел у себя в кабинете за компьютером.
За окном солнечный свет ссужал свою непорочность чудесному фонду семейной идиллии и гармоничного благополучия.
Фредрик Юнсон не видел, как на улице остановился черный автомобиль с тонированными стеклами. Не видел он и того, как одетые в черное люди из ФБР стали приближаться к его дому с оружием наизготовку.
Но как штурмуют дверь террасы, он услышал.
Штурм со светошумовыми гранатами нужен полиции, чтобы не позволить подозреваемому избавиться от доказательств.
Раздался взрыв, и через долю секунды компьютер Фредрика Юнсона погас окончательно.
Компьютер, полный фотографий, которые никогда, ни за что не следовало делать.
Печальная цепочка следов, ведущая через виртуальную трясину.
Некоторые мужчины по обоюдному согласию отъедают друг другу члены
Серая меланхолия
К Свену-Улофу Понтену, сидевшему в следственной тюрьме, в первый раз пришли на свидание. Алиса никогда еще не была так красива. А жена еще никогда в жизни не выглядела такой серой.
Дни, проведенные в заключении, смыли все плотины в его сознании. Он стоял рядом с собой и смотрел, как его деяния отделяются от него.
Что сейчас о нем говорят? Что пишут? Какую ложь распускают по Сети?
Вот вопрос: существует ли одна правда или их тысячи?
Стены камеры были выкрашены в темно-желтый цвет, призванный символизировать радость и энергию. Но Свену-Улофу казалось, что этот нечистый желтый, который уже начал выцветать, за десятилетия пропитался насилием и злобой.
Он несет на себе печать страха.
Свен-Улоф стал рассказывать, что у него в камере есть унитаз и раковина. Есть кровать, письменный стол, книжная полочка и окно, устроенное слишком высоко.
– Я вижу верхушки деревьев и гнездо. Я смотрю на гнездо каждый день, но птиц там еще не видел. А на потолке у меня лампочка, и в стеклянном шаре кучка дохлых мух. Они пробрались туда по двум длинным винтам с резьбой… – Он всплеснул руками. – Но как?
Оса и Алиса молча смотрели друг на друга.
Они видели, что он безумен, но не знали, как себя вести, и обе они понимали, что их сострадание ему не нужно.
– Может быть, они там были с самого начала, еще личинками, – продолжал он. – Родились взаперти, внутриведомственно.
Свен-Улоф Понтен болтал, о чем хотел.
Наконец-то он свободен.
– На стене есть динамик с диодом. Когда я нажимаю на кнопку, чтобы переговорить с надзирателем, загорается зеленый огонек. Когда связи нет, он светится красным, но надзиратели, конечно, слышат меня все время, независимо от того, какой огонек горит, красный или зеленый. Они слышат, как я мастурбирую по ночам. Когда я это понял, мне стало стыдно, но теперь я уже не стыжусь.
Пора сказать все как есть.
Сказать все. Без цензуры.
Ему было горько не из-за того, в чем его обвиняли. Такое может случиться с кем угодно, он ведь живет в стране, где люди гораздо больше хотят попасть в шоу “Парадиз-отель”, чем на юридический факультет.
Ему было горько из-за того, что он никогда не говорил о себе начистоту.
Свен-Улоф поднял руку и посмотрел на жену.
– Ты нищий на эмпатию человек, Оса. Другие люди тебя не волнуют. Даже собственная дочь. И мое моральное разложение – результат твоей неспособности к сочувствию. Ты прекрасно знала, что я делаю с Алисой, но не вмешивалась. Ты позволила мне оставаться больным.
– Нет…
– Да. Ты не помогала Алисе, ты не помогала мне. Ты просто помалкивала.
Оса смотрела на дочь, а Алиса смотрела на отца.
Но Свен-Улоф закрыл глаза.
– Алиса никому ничего не рассказывала, – продолжал он. – Даже в лечебнице. Это была наша тайна. Алиса меня не предала… В отличие от тебя.
– Но ты же не виноват, – сказала Оса.
Алиса фыркнула.
– Я не покончила с собой только благодаря маме. – Она расплакалась и сжала руку матери. – Здесь только один человек болен, – всхлипнула она.
У Свена-Улофа Понтена, сорока пяти лет, из Стоксунда, заместителя директора предприятия с годовым оборотом в восемьдесят миллионов, были сонные глаза.
Не держи меня, подумал он.
Пожалуйста!
Обними, если мы только и успеем, что обняться.
Любимая.
Прямо сейчас.
– Пошел ты, – сказала дочь.
Свен-Улоф остался сидеть, не открывая глаз. В попытке почувствовать себя нормальным он представил себе ужин в доме Армина Майвеса, в немецком Ротенбурге.
Когда бывшему военному не удалось откусить программисту половой орган, он раздавил тому тестикулы зубами и отрезал член.
Некоторые мужчины по обоюдному согласию отъедают друг другу члены.
Заключительные титры
Будущее
“Some people think little girls should be seen and not heard
But I say…
Oh Bondage! Up yours!
1, 2, 3, 4”[92]
В пятнадцати минутах езды от Сансет-Бич
Как в телесериале
Не квартира с балконом в Голливуде, а домик с верандой, почти у самой воды.
И пошли они – те, кто сомневался, что у них все получится.
Небольшой деревянный замок: два этажа, веранда с видом на самый широкий пляж Калифорнии с самым белым песком. Гораздо лучше, чем Голливуд, который, что бы там ни говорила Нова, не так близко к океану. Жара здесь не душит, люди благодушнее, а листья у пальм зеленые и блестящие, а не изжелта-сухие, как в городе.
Им неописуемо повезло с этим домиком – вероятно, не обошлось без помощи агентов Новы, а денег хватило даже на сто литров краски. Дом больше не будет скучным желто-коричневым; он станет розовым. Вот почему они сейчас сидят на восточной веранде с малярными кистями, щетками и валиками, одетые в синие рабочие комбинезоны.
Они закончили красить две стены, взмокли и если бы были в силах, то спустились бы на пляж, искупаться. Но, скорее всего, никуда не пойдут, искупаются в бассейне. До вечеринки Нове еще нужно репетировать монолог, а Мерси поработать над эссе. Вечером к ним на барбекю придут Бен и Мэг, они живут через несколько домов от них.
Монолог Нова уже выучила, осталось только навести лоск.
– Я надеюсь на Мэг. Она хорошая актриса – может, посоветует что-нибудь дельное.
Нова закрывает глаза и повторяет слова, в точности как учил ее преподаватель драматического искусства.
“When the moon rises early, just as the Santa Ana winds kicks up out of nowhere, and the sun is just dropping out of sight, whoever you meet at the far side of the pier, is who you destined to be with”[93].
Мерси опускает спинку шезлонга и ложится. Как странно все-таки оказаться здесь. Не больше года прошло, а кажется – целая вечность.
В первое время они жили в Сан-Бернардино, в студии в семь квадратных метров. Им приходилось туго. Но будем реалистами: чтобы чего-то достичь, надо потрудиться. Поначалу Нова снималась в мягком порно, какое нравится женщинам средних лет. Если бы Нова этого не делала, не сидели бы они сейчас здесь. Какой-то телепродюсер увидел один из этих фильмов и запал на Нову. Мерси же начала учиться в Калифорнийском университете в Вествуде, всего в пятнадцати минутах езды от Сансет-Бич, если ехать через Санта-Монику. Мерси тоже пришлось побороться. Калифорнийский университет – один из лучших в мире, но нет ничего невозможного, и Мерси довольно скоро дала всем понять, зачем она здесь. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Что заслужил, то и получишь.
– Скучаешь по Швеции? – спрашивает Нова.
Мерси улыбается и открывает бутылку кавы. Вино хорошо охладилось в ведерке со льдом.
– Скучаю по шведскому языку, – отвечает она. – Скучаю по малым вассбергам, по дрожжи продавать и медвежьим объятиям. Но не по холоду.
– Медвежьи объятия я знаю, что такое, а вот остальное…
Мерси наливает два бокала кавы, бросает туда клубнику.
– Малый вассберг – это когда сморкаются в воздух, как лыжник Томас Вассберг. Дрожжи продавать – это когда мерзнут, а согреться нечем. – Мерси крепко трет себе плечи и руки. Громко смеется и берет свой бокал. – За тебя.
– За тебя.
Они пьют. Пузырьки ударяют в нос. Хорошо, что им не пришлось завязывать. Летом они ходили на тренинг, где учились пить в меру. Научно разработанную методику тестировали в лаборатории, на мышах. Мышам вводили ферменты, благодаря которым они не впали в зависимость, а угощались до состояния легкого подпития, совершенно безопасного. Нова и Мерси тоже принимают по таблетке, содержащей этот фермент.
В наркотиках они не нуждаются. Их тела словно вырабатывают собственные вещества. Хотя бокал пузырьков всегда кстати.
– Знаешь, кто придет вечером вместе с Беном и Мэг?
– Не знаю. Whoever you meet at the far sideof the pier.
– Я думаю, Тайс Робинсон. Он тебе нравится, да?
– С чего вдруг? Только потому, что он черный?
– Нет, потому что он симпатичный.
– Да ну. Тайс для меня слишком старый… Кстати, ходят слухи, что Вирджиния накачала Ванессу наркотиками и ввела ей его сперму. Слышала?
– Чего? – Нова смеется. – Сперму Тайса Робинсона? Это кто сказал?
– Никто не сказал. Просто слухи ходят.
– Знаешь… Ходит другой слух. Что старая жена Бена не совсем умерла, а вернулась. И кто-то видел ее на пляже.
– Вот в это я не верю.
– Я тоже… – Нова снимает майку, завязывает бретели комбинезона на поясе, ложится животом на подушку и берет масло для загара. – Надеюсь, сегодня придет Коул.
– Коул Дешанель?
– М-м…
– Ты поосторожнее с ним.
Она улыбается.
– Мне нравятся опасные парни.
– Тебе нравится бегать с ножницами, – говорит Мерси.
– С ножницами бегать?
– Да. Рисковать без нужды.
Нова протягивает ей масло.
– Намажешь мне спину? – Она приподнимается на локтях и расстегивает лифчик, после чего снова ложится.
Мерси наливает в ладонь немного масла, проводит ладонью по плечам Новы. Кожа у нее стала будто глянцевая. До переезда сюда у Новы кожа была тонкая и бледная, почти прозначная, кое-где виднелись синими штрихами кровеносные сосуды. Теперь Нова подзагорела, стала цвета песка в пустыне, и Мерси втирает еще масла, массирует ей спину.
– Спина раздавлена, два шейных позвонка раздроблены. Кожа верхней части тела имеет признаки ожогов третьей степени. Левая сторона черепа раздроблена, следов волосяного покрова не наблюдается.
– Когда там твой папа приедет? К Рождеству или к Новому году?
– Он отпразднует с нами Рождество.
Мерси завинчивает крышечку на флаконе с маслом, достает резинку, надевает ее пока на запястье и начинает заплетать Нове косу. Волосы у Новы снова светлые, как и должно быть. Вот бы ей самой такие прямые мягкие волосы.
– А твои когда приедут нас навестить? – спрашивает Мерси. Коса заплетена, и Мерси закрепила ее резинкой.
– Из всего вышесказанного я заключаю, что девушка скончалась в момент удара транспортного средства о водную поверхность.
Судмедэксперт Иво Андрич выключил диктофон. Пристегнул желтую пластмассовую табличку к серому мешку с трупом и написал: Нова Стридсберг.
– Сейчас дело сдвинулось с мертвой точки. – Нова поворачивает голову, и они смотрят друг другу в глаза. – Конечно, с Юсси все оказалось не настолько серьезно. Из комы он вышел здоровым и ничего не помнил. Суд решил, что доказательств недостаточно, и Налле и маму должны отпустить. Они приедут сюда где-нибудь в январе.
– И Юсси приедет?
Нова зевает и снова закрывает глаза.
– Я почти уверена, что приедет. Если сможет взять отпуск в конторе, где он печатает деньги, это в Тумбе… Ты, кстати, знаешь, что он отвечает за бумагу, на которой будут печатать нигерийские доллары?
– Нигерийские доллары! Нет, не знала. Забавно.
Прежде чем застегнуть мешок, Иво Андрич посмотрел девушке в лицо. Рот открыт, но не в крике, с которым из нее вылетела жизнь. Девушка казалась умиротворенной и немного усталой.
Как будто просто зевнула напоследок, подумал Иво.
Мерси чешет плечо под майкой. Немножко щипет, наверное, какое-то насекомое укусило. Зуд начинает раздражать ее.
Мерси вспоминает черную мамбу, лесоруба, которому отпилили ногу. Мысли бегут дальше. Кухня залита бензином. На мужчине, который сейчас подожжет дом, из всей одежды одни трусы, мошонка висит, как два клементина. В долю секунды все вокруг охвачено пламенем, делается неописуемо жарко.
Грудь жжет, и Мерси понимает, что это, наверное, шнурок амулета.
Эмилия Свенссон стояла у кровати в больнице Сёдера. Мерси лежала на спине, вся в страшных ожогах. Глядя на девушку, Эмилия заметила между третьим и четвертым ребром углубление. Похоже, в кожу вплавился какой-то предмет. Выше шеи ожоги были не такими страшными – наверное, девушка пыталась закрывать лицо руками.
Девушку, лежавшую в больничной постели, зовут Мерси Абиона.
Ее фамилия означает “рожденная в пути”.
Дыхание девушки было спокойным и размеренным, пульс и давление пришли в норму.
Скоро она увидит своего отца.
Но Нова Стридсберг, 1996 г. р., навсегда останется сидеть на веранде дома, о котором они мечтали. В свете заходящего солнца, в Сансет-Бич.
Если хочешь вынести жизнь, готовься к смерти
Тропа семи источников, январь 2013 года
Новогодние обещания вышли на пробежку. Мимо Луве протрусили двое мужчин среднего возраста, в спортивных костюмах бледных цветов, и он подумал: нормально ли заниматься физкультурой на кладбище, при двадцати трех градусах мороза? Бегуны свернули направо и скрылись за соснами. Луве достал телефон, убедился, что не опоздал, и выключил звук.
Идя к часовне Воскрешения, он поднял глаза на холм, на кучку народа перед Лесным крематорием. Большинство – полицейские в форме: сегодня хоронят Йенса Хуртига, их коллегу. В газетах много писали о деле, которое он вел, но о деталях не распространялись, однако Луве знал: оно каким-то образом связано с Голодом. С культом самоубийств, которому в большей или меньшей степени поклонялись и девочки в лечебнице.
Луве узнал кое-кого из дрожавших от холода полицейских.
Некоторых – например, Лассе – он должен благодарить за то, что смог оставить свою прежнюю жизнь.
Смена имени, смена личности.
А кое у кого он хотел бы попросить прощения за то, что сделал именно этот выбор.
Оставить жизнь, подумал он. Умереть.
Для нее он исчез, стал бесцветным персонажем фильма.
Последний отрезок пути он прошел с ощущением комка в горле.
Если хочешь вынести жизнь, готовься к смерти, думал он, и ему захотелось вспомнить, что это цитата из Фрейда.
Как можно так ошибаться?
Умирать всегда чудовищно трудно, особенно для той самой жизни. Даже зверям трудно. Только Богу все это и на пользу. Тому самому Богу, которого придумали родители, чтобы дети могли спать по ночам.
По Тропе семи источников Луве спустился к часовне Воскрешения.
Народу на поминальной службе, на которую он направлялся, ожидается куда меньше, чем в Лесном крематории.
По желанию родственников Новы, на прощании будут присутствовать только самые близкие люди.
Вот и они. Брат Новы Бьёрн и ее мать. А также четверо надзирателей, которые доставили сюда этих двоих, приговоренных к пожизненному заключению, из Кумлы и Хинсеберга соответственно.
Луве показалось, что среди девочек из интерната, собравшихся у часовни, он видит Алису.
Но Мерси здесь не было, Мерси в эту минуту лежала в больнице Сёдера в ожидании третьей или четвертой по счету операции.
Луве зашагал медленнее и остановился метрах в двадцати от входа в часовню.
Он смотрел на девочку, которая разговаривала с Алисой. Эту девочку Луве видел только на фотографии.
Худая, почти истощенная. Длинные черные волосы до пояса.
Фрейя.
Больше не один
Стокгольм, февраль 2013 года
Настал февраль, прошел уже месяц после похорон Новы, и хотя солнечные лучи были еще слишком слабы, чтобы одолеть снег, солнце стояло на небе выше, чем в последние месяцы. Эмилия Свенссон въехала на Вестербрун со стороны Сёдермальма, между дорожным полотном и велосипедной дорожкой лежали метровой высоты сугробы, заслоняя вид на центр города.
Если представить, что городские районы – родня, фантазировала она, Сёдер был бы очаровательным младшим братом, на чьи проделки так легко смотреть сквозь пальцы, Васастан – утонченной средней сестрой, а Эстермальм – старшим из всех троих. Задира и всезнайка.
Эмилия миновала Роламбсхувспаркен и возле Фридхемсплан дошла до того, что Биркастан – деревенская кузина, а Юргорден – богатая тетушка.
Она улыбнулась себе и стала подбирать подходящую роль Кунгсхольмену.
Может, балованное дитя? Из тех, кто все получает просто так. Родители выучились на своих ошибках и не давят на него лишней опекой. Старшие братья и сестры понемногу вносят свой вклад, и трехлетка вдруг начинает считать до ста. Кунгсхольмен вырос и стал самостоятельной частью города, хоть в нем и ощущается некоторое самодовольство: он великолепен.
Эмилия помахала охраннику, открывшему ворота; она съехала в гараж, нашла свободное место возле лифта. Запирая машину, Эмилия поняла, что забыла еще одного члена семьи, что, в общем, неудивительно. Приемный ребенок. Она сама. Роль, про которую в семьях иногда забывают и которую некоторые даже не считают полноценной.
“Хаммарбю-Шёстад?” – подумала она, поднимаясь в лифте. Он стал одним из центральных районов города недавно; некоторых он привлекает, но другие смотрят на него иначе – как на нежеланного, незваного гостя.
В отделе ее остановил один из техников.
– Как все прошло утром?
– Мне кажется, нормально. Они много плакали.
Мужчина, которого она подвезла утром до больницы Сёдера, прибыл сюда недавно, но он больше не одинок. Перед тем как попрощаться, он обнял Эмилию и сказал: как интересно поговорить с землячкой, которая почти всю свою жизнь прожила в Швеции.
Мужчину звали Джон Абиона.
Парень, у которого своя квартира
Больница Сёдера, март 2013 года
От февраля в воспоминаниях у Мерси остались стул возле больничной койки, папино лицо рядом, его запах, голос и теплые руки. От марта – прямоугольник окна, за которым тихо падает снег. Протянувшийся во времени миг, застывший, как акриловый рисунок у окна, унылый, несмотря на кричащие краски, закат.
Предполагалось, что пятая операция будет самой легкой, но она оказалась самой тяжелой, и Мерси несколько недель не могла принимать посетителей. Она в основном спала или таращилась в окно, ожидая, когда снова придет папа.
Может, папа был всего лишь сном, иллюзией вроде Сансет-Бич, с красками фальшивыми, как картинка на стене.
– Как ты себя сегодня чувствуешь? – Врач что-то записал в планшете.
– Так же, как вчера.
– Температура спала, – сказал врач, продолжая царапать ручкой по бумаге. – Инфекция под контролем, тебе больше не обязательно оставаться в одиночестве. К тебе гости.
Врач оставил дверь в ее палату открытой, и Мерси увидела на стене коридора чью-то тень.
– Значит, Луве и Алиса не соврали. С тобой и правда ничего не случилось, – сказала она, увидев, кто входит в палату.
Фрейя придвинула к кровати стул и села. Дрожащими тонкими пальцами убрала волосы за ухо. Длинные черные волосы, которым так завидовала Нова.
– Прости, – сказала Фрейя.
Мерси сжала под одеялом кулак.
– “Прости” – это мало.
– Как ты себя чувствуешь? Я все собиралась прийти, но…
– Я чувствую себя так же, как вчера.
Ожоги третьей степени, которые еще не зажили, хлыстовая травма шеи, пересадка кожи на бедрах, голенях и животе. Сто пятьдесят или двести переломов разной степени тяжести. В надежде, что она когда-нибудь сможет ходить, врачи поставили ей несколько титановых пластин.
– Мы думали, ты умерла. – На последнем слове голос Мерси сорвался.
Умерла.
Умерла Нова, а не Фрейя. И за рулем сидела я, подумала Мерси.
– Лучше, чтобы все думали, что меня больше нет, – сказала Фрейя.
– В смысле – думали, что ты умерла? – Жжение в глазах.
Фрейя опустила взгляд.
– Я завязала. Пять месяцев и двадцать три дня.
– Поздравляю.
– Чтобы завязать, мне надо было исчезнуть.
Когда начинаешь ненавидеть, рождается дитя, которому имя – прощение, подумала Мерси. И ты либо убьешь это дитя, либо примешь его в объятия.
Всё есть борьба между ненавистью и прощением.
Мерси проглотила рыдания.
– Ну давай рассказывай, что было, когда ты спустилась к реке. Мы же слышали, как ты влезла в воду.
– Я пыталась, – сказала Фрейя. – Но вода была жуть какая холодная.
– Ты хотела покончить с собой, но передумала, потому что вода оказалась слишком холодной?
Фрейя пристыженно кивнула и стала рассказывать, как проплыла вниз по течению, недалеко, и вылезла из воды на другом берегу. А потом бесцельно побрела через лес.
– Я думала, что замерзну насмерть, но тут вышла на узкую дорожку. Там стояла машина, она оказалась незаперта. Я нашла покрывало, легла на заднее сиденье и заснула.
Ее разбудил старичок, удивший рыбу неподалеку.
– Я сказала, что я наркоманка, у которой не вышло покончить с собой, и что я раскаиваюсь в том, как жила. Потом мы поехали к нему домой, он дал мне одежду своей покойной жены, разрешил поспать на диване, а утром подвез меня до Упсалы. Оттуда я автостопом добралась до Кальмара, с дальнобойщиком, который дал мне три тысячи монет.
– Почему именно до Кальмара?
Фрейя пожала плечами.
– Шофер туда ехал.
В Кальмаре она села на местный автобус, сошла на конечной. Набрела на летний домик, пустовавший по случаю закончившегося сезона, взломала дверь и прожила в нем почти месяц. Потом нашла работу в забегаловке в центре города и стала встречаться с парнем, у которого имелась собственная квартира.
– А теперь чем займешься? – спросила Мерси, глядя в окно.
Снегопад кончился.
– Вернусь в Кальмар, буду работать.
– Ну… Удачи.
Веки отяжелели, и Мерси закрыла глаза.
Она не заметила, как Фрейя ушла.
В палате остался висеть запах ее духов.
И тут Мерси услышала. У себя в голове.
Ты думала, я тебя брошу?
Аргумент скользкого спуска
Танто, апрель 2013 года
Стоял апрель, лживый месяц, когда весна то и дело нарушает свои обещания, и несмотря на холод, на участке расцвели желтые нарциссы. Как будто в одну ночь.
Здравствуй, мама, подумал Кевин.
Он сидел на веранде и курил. Скоро “неделя огня”, соседи потихоньку открывали сезон: сгребали листья, собирали ветки. Но жечь все это пока не особенно получалось. Все влажное, гнилое, насквозь отсыревшее после зимы.
Кевин затеял складывать на участке костер. Куча сломанных досок – осенью он чинил забор. К тому же пора заняться полом на веранде. Половицы у торца стали серо-зелеными от плесени, да и доски под коньком крыши выглядели неважно, хотя их и укрепили рубероидом. Как туда могла проникнуть влага? Может, сжечь все, да и делу конец?
Он сунул окурок в цветочный горшок и вернулся в комнату. На экране компьютера шел “Повар, вор, его жена и ее любовник” Питера Гринуэя, молодая Хелен Миррен играла жену вора. Драма близилась к грандиозному финалу, и Кевин сел на диван.
Джорджина, персонаж Хелен Миррен, вне себя от ярости и отчаяния; муж убил ее любовника. Убил весьма изощренным способом: заставил страница за страницей съесть любимую книгу. Обезумевшая от горя Джорджина как раз уговаривала повара приготовить ее возлюбленного, в буквальном смысле поджарить его, когда внизу экрана всплыло уведомление о новом письме.
Письмо от Луве Мартинсона.
Причиной, по которой писал Луве, был недавний приговор брату Кевина, вынесенный федеральным судом Хьюстона.
Приговор огласили восемь дней назад. Четыре года тюрьмы – слишком мало, Кевину эта новость отнюдь не казалась хорошей. Гораздо больше он обрадовался, когда получил назад йойо.
Он добыл и прочитал копии судебных протоколов. Потом позвонил Луве и спросил, как по его, психолога, мнению устроен его брат, как он мыслил и почему делал то, что делал. Они проговорили по телефону больше часа. Кевин объяснил, что его не так уж заботят совершенные братом преступления, те преступления, с которыми он сам ежедневно имел дело много лет подряд. Его больше интересовали вопросы “как” и “почему”, интересовала личность брата.
Здравствуйте, Кевин,
Я с большим интересом прочитал протоколы суда. Особенно допросы вашего брата, проведенные обвинением и защитой, а также заявление судебного психиатра.
Как я уже указывал во время нашего разговора, я не могу вынести клинического заключения, так как не беседовал с вашим братом лично.
Американские судебные психиатры пришли к выводу, что ваш брат не страдает никакими душевными заболеваниями, и я думаю, что их суждение верно. Однако, исходя из ваших рассказов, я склонен считать, что он проявляет нарциссические черты и его механизмы психологической защиты могут нести печать патологии.
Я убежден: ваш брат сознает, что его сексуальное влечение к несовершеннолетним ненормально. Чтобы защитить свое представление о себе, он сделал попытку приписать вашему отцу свои собственные извращенные наклонности. Это выразилось в подбрасывании ноутбука в дом отца и, конечно, в ролике, который записал ваш брат и в котором он принуждает малолетнюю девочку совершать сексуальные действия. Коротко говоря, он пытался таким экстремальным способом приписать свою вину другому.
Во время судебного процесса вашего брата спросили, раскаивается ли он в содеянном. Он ответил, что в его случае имел место эффект домино, эффект снежного кома: все началось с того, что его отец бил его, а прологом к нездоровой сексуальности послужило общение с дядей.
В риторике есть такое понятие – “аргумент скользкого спуска”, от английского “slippery slope”, и рассуждения вашего брата весьма напоминают его. Злодеяние объясняется тем, что ему предшествовал ряд других событий, и если бы не они, ничего плохого бы не случилось. Иными словами, ваш брат считает, что стал педофилом потому, что его избивал отец.
На экране Альберт отрезал кусок от поданного ему тела, украшенного овощами и фруктами. Потом Джорджина выстрелила ему в голову.
Последнюю реплику фильма Кевин произнес вслух, синхронно с Хелен Миррен, с ненавистью глядевшей на мертвого мужа.
– Каннибал!
Закончу там же, где начал, и вернусь к йойо, которое украл у вас ваш брат.
Мне кажется очевидным, что он считал себя законным обладателем игрушки, но я не могу понять, почему он так считал; вероятно, дело в том, что вы о ней не все рассказали.
Я знаю только, что в детстве вы получили йойо от отца и очень привязаны к этой игрушке, но за ней ведь наверняка стоит более длинная история?
Если у вас есть время и желание, я с удовольствием с вами как-нибудь встречусь.
Всего доброго,
Луве
Кевин выключил кино, откинулся на спинку дивана и задумался о письме Луве. Откуда Луве знает про йойо? Когда они разговаривали, Кевин упомянул об игрушке лишь вскользь.
Они оба подверглись сексуальным посягательствам одного и того же человека, своего дяди, но йойо от оца, который в детстве тоже подвергся насилию, получил только один из них. Отец побоями вымещал свое отчаяние на старшем брате Кевина, но с годами научился усмирять своих демонов более конструктивным способом.
Игрушку получило избалованное дитя, которое отец пальцем не трогал.
Кевин встал с дивана и пошел варить кофе. Слушая фырканье кофеварки, он думал о том, как он сам справляется со своими демонами.
Похоже, не так конструктивно.
Он подослал в Фисксетру двух парней, Александера Сёдерберга и Фадхи Абдулрашида, поручив им проследить, чтобы дядю до конца его жизни кормили через зонд.
Кевин даже не знал, кто исполнил заказ и сколько их было. Знал только, что дело сделано чисто и обошлось ему в триста тысяч.
Прочие Повелители кукол сидели по тюрьмам в ожидании судебных процессов, и любые контакты были им запрещены.
Сидели все. Но грязь с имени его отца – мертвого, невиновного – была смыта.
Если тебе станет одиноко, разбуди меня
Королевский сад, май 2013 года
Шла первая весна их новой жизни – всего несколько недель до белых ночей, над головой потолок из розовых цветов. Сакуры зацвели в день, когда просьбу отца о предоставлении убежища удовлетворили, в конце апреля.
Сейчас май. Отец везет ее в кресле-каталке вдоль аллеи, к воде.
И улыбается, как когда она была маленькой.
Они – семья, Джон и Мерси Абиона, и каждый из них родился во время своего пути.
За последние месяцы Мерси пересказала отцу все о том, как переставала быть человеком, унижала себя, а может, и других тоже. И он плакал, сидя в больнице у ее кровати. Время от времени отец напоминал ей, что в том, чтобы упасть, нет ничего постыдного; лежать и не пытаться встать – вот настоящий стыд.
Этот образ показался Мерси немного смешным. В реальности она не стояла и не лежала, она беспомощно сидела в кресле-каталке, которое уже начинало ощущаться как часть тела. Мерси трудно было поверить врачам, когда те говорили, что уже через полгода она сможет вставать.
Нам помогут, мы справимся.
Отец замедлил шаги и указал на причал с яхтами. Мачты торчали, как флагштоки.
– Water… Вода?
Он хорошо выговорил, и Мерси кивнула.
– Да. “Вода”.
– Лодка? – Папа сделал еще одну попытку.
Мерси улыбнулась.
– Да. Или “кораблик”.
Отец поставил кресло у скамейки и сел рядом с Мерси.
Улыбнулся, как когда она была маленькой.
На трех разных корабликах они доберутся до Рунмарё. Первый, до Ваксхольма, отходит через двадцать минут. Отец достал термос с кофе и два бутерброда.
Нова говорила, что в шхерах красиво и безобразно.
До скорого. Береги своего папу.
Я пока посплю, но если тебе станет одиноко, разбуди меня.
Там пятьдесят тысяч островов. По одному на каждое человеческое чувство.
Люди, которые добры друг к другу
Как в кино, июнь 2013 года
В июне солнце вернулось на Тантобергет, как вернулись обитатели садового хозяйства. Старики в желтых резиновых перчатках и семьи с маленькими детьми, жители Сёдермальма, высшая прослойка среднего класса, они расхаживали по липкой грязи в брендовых кроссовках.
На маленьком участке высилась целая гора заплесневелых досок. Себастьян помог ему обновить веранду и эркер. Осталось только покрасить.
Перекрасить дом вместо того, чтобы его сжечь, подумал Кевин и посмотрел на яхтенную стоянку. Почти все морские, кроме старой папиной лодочки. Она так и стояла под чехлом, как напоминание о прежней жизни. Прежней жизни Кевина. Такой же ущербной, как лодка на суше.
В доме было включено радио. Диктор сообщал о взрыве заминированной машины; погибло около пятидесяти человек.
Сейчас его могло заставить заплакать только что-нибудь душещипательное. Милые зверушки, маленькие дети. Люди, которые добры друг к другу. При столковении с вещами ужасными Кевин чувствовал только прохладную пустоту.
Автомобили взрываются каждый день. Подробности не стоит запоминать, потому что их скоро сменит очередной взрыв и очередные подробности.
Вошел Себастьян с двумя бокалами белого вина, сел на ступеньках веранды рядом с ним.
– Не скучаешь по работе? – спросил он.
– Ни по чему я не скучаю.
Заявление об отставке было лучшим событием в его жизни.
Себастьян рассмеялся.
– А по новой работе?
– Побуду пока в отпуске. В доме еще столько дел. – Кевин поставил свой бокал. – Надо убрать хлам до прихода Веры.
Себастьян покачал головой.
– Нет, ты лучше столом займись. Хлам уберу я.
Пока Кевин переодевался и накрывал на стол на веранде, Себастьян прикатил тачку и начал грузить на нее доски.
Кевина поражало, какой он сильный. Себастьян управился за сорок пять минут.
Если бы их жизнь была фильмом, он сидел бы на веранде и смотрел бы, как Себастьян моется и ополаскивает лицо из бочки.
И был бы он, Кевин, Джейком Джилленхолом, а Себастьян был бы Хит Леджер.











