Читать онлайн Клоун Шалимар
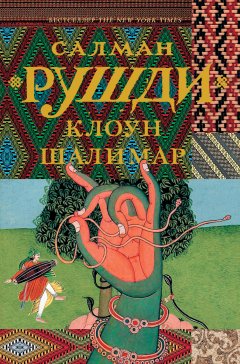
© 2005, Salman Rushdie. All rights reserved
© Е. Бросалина, перевод на русский язык, 2008
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2021
Издательство CORPUS ®
Светлой памяти моих любимых кашмирских родственников – деда д-ра Атауллы и бабушки Амир-ун-Ниссы Батт (Бабаджана и Аммаджи) – посвящается
- Минуя рай, меня несет по адовой реке
- В глухую ночь, о мой изящный призрак.
- Удар сердечного весла дробит фарфор волны.
- Я все, что было у тебя. Меня не стало.
- За это ты простить меня не пожелала,
- Но память обо мне тебя не оставляла.
- Прощать меня? За что? И ты простить не хочешь.
- Я боль таю от самого себя, но ею
- С собой одним я поделиться смею.
- Простить меня? О, есть за что, но ты не можешь.
- Ах, если б волею судеб моей ты стала,
- То мир преобразить моих бы сил достало.
- Чума на оба ваши дома!
Часть первая
Индия
Глава 1
Долгими теплыми ночами дочери посла спалось тревожно, она то и дело просыпалась. Даже тогда, когда сон брал свое, тело ее не отдыхало: оно вскидывалось и перекручивалось, будто пытаясь освободиться от безжалостных оков. Временами с губ ее срывались слова на незнакомом языке. Об этом ей сообщали мужчины. Сообщали с опаской. Мужчин этих было мало, ибо очень немногим доводилось при сем присутствовать. Но эти свидетельства не могли считаться абсолютно достоверными: не хватало подтверждения третьего, незаинтересованного лица. Однако определенные звуковые характеристики ее «ночного языка» все же были выявлены. По одной версии, в нем преобладали горловые и аспираторные звуки, как в арабском. «Полуночный арабский, – подумалось ей. – Завораживающий говор Шехерезады». Согласно другому свидетельству, это был образчик того языка, вроде клингтонского, на котором говорят герои научной фантастики. Звуки были акустически чистыми, словно неслись откуда-то из запредельных галактик, – как у Сигурни Уивер в «Охотниках за привидениями», когда она изгоняет очередного демона. В одну из таких ночей дочь посла, движимая страстью к научному эксперименту, оставила возле постели включенный магнитофон, однако когда собственными ушами услышала омерзительный, будто с того света, голос – такой знакомый и одновременно абсолютно чужой, – настолько перепугалась, что тут же стерла запись. Но стереть не значит забыть. Что есть, то есть, от этого никуда не денешься.
К счастью, горячечные периоды сомнамбулической речи бывали краткими, но, когда заканчивались, некоторое время она лежала пластом, вся в поту, часто и трудно дыша, словно после быстрого бега, а затем проваливалась в тяжелый сон без сновидений. Вдруг просыпалась и долго не могла понять, где она и что с ней. Знала одно: в ее спальне кто-то есть. На самом деле никто к ней не входил. Являлось ей некое осязаемое во мраке присутствие отсутствия. У нее не было матери. Мать родила ее и умерла. Об этом ей сообщила жена посла, и посол, ее отец, это подтвердил. Мать была кашмиркой и утрачена была навсегда, как рай, как сам Кашмир. (Ей Кашмир и представлялся раем, и все, кто знал ее, вынуждены были принять это как аксиому.) Она вглядывалась во мрак, трепеща перед этим осязаемым отсутствием, этим бессловесным стражем – провалом в темноте, и с замиранием сердца ждала следующей, еще одной беды, – ждала, сама не зная, что ждет.
После смерти отца – ее великолепного отца, гражданина мира, наполовину француза, наполовину американца («Как Статуя Свободы», – сказал однажды он – ее обожаемый и осуждаемый, ее постоянно отсутствовавший, циничный отец, непоседа и соблазнитель) – к ней вернулся спокойный сон, будто от нее отвели проклятие. Словно она была прощена. Или он. Бремя греха было снято. Хотя она и не верила, что грех как таковой вообще существует.
Вплоть до смерти отца мужчинам было нелегко ладить с ней в постели, хотя в желающих недостатка не ощущалось. Сексуальные домогательства мужчин тяготили ее. Собственные ее желания оставались большей частью нереализованными. Из тех, с кем она переспала – а таких было немного, – ни один по той или иной причине ее не устроил. И поэтому (как бы для того, чтобы закрыть тему) она остановилась на заурядном субъекте и даже серьезно подумывала, не принять ли его предложение. Ну а потом… потом посла зарезали на пороге ее дома – зарезали, как цыпленка для халяльного стола, и он истек кровью от глубокой раны, нанесенной острым ножом. И это средь бела дня! Как, должно быть, блестело лезвие в золотистых лучах утреннего солнца. Независимо от того, считать ли этот вечно ясный лик благословением для города или его проклятием. Дочь убитого принадлежала к той категории женщин, которые ненавидели безоблачное небо, однако ничего другого бо́льшую часть года этот город ей предложить не мог. Соответственно, ей оставалось только смириться с унылой чередой безоблачных месяцев, с иссушающим зноем, от которого трескалась кожа. В те редкие дни, когда, проснувшись, она ощущала в воздухе подобие свежести и видела, что небо затянуто тучами, она сладко потягивалась, выгибая спину, и на краткий миг чувствовала себя почти счастливой. Однако к полудню солнце неизменно сжигало облака без остатка, и с неба, обманчиво голубого, как делавшие мир чистым и светлым стены детской, снова нагло скалилось светило – будто человек, позволивший себе слишком громко расхохотаться в ресторане.
В таком городе не было места полутонам, во всяком случае так казалось на первый взгляд. Все здесь выглядело всегда до примитивности однообразно, без полутонов – ни тебе моросящего дождичка, ни тени, ни пронизывающего холодного ветра. От пристального ока такого солнца негде было спрятаться. Всюду и везде люди были на виду, словно манекены в витрине. Их тела, едва прикрытые одеждой, блестели на солнце, и больше всего они напоминали ей персонажей с рекламных плакатов. Казалось, здесь не может быть места ни для тайн, ни для глубоких чувств – всё на поверхности. Однако, чем больше ты узнавал этот город, тем отчетливее понимал, что эта банальная прозрачность не что иное, как великая иллюзия. На самом деле это был город-обманщик, город-лжец, предатель и перевертыш, город – зыбучий песок. Он умело скрывал свою истинную природу и надежно прятал свои тайны. В подобном месте силы зла и разрушения не нуждались в покрове темноты. Они слепили глаза даже при свете дня, испепеляя все своим смертоносным пламенем.
Ее назвали Индия. Свое имя она не любила. Где это слыхано, чтобы людям давали такие имена, как Австралия, или Перу, или, скажем, Ингушетия?! В середине шестидесятых ее отец Макс Офалс, родившийся в Страсбурге (то есть во Франции, поскольку это было еще в другую эпоху), был самым популярным и, пожалуй, самым скандально известным послом Америки в Индии. Пусть так. Но детям не портят жизнь такими именами, как Герцеговина, Турция или Бурунди, лишь потому, что их родителям случилось посетить эти страны (и, возможно, быть оттуда выдворенными с позором). Ладно: ее зачали на Востоке вне брака, и родилась она в самый разгар скандала, который внес разлад в семейную жизнь отца и разрушил его брак, а также положил конец его дипломатической карьере. Все так. Но если считать это достаточным основанием для того, чтобы навешивать на детей подобные имена, словно бирки на лапы альбатросов для определения мест их гнездовий, то в мире было бы полно людей с такими, скажем, именами, как Евфрат, Пиза, какой-нибудь там Истаксиуатль или Вуллумулу, хотя в Америке, черт ее побери, подобные наречения не редкость, что несколько ослабляло логику ее рассуждений и, честно говоря, немало ее злило. Таким как Невада Смит, Индиана Джонс и Теннесси Уильямс она мысленно слала свои проклятия и осуждающе тыкала в них пальцем.
Так или иначе, имя Индия не подходило ей никоим образом. Оно было экзотично, колониально и с претензией на принадлежность к чуждой ей реальности, и она внушала себе постоянно, что для нее оно совсем не годится. Она не ощущала себя Индией, несмотря на смуглое, с ярким румянцем лицо и длинные черные волосы. Она не желала ассоциаций ни с простором, ни с необычностью поведения и темпераментностью, ни с перенаселенностью; не хотела быть ни древней, ни шумной, ни таинственной, избави боже! Ни за что не желала иметь отношение к стране третьего мира. Совсем наоборот: она позиционировала себя как женщину, умеющую владеть собой, особу ухоженную, чуткую, созерцательную, спокойную. Говорила с английским акцентом, никогда не горячилась, напротив – всегда держала себя холодно-отстраненно. Такой она хотела быть и такой она себя усердно, целенаправленно культивировала. Такой она представлялась всем, кто ее когда-либо встречал, за исключением отца да любовников, напуганных до смерти ее ночными эскападами. Что касается ее внутреннего мира, скандального периода ее пребывания в Англии и разного рода правонарушений с вмешательством полиции, а также других не получивших огласки эпизодов ее коротенького, но богатого событиями прошлого, то это все обсуждению не подлежало и не представляло интереса для широкой публики. Трудный подросток продолжал в ней жить – но уже в некоем сублимированном виде: он выражал себя через опасные развлечения, через еженедельные занятия боксом в клубе на углу бульвара Санта-Моника и Вайн-стрит (где, как известно, тренировались Тайсон и Кристи Мартин и где холодная ярость ее ударов по груше заставляла профессиональных боксеров-мужчин застывать на месте), а еще через тренировки с точь-в-точь похожим на Берта Квука мастером восточных единоборств Вин Чунем. Испорченный ребенок давал о себе знать и в раскаленном безлюдье выжженного солнцем куска пустыни за черными стенами стадиона в стрелковом клубе Зальцмана, где каждые две недели она упражнялась в стрельбе по движущимся мишеням. Однако наиболее сильные ощущения ей удавалось испытать во время тренировок в стрельбе из лука в самом сердце Лос-Анджелеса, в Элизиан-парке, где, собственно, и зародился этот город и где обретенную ею способность к самоконтролю в целях обороны можно было использовать для нападения. Когда она натягивала свой золотистый, олимпийского стандарта лук, когда чувствовала на губах прикосновение тетивы и время от времени дотрагивалась кончиком языка до древка, то испытывала пьянящее возбуждение; с наслаждением ощущала она биение крови в висках в последние секунды перед выстрелом, и наконец – о сладкий миг! – пущенная стрела летела, давая выход затаенной, душившей ее ярости, и у нее восторженно замирало сердце от далекого, еле слышного звука, означавшего, что стрела попала в цель. Лук как оружие был ей милее всего.
Странные зрительные галлюцинации, когда внезапно перед ее глазами появлялись и тут же исчезали некие картины, она умела отличать от реальности и научилась держать под контролем. В моменты, когда ее прозрачные, светлые глаза видели не то, что перед нею находилось, ее четко работающий мозг тут же ставил все на свои места. Она не желала раздумывать по поводу этих превращений, никогда не рассказывала о своем детстве и утверждала, что не помнит снов.
В день, когда ей исполнилось двадцать четыре, ее навестил отец-посол. Он позвонил в дверь, и с балкона четвертого этажа она увидела, как он стоит под палящими лучами полуденного солнца в идиотском шелковом костюме, словно старый ловелас. Еще и с букетом.
– Люди могут подумать, что ты мой любовник! – крикнула она сверху. – Что ты мой Валентин, который жаждет утащить крошку из колыбели прямо под венец.
Она обожала его таким – смущенным и растерянным, любила его, когда он стоял, болезненно морща лоб, чуть вздернув плечо к правому уху, и приподнимал руку, словно заслоняясь от удара. Она смотрела на него сквозь призму своей любви, и его облик стал вдруг дробиться и радужно расплываться. Она наблюдала за стоявшим внизу, и неожиданно он начал уходить в прошлое, медленно-медленно удаляться, пока не исчез в необозримом космосе, подобно световому лучу. Так вот что такое утрата, вот что такое смерть! Это уход, бегство, растворение в невообразимых скоростях и бесконечных далях космоса. На самом краешке нашей галактики некое существо, представить которое невозможно, однажды приникнет к телескопу и узрит приближающегося Макса Офалса: в шелковом костюме и с букетом роз он будет подплывать все ближе и ближе, покачиваясь, несомый приливными световыми волнами. А сейчас с каждым мгновением он удалялся от нее все больше. Она зажмурилась, затем снова открыла глаза: да вот он – не улетел за миллиарды миль, не затерялся среди крутящихся колесом галактик. Подтянутый, учтивый, он пребывал здесь, на улице, где она жила. Он уже справился со своим смущением.
Из-за угла, со стороны парка, появилась девушка в спортивном костюме. Она направлялась прямо к нему, и было ясно, что на бегу она в обычных для современного общества терминах прикидывает, чего он стоит в смысле секса и денег.
Отец был одним из архитекторов послевоенного мира, его международных институтов, его экономических и дипломатических конвенций. В своем преклонном возрасте он все еще был сильным игроком в теннис – подача навылет сильно закрученным мячом до сих пор приносила ему победу. Жилистое тело (жира – не более пяти процентов) в белоснежных брюках до сих пор легко перемещалось по корту. Зрителям он напоминал старого чемпиона Жана Боротра (не всем, разумеется, а тем немногим, которым доводилось Боротра видеть). Сейчас он с нескрываемым удовольствием истинного европейца разглядывал специфически американские груди бегуньи под спортивным бюстгальтером. Когда она поравнялась с ним, он протянул ей розу из своего немыслимых размеров букета. Она взяла ее. Затем, словно напуганная его шармом, его властным, с привкусом эротики жестом, который свидетельствовал о привычке подчинять, смущенная собственной реакцией, она прибавила скорость и понеслась дальше. Один-ноль в его пользу!
С соседних балконов женщины-иммигрантки из Центральной и Восточной Европы давно таращились на Макса – глядели восхищенно, с нескрываемым вожделением беззубой старости. Для них его визит был самым значительным событием месяца. Обычно они сбивались в небольшие кучки и торчали где-нибудь на углу или рассаживались по двое, по трое вокруг бассейна во внутреннем дворе, бесстыдно напялив на себя наимоднейшие, ничего не прикрывающие купальные костюмы и непрерывно поглощая что-нибудь мучное или сладкое. Как правило, они спали до полудня, а потом жаловались на бессонницу. Все они давно схоронили своих мужей, с которыми прожили бок о бок кто сорок, а кто и пятьдесят лет ничем не примечательной жизни. Сутулые, скрюченные, с одинаково безучастными лицами, они сетовали на капризы судьбы, забросившей их на другой конец света, так далеко от родных мест. Они говорили на языках странных и непонятных, может, на грузинском, может, на хорватском или узбекском. Смерть мужей эти женщины воспринимали как предательство. Мужья были опорой для них, мужья обещали, что не подведут, а потом вдруг взяли да и отдали концы – кто на поле для гольфа, а кто и просто упав головою в суп с лапшой. И этим заключительным моментом они лишь подтверждали свою несостоятельность в целом и в качестве мужей в частности. Вечерами вдовы распевали песни своего детства – песни Балтики, Балкан, песни бескрайних просторов Монголии.
Попадались и мужчины-одиночки. Одни обитали в напоминавших полупустые мешки телах, для которых само земное притяжение казалось уже непосильным грузом; другие, заросшие седой щетиной, совсем опустившиеся, выходили на люди в замусоленных подтяжках и с незастегнутой ширинкой. Встречалась и еще одна разновидность: эти выглядели забавнее – одевались как франты и носили береты и «бабочки». Время от времени эти фанфароны пытались завязать разговор со вдовами, но их улыбки, сопровождаемые желтым поблескиванием вставных зубов и меланхоличной демонстрацией наводящих тоску прилизанных прядей, выпущенных из-под лихо надетых беретов, имели однозначный эффект: они неизменно и с презрением игнорировались. Для этих старых попугаев сам вид Макса Офалса был оскорблением, а интерес к нему старых дам они воспринимали как унижение.
Индия видела их всех насквозь – и бесстыдно выставлявших себя напоказ похотливых старух, кокетливо и призывно глядящих с балконов, и исподтишка подсматривавших, исходящих желчью злобных стариков.
Домоправительница, пузатая Ольга Семеновна, в обтягивающем комбинезоне напоминавшая самовар, приветствовала посла с таким почтением, словно он был главой государства. Окажись у нее под руками ковровая дорожка, так она, наверное, расстелила бы ее для Макса.
– Она заставляет вас ждать, господин посол, – что тут скажешь, молодежь! Я не ропщу. Просто в наше время с дочками стало трудно – одни проблемы. Я и сама была когда-то дочкой, для меня мой папка был как бог. И чтоб я заставила его ждать?! Да ни в жисть! Ох-хохонюшки, трудно в наше время дочек воспитать. Вырастишь – и тут они тебя раз – и бросили одну. Я, господин хороший, тоже мать, только нынче они для меня все одно что умерли. Плевать я на них хотела. Вот так-то.
Сию тираду Ольга выдала, вертя в руке сморщенную картофелину. В этом ее последнем пристанище все называли ее не иначе как Ольга-Волга; по ее собственному утверждению, она являлась последней представительницей легендарного рода заклинательниц на картошке из города Астрахани. Да-да, истинный крест – настоящая колдунья, в чьей власти было посредством особых манипуляций с картофелиной вызвать любовь, одарить человека богатством или наслать на него порчу, чирьи. Когда-то, в далеком прошлом, где-то очень далеко отсюда, она вызывала у окружающих почтение и ужас, теперь же, последовав за влюбившимся в нее, но почившим в бозе моряком, оказалась в чуждом для нее окружении в западной части Голливуда, всегда в рабочем комбинезоне и с неизменным красным в белый горошек платком на голове, призванным скрыть редеющие седые волосы. В заднем кармане она постоянно носила гаечный ключ и отвертку. В той, прошлой, жизни она могла все: проклясть кошку, вылечить от бесплодия, сделать так, чтобы скисло молоко, в этой жизни она меняла перегоревшие лампочки, следила за исправностью плит и собирала арендную плату.
– Возьмите хоть меня, господин посол, – не унималась она, – я живу не в прежнем своем мире и не в теперешнем, не в Астрахани и не в Америке. Больше скажу: не в теперешнем, но и не в воспоследующем. Такие как я живут где-то между. Между воспоминаниями и повседневными заботами, промеж вчера и завтра – вот как я живу в этом краю потерянной радости и покоя, в месте обманно-тихом. Такая уж наша доля. Раньше думала – все о'кей. Теперь не думаю того, что думала. И нет у меня перед смертью страху никакого.
– Я тоже, мадам, гражданин этой страны, – вполне серьезно произнес он. – Я, как и вы, прожил здесь достаточно долго и потому получил гражданство.
Ольга родилась в нескольких милях к востоку от дельты Волги, там, откуда открывался вид на Каспийское море. Сообщив это, она переключалась на исторические катаклизмы двадцатого столетия, причиной которых была не иначе как картофельная ворожба. «Ясное дело, злые времена», – вещала она, обращаясь к балконным старухам, старикам возле бассейна и к Индии всякий раз, когда ей удавалось поймать ее где-нибудь и зажать в угол. Теперь то же самое она говорила послу Максу Офалсу, явившемуся поздравить дочь с днем рождения.
– Ясное дело, нищета, а еще притеснения, гонения с места на место, солдатня, рабский труд; сегодняшние детки – им на все плевать, они обо всем этом знать не хотят. Я-то вижу, вы человек бывалый, тоже, небось, немало повидали на своем веку. Да уж, чего только не было! Опять же ссылки, одна забота – как выжить, а для того надо стать верткой да хитрой, как крыса. Правильно я мыслю? Ну и, как водится, посреди всего – мужчина, думка, как бы куда-нибудь с ним уехать, брак и – дети. А дети что? Дети завсегда тебя бросают, своя у них жизнь, а из твоей они уходят. А дальше – война, потеря мужа, вот горе-то, про такое лучше и не рассказывать. Опять переезд, опять вечный голод, измены, а потом вдруг – удача, другой мужчина, добрый, морская душа. Дальше – путь через море-океан. Запад поманил, понимаешь, переезд, всю страну исколесили; после – второй раз вдовой стала, у мужика век недолог – присутствующих, ясное дело, не считаю; мужчина – вещь непрочная, она скоро снашивается. Для меня мужчины всегда были как туфли. В моей жизни их было двое, и оба сносились. А после я, можно сказать, приспособилась ходить босая. Только я никогда не требовала от них ничего. Никогда. То, что мне надо, я всегда получала. Да-да, получала через свое картофельное колдовство – пропитание, детей, нужные бумаги, работу… Козни недругов рассыпались, и я всегда выходила сухой из воды. Такова сила моего дара, с ним невозможное становится возможным. Только годы все одно не остановишь, даже моя ворожба не может повернуть время вспять. Мы с вами знаем этот мир, верно ведь? Мы знаем, чем все кончается.
Отец послал наверх шофера, а сам остался ждать внизу. Новый водитель. Стараясь, как обычно, внешне не проявлять ни малейшего интереса, Индия отметила про себя, что мужчина очень привлекателен, пожалуй, даже красив; что ему где-то за сорок, и двигается он с такой же грацией, как ее неподражаемый папочка. Так, будто идет по канату. В его лице затаилась боль, он не улыбался, но от уголков глаз его разбегались тонкие морщинки, какие бывают у людей, часто смеющихся. От его возмутительно испытующего, напряженного взгляда ее словно ударило током. Посол не был сторонником форменной одежды, и на водителе была белая рубашка и легкие белые брюки – нечто вроде униформы для всех, кому выпало великое счастье оказаться в одном из самых пропекаемых солнцем штатов. Красавцы и красотки стекались в этот город отовсюду; они прибывали целыми стадами и вызывали жалость: они устремлялись сюда, чтобы страдать, чтобы терпеть унижения, чтобы испытать ужас от того, что их главное достояние – красота – неумолимо падает в цене, девальвируется, словно русский рубль или аргентинская песета; чтобы вкалывать лифтерами, официантками в барах, мусорщиками и горничными. Для них город становился отвесной скалой, на которую они лезли, давя друг друга, словно слепыши-лемминги. Долина у подножия этой скалы слыла долиной разбившихся кукол.
Водитель оторвал взгляд от ее лица и уставился в пол. На ее вопрос он на плохом английском ответил, что родом из Кашмира. Шофер из рая! У нее подпрыгнуло сердце. Волосы его у нее на глазах стали горными потоками, грудь расцвела нарциссами с берегов стремительных рек, яркие маки горных лугов выбились из-под ворота его рубашки, и эхо пронзительной деревенской дудочки – сварнака – донеслось до ее ушей… Чепуха какая-то! Она не фантазерка, она никогда и ни за что не позволит себе унизиться до глупых выдумок. Мир реален. Он таков, какой есть. Зажмурилась, снова открыла глаза – и все вернулось на свои места. Реальность восторжествовала: никаких цветущих лужаек. Обыкновенный шофер терпеливо ожидал ее, придерживая дверцу лифта. Она благосклонно кивнула. Заметила, что его стиснутые в кулаки пальцы дрожат. Дверь закрылась, и лифт поплыл вниз.
На вопрос, как его имя, он ответил, что его зовут Шалимар. Его английский был очень плох. «Почти невоспринимаем», – отметила она, подумав, что это выражение он бы точно не понял. У него были прозрачно-голубые, еще светлее, чем у нее, глаза и светлые с проседью волосы. Ей незачем знать историю его жизни. Во всяком случае сегодня. Может, как-нибудь в другой раз она и спросит его, не линзы ли он носит и не красит ли волосы и сам ли он придумал себе такой стиль или его навязал шоферу папочка, который всю жизнь только и делал, что навязывал свои мнения другим, причем делал это с таким шармом, что человеку казалось, будто идея принадлежит ему самому. Ее покойная мать тоже была из Кашмира. Это, по крайней мере, ей было известно о родившей ее женщине. Это – и больше почти ничего (правда, для ее далеко идущих выводов отсутствие сведений вовсе не было помехой). Ее папенька, хоть и имел американское гражданство, так и не обзавелся водительскими правами, но приобретать машины любил. Отсюда – необходимость в шоферах. Они появлялись и исчезали. Все они, само собой, жаждали славы. Однажды около двух недель его возила роскошная молодая особа, однако потом она ушла сниматься в сериалах для домохозяек. Прочие иногда мелькали в подтанцовках. По меньшей мере двое – один мужчина и одна женщина – сделали себе карьеру в порнофильмах: в гостиничных номерах, где она частенько ночевала, ей доводилось видеть их обнаженными на экране. В гостинице она смотрела порно. Это помогало ей заснуть. Правда, дома она тоже смотрела порнофильмы.
Шалимар родом из Кашмира спускался в лифте вместе с нею. Он законно в Штатах или нелегал? Есть ли у него надлежащие документы? Есть ли вообще водительские права? Почему его наняли? Большой ли у него член? Достаточно ли большой, чтобы стоило на него взглянуть как-нибудь в снятом на ночь номере? Отец спрашивал, какой подарок ей хочется. Она взглянула на шофера, и на какой-то миг ей захотелось стать такой женщиной, которая могла бы себе позволить задать ему непристойные вопросы (прямо здесь и сейчас, спустя всего несколько минут после знакомства), которая могла бы себе позволить говорить непристойные вещи красивому мужчине, зная при этом, что он не поймет ни слова и будет лишь почтительно улыбаться и согласно кивать, не имея представления о том, на что соглашается. Вставлял он когда-нибудь в задницу или нет? Ей хотелось видеть его улыбку. Она вообще перестала понимать, чего хочет. Но нет, неправда – она хотела делать документальные фильмы. Послу полагалось бы и самому знать это, нечего было у нее выпытывать – ведь так? Или привез бы ей слона, чтобы она каталась на нем по бульвару Уилшир, а мог бы показать ей Ангкор-Ват или Мачу-Пикчу или заняться скайдайвингом. Или съездить в Кашмир…
Ей уже двадцать четыре. Ей хочется иметь дело с жизнью, основанной на фактах. Ей нужна реальность, а не фантазии. Одни адепты веры, жутковатые мечтатели, не давали предать земле труп аятоллы Хомейни, другие, такие же, только из далекого прошлого и иной страны, в честь которой ее назвали, – Индии, пытались откусить хотя бы крохотный кусочек от тела Франциска Ксаверия. Одна часть его в конце концов оказалась в Макао, другая – в Риме. Ей хотелось светотени, полутонов. Ей хотелось дойти до самой сути, добраться до самого ядра, до слепящего света, прорвать его девственную оболочку и взглянуть наконец-то на эту долбаную потаенную правду. То, что не было скрыто, что лежало на поверхности, являло собой оборотную сторону правды и было ложью. Она хотела, чтобы у нее была мать. Она хотела, чтобы отец рассказал ей о матери, показал ее письма, ее фотографии, хотела посланий с того света, хотела узнать всю историю ее жизни. Не понимала она, чего ей хотелось. Ей хотелось есть.
Новая машина ее поразила. Как правило, Макс отдавал предпочтение большим, классического образца автомобилям, но эта оказалась совершенно не такой: серебристая гоночная машина класса люкс, футуристический дизайн, хищно изогнутые, словно крылья летучей мыши, двери – точная копия тех сверхзвуковых устройств, на которых в нынешнем киносезоне герои блокбастеров переносились в иное время. «Допустить, чтобы этим крылатым чудом управлял шофер?! Странная прихоть, недостойная такого значительного человека, как отец», – с разочарованием подумала она.
– В этой ракете нет места для троих, – сказала она вслух.
Посол молча вложил ей в руку ключи.
Вульгарный и кичливый, абсолютно неуместный автомобиль принял их в свое нутро, а красавец-шофер из Кашмира по имени Шалимар остался стоять на тротуаре, пронзая ее взглядом, будто лезвием меча. В зеркале заднего вида он мгновенно уменьшился. Тоненькая серебристая рыбка, саранча, да и только. Подле него стояла Ольга-Волга, картофельная ведьма, и их удаляющиеся фигуры были похожи на цифры. Вдвоем они составили 10.
Там, в лифте, она почувствовала, что шофер жаждет дотронуться до нее. Снедавшую его жажду она ощутила почти физически. Это ее удивило. Нет, пожалуй, не это, а нечто иное: ей почудилось, что в его желании нет ничего сексуального. Ее потянуло на философские обобщения: было похоже, что ему хотелось с помощью этого прикосновения дотянуться до кого-то другого, того, кто пребывал в ином измерении, – до печальных воспоминаний и утерянного бытия. Похоже, она сама для него не более чем аналог, некий символ. Она захотела стать такой женщиной, которая смогла бы спросить: «До кого ты стремишься дотянуться, касаясь меня?
Кто та, которой ты не коснулся, потому что не осмелился дотронуться до меня? Коснись же, – хотелось ей шепнуть и увидеть его непостижимую улыбку, – я готова стать твоим проводником, твоим магическим кристаллом. Мы можем любить друг друга в лифте, а после никогда не говорить про это. Заниматься любовью во время перемещения. В транзитных зонах, когда ты ни здесь, ни там, – всё в тех же лифтах. И в машинах. Транзитные зоны, они обычно как-то ассоциируются с сексом. Когда будешь трахать меня, подумай, будто это она – кто бы она ни была. Я не хочу ничего знать о ней, я и сама буду где-то в другом месте в этот момент. Буду лишь передающим каналом, медиумом. В остальное время ты всего только шофер моего отца – и только. Это станет для нас чем-то вроде „Последнего танго в Париже“, только без сливочного масла». Однако вслух она ничего не сказала этому изнывающему от тоски человеку, который в любом случае ничего и не понял бы, – а вдруг бы и понял? Она ведь на самом деле не имеет представления о его знании языка, лишь строит предположения. Зачем? Зачем она все это выдумывает? Чепуха какая-то! Это нелепо. Она вышла из лифта, развязала стянутые лентой волосы и ступила на тротуар.
Этот день был последним, который они с отцом провели вместе. В следующий раз все будет уже иначе, совсем иначе. Да, этот день был последним.
– Это тебе, – сказал отец. – Я про машину. Не такая уж ты пуританка, чтобы не принять ее в подарок.
Пространство-время словно масло, думала она, разгоняя машину, автомобиль режет его, будто нагретый нож. Зачем ей такая машина? О, как ей хотелось, чтобы ее ощущения стали ярче, острее. Хотелось, чтобы ее встряхнули, заорали на нее, ударили. Она отупела, онемела, словно на ее глазах свершилось падение Трои. А вообще-то все у нее хорошо. Ей стукнуло всего двадцать четыре. Есть мужчина, который хочет на ней жениться, и другие, готовые удовлетвориться меньшим. Она придумала сюжет для своего первого документального фильма, и у нее есть деньги, во всяком случае для начала хватит. И рядом с ней на пассажирском сиденье ее отец, и «делориан» летит вперед по каньону. В каком-то смысле это был ее первый день. А в чем-то ином – последний.
Они остановились перекусить в маленькой гостинице высоко в горах. Ели жадно, под мертвыми взглядами рогатых оленьих голов, украшавших стены. Отец и дочь – так похожие друг на друга, одинаково любящие хороший стол, с одинаково прекрасным пищеварением, с одинаковым пристрастием к мясному, стройные, в меру загорелые.
Словно бросая вызов мертвым головам, она заказала оленину.
– Вот, зверюга, я ем твою задницу.
Она произнесла это громко, чтобы заставить отца улыбнуться. Он тоже заказал оленину, но, как он выразился, «в знак уважения к утраченным телам обезглавленных животных». «Ведь мы лакомимся не их плотью, а плотью других, им подобных, благодаря которым утраченные ими тела могут быть вызваны к жизни нашим воображением и оценены должным образом». Подмена за подменой. «Ну вот, опять сплошные допущения, – подумала она. – Сначала мое телесное пребывание в лифте, где не будет меня самой, теперь – та же история с мясом, которое лежит у меня на тарелке».
– Твой новый шофер меня немного настораживает, – проговорила она. – Смотрит на меня, будто перед ним кто-то другой. Ты в нем уверен? Его проверяли? И что это у него за имечко такое – Шалимар? Звучит как название какого-нибудь захудалого клуба с экзотическими танцами на закуску или дешевенького курорта или как кличка циркового акробата. Только избавь меня ради бога от объяснений и ради бога не ссылайся на название знаменитого сада! – воскликнула она, догадавшись, какое объяснение он собирается дать. Перед ее мысленным взором предстали во всем великолепии императорские сады Великих Моголов в Кашмире, густыми зелеными террасами нисходящие к зеркалам озер, – она никогда в жизни их не видела. Слово «шалимар» значит «обитель блаженства». – Для меня оно все равно звучит как этикетка на дешевой карамельке, – выпалила она, упрямо выставив подбородок. – Кстати, об именах: давно хотела тебе сказать – мое мне надоело, оно меня тяготит. Ничего себе имечко – ты навесил на меня целую страну. Хочу называться иначе – сладко и душисто. – И прежде чем он успел открыть рот, внезапно заявила: – Может, твое имя возьму: Макс, Максина, Макси… – протянула она. – По-моему, отлично! Решено: с сегодняшнего дня называй меня Макси.
Он отмахнулся от нее и продолжал есть, – он так и не понял, что за этой ее бравадой скрывалась отчаянная мольба. «Перестань сокрушаться о нерожденном сыне, – хотелось ей сказать, – сбрось с себя эту старомодную печаль, которую ты таскаешь за собой всегда и всюду».
Эта скорбь задевала и обижала ее: да как он мог допустить, чтобы его пригибала к земле эта издевательски насмехающаяся над ним неудача – нерожденный сын?! Как мог он допустить, чтобы его мучил этот мстительный зародыш, когда рядом с ним была она, любящая его всем сердцем?! И разве не была она его точной копией, более усовершенствованным, более тонким, более достойным повторением его самого, нежели этот никогда не существовавший мальчишка? Зеленовато-голубые глаза и смуглая кожа, вероятно, у нее от матери, ну и груди, разумеется, тоже, зато все остальное (почти все) она взяла от отца. Следы иного, материнского наследия в своей речи, ее чуждые каденции оставались ею не замеченными, она ловила лишь знакомый голос отца – его интонации, его манеру строить фразы, его тембр. Смотрясь в зеркало, она предпочитала не замечать признаков чуждой расы и видела в отражении лишь то, что подтверждало ее сходство с Максом: его черты лица, его телосложение, лениво-томную грацию, с которой он двигался и говорил. Целую стену в ее спальне, прямо напротив постели, занимал шкаф с раздвижными зеркальными дверцами, и когда она ложилась и развлекала себя тем, что принимала разнообразные позы, любуясь своим обнаженным телом, то заводилась на полную катушку от одной мысли о том, что именно такое тело было бы у ее отца, родись он женщиной, – такая же четко очерченная линия подбородка, такая же посадка головы. Для женщины она была очень высокого роста – и это тоже от него, как и пропорции – относительно короткое туловище и длинные ноги. Даже небольшое искривление позвоночника, вследствие чего ее голова, всегда чуть-чуть наклоненная вперед, придавала всему ее облику нечто хищное, – это тоже было от него.
После того как он умер, она по-прежнему продолжала видеть его в зеркале. Она стала призраком своего отца.
О том, чтобы поменять имя, она больше не заговаривала. Всем своим видом отец дал ей понять, что готов милостиво забыть о ее бестактности и тем самым простить ее, как прощают описавшегося ребенка или подростка, который, сдав свой первый важный экзамен, возвращается домой в стельку пьяный и блюет на пороге. Подобная снисходительность ее возмутила, но и она, следуя его примеру, решила тоже промолчать. В дальнейшей беседе она не затрагивала никаких сколько-нибудь серьезных или скользких тем: не заговаривала ни о детских годах в Англии, в течение которых по его милости не знала ничего о своей прежней жизни; ни о женщине, которая не была ее матерью, – застегнутой на все пуговицы женщине, растившей ее после разразившегося громкого скандала; ни о женщине, которая приходилась ей родной матерью, но говорить о которой было запрещено.
Они закончили есть и решили немного прогуляться, полазать по горным тропам. Они двигались, словно боги в поднебесье. Здесь не было нужды в словах. Здесь говорила Вселенная. Индия была поздним ребенком. Ему было уже около восьмидесяти – на десять лет меньше, чем грязному веку. Его легкая походка без намека на старческую немощь приводила ее в восхищение. Может, он и негодяй, скорее всего, он и правда в своей жизни не раз и не два поступал как последний подонок, но надо признать, что при всем при этом он обладал, нет – был одержим железной волей к преодолению границ возможного и разумного, той волей, благодаря которой альпинист без кислородной маски покоряет восьмитысячник, или той, которая позволяет монаху войти в состояние кажущейся смерти и выйти из него через несколько месяцев или лет.
Он шагал как мужчина в расцвете сил, скажем лет пятидесяти. Шершень смерти уже жужжал где-то совсем близко, и вполне возможно, что такая дерзкая демонстрация не свойственной возрасту физической формы привлечет его и заставит выпустить свое смертоносное жало. Индия родилась, когда отцу было пятьдесят семь, а сейчас он двигался так, словно ему и того меньше. За эту волю к жизни она его и любила, эта воля хранилась и в ее теле, как меч в ножнах. С тех пор как она себя помнит, он всегда был той еще сволочью. Он не был создан для отцовства. Он был жрецом-хранителем Золотой ветви. Он обитал в своей заколдованной роще, где ему поклонялись словно богу, пока не погиб от руки своего преемника. Однако, прежде чем стать верховным жрецом, ему тоже пришлось убить своего предшественника. Может, она такая же сволочь, как и он. Может, и она способна убить…
Его сказки перед сном – в тех редких, непредсказуемых случаях, когда он оказывался вечером у ее детской кроватки, – честно говоря, не были обычными сказками для детей. Они больше походили на те веселенькие притчи, которыми создатель философии войны Сунь-Цзы, должно быть, потчевал перед сном своего отпрыска.
– Дворец Власти, – рассказывал он засыпающей дочери, – это целый лабиринт из соединенных друг с другом залов. В них нет окон, и дверей тоже не видно. Для начала тебе надобно догадаться, как туда проникнуть. Когда ты разгадаешь эту загадку, то попадешь в первый из покоев. Там ты увидишь человека с головой шакала, и он будет стараться тебя прогнать. Если ты не уйдешь, он попробует сожрать тебя живьем. Если тебе удастся проскочить мимо него, то ты окажешься во втором зале, который охраняет человек с головой свирепого пса. В следующей комнате тебя поджидает злобное существо с головой медведя, и так без конца. Когда ты все-таки доберешься до предпоследней комнаты, то увидишь там человека-лису. Он не станет тебя прогонять, он попытается внушить тебе, что это и есть самая последняя комната, чтобы ты не проникла туда, где сидит человек – носитель полной Власти.
Сумеешь обойти лису – увидишь самого главного. Его комната ничем особенным от других не отличается. Перед тобою за совершенно пустым столом будет сидеть человек – маленький человек с обыкновенным лицом. И вид у него будет испуганный, потому что, после того как ты миновала все расставленные им ловушки, он обязан выполнить твое самое заветное желание – таково неписаное правило. На обратном пути ты уже не встретишь ни человека-медведя, ни человека-пса, ни человека-шакала. Вместо них во всех комнатах будет полным-полно летающих чудищ – крылатых созданий с головами хищных птиц: орлов, коршунов, стервятников, огромных чаек-олушей. Все они камнем падают на тебя, пикируют, стремясь отхватить кусок от полученного тобой сокровища. Ты защищаешься, ты своим телом прикрываешь драгоценный дар, а они все налетают и терзают тебе спину своими синюшными когтями. И вот ты вырвалась от них. Ты выходишь, болезненно жмурясь от яркого света, судорожно прижимая к груди жалкие остатки того, что получила, и теперь… теперь тебе еще предстоит убедить недоверчивую толпу – толпу завистливых, не способных на поступок людишек, что ты получила все, чего хотела, – иначе тебя заклеймят как неудачницу.
– Такова природа Власти, – слышала она голос отца сквозь наплывающую дремоту, – и таковы задачи, которые она перед тобой ставит. Решившемуся войти в нее нужно большое везение, чтобы при этом не расстаться с жизнью.
Отец замолчал, потом, словно спохватившись, заговорил снова:
– А что касается жаждущих добиться власти, то тут совет один: не вступай в лабиринт как проситель. Захвати с собой мясо, захвати меч. Кинь мясо первому стражу и, пока он жрет, отруби ему голову: вжик – и все дела! Затем эту голову отдай на съедение следующему: бенц – и порядок. И так до конца пути. Но когда человек при власти исполнит твое желание, не лишай его головы ни в коем случае! Не делай этого ни при каких обстоятельствах! Отсечение головы правителя – мера крайняя, чрезвычайная, к ней прибегать не рекомендуется. Это создает опасный прецедент. Вместо этого помимо желаемого потребуй от него еще и кусок мяса. Со своим запасом мяса ты легко обведешь вокруг пальца хищных птиц и снесешь башку им всем: клац-клац-клац! Руби их все, покуда не станешь свободной. Свобода, Индия, это тебе не чаепитие с пирожными. Свобода – это бой.
Эти сны с картинами битв и побед все еще снились ей и теперь, как и в те времена, когда она была ребенком. Во сне она металась, крутилась с боку на бок, сражалась в боях, которые отец впустил в ее детскую душу. Она твердо верила, что получила от него в наследство будущее воина, – ведь она сложена, как он, думает, как он; она так же сильна духом, закаленным, словно меч Эскалибур, извлеченный из камня. Она не удивится, если в плане материальном он не оставит ей ничего – ни денег, ни ценного имущества: он вполне может заявить, что лишение наследства – это и есть самый последний и самый ценный его подарок, последнее его наставление, которое ей следует воспринять.
Она отбросила мысли о смерти и стала смотреть вдаль, туда, где за темными холмами вечерняя синь неба таяла в лениво колышущихся волнах океана. Прохладный ветер разметал ее волосы. В 1769 году где-то в этих местах францисканский монах Хуан Креспи обнаружил чистейший источник. Монах назвал его Санта-Моника, потому что при виде кристально чистой воды он вспомнил о слезах, пролитых матерью святого Августина, когда ее сын отрекся от церкви. Впоследствии Августин был возвращен в лоно католичества, а слезы Санта-Моники все продолжали струиться.
Она не одобряла религию – и это лишний раз подтверждало, что имя Индия ей абсолютно не подходит. Религия – чушь полная, полагала она, и тем не менее рожденные ею предания странным образом трогали ее, и это ставило ее в тупик. А ее умершая мать? Проливала бы она слезы, узнав о ее безбожии?
На Мадагаскаре существует такая практика: время от времени люди извлекают мертвецов из могил и пляшут с ними ночи напролет. А в Австралии и Японии люди почитают умерших, поклоняются им как святым. Повсюду на земле среди ушедших есть такие, которых человечество помнит и посвящает им исследования, это лучшие из лучших, и из мертвецов они самые живые, потому что живут в людской памяти. Менее известные и прославленные из умерших могут полагаться на то, что продолжают жить в сердцах немногих любящих (или ненавидевших) их. И даже если это всего одно сердце – все же в его пределах они продолжают смеяться, любить, совершать хорошие и дурные поступки; могут ходить на фильмы Хичкока, проводить отпуск в Испании, и вызывающе одеваться, и увлекаться садоводством, и менять сколько угодно свои взгляды, и совершать страшные преступления, и говорить детям, что любят их больше жизни. Но смерть ее матери была самой худшей из всех возможных, мать Индии была мертвее любого покойника, потому что посол-отец замуровал память о ней в пирамиду молчания. Индия жаждала расспросить отца, ей отчаянно хотелось сделать это при каждой их встрече, она хотела этого каждую минуту, каждый миг, проведенный с ним рядом. Желание знать пронзало ее, будто копье. Однако она так и не решилась на расспросы. Ее мать, эта мертвее любого мертвого женщина, канула в неизвестность, она затерялась в молчании Макса, была вытравлена из жизни этим молчанием. Как некогда фараонов, ее окружала немота камня. Она была похоронена в запечатанном покое вместе со всем, что ей принадлежало, вместе с ее слабостями и пристрастиями – со всем тем, что могло бы оставить ей хоть крупицу надежды на бессмертие. Индия готова была возненавидеть отца за это, но тогда ей некого было бы любить.
Они смотрели, как окруженное мглистой дымкой солнце опускается в воды Тихого океана, и вдруг посол почти шепотом стал декламировать стихи. Бо́льшую часть жизни он был американским гражданином, но, когда нуждался в утешении, всякий раз обращался за поддержкой к французской поэзии: «Homme libre toujours tu chériras la mer! La mer est ton miroir…»
После того как он спас ей жизнь, он стал сам следить за ее образованием, и теперь она уже освоила все, что он считал необходимым для нее, и поняла, что сказал Макс: «О свободный человек, ты всегда будешь влюблен в море! Море – это зеркало твоей души…»[1]
Значит, и он подумал о смерти. Она ответила ему тоже словами Бодлера: «Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Le soleil s'est noyé dans son sang qui de fige… Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir!» Солнце печально и прекрасно, словно большой – что? Что-то вроде алтаря. Солнце потонуло в собственной запекшейся крови. Память о тебе освещает душу мою, словно… Словно что, черт возьми? Что значит это ostensoir? Ну конечно – дароносица! И тут религиозные аллюзии! Следует срочно выработать новую систему образов. Новую поэтику для мира без богов. Покуда антирелигиозный лексикон не заменит собой всю эту сакральную бредятину, пока не будет создана новая поэтическая лексика, новая иконография безбожия, эти освященные веками образы не потускнеют, нет, они сохранят свою сомнительную власть даже над нею самой.
– «Памятью о тебе светла душа моя», – произнесла она по-английски.
– Пора домой, – прошептал Макс и поцеловал ее в щеку. – Становится прохладно. А я у тебя уже старенький мальчик.
Признание в немощи она услышала от него впервые; в первый раз, сколько она себя помнила, он согласился с тем, что и над ним время имеет власть.
Что побудило Макса поцеловать ее просто так, ни с того ни с сего? Это тоже было признаком слабости, промашкой, так же, как и купленный ей в подарок вульгарный автомобиль. Он теряет контроль над собой. Они уже давно отказались от нежностей, а если и позволяли себе это, то нечасто. По-самурайски стойкой сдержанностью они будто доказывали силу своей любви.
– Мое время кончается, – произнес посол. – От него скоро не останется ничего.
Он предсказал неожиданно быстрое завершение холодной войны, предсказал, что внезапно развалится, как карточный домик, Советский Союз. Он знал, что рухнет Стена, и что объединение Германии неизбежно, и что это произойдет, можно сказать, в одночасье. Он предвидел, что Западную Европу вскоре заполонят жаждущие рабочих мест орды с Востока. Предсказал он и конец Муссолини наших дней – Чаушеску, так же, как и завершение президентства элегических фигур из писательской братии – Вацлава Гавела и Арпада Гонзы. В то же время он упрямо отказывался видеть появление других, менее удобоваримых реальностей. Ему хотелось верить, что те механизмы управления миром, которые он помогал налаживать, все каналы политического влияния, финансов и власти, все международные корпорации, организации по достижению совместных договоренностей, а также структуры сотрудничества и соблюдения законности, предназначенные для превращения войны «горячей» в войну холодную, будут существовать и в том будущем, узреть которое ему уже не будет дано. Она видела, что в нем вопреки всему живет отчаянная надежда, что у его эпохи будет счастливый конец на новом, следующем этапе ее существования, что этот мир будет жить лучше, чем тот, который умрет вместе с ним. Свободная от советской угрозы Европа и избавленная от необходимости постоянно находиться в боевой готовности Америка объединят усилия и рука об руку приступят к созданию нового мира, где не будет стен, – мира без границ, мира неисчерпаемых возможностей. И часы Страшного суда не станут больше отщелкивать, оттикивать последние секунды до конца света. Развивающаяся экономика Индии, Бразилии и заново открытого Китая сделает эти страны мощной силой, противовесом гегемонии Америки, чье желание верховодить гражданин мира Макс не одобрял. Когда она поняла, сколь утопическую ошибку он допускает, слепо продолжая верить в совершенство человеческой природы, то осознала, что жить ему осталось совсем недолго. Он напоминал ей канатоходца, который все еще пытается сохранить равновесие, хотя туго натянутая веревка уже ушла у него из-под ног.
Внезапно на нее обрушилась тупая тоска, настолько тяжкая, что ей показалось, будто гравитация стала в несколько раз сильнее. Когда она была ребенком, ничто не мешало им быть нежными друг с другом. Стоило ему лишь коснуться губами любой точки ее тела – руки, щеки, спины, – и там тотчас же начинала петь птичка. От прикосновения его губ ее кожа пела громко и радостно, словно жаворонок. До восьми лет она любила карабкаться по нему, как по Эвересту. И историю Гималаев она услышала впервые, сидя у него на коленях, историю образования гигантских протоконтинентов в тот период, когда Индия отломилась от Гондваны и через протоокеан начала сдвигаться в сторону Лавразии. Она закрывала глаза и видела, как происходит это титаническое столкновение материков, когда крошились и взметывались в небеса целые горы. Он преподал ей первый урок об относительности времени, о замедленных процессах, происходящих с самой Землей. Столкновение все еще длится, говорил он. Итак, если Макс, подобно Гималаям, возник в результате столкновения мощнейших сил, целых миров, то теперь он тоже постепенно затихает. Но толчки и сдвиги все еще происходят в нем самом. Он был для нее отец-гора, а она – альпинист, ее покоряющий. Он брал ее за руки, она взлетала вверх и устраивалась, свесив ноги, у него на плечах. Он целовал ее в животик, она делала сальто назад и спрыгивала на пол. Но однажды он сказал: «Всё, хватит». Ей хотелось заплакать, но она сдержалась. Детству конец? Что ж, конец так конец. Больше она не позволит себе ребячиться.
На обратном пути им не попалось ни одной машины, и в этом было что-то тревожное, словно близился конец света. Они неслись в заасфальтированном вакууме, и тут посол начал говорить. Он говорил горячо и цветисто, слова вылетали из его уст одно за другим, словно вереницы машин, компенсирующие отсутствие реального движения на дороге. Макс Офалс прекрасно владел словом, однако это был лишь один из многих приемов сокрытия его подлинных мыслей: наиболее скрытным он бывал как раз тогда, когда казался наиболее откровенным.
Бо́льшую часть своей жизни он был мышкой-норушкой, подбиравшей зернышки чужих секретов: он разгрызал чужие тайны – это была его работа – и делал все возможное, чтобы сохранить свои; когда же по собственной воле или в силу необходимости начинал ораторствовать, то прибегал к парадоксу – это была его излюбленная форма сокрытия истинных намерений.
Они мчались по пустынному шоссе так стремительно, что возникало ощущение, будто они стоят на месте, – с одной стороны океан, с другой – мигающие огоньки приближавшегося города. Макс избрал темой своего горячего монолога именно город, ибо понял, что и так сказал о себе слишком много, слишком многое приоткрыл, то есть вел себя как любитель, а не как профессионал. И вот он принялся петь славу этому городу именно за те его черты, которые принято было считать его недостатками. Он, к примеру, стал восхищаться тем, что этот город, собственно, не имеет центра. По его словам, сама идея центра есть старорежимный, олигархический и претенциозный анахронизм. Растянутую спираль этого гигантского беспозвоночного, это расплывчатое пятно, этот город-медузу из бетона и огней он назвал истинно демократическим городом будущего. Пока Индия вела машину по опустевшим магистралям, Макс пел гимны оригинальной анатомии города, устройству городского тела, питаемого частично закупоренными, но большей частью нормально функционировавшими артериями-дорогами, но не нуждающегося в сердце, которое разгоняло бы и направляло его могучую, бьющую через край жизненную энергию. То, что, по сути дела, город был лишь маской, под которой пряталась пустыня, послужило для Макса поводом восславить человеческий гений, способность человека обживать казалось бы непригодные для обитания места земного шара с помощью своей непревзойденной изобретательности, что выразилось в орошении пустыни и ее заселении. Тот факт, что пустыня отомстила захватчикам ранними морщинами и потрескавшейся кожей, послужил предлогом для нравоучительной сентенции о том, что ни одна победа не бывает абсолютной. Борьба между Землею и землянами не может закончиться полным торжеством одной из сторон, она будет продолжаться до тех пор, пока существует жизнь на планете, с попеременным успехом для сражающихся. Однако более всего Макса приводило в восторг то обстоятельство, что этот город не открывал никому своего истинного лица, был городом пришельцев, чужаков. В Запретном городе китайских императоров, говорил он, лишь обитавшие там особы императорской крови имели право на таинственность. В нашем же великолепном городе правом на тайную жизнь обладает любой. Максу, видите ли, была не по вкусу нынешняя одержимая страсть к сближению, к интимности, к выворачиванию себя наизнанку перед каждым встречным-поперечным. Город, где нет тайн, своей открытостью напоминает, по его мнению, заголившуюся шлюху, которая, раздвинув ноги, выставляет напоказ все свои сомнительные прелести; меж тем этот сложный, окутанный флером тайны город, этот эротичный центр неведомых приемов знает толк в том, как и чем возбудить и доставить неповторимое сексуальное удовольствие любому, кто в нем обитает.
Подобные солипсизмы были для нее не в новинку, знакомы были и темы, и склонность преподносить факты в полуироничной, несколько извращенной форме. Сейчас, однако, ей показалось, что в своем словоблудии он где-то преступил грань разумного и уходит все дальше и дальше, погружаясь в сумрак.
Когда он принялся петь дифирамбы могущественным гангстерским группировкам за их поразительную способность к уничтожению людской массы, когда стал превозносить самозваных художников за их небрежно нацарапанные граффити, когда принялся восхищаться землетрясениями за их зрелищное великолепие, а оползни назвал живым укором человеческому тщеславию, когда вполне серьезно стал говорить о том, как ему нравятся американские снэки, и чуть было не пустил сентиментальную слезу по поводу новейшей банальности – диетической колы, когда стал хвалить торговые центры за их неоновые вывески, а сетевые магазины со всякой дешевкой – за их «шаговую доступность», когда отказался признать, что на местных рынках торгуют всякой дрянью (к примеру, продают внешне красивые яблоки, безвкусные, словно вата, бананы со вкусом жеваной бумаги и цветы без всякого запаха), назвав всю эту продукцию торжеством иллюзии над реальностью, что, по его убеждению, является единственным непреложным фактом во всей истории существования человечества; когда он, будучи образцом честности в своей служебной (но не в сексуальной!) деятельности, признался, что в душе восхищается неким местным чином за его шальную дерзость по части коррупции, и тут же, ничтоже сумняшеся, стал расхваливать другого коррупционера за ловкость, с которой тот скрывает свои мошенничества уже целый десяток лет, Индия впервые поняла, как далеко зашел процесс старения, который он стоически скрывал даже от нее. Он утратил вкус к жизни, недуг старости сожрал его изнутри, и он потерял способность рассуждать объективно и отличать плохое от хорошего. Если процесс разрушения будет развиваться в этом направлении, то очень скоро он вообще окажется не способен к принятию какого-либо решения: выбор блюда в ресторане станет для него проблемой, и даже ответ на вопрос о том, подниматься ли поутру или стоит пролежать весь день в постели, будет ставить его в тупик. Когда же наконец перед ним с неумолимостью занесенного ножа возникнет последний, финальный выбор – продолжать дышать или перестать, – он умрет.
Они подкатили к дому. Водитель с горящими глазами стоял все на том же месте, будто и не сдвигался с него весь долгий день; у ног его раскинулся благоуханный ковер из цветов, а руки и одежда были залиты кровью. Что это? Что такое? Она сморгнула, зажмурилась, и, разумеется, все пропало. Никаких цветов не было, не было и следов крови. В безукоризненно чистой рубашке он почтительно ожидал прибытия господ, как и следует человеку его положения. К тому же он не бездельничал: пока они отсутствовали, он пригнал из гаража Макса его любимую машину – «бентли». Вот и она – солидная, большая и вполне реальная. Как это она не заметила ее сразу? Откуда у нее эти мгновенные видения? Откуда они взялись – эти проклятые галлюцинации? Может, она чем-то насолила Ольге Семеновне и та наслала на нее порчу с помощью своей картофельной ворожбы, зародившейся где-то в устье реки Волги давным-давно, в те незапамятные времена, когда на земле водили хороводы гномы? Но в картофельную магию она верить отказывалась. «Я просто переутомилась», – решила Индия. Все пройдет, нужно только как следует выспаться. Она пообещала себе перед сном таблетку. Пообещала, что будет вести неспешную, упорядоченную жизнь; пообещала себе довольствоваться успокаивающим однообразием повседневности.
– Все-таки где ты откопал этого садовника Великих Моголов? – спросила она. Отец, казалось, не расслышал ее вопроса, и она настойчиво переспросила: – Я о Шалимаре, о твоем водителе с вымышленным именем. Он хотя бы прошел письменный тест по языку?
– Пусть это тебя не волнует, – небрежно бросил он, что как раз и заставило ее забеспокоиться. – Ну, с днем рождения тебя, – заторопился Макс. – Un bisou[2].
После его убийства Индия увидит в телевизионной передаче Горбачева. Он сходил с самолета, доставившего его в Москву после неудавшегося коммунистического переворота. У него было потрясенное, помятое лицо, нечеткое, словно на акварели, пострадавшей от дождя. Кто-то задал ему вопрос, не собирается ли он выйти из коммунистической партии. Лицо его выразило растерянность, и это говорило само за себя: он потерял хватку. Партия была его колыбелью, делом всей его жизни. Отказаться от партии? Запретить ее? Да как можно! Нет, нет и нет! Все в нем протестовало, тело вибрировало, а взгляд был совсем потерянный. И в это решающее мгновение он утратил всякую политическую значимость; История промчалась мимо него, а он превратился в хичхайкера, ловящего попутки на обочине магистрали, которую он сам же и проложил в дни своей славы, меж тем как мимо на бешеной скорости летели в будущее машины-ельцины. Выходило, что и для человека Власти его дворец-лабиринт – предательски опасное место. Кончается тем, что на обратном пути ему тоже приходится прорываться сквозь стаи человекоподобных хищных птиц. Он выходит из своего дворца с пустыми руками, и толпа глумится над ним. Горбачев напомнил ей пророка Моисея, который так и не смог ступить на Землю обетованную. И отца – в тот вечер, когда он смотрел на закат.
В другой раз, в один из нескончаемо длинных дней после убийства Макса, еще одна телевизионная картинка задержала ее внимание. Это был южноафриканец, приговоренный к пожизненному заключению. Камера показала, как он выходит из тюрьмы. Его не видели так долго, что никто и представления не имел, каким стал этот новоявленный Лазарь. Последний раз его фотографии мелькали в газетах лет двадцать назад. На них был изображен крупного телосложения и свирепого вида человек с бычьей шеей, напоминавший Майка Тайсона, – пламенный революционер с горящими глазами. Однако этот, в телевизоре, был строен, высок и двигался с изящной грацией. Когда в свете юпитеров, установленных у него за спиной, она увидела его удлиненный и истончившийся, как у пришельцев из фантастических фильмов Спилберга, силуэт, ей показалось на миг, будто это ее восставший из мертвых отец. У нее потемнело в глазах… Но умершие точно не воскресают, и это не отец. А когда юпитеры выключили, Индия увидела перед собою то, чего не желал видеть Макс, – аллегорическое изображение современного мира: Нельсон Мандела, как по волшебству превратившийся из бунтовщика в голубя мира, шел рука об руку со своей мерзкой супругой Винни. Нравственность и порок, почти канонизированный святой и само воплощение испорченности – они шли, взявшись за руки, словно нежные влюбленные.
Проживая в столице мировой теле- и киноиндустрии, во всемирно известном центре звукозаписи, Макс никогда не бывал в кино, с презрением относился к телевизионным постановкам, будь то драма или комедия, не держал в доме никаких звуковоспроизводящих систем и злорадно и абсолютно точно предсказал бесславный конец этих недолговечных штучек, как и то, что их фанаты вскоре изменят им ради во многом превосходящих их по непосредственности, спонтанности и полноте ощущения реальности представлений типа хеппенинга. Однако несмотря на свои старомодные пуристские принципы, посол, подобно герою известной поэмы, ассирийцу, который под покровом ночи временами покидал свою башню из слоновой кости, спускался с гор и в обличье волка совершал нападения на стада, тоже покидал свою резиденцию на вершине холма. Он арендовал пентхаус в одном из лучших отелей города. Ходили слухи, что в этих апартаментах перебывало в довольно двусмысленном амплуа немало особ, известных в мире кино. Когда они спрашивали Макса, почему он не смотрит фильмы с их участием, он горячо уверял их, что представление типа хеппенинга дарит ему несравненно большее наслаждение; мол, то, что они делают на экране, не выдерживает никакого сравнения с тем, что они с такой непосредственностью, спонтанностью и реализмом исполняют для него в стенах роскошного отеля.
Первое дурное знамение было явлено Максу накануне смерти – в виде непредвиденного осложнения отношений с индийской кинодивой. Поначалу Макс даже не догадывался, что эта девушка с кожей цвета выжженной земли, завернутая в сари и неотступно следовавшая за ним повсюду, словно преданная ученица за наставником-риши[3], на самом деле киноактриса. Всякий раз, когда он появлялся в отеле, она ходила за ним словно тень, и когда в конце концов он пожелал узнать, что ей, собственно, от него нужно, то голосом тихим и проникновенным она поведала, что, подобно Венере, вращающейся по орбите вокруг Солнца, не смогла противиться его влиянию и не желает для себя иной судьбы, кроме как пребывать в сфере его притяжения – пусть даже на значительном расстоянии, – предпочтительно в течение всей своей жизни. Имя ее – Зейнаб Азам – ничего ему не сказало, однако у него не возникло ни малейшего желания копаться в родословной такой прелестной и задарма доставшейся кобылки. После немедленно засим последовавших любовных утех в его апартаментах она внезапно заговорила о его давней посольской службе в Индии – заговорила с безмерным восхищением, проявляя при этом поразительную осведомленность: ведь это он первый употребил выражение, которое, можно сказать, вошло чуть ли не во все книги об Индии, и теперь не проходило недели, чтобы кто-нибудь из известных индийских политиков не процитировал – и всегда с гордостью – его знаменитые слова: «Индия – это хаос, но хаос осмысленный». Она назвала его Редьярдом Киплингом среди послов, сказала, что он – единственный из всех когда-либо служивших в Индии дипломатов, кто воистину понимал ее страну, и что она и есть его награда за это понимание. Она не просила от него подарков, бо́льшую часть дня пропадала неизвестно где, но неизменно возвращалась – скромная и робкая, пока не сбрасывала одежду, после чего превращалась в пламя, которое Макс снабжал топливом довольно медлительно, но с охотой.
– Зачем тебе нужен такой дрянной старикан, как я? – смущенно спросил он однажды, потрясенный ее свежестью и красотой.
Ответ прозвучал настолько лживо, что его спасло от стыда лишь мгновенно восстановленное тщеславие, услужливо шепнувшее, что ему, должно быть, следует принять это за чистую правду.
– Чтобы боготворить тебя, – произнесла она.
Она напомнила Максу женщину, которая умерла для него двадцать лет назад. Она напомнила ему дочь. Вероятно, она была всего года на три старше Индии и лет на пять старше ее матери, какой Макс видел ту в последний раз. В какой-то момент он даже позволил себе пофантазировать на тему о том, как его дочь и его сексуальная партнерша встречаются и становятся подругами, но тут же его передернуло от отвращения, и он отмел саму вероятность такой встречи.
Зейнаб Азам была последней любовницей в его длинной жизни и трахала его с таким остервенением, словно пыталась истребить в нем память обо всех ее многочисленных предшественницах. О себе она не рассказывала ничего и, казалось, относилась с полным безразличием к тому, что он ни о чем ее не расспрашивал. Такое положение дел, которое он находил почти идеальным, сохранялось до того, предшествовавшего его смерти, злополучного дня, когда Макс совершил свой краткий и крайне неудачный выход на публику.
После его убийства всем не давал покоя один и тот же вопрос: почему после долгих лет добровольного затворничества, избавившего его от примитивного, изнурительного внимания со стороны общественности, Макс решил появиться на телеэкране – и лишь для того, чтобы в напыщенной, цветистой манере, свойственной прошлому веку, осудить гибель рая, которым был Кашмир. Подчиняясь неожиданному порыву, он позвонил давнему своему знакомому, самому известному на Западном побережье ведущему вечернего ток-шоу, и заявил о своем желании выступить в ближайшей программе. Знаменитый ведущий был немало удивлен, но безумно рад. Он давно стремился заполучить известного своим остроумием Макса в это шоу. Однажды встретившись с ним в гостях у Марлона Брандо, он был околдован гениальной неистощимостью Макса по части забавных историй и анекдотов. К примеру, Макс рассказывал о том, как Орсон Уэллс прибывал и отбывал из ресторанов через кухню, дабы удостовериться, что, пока он будет поражать своих гостей тем, что кормится одним зеленым салатом, в его лимузин погрузят коробки с профитролями и шоколадный торт; или о случае на воскресном обеде в честь испанских коллег-артистов у Чарли Чаплина, когда Луис Бунюэль в приливе сюрреалистического вдохновения решил демонтировать рождественскую елку и посрывал с нее все украшения; или о своем визите к изгнаннику Томасу Манну, схоронившемуся в Санта-Монике, который оберегал себя так, словно являл собою самый крупный бриллиант британской короны; или о пьяных амурных похождениях в обществе Уильяма Фолкнера, или о превращении блестящего Скотта Фицджеральда во второразрядного сценариста Пата Хобби, или о непостижимой связи Уоррена Битти и Сьюзан Сонтаг, будто бы встречавшихся в закусочной на углу бульвара Сансет и Орандж-стрит.
К тому моменту, когда посол, чьим хобби было изучение истории местного края, перешел к повествованию о подземной жизни таинственных людей-ящериц, будто бы обитавших в туннелях под Лос-Анджелесом, знаменитый ведущий ток-шоу больше не помышлял ни о чем другом, кроме как о том, чтобы заполучить этого экстраверта-одиночку в свою передачу. Он стал преследовать его с постоянством безнадежно влюбленного. Тот факт, что человек, презиравший кино, обладает энциклопедическими знаниями о Голливуде, был уже сам по себе удивителен и интересен. А если учесть, что человек прожил такую богатую событиями жизнь, как Макс Офалс, Макс – герой Сопротивления, Макс – непревзойденный философ, он же сокрушитель многомиллионных финансовых пирамид, – то, согласитесь, перед соблазном заполучить его в качестве гостя на ток-шоу устоять было невозможно.
Запись проводилась во второй половине дня, и сразу все пошло не так, как рассчитывал ведущий. Игнорируя все его попытки направить беседу в русло анекдотических историй, Макс разразился выспренней речью на тему так называемого «кашмирского вопроса». Его монолог, произнесенный с преувеличенной горячностью и при полном отсутствии хотя бы намека на юмор, вверг интервьюера в состояние, близкое к панике. Такую ситуацию, что не кто иной, как именно Макс Офалс, блестящий рассказчик, человек редкостного обаяния, выйдет из тени и, оказавшись в живительном, преображающем сиянии телеэкрана, обратится вдруг в скучного болтуна, чье выступление наверняка драматически скажется на рейтинге телеканала, казалось бы, невозможно было представить, и тем не менее это произошло. Присутствовавшие на записи взирали на Офалса остекленевшими от изумления глазами. У ведущего возникло ощущение, будто на него из арктических далей внезапно обрушились массы ледяной воды и реакция его обожаемой аудитории не заставит себя ждать: поток зрителей немедленно устремится к каналу его злейшего соперника, и этот выходец из Нью-Йорка, этот долговязый костлявый урод со щербатыми зубами будет плясать под золотым дождем.
– Мы, обитатели благоустроенных узилищ, мы, занимающие привилегированные места среди грешников, давно позабыли, что такое рай, – гремел Макс, не скупясь на метафоры. – Однако я видел этот рай своими глазами, я бродил вблизи его богатых рыбой чудесных озер. Если кто-то из нас и вспоминает когда-либо о рае, то у него это место ассоциируется в первую очередь с грехопадением Адама, с изгнанием из рая прародителей человечества. Только я здесь не для того, чтобы говорить о грехопадении Адама. Я пришел, дабы поведать вам о падении рая как такового, – Кашмир, этот земной рай, был превращен в ад.
Макс произносил все это в странной для опытного посла манере бродячих проповедников. Его речь отличалась от завуалированно-осторожного языка дипломата, как небо от земли, и явилась настоящим шоком для всех, кто знал в этом толк и восхищался изысканностью дипломатического лексикона. Макс гневно обрушился на фанатизм и бомбежки – и это в период недолгого затишья, когда к людям на краткий миг вернулись надежды на мир и никто не желал, чтобы его разочаровывали. Макс оплакивал погубленных в водной пучине светлооких женщин и их убиенных младенцев; он с гневом рассказывал о беспощадном пламени пожара, уничтожившего город древних деревянных дворцов. Он говорил о трагедии кашмирских брахманов; ученых-пандитов, которых убийцы-исламисты изгнали из родного края. Он рассказывал об изнасилованных молоденьких девушках, об их заживо сжигаемых отцах, тела которых пылали, словно факелы в Судный день. Макс Офалс говорил и не мог остановиться. С самого начала было ясно, что поток эмоций несет его, сметая на своем пути все доводы рассудка. Лицо знаменитости, ведущей программу, приняло холерически пунцовый оттенок. Он-то рассчитывал, что согласие на интервью известного своей аллергией к публичным выступлениям бывшего посла Офалса станет триумфальным завершением его десятилетней охоты! Теперь же он жег Макса взглядом, в котором ярость обманутого любовника причудливо сочеталась с паническим ужасом журналиста-профессионала, чье ухо уже ловило щелчки переключения на другие каналы по всему континенту.
После того как ему все же удалось прервать пламенный монолог Макса и закруглиться, ведущий короткое время пребывал в нерешительности, колеблясь между самоубийством и убийством Макса. Он не совершил ни того, ни другого, он избрал лучший, чисто журналистский способ мести! Он поблагодарил Офалса за его поразительное выступление, учтиво сопроводил до самого выхода из студии, а затем занялся редактурой интервью самолично. И кровожадно искромсал, оставив рожки да ножки.
На следующий вечер в пентхаусе Макс увидел усеченную телеверсию своего кашмирского монолога в присутствии Зейнаб Азам. Возможно, что в результате произведенного обрезания акценты в его речи оказались смещены, аргументация пострадала, и это привело к искажению смысла, но факт остается фактом – когда изображение Макса исчезло с экрана, его возлюбленная, дрожа от ярости, поднялась с ложа страсти – поднялась, окончательно и навсегда исцеленная и от преклонения, и от желания.
– Мне было плевать, что ты ничего не знаешь про меня, – произнесла Зейнаб, – но, оказывается, ты, тупой идиот, ничего не смыслишь даже в том, что на самом деле важно.
Засим последовал поток изысканных ругательств, вызвавший у Макса невольное уважение, и он воздержался от замечания по поводу того, что особе, внезапно решившей изобразить правоверную мусульманку, не пристало осквернять уста столь мерзкими словами; не стал напоминать он и о том, что ее поведение во время их свиданий едва ли давало основание предполагать, будто она относится к категории пламенно верующих. Он понимал, что причиной гнева Зейнаб послужило прежде всего то, что он умолчал о поведении индуистов, однако не имело никакого смысла растолковывать ей, что о зверских убийствах ни в чем не повинных мусульман он говорил с не меньшим ужасом и осуждением, но все это было вырезано ножницами злодеев-телевизионщиков. В ней всколыхнулась обида за свою веру, и, поскольку такое с ней случалось, видимо, не часто, утихомирить ее все равно едва ли удалось бы.
Что же касается фактов ее собственной биографии, успешно, как она полагала, ею скрываемой, то тут она глубоко заблуждалась: Макс знал о ней всё, и узнал давно от своего личного шофера по имени Шалимар. В ее родной Индии миллионы готовы были лишиться уха или мизинца ради счастья побыть рядом с нею хоть пять минут. На том дальнем небосводе она была кассовой звездой первой величины, секс-богиней, равной которой в Индии никогда прежде не было. Соответственно этому статусу она не могла выйти из своего построенного согласно новейшей дизайнерской мысли особняка на Пали-Хилл в Бомбее без сопровождения многочисленной свиты телохранителей и целой колонны бронированных лимузинов. В Америке, где публика в своей массе даже не подозревала о том, что существует такая вещь, как индийское кино, она обрела вожделенную свободу и в период романа с Максом Офалсом упивалась своей анонимностью и его мнимой и такой удобной неосведомленностью. Именно поэтому он никогда не признавался, что знает о ней все, – знает, например, о ее несчастной любви к другому и о том, что сам он для нее лишь временная замена – нечто вроде психотерапии; знает все и о герое ее романа, известном и, по-видимому, связанном с мафией актере, который походя разбил ей сердце с такой же беззаботностью, с какой разбивал одну за другой дорогие машины – всякие там «штутци» и «дюзенберги». Даже теперь, когда их отношениям наступил конец, Макс великодушно решил не лишать ее покрова таинственности, позволившего ей резвиться с ним в постели к полному обоюдному удовольствию. Он вызвал шофера и велел отвезти даму домой. Возможно, именно это и решило его судьбу окончательно, – вернее, не сам по себе вызов шофера, а слова, сказанные ему разъяренной Зейнаб. Они послужили толчком к тому, что неминуемо должно было произойти. После убийства, когда на какое-то время Зейнаб попала под подозрение, кинодива припомнила последние слова водителя, произнесенные им, когда она выходила из машины.
– На каждого О'Двайера, – сказал он ей на превосходном урду, – всегда найдется свой Шахабуддин Сингх, и любого Троцкого ожидает свой Меркадор.
В тот момент Зейнаб все еще трясло на ухабах гнева, поэтому она пропустила это заявление мимо ушей. Фамилия Меркадор ни о чем ей не говорила (история убийства Троцкого явно не входила в число милых ее сердцу сказаний), зато биография человека, пристрелившего британского губернатора-империалиста, того самого, по чьему приказу в 1919 году была расстреляна демонстрация в Амритсаре, – человека по имени Шахабуддин Удхам Сингх, который последовал за О'Двайером в Англию и спустя шесть лет выпустил пулю в бывшего губернатора у всех на глазах, была ей известна хорошо. Зейнаб не пришло в голову, что водитель говорит серьезно, – в конце концов, мужчины всегда пытаются хоть чем-то привлечь ее внимание к своей персоне; и, право, не исключено, что она высказалась при нем в том духе, что Макс Офалс – подонок и пусть бы он сдох поскорей, но это просто ее способ выражаться, она-де натура страстная, вскипает быстро, да и потом как еще может женщина с ее темпераментом говорить о мужчине, который оказался недостойным ее любви?! Зейнаб утверждала, что абсолютно не способна убить человека, всегда предпочитает разрешать проблемы мирным путем, к тому же, извините, она кинозвезда и прежде всего думает о своей ответственности перед зрителем: статус обязывает ее служить примером для общества.
Ее уверения звучали настолько искренне, ее огромные глаза светились такой невинностью, так натурально ужасалась Зейнаб тому, что, по сути дела, именно она услышала признание убийцы в злодейском умысле и, обрати она должное внимание на его фразу, возможно, смогла бы спасти человеческую жизнь – пусть даже жизнь такого червяка и ничтожества, как Макс Офалс, – столь искренним казалось ее покаянное признание своей доли вины за случившееся, что полицейские, расследовавшие преступление – люди циничные, жесткие, со стойким иммунитетом на кинозвезд с их пороками, – сделались после этого случая горячими поклонниками ее таланта, стали в свободное от службы время учить хиндустани и охотились за видеокассетами фильмов с ее участием, в том числе и самыми первыми – если честно, довольно паршивыми, на которых она выглядела, мягко говоря, довольно пухленькой.
Второе дурное знамение явило себя утром, в день убийства: во время завтрака водитель Шалимар вручил Максу карточку со списком дел на предстоящий день, а затем предупредил, что увольняется. Максовы шоферы имели тенденцию долго не задерживаться, они быстро бросали эту профессию ради того, чтобы попытать счастья в порнофильмах или в салонах красоты, так что Макс давно привык к циклу потерь и приобретений. На этот раз, однако, он был потрясен, хотя не подал виду. Он постарался сосредоточиться на списке деловых встреч и на том, чтобы рука с карточкой не дрожала. Ему было известно настоящее имя Шалимара, известно название деревни, где тот родился, и вся история его жизни. Было известно и о тесной связи между его собственным скандальным прошлым и этим тихим, серьезным человеком, который никогда не смеялся, несмотря на веселые морщинки в уголках глаз, указывающие на то, что он знавал и более счастливые дни, – этим мужчиной с телом акробата и лицом трагика, человеком, который мало-помалу стал для него скорее личным слугой, нежели шофером, – молчаливым, но необычайно заботливым слугой, который угадывал желания господина прежде, чем тот сам успевал подумать, чего хочет: он еще только протягивал руку, а у его губ уже оказывалась зажженная сигара; каждое утро на постели его ожидала безукоризненно выглаженная рубашка и идеально подобранная к ней пара запонок, а вода в ванне всегда была нужной температуры. Этот человек знал с точностью до минуты, когда следовало исчезнуть, а когда появиться. Послу иногда казалось, что он снова перенесся во времена детства, проведенного в страсбургском особняке в стиле «бель эпок», который стоял теперь рядом с руинами синагоги, и он не уставал поражаться тому, как случилось, что через этого человека из далекой горной долины получили второе рождение давно утраченные традиции обслуживания господ, существовавшие в избалованном судьбой предвоенном Эльзасе. Услужливость Шалимара не имела границ. Однажды, чтобы испытать его, посол упомянул полушутя, будто принц Уэльский, когда облегчался, повелевал лакею держать его пенис, чтобы струя попадала куда нужно. Шалимар, чуть склонив голову, тихо проговорил:
– Если пожелаете, я тоже буду.
Позже, когда случилось то, что случилось, стало ясно, что убийца, действуя с опытностью бывалого стратега, вполне сознательно уничижал себя, чтобы войти в доверие к Максу; он стремился выведать все сильные и слабые стороны своего противника, изучить самым тщательным образом мельчайшие подробности жизни, которую вознамерился злодейски отнять. На суде было сказано, что подобное омерзительное поведение выдает в обвиняемом убийцу столь хладнокровного, столь расчетливо-бессердечного, столь дьявольски-бездушного, что выпускать его когда-либо на свободу не рекомендуется, ибо он всегда будет представлять опасность для общества.
Несмотря на все старания, карточка с расписанием все-таки дрогнула в руке Макса.
Однажды, в интервале между скандальной историей, из-за которой он лишился должности посла в Индии, и назначением на пост примерно такого же статуса в секретной службе, о чем даже дочь узнала лишь после его смерти, Макс уже переживал подобное состояние полной растерянности. После вереницы лет, в течение которых вся его жизнь была расписана по минутам, внезапно высвободившиеся дни оказались для него тогда тяжким испытанием. Он не знал, что с собой делать, пока секретаря не осенило: на маленьких карточках тот каждый день подавал ему программу на день. Увы, из этого расписания навсегда исчезли встречи с министрами и титанами индустрии, приглашения на конференции и встречи на высшем уровне, на приемы у глав правительств и его собственные посольские приемы в честь знаменитостей. Его программа на очередной день стала выглядеть куда скромнее: 8.00 – подъем и душ; 8.20 – прогулка с собакой; 9.30 – просмотр газет и т. д. Несмотря на незначительность предстоявших дел, благодаря этим карточкам день приобретал некую осмысленность. Макс уцепился за эту видимость деятельности, стал скрупулезно выполнять все обозначенные пункты и мало-помалу вытащил себя из депрессии, которая могла стоить ему жизни.
После избавления от этого мини-приступа душевной болезни Макс неукоснительно следил за тем, чтобы маленькая белая карточка каждое утро находилась у него перед глазами. Это означало, что мир не превратился в хаос, что законы человеческие и природные по-прежнему имеют силу, что жизнь не утратила цели и смысла и противное законам логики малое небытие не сможет его поглотить.
И вот теперь оно снова разинуло свою пасть. Именно появление в его жизни Шалимара разбудило в нем воспоминания о Кашмире, вернуло его к вратам рая, откуда он был изгнан много лет назад. Именно ради Шалимара, вернее, ради женщины, любимой когда-то ими обоими, Макс и оказался на телестудии, где произнес свою последнюю в жизни речь. Выходило, что и расставание с Зейнаб тоже произошло из-за Шалимара. А теперь и сам Шалимар покидает его. Максу почудилось, будто он видит свою собственную могилу: черная дыра с ровными краями, она глядела на него, пустая, как его жизнь, и ее мрак уже прикидывал на него свой саван.
– Чепуха. Поговорим об этом позже, – как можно небрежнее произнес Макс, меж тем как внезапный страх тошнотворным комом встал у него в горле. Он разорвал на клочки белую карточку и отрывисто бросил: – Я собираюсь навестить Индию. Подай быстрей чертову машину.
Они въехали в Лорел-каньон, когда внезапно и стремительно, как при использовании спецэффектов в кино, вокруг них вздыбились Гималаи. Это было третье и последнее дурное знамение. В отличие от дочери Макса Офалса боги не наделили даром (или недугом) внутреннего видения, и потому, когда на его глазах взмыли в небо гигантские восьмитысячники, унося с собою расколотые дома, холеных домашних питомцев и посадки экзотических растений, его объял страх. Обладай он подобным даром, то понял бы, что галлюцинации – предвестник опасности, большой беды, и она уже совсем близко. Грозное видение длилось целых десять секунд, и все это время у него было чувство, будто «бентли» неудержимо скользит вниз по ледяному желобу навстречу неминуемой гибели, но затем, словно во сне, полыхнул из снегов красный свет светофора, и по мановению этой волшебной палочки город, целый и невредимый, возник снова. У Макса сдавило горло, будто он схватил простуду в разреженном воздухе Каракорума. Он достал из кармана серебряную фляжку, сделал глоток обжигающего гортань виски и позвонил дочери.
Индия не видела отца несколько месяцев, но не упрекнула его. Перерывы в их общении были делом обычным. Макс Офалс в свое время спас ее от смерти, однако в последнее время его родственные чувства стали как-то остывать, и потребность в общении с близкими возникала не часто, его вполне устраивали редкие, мимолетные встречи. Наибольшую радость он испытывал, когда погружался в мир вещей, созданных или обнаруженных им самим. Отойдя от дел, к примеру, он занялся переработкой написанного им классического трактата о природе власти (суть его Макс когда-то излагал перед сном маленькой дочери вместо сказок), однако в последнее время все свободные часы Макс отдавал эксцентричным изысканиям, которые его дочь поначалу посчитала просто навязчивой идеей человека, не знающего, чем занять себя на старости лет. Эти изыскания касались мифических лабиринтов под Лос-Анджелесом, будто бы населенных людьми-ящерицами. Сагу о ящерицах он впервые извлек на свет божий как раз во время того самого знаменательного ужина, на котором присутствовал ведущий ток-шоу. Изыскания нередко заводили его в районы подозрительные, даже опасные, где гнездились вооруженные банды, и однажды случилось так, что лишь благодаря находчивости Шалимара им удалось унести ноги. Посол всегда отличался неуемной любознательностью и к тому же почему-то был уверен в собственной неуязвимости настолько, что однажды во время очередной вылазки в поисках ящериц в промышленный район Лос-Анджелеса приказал Шалимару остановиться у ворот взбунтовавшейся школы, мимо которых в определенное время суток даже полицейские машины проносились на повышенной скорости. Там, опустив стекло, он принялся наблюдать за восставшими в полевой бинокль и при этом своим хорошо поставленным голосом громогласно строил предположения по поводу того, кто именно из ринувшихся к воротам юнцов будет завершать обучение в стенах тюрьмы, а кто – в стенах колледжа. Если бы не Шалимар, который, увидев, что засверкали акульи зубы ножей и замелькали дула револьверов, не стал дожидаться приказа и рванул с места машину прежде, чем эти молодчики догадались устроить за ними охоту на мотоциклах, живыми им оттуда уйти бы не удалось.
На этот раз, однако, Индия, услышав голос отца по телефону, сразу поняла, что с ней говорит уже не прежний Макс Офалс, уверенный в себе, словно Ахилл, омытый в дарующем бессмертие источнике. Его голос звучал хрипловато и глухо, будто начал наконец сказываться груз восьмидесяти прожитых лет. А еще в его голосе появилась нота настолько неожиданная, что Индия даже не сразу сообразила, что это такое. Это был страх. Ее мысли были заняты совсем иным. Ей докучали любовью, а она терпеть не могла, когда ей чем-нибудь докучали вообще и любовью в частности. Любовь преследовала ее в лице молодого человека, жившего по соседству – так сказать, дверь в дверь. Это выглядело настолько смешно, что могло бы даже показаться трогательным, не возведи она давным-давно бронированную стену между собою и сим трепетным чувством как таковым. Чтобы избавиться от столь тесного контакта с объектом, она даже начала подумывать о переезде. Она никак не могла запомнить имя соседа, несмотря на постоянные его уверения, что это очень легко, потому что две его составляющие рифмуются: «Джек Флэк, – говорил юноша. – Поняла? Ты просто не сможешь забыть. Даже если захочешь, ты будешь думать обо мне всегда и везде – в ванной, в машине, в магазине. Выходи за меня – и дело с концом. Все равно к этому придет. Я тебя люблю – это факт. Смирись с этим фактом». Переспав с ним, она, вероятно, совершила ошибку, но очень уж он был стандартно хорош собою – такой весь из себя чистенький, в меру упитанный, белокожий мальчик. К тому же он подловил подходящий момент. Он был, можно сказать, суперстандартен – этакий дружок-сосед, поднятый до осовремененного Платонова идеала. В этом городе, для которого идеализация была делом выживания, подобные мальчики смотрели на вас с гигантских рекламных щитов на каждом шагу: у них были одинаково светлые, цвета спелой пшеницы, волосы, одинаково невинные глаза и одинаково гладкие, безмятежные лица. Они демонстрировали куртки из крокодиловой кожи, щеголеватые шляпы с широкими полями, супермодные плавки, и на всех без исключения щитах они широко, призывно улыбались. Ладное, словно у юного небожителя, тело светилось и сияло – ни дать ни взять усредненный божок для усредненного человека, который не рождался, не жил как все, а выскочил уже готовеньким из макушки изнемогавшего от долгого пути пешехода по имени Зевс.
Быть суперстандартным в Америке есть дар, который может принести его обладателю целое состояние, и ее сосед уже делал первые шаги по этой алмазно-сверкающей взлетной полосе, готовый взмыть вверх. «Нет, – решила она, – пожалуй, мне не придется менять место жительства. Скоро это сделает он сам: сначала переедет в стандартные роскошные апартаменты на авеню Фонтейн, затем – в особняк на Лос-Фелиз, оттуда – в палаццо в Бель-Эйр, ну а потом уж в единственно достойное место для таких супермальчиков – на ранчо с угодьями в тысячу акров где-нибудь в Колорадо».
– Послушай, скажи-ка еще раз, как тебя все-таки зовут? – спросила она его в постели.
Суперстандартный мальчик принял этот вопрос за остроумную шутку.
– Ха-ха! Ну ты даешь! – Он залился веселым смехом, а когда отсмеялся, сказал: – Джок Флок – вот так-то. Это имя запечатлено в твоей памяти навечно. Оно будет крутиться у тебя в голове, будет повторяться, как слова песни, снова и снова. Оно уже сводит тебя с ума! Ты твердишь его про себя – Джейк Флейк, Джейк Флейк, бормочешь ты. Это сильнее тебя, ты ничего не можешь с собой поделать. У тебя нет выхода. Лучше сдавайся!
Он хотел, чтобы она вышла за него немедленно.
– Любовь – вещь весьма относительная, – спохватившись, что все зашло слишком далеко, сказала она. – То, что ты предлагаешь, попахивает абсолютностью.
Когда он чего-то не понимал, его рот растягивался в высокомерной ухмылке, которая будила в ней самые кровожадные инстинкты.
– Обещай обдумать это – идет? – бубнил он. – Представь – ты миссис Джей Флей. Слышишь, как это здорово звучит? Тебе это уже нравится – ведь так? Это тебя манит, это тебя пробирает до самых печенок. Только сделай милость – сначала думай, потом действуй.
И это произносил человек, который, судя по всему, вообще не ведал, что такое осмысленное существование! Она с великим трудом удержалась от того, чтобы не хлестануть по его простецки-красивому лицу.
С того самого дня, как этот Джо Фло или как его там сделал ей предложение, она блуждала по коридорам как сомнамбула, раздраженная и сбитая с толку. Однажды она наткнулась на упакованное в комбинезон большое яйцеобразное тело пифии Ольги Семеновны.
– Что случилось, радость моя? – вопросила та, вертя в руках свою вечную картофелину. – Такой вид, будто ты любимую кошку похоронила, да только кошки-то у тебя отродясь не было.
Индия изобразила улыбку и от растерянности выложила все как есть.
– Это парень из соседней квартиры, – призналась она.
Взгляд Ольги-Волги выразил осуждение:
– Да ты что! Неужто этот цыпа-дрипа – как его там зовут-то? Рик Флик, что ли?
Индия молча кивнула, и тогда Ольга воинственно проговорила:
– Он к тебе пристает? Ты скажи только слово – и пикнуть не успеет, как вылетит отсюда с пером в заднице. Пусть не думает, будто у него в штанах что-то такое сверхмощное, чего мы тут у себя в Беверли никогда не видали! Нет, милок, можешь оставить свое хозяйство при себе, нам оно ни к чему – я так скажу!
Индия тряхнула головой:
– Да нет, он замуж меня зовет.
Громада Ольгиного тела заходила ходуном, словно где-то в глубине нее началось малой шкалы землетрясение.
– Ты шутишь?! – воскликнула она. – Ты и этот Ник? Ник и ты? Bay!
Ее изумление отчего-то задело Индию:
– Почему тебя это так уж удивляет? Что странного в том, что кто-то хочет на мне жениться?
– Господи, да разве я про тебя, красуля моя, сладкая моя?! Но Мик? До сегодня я ну точно считала, что он этот… мальчик-гайчик.
– Гайчик?!
– Ну да. Как все тут. Здесь вся округа – сплошные гайчики, такое уж мое везение, чтоб его! Эвон, напротив нас, мистер Неженка, тот, что мороженое развозит, у него и на фургоне написано: «Король мороженого». Король, видишь ли! Кому он очки втирает? Самый что ни на есть гайчик. Собак прогуливают сплошь гайчики, официанты в кафе – тоже гайчики, и тренеры в твоем клубе – гайчики. Такая краля мимо них ходит, а им хоть бы что, даже посвистать озорно тебе вслед и то не хотят. Испанцы-рабочие на стройках поголовно все гаи, монтеры, почтари, водопроводчики – тоже, по улицам шляются в обнимку девчонки-гаечки. Мальчики-гайчики целый день загар нагуливают, у бассейнов валяются, а после шерочка с машерочкой поднимаются к себе и там, поганцы, друг дружку имеют собачьим манером, и я должна еще на все это глаза закрывать! Куда ни глянь – всюду одни извращенцы, только теперь их стали называть просто веселыми ребятишками. Вот объясни мне, чего такого веселого в извращениях? Что веселого в преступлении против промысла Божьего?
У Индии раскалывалась голова. Бессонница по-прежнему оставалась ее самой постоянной, самой безжалостной и ненасытной возлюбленной. Она имела Индию так часто, как ей того хотелось, и девушке было не до шуток сегодня. Мужчина весьма среднего качества захотел сделать ее своей женой, родной отец говорил с ней по телефону не своим голосом, так что глумливая спесь Ольги Семеновны ее не развеселила. Широта взглядов их русской домоправительницы могла соперничать только с объемистой задницей этой дамы, и ее ритуальные громы и молнии по поводу безнравственности всегда бывали сдобрены здоровой долей иронии. Она уверяла, что, оставаясь одна в своей крошечной квартирке, колдует над своим картофелем, пытаясь повлиять на сексуальную ориентацию жильцов, на самом же деле она была по-монаршьи равнодушна к тому, что происходило за закрытыми дверями у обитателей вверенного ей дома. Совокупления между сучками или между кобелями, совокупления, освященные церковью, и внебрачные связи ее более не волновали. Иное дело – любовь, к этому слову Ольга питала слабость.
– Соглашайся, сладкая моя. Ты ничего не теряешь. Десять процентов из ста, что ты будешь счастлива, а если нет, так в чем проблема? В мое время браки заключались по воле Божией, ну дак то в мое время, а я уже вымирающий вид, вроде динозавра. Теперь выйти замуж – все одно как взять в фирме машину напрокат: вам пригоняют авто, а как оно вам надоест, вы его возвращаете, а вас доставляют домой за казенный счет. Только нужно обезопасить себя страховкой от любых случайностей – от угона, от увечий, от незаконных притязаний, и тогда – ни малейшего риска. Давай, детка, соглашайся. Для кого ты себя бережешь? Нынче хрустальных башмачков больше не делают, и лавки такие все позакрывали, да и принцев больше не производят. Романовых давно расстреляли в подвале, и Анастасии уже нет в живых.
Россия, Америка, Лондон, Кашмир – любое, какое ни назови, место на планете событийно стало частью одного целого. Наши жизни, наши личные судьбы утратили индивидуальный, приватный характер, перестали быть нашим частным достоянием. Это взбудоражило людей. Это вызвало столкновения, создало взрывоопасную атмосферу. Мир потерял покой. Индии вспомнились слова Хаусмана, когда он снова посетил Шропшир. Он назвал его краем, утратившим свою суть. Для поэта эквивалент счастья – прошлое, тот заветный край, где все было иначе – лучше и чище. «О, Англия, – писал он, – убийствен твой воздух!» У нее тоже было английское детство, только для нее этот край не был озарен золотистыми отсветами прошлого, потому что ощущение иного, лучшего прошлого этой страны у нее отсутствовало. Вся ее жизнь там проходила уже в другой, сегодняшней Англии, начисто лишенной ореола таинственности и волшебства. Для Индии существовала как данность лишь сегодняшняя Англия.
Самоутверждение, самоценность, содержательность… Все эти довольно близкие по сфере употребления слова как нельзя лучше выражали предел ее мечтаний. Если бы претендент на ее руку был в состоянии реализовать для нее подобную мечту, то, возможно, этот его дар был бы для нее ценнее любви… Индия вернулась к себе с твердым намерением серьезно подумать над предложением этого… как, черт возьми, его все-таки зовут? – Джуда Флуда.
День был, как всегда, безоблачен. Ее улица с артистической грацией неторопливо шествовала под сенью деревьев сквозь ленивый солнечный свет. Обманчивое впечатление достатка, простора, обилия возможностей для всех и каждого всегда являлось одной из величайших иллюзий этого города. Дверь в квартиру господина Каддафи Анданга, через холл от ее собственной, была, как обычно, приоткрыта ровно на два фута, так что можно было видеть его прихожую.
Серебристо-седой филиппинский джентльмен жил в этом здании дольше, чем кто-либо. Индия однажды застала его в домовой прачечной, чем немало удивила, поскольку явилась туда незадолго до рассвета, после одного из нечастых выходов на люди; в свою очередь она и сама была немало поражена его опрятным, если не сказать щеголеватым, видом: атласный халат, сигарета в мундштуке; надушенный, с напомаженными волосами. После той встречи они частенько болтали, пока стиральные машины делали свое дело. Он рассказал ей о провинции, где родился, – Базилане, что на его родном наречии означало «железная тропа»; о легендарном правителе тех мест султане Кудрате и о свергнувших его испанских завоевателях и заявившихся следом, точно так же, как и при освоении Калифорнии, иезуитах. Он рассказывал о свадебных обрядах у яканцев, о рыбачьих хижинах на сваях у племени самал, о диких утках провинции Маламауи. Сказал, что жизнь у него на родине текла мирно, но потом начались распри между мусульманами и христианами, и он решил уехать; он и его жена хотели жить в мире и согласии, только, к сожалению, судьба распорядилась иначе. И все же здесь, в Америке, у людей все равно сладкая жизнь – как говорится, дольче вита, – даже у тех из них, кому приходится несладко. Что до него, то он покорился судьбе, сказал он Индии на прощанье, когда со стиркой было покончено. Ее тронул этот милый шаркающий господин, она с нетерпением ждала их ночных бесед и вопреки привычной замкнутости стала даже рассказывать ему о себе.
Время от времени на столике в холле она замечала адресованные ему дорогие каталоги модной одежды. Однако, как уверяла Ольга Семеновна, он выходил из дома крайне редко, и то лишь затем, чтобы купить самое необходимое. Его жена, которую он вывез в Америку в надежде на лучшую жизнь, бросила его несколько лет назад ради коллектора из компании по продаже автомобилей в кредит. Индии хотелось послушать мелодику филиппинского языка, хотелось узнать, как звучат на нем ругательства. Ей казалось, что он должен быть похожим на японский, только еще более плавно звучащим. Язык поношений – с раскатистыми согласными, перетекающими один в другой гласными звуками, язык, напоминающий шум ветра в лесу.
– Он всегда в боевой готовности, – сплетничала Ольга, – на случай, если вдруг вернется миссис Анданг. Потому и дверь днем и ночью приоткрыта. Только она не вернется. У ее дружка-коллектора полным-полно знакомых страхагентов. Она вся упакована, у нее страховки на все случаи жизни. Она в зоне полного комфорта. Этого мистер Анданг ей гарантировать не мог, а в ее возрасте подобные вещи значат немало.
Но господин Анданг все же держал двери открытыми. Город пел ему о любви свои обманные песни, и он надеялся…
Из-за угла показался посольский «бентли». В это время суток на той стороне улицы, где стоял ее дом, парковка была запрещена – вывозили мусор из баков. Широкий тротуар, домофон в подъезде – все эти незначительные моменты привели к тому, что продвижение посла от машины до входа происходило медленнее обычного. С определенными правилами соблюдения мер безопасности Макс Офалс был знаком хорошо – еще со времен своей секретной службы (о которой вообще-то говорить не принято, поскольку официально ее как бы и нет, хотя на деле она очень даже есть), но в тот момент посол думал не о мерах безопасности. Он думал о дочери и о том, как осудила бы она отца, если бы узнала, что он только что порвал с женщиной, так на нее похожей, с той, которая одновременно столь сильно напоминала ему и мать Индии.
Согласно правилам, первыми должны были выдвинуться вперед охранники: им надлежало блокировать все парковочное пространство в зоне риска, первыми войти в дом, все проверить и держать входную дверь нараспашку. Любой профессионал этого дела знает, что самое уязвимое место для нападения на так называемый главный объект – это пространство между машиной и дверью в помещение, куда он направляется. Однако по нынешним временам уровень угрозы для жизни Макса Офалса был невысок, а уровень риска – и того ниже. Понятия угрозы и риска сильно различались между собой. Под угрозой имелся в виду общий уровень возможной опасности в целом, в то время как степень риска зависела от конкретного задания. Таким образом, уровень угрозы мог оставаться высоким, тогда как риск, связанный с каким-то частным действием, например, с сиюминутным решением немедленно увидеться с дочерью, мог быть минимален. Когда-то все эти вещи имели для Макса первостепенное значение. Теперь – нет. Теперь он старый человек, посвящающий свое время безумному исследованию жизни подземного народца, полулюдей-полуящериц, сексуально бездействующий индивид, которого только что бросила любовница; отец, внезапно решивший навестить свое дитя. Все это вполне укладывалось в обычные параметры безопасности.
Максу, как любому профессионалу, было хорошо известно, что стопроцентной безопасности не существует. Наилучшей иллюстрацией этого была видеозапись покушения на президента Рейгана. Вот господин президент выходит из машины, вот тут и тут находятся секьюрити; их расположение идеально. А вот здесь зафиксирована до секунды скорость реакции каждого члена команды. Реагировали они все мгновенно, быстрее, чем от них ожидалось.
Выстрел в президента был совершен не в результате чьейто ошибки. Ошибки не было. И все-таки выстрел был сделан. Первое лицо государства поразила пуля. Самая могущественная персона в окружении лучшей в мире команды телохранителей оказалась уязвимой на мизерном пространстве между бронированной машиной и дверью здания. Стопроцентная безопасность? Такого просто не бывает.
Кроме того, от внутренних предателей никакие секьюрити не спасут – они не уберегут ни от близкого друга, ни от телохранителя, задумавшего убийство. Посол Макс Офалс позволил своему шоферу по имени Шалимар открыть для него дверцу машины, пересек тротуар и набрал нужный код. Наверху звякнул домофон. Индия сняла трубку и услышала голос, уже слышанный, но всего один раз, когда она пыталась записать свой ночной бред на магнитофон. Когда раздались клокочущие нечленораздельные звуки, она сразу поняла – это голос смерти, – и бросилась вниз. Она бежала, а все вокруг застопорилось: ветви деревьев за окнами едва шевелились, голоса людей, пение птиц, шум города – все заглохло; ей казалось, будто она и сама едва передвигается, хотя она неслась сломя голову. Когда же оказалась перед застекленной входной дверью, то уже знала, что ей предстоит увидеть: залитое кровью стекло с густыми потеками и на тротуаре в ярко-красной, начинающей темнеть луже – неподвижное тело своего отца, героя Сопротивления и кавалера ордена Почетного легиона Максимилиана Офалса. Удар, нанесенный ножом из его собственной кухни, оказался такой силы, что голова была почти отделена от туловища. Орудие убийства лежало рядом с телом.
Она не стала открывать дверь. Там был не отец, там была грязь, ее следовало убрать немедленно. Где Ольга? Кто-то должен вызвать уборщика. Это его прямая обязанность. Твердой походкой, держа спину и высоко подняв голову, она подошла к лифту, нажала на кнопку вызова, вошла в кабину и встала, сцепив руки перед собою, будто приготовилась декламировать стихи. Очутившись у себя, она затворила дверь и заперла ее. В прихожей у круглого зеркала стоял деревянный стул. Она опустилась на этот стул, положив сцепленные руки на колени.
Больше всего ей хотелось, чтобы прекратился шум: не слышать криков, не слышать воя сирен. Здесь ведь всегда очень тихо. Зазвонил телефон. Пусть себе звонит. Раздался стук в дверь, сначала тихий, потом громче и громче. Пускай себе стучат. Кухонный нож? Его место на кухне, зачем он на мостовой? Расследование неизбежно. Но это ее не касается. Она всего лишь дочь. Всего лишь незаконное, хотя и единственное дитя. Ей даже о завещании ничего не известно. Самое важное сейчас – сидеть тихо-тихо, не двигаться. Год-другой так просидеть, и все уладится, все будет о'кей. Иногда радости приходится ждать очень долго.
У нее сегодня знаменательный день. Ей сделали предложение. Совсем скоро он позвонит, и все пойдет как положено в подобных случаях. Вот сейчас он перелез со своего балкона на ее и колотится в стеклянную дверь, вопит: «Милая, открой, это я, Джим!» Но он тут ни при чем. Это дело для полиции. У нее есть свое дело. Когда оно ладится, ты точно знаешь, что делать дальше, ты видишь все в реальном свете, воображение и зрение не дают сбоев, и странные видения отступают. Шофер. Человек, у которого руки в крови и по рубашке расплываются красные пятна. Эта картинка возникла перед ее мысленным взором, но она тут же заставила себя не смотреть. Она могла спасти отца и не сделала этого. А были ведь знамения. Она видела красные цветы у ног Шалимара на газоне и на его груди, они высовывались из-под ворота его рубашки. Но не ее это занятие – верить в то, что подсовывает предательское зрение. И не ее это дело – спасать отца. Ее дело – сидеть на стуле тихо-тихо, пока не явится счастье.
Она сидела на отцовских плечах, лицом к нему, и они вдвоем напевали: «Птичка-невеличка, птичка-жаворонок – тоненькая шейка, голосочек звонок…» Потом она оттолкнулась, сделала сальто назад, назад, назад и отлетела от него; и ее ладошки в его руках, в его руках навсегда… и никогда больше.
Часть вторая
Бунньи
Глава 2
И была Земля, и были планеты. Земля не была планетой. Планеты – это грахаки, захватчики. Их так назвали потому, что они всегда стремились схватить Землю и подчинить ее своей воле. А Земля не такая. Она предмет их охоты. Она – вожделенная добыча. Всего в космосе захватчиков девять: Сурья – Солнце, Сома – Луна, Буддха – Меркурий, Мангала – Марс, Сукр – Венера, Брихаспати – Юпитер, Сани – Сатурн и еще две планеты-тени, близнецы – Раху и Кету. Планеты-тени вроде бы существовали, хотя и невидимые глазу. Это небесные тела без видимой телесной оболочки. Они где-то там находились, но не обладали физической, осязаемой формой. Это были планеты-драконы, вернее две половинки одного дракона. Раху представляла собою драконову голову, а Кету – его хвост. Сам дракон тоже не существовал по-настоящему, но все же присутствовал. Благодаря нашему воображению.
Пока Номан Шер Номан не узнал про Раху и Кету, он никак не мог разобраться в том, что же это такое – любовь и как определить для себя ее воздействие на человека: мгновенные озарения, приливы, отливы, притяжения и отталкивания. С момента, когда ему рассказали о демонах-половинках, все сразу встало на свои места. Любовь и ненависть – это тоже планеты-тени, неосязаемые, невидимые, они существовали, они терзали его сердце. Ему было четырнадцать, и впервые в жизни он полюбил. Это случилось в селении Пачхигам, где жили странствующие актеры и музыканты. Период его ученичества был завершен, и для своей профессии он взял себе новое имя. Он хотел оставить позади Номана-ребенка и стать самим собой – взрослым. Хотел, чтобы отец гордился тем, что у него есть такой сын – акробат и клоун Шалимар. Его отец. Великий и могучий Абдулла, глава всей деревни, ее сарпанч, который всех их держал на своей большой ладони.
О планетах-грахаках он узнал благодаря наставнику, пандиту Пьярелалу Каулу, а благодаря его зеленоглазой дочери Бхуми он узнал о любви. Бхуми означало «земля», так что выходило, будто он и есть один из грахаков-хватателей. Однако космогонические аллегории вряд ли могли полностью объяснить события в мире земном, – с их помощью, например, нельзя было понять, отчего Бхуми и сама была склонна захватить его. За исключением дней, когда устраивались представления и вокруг было много чужих, она никогда не называла его Шалимаром, предпочитая имя, данное ему при рождении, хотя свое имя тоже терпеть не могла. «Грязь, – говорила она, – грязь да камни. Не нужно мне такое имя». Она хотела, чтобы он называл ее Бунньи. Так именовали царственное дерево – кашмирскую чинару. Номан забирался во вздымавшиеся позади селения сосновые рощи и там шептал это имя обезьянам. «Бунньи», – шептал он удодам на цветущем лугу возле Кхелмарга, где впервые поцеловал ее. «Бунньи», – горячечным эхом вторили ему обезьяны и птицы.
Пандит был вдовцом. Он вместе с Бхуми – которая Бунньи – занимал второй по величине дом на окраине Пачхигама. Дом был из дерева, как и все прочие, но двухэтажный. Самый же лучший дом принадлежал семейству Номанов, там был еще и третий этаж всего с одним просторным помещением, где собирался деревенский совет – панчаят – и принимались все жизненно важные решения. У пандита Каула еще было отдельное строение, где готовили еду, и даже специальная хижина-туалет, куда вела короткая крытая тропка. Дом был просторный, хотя темноватый и чуть скособоченный, с крытой, как у всех, рубероидом конусообразной крышей. Он стоял на самом берегу маленькой говорливой речки Мускадун, что означало «освежающая»; вода ее и вправду была на редкость вкусной, но для купания не подходила – она была обжигающе-холодна, а все потому, что брала свое начало высоко-высоко, среди вечных снегов, где обнаженные по пояс индийские боги и богини с голыми грудями ежедневно забавлялись в игре с громами и молниями. Как объяснял пандит Каул, боги не чувствовали холода, потому что в их жилах текла согретая божественным пламенем кровь. «Отчего же в таком случае, – хотел, но не осмеливался спросить его Номан, – у всех богов такие торчащие соски?»
Пандиту Каулу тоже не нравилось его имя, среди людей Долины[4] было полным-полно Каулов. Такому выдающемуся человеку, как он, казалось унизительным носить столь обыкновенное имя, поэтому никто не удивился, когда пандит объявил, чтобы отныне его именовали Каул Турпайини, что означало Каул Прохладная Вода. Это слишком длинное имя он в практических целях сократил и совсем отбросил нелюбимую его часть – Каул. Правда, полное имя Пьярелал Турпайини, то бишь Милый Сердцу Прохладный Поток, тоже не прижилось. Кончилось тем, что пандит покорился судьбе и стал именовать себя, согласно занимаемому им положению, просто Наставником. Номан звал его «милый дядюшка», хотя ни узами родства, ни узами веры они связаны не были. Кашмирцев объединяли узы гораздо более прочные. В Кашмире наиболее важной всегда считали не кровную или религиозную общность, а нечто большее, уходившее корнями в глубь веков.
Бунньи была у пандита единственным ребенком, и когда она и Номан приблизились к порогу четырнадцатилетия, они вдруг открыли каждый для себя, что любили друг друга всю жизнь, и тут же поняли, что настала пора решительных действий, несмотря на то что это решение таило в себе неимоверную опасность.
Они сидели на бережку Мускадуна и слушали Наставника. А он взахлеб вещал им про космос, потому что вообще любил поговорить, а для них это был предлог побыть вместе. Речь папы Пьярелала журчала подобно бурливой речке Мускадун у него за спиной, и они тоже говорили меж собою на неслышном для других языке запретного желания. Номан украдкой старался коснуться пальцев Бунньи, ее пальчики сами собой тянулись ему навстречу. Их, сидевших на больших плоских камнях, разделяло несколько ярдов, а с синего, словно глубокое счастье, неба солнце обливало их по-утреннему беспощадно ясным светом. Несмотря на расстояние между ними пальцы их незримо переплетались. Номан чувствовал ее руку в своей, ощущал, как ее длинные ноготки впиваются ему в ладонь, а когда украдкой бросал на нее взгляд, то понимал, что и она тоже чувствует его согревающее прикосновение – потому согревающее, что кончики и выступчики ее тела всегда оставались холодными: мочки ушей, пальчики на руках и ногах, соски маленьких грудей, кончик ее гречески-прямого носика. Все эти места нуждались в том, чтобы их обогрела его рука. Она – Земля, а он грахак, захвативший ее и жаждущий подчинить своей воле.
Подобно многим, кто гордится своей способностью к распознаванию и разоблачению любых форм духовного надувательства и религиозного шарлатанства, ученый наставник в глубине души испытывал преступную страсть ко всему фантастическому и невероятному, так что легенда о двух планетах-тенях затрагивала самые сокровенные струны его сердца. Короче говоря, он целиком и полностью находился во власти чар Раху и Кету, чье существование могло быть установлено лишь через их влияние на жизни обычных людей. Эйнштейн доказал наличие новых небесных светил на основании того, что сила их гравитационных полей привела к искривлению светового луча, а «милый дядюшка» стремился доказать существование двух половинок небесного дракона через их влияние на события человеческой жизни.
– Они выворачивают нас наизнанку! – с легким завыванием вскрикивал Наставник. – Они раскачивают лодку наших эмоций и посылают нам радость или горе! Шесть движущих сил, шесть инстинктов привязывают нас к материальному миру! – продолжал он торжественно. – Это Кама, или любовная страсть, это гнев – Кродх, это Мадх, то есть алкоголь, наркотики и все такое. А еще Моха – привязанность, Лобх – алчность и Матсья – зависть. Чтобы жить праведно, надлежит держать их под контролем, иначе они сами возьмут верх над тобой. Планеты-тени влияют на нас издалека и заставляют нас сосредотачиваться на инстинктах. Раху, он все доводит до крайности, нагнетает страсти. А Кету – он чинит препятствия, блокирует все решения. Танец планет-теней – это танец страстей в душах наших, наша внутренняя борьба – выбор между нравственным и тем, на что нас толкает жизнь в этом мире!
Пандит отер пот со лба и уже другим, обычным голосом сказал дочери:
– А теперь пойдем-ка покушаем.
Наставник был кругленьким, он любил вкусно поесть. В Пачхигаме все были отличными кулинарами.
Шалимар смотрел, как они уходят, и с великим трудом удерживал себя от того, чтобы не двинуться за ними. Его преследовали не только планеты, но и сама Бунньи. Она испытывала на нем силу своих чар, днем и ночью притягивала к себе, теребила, покусывала даже тогда, когда сама находилась на другом конце деревни. Такая уж она уродилась, эта Бунньи Каул – темная, как сама тайна, светлая, как само счастье, – его первая и его единственная любовь, урожденная Бхуми Прохладная Вода, мастерица целоваться, понимающая толк в ласках, бесстрашная акробатка и отличная повариха. Сердце клоуна Шалимара плясало от радости, ибо совсем скоро должна была сбыться его самая заветная мечта. Сгорая от душного желания во время монолога пандита, они одновременно пришли к выводу, что их час настал, и с помощью обмена сигналами быстро определили место и время встречи. Оставалось лишь совершить последние приготовления. Вечером, убирая для любимого длинные волосы в косы, Бунньи Каул думала о благословенной и прекрасной Сите. В годы изгнания и скитаний по лесам вместе с супругом своим, богом Рамой, они нашли приют в святой обители посреди леса Панчавати, что на берегу реки Годавари. В тот роковой день Рама с братом своим Лакшманой отправились в погоню за демонами. Ситу оставили одну, однако Лакшмана перед уходом провел на земле перед входом в скромную обитель магическую черту и предупредил, чтобы она не переступала черту сама и не позволяла этого никому из чужих. Черта заговорена и призвана служить ей надежной защитой. Однако едва Лакшмана скрылся из виду, появился владыка всех демонов Равана. На нем была запыленная одежда цвета охры, которую носили странствующие мудрецы, и старенький зонтик в руках. Речь его не походила на речь святого, просящего подаяния. С неумеренной пылкостью он стал превозносить по очереди необыкновенной гладкости кожу Ситы, цвет лица Ситы, ее благовония, волосы, груди и талию. Про ноги он говорить не стал. Они, конечно, были скрыты под одеждой, хотя столь могущественный ракшаса, как Равана, наверняка мог видеть сквозь ткань, только, само собой, он не мог этого признать, иначе его скрытая подлая сущность была бы разоблачена немедленно. Почти четырнадцатилетние ножки Бунньи были длинны и стройны. Ей очень хотелось знать, какие ноги были у Ситы Дэви, и ей было досадно, что никто их так и не описал.
А еще ей очень хотелось знать, почему Сита все же пригласила Равану войти и отдохнуть, – сделала ли она это вопреки его нескромно-льстивым речам или как раз из-за них? Это было очень важно, потому что как только с ее разрешения он переступил магическую черту, та потеряла свою волшебную силу. Равана мгновенно явил свой подлинный облик чудовища о тысяче голов, насильно увлек Ситу в летающую колесницу, запряженную зелеными буйволами, и помчал в свое царство, на Ланку. Преданный слуга Рамы, старый и слепой коршун Джатаю, пытался спасти Ситу, он убил буйволов, и колесница стала стремительно падать, но Равана подхватил Ситу, спрыгнул невредимый на землю, а когда ослабевший Джатаю напал на него, Равана отсек ему крылья.
Непонятно, почему вся вина за цепь трагических событий возложена на Ситу, подумала Бунньи. «Джатаю, ты погиб из-за меня!» – вскрикнула Сита. И это так. Но все равно непонятно, отчего бремя ответственности за все – за поведение Джатаю, за поиски похищенной, за войну против Раваны, за реки пролитой крови и горы мертвых тел – было сложено к ногам Ситы, верной супруги Рамы. Странный оттенок это придает всей старинной истории, где глупость женщины нарушила заклятие, наложенное мужчиной, где герои вынуждены были сражаться и погибать будто бы из-за тщеславия взбалмошной красавицы.
Это казалось Бунньи великой несправедливостью. Добродетель Ситы Дэви, благородство ее натуры, нравственная стойкость и ум не подлежали сомнению. Как можно было не принимать это во внимание? Бунньи дала всему случившемуся с Ситой Дэви свое собственное толкование. Владыка демонов был бессмертен, он был безумно влюблен в Ситу, и рано или поздно ей суждено было встретить его, как бы ни оберегали ее близкие. К тому же ей противостояли и демоны-женщины, принявшие вид ее любимых, и она просто на какое-то время была введена в заблуждение. Наверное, она решила пренебречь заговоренной чертою и пойти навстречу неизбежному. Что такое, в конце-то концов, эти магические линии в грязи, на земле? Они могут отдалить опасность, но не могут изменить предначертанное судьбой. Чему быть – того не миновать, и лучше через это пройти поскорее.
Так кто же, размышляла Бунньи, этот мальчик, сын деревенского старосты, этот самый прыгучий акробат во всей труппе, тот, с кем она намеревается встретиться на горном лугу сегодня в ночь? Кто он – ее сказочный герой или демон? Или то и другое? Подарят ли они друг другу блаженство или погубят себя тем, на что решились? Верен ли ее выбор, или она совершает непоправимую ошибку? Ведь это она сама сговорила его переступить запретную черту. Нежность переполняла ее. Как он красив, как совершенен он в искусстве рассмешить; как чист и звонок его голос, как грациозен он в танце, как легок его шаг на канате! А как добр, как нежен! Нет, не может он быть демоном-захватчиком! Ее сладкий Номан, который назвался Шалимаром-клоуном отчасти ради нее, потому что четырнадцать лет назад оба они появились на свет в садах Шалимара в одну и ту же ночь, отчасти же в память о ее маме, потому что той же ночью, когда не стало многих и мир круто переменился, не стало и ее. Бунньи любила Номана, потому что, назвавшись Шалимаром, он тем самым почтил ее умершую мать, а также установил нерушимую связь между ними, связь, дарованную одновременным появлением на свет. Она любила его, потому что он не допускал мысли о том, чтобы причинить боль хоть одному живому существу.
Она заплела волосы, умастила тело. Раху – усилитель эмоций – и Кама – бог любви – потрудились на славу: тело ее трепетало от желания. Она стала взрослой уже два года назад – раньше обычного. С самого дня своего преждевременного появления на свет она всего достигала раньше положенного срока и была вполне готова к любому повороту судьбы. Густая тьма была напоена запахом цветущих персиков и яблонь, и веки ее тяжелели. Она присела на постель, прислонилась головой к изголовью и прикрыла глаза. И тут же, как она и предчувствовала, явилась мама. Она умерла, когда рожала Бунньи, но приходила к ней во сне почти каждую ночь. Она посвящала Бунньи во все тайны женской жизни, она рассказывала ей о прошлом семьи, она дарила ей советы и свою безграничную любовь. Бунньи не говорила об этом отцу, потому что не хотела огорчать его. Пандит всю жизнь старался быть для нее и матерью, и отцом одновременно. Несмотря на свое высокодуховное занятие, он обожал ее безмерно, для него дочь была бесценной жемчужиной, прощальным подарком его любимой жены. От деревенских женщин он досконально узнал все, связанное со взращиванием малого дитяти, и с первого же дня ее появления на свет все, что касалось Бунньи, делал самолично: готовил ей смеси, подтирал попку, вставал по ночам, когда она начинала плакать, пока наконец встревоженные соседки не стали слезно просить его пожалеть себя и принять их помощь, если он не хочет, чтобы несчастная девочка лишилась еще и отца. Пандит пошел на уступки, но только отчасти. Он играл с ней в ее детские игры, а когда она чуть подросла, он научил ее петь и танцевать, подводить глаза и красить губы; он объяснил, что нужно делать, когда у нее начались месячные. Словом, отец делал все, что было в его силах, но мать есть мать, даже если она существует не в реальной жизни, а лишь в бестелесном образе, в снах; даже если доказательством ее присутствия служит ее влияние на судьбу лишь одного человека – ее любимой дочери.
Покойную супругу пандита звали Пампуш, то есть «лотос», хотя, как она призналась спящей дочери, она предпочитала, чтобы ее называли Гири, что значит «ядрышко», в память о каштане, который в знак дружбы подарила ей однажды Фирдоус Бегум Бхатт, золотоволосая супруга почтенного Абдуллы Номана. Одним прекрасным летним днем, когда они собирали крокусы в шафранных полях, откуда ни возьмись, словно по ведьминому заклятию, с безоблачного неба обрушились потоки ливня, так что на них сухой нитки не осталось. Острая на язык супруга сарпанча высказала дождю все, что она по его поводу думает, а Пампуш, танцуя под струями, весело крикнула:
– Не смей ругать небеса за то, что они даруют нам воду!
И тут, когда они, насквозь промокшие, укрылись под развесистой чинарой, Фирдоус не выдержала:
– Все считают, будто ты сама доброта, что ты вся на виду, что ты у нас скромница, только меня не проведешь, я все вижу! – выпалила она. – Еще бы – всегда-то ты улыбаешься, никому грубого слова не скажешь, тебе все как с гуся вода! Возьми меня: я едва глаза продеру – сразу за все хватаюсь, всех мне охота встряхнуть как следует, чтобы все пошло лучше прежнего, охота разгрести все дерьмо в этой нашей скотской жизни. А ты? Ты, напротив того, идешь по жизни так, будто она тебе по душе и всем-то эта твоя душенька довольна. Только знай: я тебя раскусила. Тоже мне, представляешься ангелочком в раю! Спору нет, у тебя хорошо получается, только ведь все это лишь твоя скорлупа, как у ореха; внутри ты совсем другая и, готова спорить на что хочешь, далеко не такая счастливая и безмятежная. Знаю, для других тебе ничего не жалко, для других ты щедрая. Скажи я тебе, что мне такая-то твоя вещь нравится, ты мне тут же ее подаришь, даже если это твое приданое еще от прабабки, даже если это драгоценное ожерелье или браслет, но себя ты никому не открываешь, тут ты скупердяйка, каких поискать.
Подобные речи либо приводят к полному разрыву между друзьями, либо, наоборот, делают отношения еще более тесными, но Фирдоус было свойственно решать все одним махом, она не терпела неопределенности.
– В тот день и я поняла ее до конца, – рассказывала Пампуш, она же Гири, дочери, пока та спала. – Под личиной бранчливой, грубой женщины я разглядела душу преданную и привязчивую. Кроме того, во всей деревне, наверное, лишь она одна могла меня понять.
И тут Пампуш действительно стала делиться с подругой самым сокровенным. Фирдоус с трудом верила своим ушам. До сей поры супруга сарпанча, как и все сельчане, считала, что Пампуш – идеальная жена для Наставника. Она твердо стояла на земле, меж тем как мысли почтенного пандита всегда витали в заоблачных метафизических высотах. Нынче же Фирдоус вдруг стало ясно, что на самом-то деле скрытая от всех, тайная сторона натуры Пампуш была куда более фантасмагорична, чем у ее мужа, что ее мечтания были куда более рискованны, даже опасны, чем у самой Фирдоус с ее воинственными стремлениями все перевернуть вверх дном.
В делах любовных кашмирские женщины не считались недотрогами, но от интимных признаний Пампуш у видавшей виды Фирдоус запылали уши. Супруга сарпанча открыла, что ее маленькая подруга была такой ненасытной в любви, что оставалось лишь поражаться тому, как у пандита еще хватало сил на то, чтобы поутру подниматься с постели и чем-то заниматься. Приемы усиления сексуального удовольствия, о которых поведала ей Пампуш, повергли Фирдоус в ужас и в то же время вызвали жгучее желание испытать это самой. Ее останавливало лишь опасение, что если она попробует предложить такое своему Абдулле, который видел в сексе лишь удовлетворение одной из естественных потребностей организма – и чем быстрее, тем лучше, – то он после этого просто выкинет ее на улицу, как последнюю шлюху. Старше подруги на несколько лет, Фирдоус неожиданно почувствовала себя неопытной школьницей, которая, запинаясь и краснея, расспрашивает наставницу о том, с помощью чего и как можно достичь желанных результатов.
– Все очень просто, – отвечала Пампуш. – Когда доверяешь друг другу, тогда ты и он способны добиться чего хочется, и поверь мне, это здорово.
Но, пожалуй, самым поразительным признанием Пампуш явилось то, что не супруг, а она сама исполняла роль ведущего в любовных утехах. Когда же Пампуш перешла от секса к изложению своих утопических идей о женской эмансипации и заговорила о том, сколь мучительно для нее жить в обществе, по крайней мере лет на сто отставшем в своем развитии от остального мира, о котором она мечтает, Фирдоус жестом остановила ее.
– Хватит! – произнесла она. – От твоих россказней я и без того наверняка потеряю сон и покой, так что на сегодня с меня довольно. Я и с настоящим-то не могу разобраться, а ты мне еще тут про будущее талдычишь.
Пампуш Каул, являясь к дочери во сне, посвящала ее во все детали того, о чем не желала слышать Фирдоус Номан, – о свободном от оков будущем, которое маячило у горизонта, о земле обетованной, куда ей самой не суждено было ступить, о неутомимой жажде свободы, мучившей ее всю жизнь, хотя никто о том не догадывался, потому что она всегда улыбалась и ни на миг не расставалась с личиной полного довольства жизнью.
– Женщина имеет право сама выбрать то, что ей нравится, потому что это нравится ей, а не кому-то другому, – говорила она своей дочери. – Угождать мужчине и ублажать его – далеко не самое главное. И помни – сердце не врет, поступай, как оно велит, и не думай о том, что скажут люди.
– Тебе легко говорить, – отвечала пораженная Бунньи, – призракам не приходится жить среди людей.
– Я не призрак. Я мать, о которой ты думаешь, и говорю тебе лишь о том, что уже у тебя на сердце, ты просто хочешь, чтобы я это одобрила.
– Это верно, – отозвалась Бунньи, потянулась и стала просыпаться.
– Ступай к нему, – прошептала мама исчезая.
Бунньи выскользнула из дома и по лесистой стороне холма стала подниматься к Кхелмаргу, к поляне, на которой она лунными ночами упражнялась в стрельбе из лука, посылая стрелы в ни в чем не повинные стволы деревьев. Она была метким стрелком, но нынче собиралась заняться совсем иным видом спортивных игр. Луны не было видно. Лишь далеко внизу, за пашнями, мелькали редкие огоньки: там, в военно-полевом лагере индийской армии, зажигали на ночь фонари и курили сигареты, однако в эту пору большинство солдат уже спали. Наверняка крепко спал, всхрапывая, как дикий буйвол, и отец. Бунньи накинула на голову темный шарф. Поверх длинной темной рубахи на ней была плотная накидка-пхиран. Ночь выдалась холодная, но просторная накидка хорошо защищала тело. Пальцы тепла, тянувшиеся из подвешенного на талии, под пхираном, глиняного горшочка с тлеющими углями, щекотали живот. Никакой другой одежды у нее под рубахой не было. Босые ноги сами находили в темноте тропу. Тень в поисках другой тени. Бунньи непременно найдет свою тень, и та подарит ей любовь и защиту. «Я буду носить тебя на ладошке, так, как когда-то носил меня отец», – говорил он, Номан, взявший теперь имя Шалимар, Номан, самый прекрасный юноша на свете.
В это время самый прекрасный юноша на свете делал то, что обычно делал в тех особых случаях, когда требовалось успокоиться и сосредоточиться, – взбирался на дерево. В его профессии, так же, как и в его душе, деревья занимали совершенно особое место.
Номану было одиннадцать, когда он провел бессонную ночь, потому что не мог разобраться, что же все-таки представляет собою Вселенная. Вечером у его отца с матерью по этому поводу разгорелся такой яростный, такой необычный спор, что к их дому собралась вся деревня; в спор включилось множество людей, и мнения их разделились: одни стали поддерживать отца, другие – мать. Спор был о том, где же на самом деле находится рай, а также о возможности (или невозможности) пребывания пророков и священных книг на других планетах, и, соответственно, является ли кощунственным предположить, хотя бы чисто гипотетически, что маленькие лупоглазые пророки с зеленой кожей действительно существуют и где-нибудь на Марсе или на невидимой стороне Луны у них тоже есть священные книги – только на других, непонятных наречиях. Номан никак не мог решить – то ли встать на сторону мыслящего широко, по-современному отца, то ли на сторону матери, которой всюду мерещились темные силы, обычно связанные у нее с легендами о могуществе змей, и потому, несмотря на то что собиралась гроза, он выбрался через заднюю дверь из дома, забрался на самую высокую во всем Пачхигаме чинару и стал размышлять. У Номана хватило ума не ходить той ночью по канату. Он висел, ухватившись за сук, и раскачивался на ветру. Над ним и под ним трещали и ломались ветви. Природа играла мышцами и показывала, что ей абсолютно все равно, что о ней думают люди. Она заключала в себе всё: науку и колдовство, тайну и открытия, и ей было на все чихать. А ярость урагана все усиливалась. Он видел, как тянутся к нему руки мертвецов. Ветер завывал, стремясь уничтожить его, но он дико закричал сам прямо ему в лицо, он осыпал ветер проклятиями, и тот не посмел отнять у него жизнь. Годы спустя, уже став профессиональным убийцей, он иногда говорил, что, возможно, было бы лучше, если бы он не выжил в ту ночь, если бы смерч унес его жизнь в своей поганой пасти…
Сразу за деревней росло несколько древних чинар, таких высоких, что казалось, их грациозные ветви цепляются за небо. Между двумя самыми старыми чинарами была туго натянута проволока, и сейчас, готовясь к свиданию с Бунньи, клоун Шалимар по ней пошел. Он кувыркался, приседал, подпрыгивал, делал повороты, и все это легко, играючи, так что казалось, будто он идет по воздуху. Ему было девять, когда он постиг тайну передвижения по воздуху. В темно-зеленом сумраке под пронизанным солнцем куполом листвы он ступил босыми ногами из могучих рук отца и взлетел. Тогда, в самый первый его полет, проволока находилась всего в каких-нибудь восемнадцати дюймах от поверхности земли, но восторг, испытанный им, был ничуть не меньше, чем когда, значительно позднее, уже будучи мастером своего дела, он, ступая с высоченной ветви на проволоку, глядел с двадцатифутовой высоты вниз, на обмирающую от восхищения, рукоплещущую толпу зрителей. Его ноги сами все делали за него, его пальцы сами собой цепко охватывали проволоку. «Не думай про нее, не думай, что тебя держит в воздухе она, – сказал ему отец. – Думай, что это затвердевший воздух или что это воздух, готовый у тебя под ногами превратиться в проволоку. Воздух и проволока – одно целое. Убедишь себя в этом – тогда и полетишь. Ты перестанешь ее чувствовать, она растает, и тогда ты пойдешь по воздуху и будешь твердо знать, что он выдержит твой вес и ты можешь двигаться как по земле – куда захочешь». Абдулла Шер Номан открыл сыну великую тайну: воздух и веревка – одно. Мальчик может стать птицей. Метаморфозы – это суть жизни.
После первого опыта уже ничто не могло удержать Номана от упражнений на канате. Веревку поднимали все выше и выше, пока наконец Номан не стал летать на уровне самых высоких деревьев. Он тренировался в любую погоду, в любое время суток, днем и ночью, и отец не чинил ему никаких препятствий – даже тогда, когда супруга могучего Абдуллы, суровая, но обожавшая своего Номана Фирдоус-бегум, ради того, чтобы защитить сына от дурня-отца, которому наплевать, что ребенок может сорваться вниз и разбиться о землю, словно зеркальце, пригрозила с помощью колдовства превратить их обоих в рыб и держать подле себя на кухне в кувшине с водой.
Жизненную позицию Фирдоус, а следовательно, и всей семьи во многом определяли змеи. «Змей ползет – землю трясет», – любила повторять она. Под этим разумелось, что шевеление гигантских змей, обитающих глубоко под горами, вызывает землетрясения. Она знала про змей множество таинственных историй. «Под сотрясающимися Гималаями, – рассказывала она, – захоронен целый город, где змеи стерегут награбленное золото и драгоценные камни. Самый любимый их камень – малахит, и обладание им сулит удачу, но лишь в том случае, если камень найден, а не куплен. За деньги змеиную удачу не купишь, – предупреждала Фирдоус. – Вообще, если змея заползает в дом, это благословение свыше. Следует благодарить за него небеса, и не только потому, что змея поедает мышей. Конечно, ты можешь взять прут, поддеть им змею и выкинуть ее из окошка, но делать это следует крайне почтительно, так, чтобы, упаси Всевышний, при этом не разбить ей голову, ибо удачу пугать нельзя. Змея-покровительница должна быть у любого дома, ну а если змеи не сыщешь, то держи при себе малахитовый камень».
В первый же раз, когда Наставник вдохновенно рассказывал им про Раху и Кету, Номан был поражен скрытым родством душ его обожаемого отца и суровой на вид матери. Драконы, ящерки, змеи – все эти волнообразно движущиеся, покрытые чешуей черви воздушные и черви земноводные… Похоже на то, что их власть над миром безгранична.
Одно веко у Фирдоус было чуть опущено, и люди часто шептались у нее за спиной, что когда кто-то ловил на себе этот брошенный из-под полуопущенного века косой взгляд, то понимал, что перед ним наполовину змея. Номану и самому иногда приходило на ум, что его столь свободное перемещение вверх и вниз по деревьям и веревкам тоже каким-то образом связано с привязанностью матери к змеям. В данный момент все его мысли свивались в клубок вокруг Бунньи, которой он жаждал принести счастье и богатство на всю оставшуюся жизнь. Слова «хинду» и «мусульманин» не имеют к ним никакого отношения, говорил он себе. В Долине они служили просто одной из характеристик, и не более того. Грани смыслов между этими словами размылись, острые углы затупились. Так и должно было случиться в конце концов. Это же Кашмир. Так говорил он себе и верил в это всем сердцем, но тем не менее не сказал о своих чувствах к дочери пандита ни матери, ни отцу. От отца у него почти не было секретов, с матерью он был более осторожен, потому что ее он побаивался, и сейчас, сидя на верхушке дерева, он испытывал чувство вины. Никто на свете, даже самые близкие ему люди – клоуны, как и он, трое его старших братьев, – не знает о том, что он собирается совершить сегодня ночью.
Бунньи тоже умела ходить по канату, но главной ее страстью и даром был танец. Для нее проволока оставалась проволокой, тогда как для Номана она была частью магии.
– Настанет такой день, когда я на самом деле полечу, – говорил он ей. – Просто пойду по воздуху и зависну, как космонавт без скафандра. Буду становиться на руки, висеть вниз головой – и без всякой поддержки.
Бунньи поражала его уверенность, и хотя умом она понимала, что это полное безрассудство и чушь, но не могла не заразиться его энтузиазмом.
– Отчего ты уверен, что у тебя получится? – спросила она.
– Это отец. Он внушил мне эту веру. Как птенец в гнезде, я вырос у него в ладонях, и мои ноги больше никогда не касались земли.
Отцовская ладонь не была нежной и мягкой, как у людей богатых, зато она много знала и многое могла. Эта ладонь знала, что такое мир, и не скрывала, что придется нелегко. Но она была сильной и всегда была готова защитить. Пока Номан находился в этой ложбине отцовской мозолистой ладони, ему ничто не угрожало, он не знал страха. Отец растил его в ладонях, потому что для него Номан был самой большой драгоценностью в жизни, во всяком случае именно так называл его сарпанч в отсутствие старших своих сыновей – Хамида, Махмуда и Аниса, потому как, само собой, человек его положения, староста деревни, не мог дать кому-то основания для обвинений в том, что у него есть любимчики. Сам Номан знал это, но никогда не хвастался. Это была их общая тайна. «Ты мой талисман. Пока ты рядом, я непобедим», – говорил ему отец. Номан испытывал то же самое, точно таким же талисманом был для него отец. «Первая глава моей жизни закончена. Любовь отца подняла меня к вершинам деревьев, – сказал он Бунньи. – Теперь мне нужна твоя любовь, и я взлечу в небеса».
Луны не было. В небе полыхали звезды Галактики. Уснули птицы. Клоун Шалимар поднимался по лесистому склону к Кхелмаргу, слушая, как шумит река. Ему хотелось, чтобы весь мир замер, хотелось удержать навсегда этот миг, эту ночь, когда он любит и желает, когда нет в его жизни места разочарованиям и никто из дорогих его сердцу не умер. Что касается смерти, то его змеепоклонница-мать верила в новое рождение в облике змеи, а в представлениях о вечной жизни у отца фигурировали крылья. Когда Номан был совсем маленьким, его ворчливый дед Фарук простился с жизнью в абсолютно несвойственном ему, благодушно-жизнерадостном настроении. «По крайней мере, я не увижу, как вы все изговняете», – были его последние слова. У Фарука был свой, особый способ выражать любовь к внуку: он ухватывал пальцами Номана за щечку и принимался щипать и крутить что есть силы.
– Бабаджан считает, что я некрасивый, – пожаловался мальчик.
– Глупости, – машинально отозвался Абдулла.
– Если бы он не думал, что я страшный, как бхут[5], то не старался бы разодрать мне лицо своими когтями, – резонно заметил Номан.
Несмотря на худое обращение деда с физиономией внука, погребальный ритуал Номана испугал. Дед Фарук был почему-то предан земле очень скоро – всего через каких-то шесть часов после того, как он перестал быть, но поминальные обряды продолжались утомительно долго. Чтобы утешить и взбодрить мальчика, Абдулла сказал ему, что после смерти все в их семье обращаются в птиц. Они продолжают жить тут же, в лесах вокруг Пачхигама, и распевают те песни, которые любили, пока были людьми. Сладкозвучность их пения зависит от того, насколько хорошо они пели, будучи живыми. Номан не поверил ему, о чем и сказал.
– Сам увидишь, – серьезно сказал Абдулла. – Вот когда я умру, высматривай удода с голосом, как неисправная выхлопная труба. Услышишь, как он хрипит и сипит, – знай, что это я пою свою любимую песню: «А я тебе говорил». – Он весело рассмеялся. И правда, смех этот напоминал звук раздолбанной выхлопной трубы его дряхлого грузовика, а пение было еще куда хуже. Правда и то, что «Я тебе говорил» было любимой, так сказать, припевкой Абдуллы Номана, потому что главной бедой его было то, что он знал обо всем больше и лучше, чем все прочие, и не мог удержаться от того, чтобы не упомянуть об этом при всяком удобном случае. И это уже была беда в квадрате, потому что Фирдоус-бегум не раз грозилась расшибить ему за это голову камнем.
– Ты не умрешь, – сказал Номан. – Ты никогда-никогда не умрешь.
Когда он был маленький, отец мог отыскать птичку в любой части его тела. Стоило Абдулле поцеловать щечку Номана, живот или коленку, и мальчик слышал, как в том самом месте, которого коснулись морщинистые губы отца, начинала щебетать птичка.
– Похоже, она у тебя вот здесь, подмышкой, – говорил отец, и Номан извивался и хихикал от восторга, пытаясь остановить его, но совсем не желая, чтобы тот останавливался. Абдулла преодолевал его сопротивление и… о, чудо из чудес! – из-под руки мальчика раздавались птичьи трели.
С угрожающим видом отец наклонялся к самому лицу мальчика:
– Сдается мне, птаха хочет вылететь на свободу у тебя из ноздри, – шептал он.
Абдулла Шер Номан был по натуре настоящим львом, о чем свидетельствовала и средняя, почетная, часть его полного имени: Абдулла Шер Номан. С его ранней юности люди Пачхигама привыкли называть его вторым львом Кашмира. Первым считался, конечно, шейх Абдулла – Лев Кашмира, неоспоримый вождь всего народа. Все как один признавали господином его, а не того махараджу Дарга, который жил во дворце возле Сринагара, с недавних пор превращенном в отель «Оберой». Жители Пачхигама именовали львом и своего Абдуллу Номана; им восхищались, его уважали и даже немного побаивались, как дети – любящего, но сурового и справедливого отца. Побаивались не только из-за того, что он был главой деревни, но еще и потому, что во время представлений он настолько входил в роль эпического героя, столь пламенно произносил патриотические монологи, ратуя за справедливость, что, случалось, некоторые из зрителей, у которых были нелады с совестью, вскакивали на ноги и признавались в содеянном, не дожидаясь финальной сцены.
Абдулла не отличался высоким ростом, зато был силен, и руки у него были мощные, как у кузнеца. Широкий в плечах, с непокорной гривой волос, он вызывал невольное уважение даже у солдат индийского гарнизона, расположенного неподалеку от деревни. Он отлично управлял актерской труппой, разъезжал с ней по всему краю, и женщины не давали ему прохода, хотя ему всегда хватало одной львицы – Фирдоус-бегум.
«Он передал мне свое второе, львиное, имя, – написал Шалимар-убийца много лет спустя, – только я недостоин этого имени. Моя жизнь должна была быть совсем другой, но все обернулось иначе. Синего неба для меня больше нет, мрак поглотил меня. Теперь я создание тьмы, а лев – существо света». Он написал эти слова в тюрьме, на хлипком линованном листке. Написал – и разорвал листок на мелкие клочки.
Официальное название деревни – Пачхигам – ничего не означало, однако старики утверждали, будто на самом деле когда-то их селение называлось Панчхигам, то есть «становище птиц». В жарких спорах по поводу того, были ли теперешние птицы когда-то людьми, этот этимологический фактор мог значить все или ничего – в зависимости от позиции спорящего. Правда, когда клоун Шалимар увидел на поляне возле Кхелмарга ожидающую его Бунньи Каул, его мысли были далеки от этимологических споров. Жаркие дебаты он неожиданно повел сам с собою. Перед ним стояла Бунньи. Умащенная благовонным маслом, с благоуханными цветами в затейливо заплетенных косах, змеившихся по плечам, стояла Бунньи – девушка, которая ждала и жаждала, чтобы он сделал ее женщиной и через это сам стал мужчиной. Желание поднялось в нем, но тут же явилось и нечто противоположное, чего он никак не ожидал, – его будто сковало. Драконы-близнецы начали за него свою битву. Раху-Заводила и Кету-Тормозило сражались за его сердце.
Он посмотрел в ее глаза, заметил, что они подернулись легкой дымкой, и у него не осталось сомнений: чтобы набраться смелости, она накурилась сигарет с травкой. Еле заметные призывные движения ее губ выдавали овладевшее всем ее существом чувственное опьянение.
– Бунньи, послушай, Бунньи, – торопливо забормотал он в смятении, – я отвечаю за тебя и не знаю, как лучше поступить. Давай, как всегда, поласкаем друг друга в пяти дозволенных местах, давай будем целоваться семью способами и попробуем все девять позиций, но не будем переступать черту.
В ответ Бунньи скинула через голову пхиран вместе с рубахой и осталась в чем мать родила, лишь маленький глиняный горшочек с пылающими углями по-прежнему висел, посылая жаркие волны туда, где и без того было горячо.
– Не смей обращаться со мной как с ребенком, – проговорила она низким, глухим голосом, и это лишний раз доказывало, что она не просто курила, а обкурилась. – Думаешь, я так старалась и готовилась ради до смерти наскучившей игры в «полижи-пососи»?
Вовсе не свойственная Бунньи площадная грубость речи, подумал Шалимар, свидетельствовала лишь о том, что она и сама страшилась принятого решения, потому и довела себя до столь скотского состояния с помощью курева.
– Ну вот что: этого не будет – и конец, ясно? – выпалил он, но буря в его сердце приняла такие масштабы, а две драконовы половинки так перетряхнули все у него внутри, что его вырвало.
– Думаешь, это меня остановит? – истерически вскрикнула Бунньи, давясь от хохота. – Нет, дорогой господин, чтобы избавиться от меня, вам придется придумать что-нибудь получше!
Впоследствии Бунньи ни разу в жизни не выразила ни сожаления, ни раскаяния по поводу того, как повела себя в ту ночь возле Кхелмарга, хотя именно события той ночи стали началом пути, приведшего ее к безвременному концу. Никогда не упрекнула ни себя, ни клоуна Шалимара за то, что они (вернее, она) совершили. Он и тут ошибался, как и в другом: она накурилась не из страха перед ответственностью, а для того, чтобы ей все удалось, и она ничуть не боялась того, что решила сделать во что бы то ни стало. Раху – драконова голова – давно завладел ею, а осторожный Кету – хвост – утратил над нею всякую власть.
– Боже! – промолвила она, когда все свершилось. – А ты еще не хотел!
– Не оставляй меня, – отозвался он, перекатываясь на спину и задыхаясь от счастья. – Не покидай меня никогда, иначе я буду мстить. Я убью тебя, а если ты родишь от другого, то убью и детей твоих.
– Какой ты, однако, выдумщик! – бездумно ответила она. – Как красиво ты умеешь говорить!
Прежде, еще до рождения Шалимара и Бунньи, существовали селения актеров и селения, славящиеся поварским искусством. Но времена изменились. Жители Пачхигама, для которых наследственной профессией было разыгрывание особого вида представлений, именуемых бханд патхер – то есть историй о героях выдуманных и настоящих, до сих пор оставались в Долине непревзойденными мастерами в своей профессии, однако гениальный Абдулла, тогда еще молодой, в полном расцвете сил и таланта, убедил их овладеть еще и поварским делом. В Долине во время праздничных торжеств людям непременно хотелось увидеть и услышать что-нибудь нравоучительное и страшное, от чего сердце уходит в пятки, однако для этих же торжеств всегда требовались опытные повара – мастера вазваана, иначе говоря – угощения из тридцати шести блюд минимум.
Благодаря стараниям и усилиям Абдуллы жители Пачхигама впервые в истории края добились того, что могли обслуживать торжества целиком и полностью, предоставляя пищу как духовную, так и телесную. Таким образом, им уже не приходилось делиться выручкой с кем-то еще – все оставалось у них. Конечно, были и еще деревни, где специализировались на пиршествах из тридцати шести перемен, одна из них, самая известная, – Ширмал, находилась всего в полутора милях дальше по дороге, однако, как не преминул заметить Абдулла, изучать рецепты куда легче, нежели держать в напряжении тысячи зрителей.
На пути радикальной перестройки жизни односельчан Абдулла столкнулся с оппозицией в лице собственной дражайшей половины. Фирдоус-бегум заявила, что его идиотский план грозит деревне полным разорением.
– Только представь, сколько всего нам придется закупить: медные котлы, жаровни, переносные печки! И это лишь для начала! – возопила Фирдоус. – А еще прибавь сюда труды по изучению рецептов и освоению их.
– Ты можешь мне объяснить хотя бы теоретически, – загрохотал в ответ Абдулла холодным весенним днем (он давно позабыл о том, что обычная жизнь – не сцена и тут кричать не обязательно), – почему актер не в состоянии прожарить специи и приготовить рис по-настоящему, а не в виде вязкой каши?
– Это все одно что спрашивать, почему журавли-сарасы не летают вниз головой, – язвительно проговорила оскорбленная в лучших чувствах Фирдоус.
Однако ее протестующий голос никем услышан не был, и когда новая стратегия стала приносить ощутимые плоды, кулинары Ширмала позаимствовали у пачхигамцев сценарный план и попытались последовать их примеру – сопроводить приготовление еды представлением. Однако спектакль любителей провалился с треском. И тогда однажды ночью между соперничающими деревнями развернулись военные действия. Ширмальцы предприняли ночной рейд на Пачхигам с намерением похитить большие котлы и порушить все переносные глиняные печи, в которых пачхигамцы научились готовить самые изысканные кашмирские блюда – раушан джош, тавак маз и гхуштабу, но мужчины Пачхигама встали стеной, и ширмальцы вынуждены были удалиться со стенаниями по поводу разбитых голов. После горшечной войны все молчаливо признали, что пальма актерского и кулинарного первенства принадлежит Пачхигаму, и смирились с тем, что к их услугам прибегали лишь тогда, когда пачхигамские сказители и повара были уже заняты.
Горшечная война ужаснула пачхигамцев, хотя победа осталась за ними. Они всегда считали жителей Ширмала людьми более чем сомнительного сорта, однако то, что это возмутительное нарушение мира, это столкновение кашмирцев с кашмирцами могло произойти из-за столь низменных чувств, как зависть, алчность и злость, было выше их понимания.
Подруга Фирдоус по имени Назребаддаур, древняя, как земля, прорицательница из племени гуджаров, впала в несвойственную ей глубокую печаль. Ее предсказания всегда отличались неизменным оптимизмом. Несмотря на влажную духоту от спаривавшейся живности, которую старуха держала в том же помещении, где обитала сама, люди частенько заглядывали в ее лесное жилье с замшелой крышей, потому что она всем предсказывала богатство, долгую жизнь и успех в делах. Однако после горшечной распри ее оптимизм резко пошел на убыль.
– Обвал всегда начинается с маленького камешка, – мрачно изрекла она, шамкая беззубым ртом, и вскоре после этого загородила вход деревянной решеткой и прекратила вещать.
Имя Назребаддаур, что означало «сгинь, недобрый глаз», она взяла из старинных сказаний. Так звали прекрасную принцессу, возлюбленную принца Хатима Таи. Она прославилась тем, что избавляла от проклятия одним своим прикосновением. Некоторым наиболее доверчивым сельчанам старуха сумела внушить, что на самом деле именно она и есть та самая принцесса, благодаря своему чудесному дару сумевшая избежать когтей Смерти.
– Если людям от этого светлее жить, – говорила она Фирдоус, – то пускай хоть царицей Савской меня считают.
Честно говоря, Назребаддаур мало походила на царицу какого бы то ни было царства. В кое-как нахлобученном тюрбане, с одиноко торчащим золотым зубом, она больше напоминала пирата, заброшенного судьбой на необитаемый остров. По ее словам, в молодые годы она была щедро одарена Всевышним: у нее были чудные, с бронзовым отливом волосы, белые, как горный снег, зубы и голубой левый глаз. Правда, удостовериться в правдивости ее описаний не представлялось возможным, потому что во всей округе не осталось в живых ни одного человека, кто помнил бы ее молодой. Муж нанес ей тяжкое оскорбление – он умер, не соблаговолив оставить ей хотя бы одного сына-кормильца. Она сочла это верхом хамства с его стороны и дурное мнение о собственном супруге перенесла на всех мужчин в целом.
– Если существует какой-нибудь другой способ продолжения рода человеческого, без мужчин, то я за него, – говорила она, – потому как в этом случае женщина может иметь все что ей нужно и избавить себя от всего ненужного.
Правда, к тому времени, когда новости о возможности искусственного оплодотворения достигли Долины, Назребаддаур давным-давно перешагнула пригодный для деторождения возраст. В любом случае она не смогла бы этим воспользоваться – ей было не набрать денег на подобную процедуру, даже если б она находилась в бронзово-бело-голубом расцвете юности.
Итак, она жила как могла: разводила животину, курила трубку и пыталась не умирать как можно дольше. Предсказание будущего было для нее побочным занятием и источником дополнительного дохода, но не смыслом жизни. Как истинная гуджарка, больше всего на свете она любила сосновые леса.
– Будет лес, будет и пища, – частенько повторяла она. Назребаддаур считала себя хранительницей леса Кхел и требовала, чтобы жители Пачхигама и Ширмала, каждую осень приходившие в лес, чтобы запастись топливом до первых снегов, оказывали ей соответствующие почести.
– Дозволь, матушка, – просили они, – ты же не хочешь, чтобы дети наши поумирали от холода.
И она милостиво допускала их, понимая, что жизнь ребенка дороже, чем жизнь дерева. Она лично сопровождала каждого и разрешала валить только те деревья, которые и без того были обречены. Люди подчинялись, опасаясь, что в случае непослушания она может накликать порчу на поля, наслать трясучку или чирьи.
Она торговала сыром и буйволиным молоком, и оттого тело ее и вся одежда были пропитаны кислым запахом простокваши и топленого масла. Несмотря на то что беднее ее была, наверное, лишь утоптанная глина горных троп, ее жизненная воля действительно вызывала в памяти образ легендарной царицы, которая купалась в молоке и растирала бедра маслом.
Мир за пределами леса казался ей призрачно-чуждым, и она появлялась там только в случаях крайней необходимости. «Наш путь из родимой Гурджии был столь долог и тяжек, что отбил охоту бродить туда-сюда», – говорила она. То обстоятельство, что предполагаемая миграция гуджаров из Гурджии, или фузии, произошла (если произошла) по меньшей мере пятнадцать столетий назад, не имело для нее ни малейшего значения. Назребаддаур рассказывала об этом так, будто сама шаг за шагом проделала весь этот путь – от моря через всю Центральную Азию, Ирак, Иран, Афганистан и дальше – через Хайберский перевал, пока не достигла Индии. Она на память могла перечислить все города и поселения гуджаров на всем пути следования – в Иране, Афганистане, Туркменистане, Пакистане и в самой Индии: Гурджара, Гужарабад, Гуджру, Гужрабас, Гуджар-Котта, Гуджар-гарх, Гуджранвала, Гуджарат. С горечью рассказывала она о страшной засухе, обрушившейся на Гуджарат в шестом веке так называемой Общей эры, вынудившей ее предков покинуть лес Гир, забраться высоко в горы и искать приют среди девственных лесов и лугов Кашмира. «Что ж, оно и к лучшему, – заключала Назребаддаур свой рассказ. – Беда обернулась счастьем. Мы потеряли Гуджарат, зато, о слава Всевышнему, обрели Кашмир».
С ранней юности у Фирдоус вошло в привычку забираться по лесистому склону к хижине Назребаддаур, садиться у ее ног и слушать бесконечные ее истории. Она попивала солоноватый розовый чай и постепенно научилась не воспринимать вони. Она отключала свое обоняние, как выключают радио – в один миг, – и в полной тишине, завороженная гипнотическим голосом Назребаддаур, становилась абсолютно нечувствительна к резкому запаху овечьей мочи и глуха к трубным звукам газов, с поразительной частотой выпускаемых рассказчицей. По словам пророчицы, особый дар предотвращать малые, незначительные неприятности посредством добрых предсказаний открылся в ней с наступлением половой зрелости. Тем не менее она категорически отрицала связь проявления этого дара с менструальным циклом.
– Если бы он имел какое-то отношение к этой гадости, которая превращает и без того нелегкую женскую долю в сущий ад, – презрительно фыркнув, изрекла она, – то он должен был бы исчезнуть с прекращением месячных, а это произошло так давно, что и говорить-то неловко.
Назребаддаур рассказала, как однажды (она уже не могла вспомнить почему), еще девочкой, она оказалась с отцом в городе. Несмотря на красоту улиц Сринагара с нависшими над мостовыми деревянными балконами, где женщины-соседки, находясь наверху, могли свободно болтать, передавать друг другу фрукты, одежду и даже обмениваться приветственными поцелуями; несмотря на сверкающие, словно зеркала, озера и волшебные узкие лодочки, рассекавшие, будто ножики, водную гладь, ей вдруг стало ужас как не по себе.
– Столько людей теснилось вокруг, – объяснила она Фирдоус, – что я разозлилась.
Это чувство ей было вообще несвойственно, по натуре она была добрым, послушным ребенком, а тут ни с того ни с сего ей стало казаться, что ее вот-вот придушат. Давление городской суеты, толп народа показалось ей просто непереносимым. Она подобрала камень и что было силы метнула его в стеклянную витрину лавки, где продавали молитвенные коврики – намда.
– Не знаю, зачем я это сделала, – говорила она Фирдоус. – Город показался мне наваждением, а камень – средством, с помощью которого можно уничтожить эту иллюзию и вернуть обратно лес. Наверное, так оно и было, но как знать? Мы сами себя не знаем. Не знаем, зачем и почему поступаем так, а не эдак, не ведаем, почему любим, или ненавидим, или бросаем камень в стекло.
Более всего Фирдоус нравилось, что с ней разговаривают как со взрослой, вполне серьезно.
– Ты хочешь сказать, – изумленно спросила она, – что я смогла бы отрезать кому-то голову и не знать почему?
– Не надо быть такой кровожадной, девушка! – отозвалась Назребаддаур, сопровождая свои слова трубным пуканьем. – И кстати, сейчас речь вовсе не о тебе. Мы остановились на том, что камень уже в воздухе и он летит к цели, – добавила она.
Бросив свой камень, девочка Назребаддаур тут же пожалела о том, что сделала. Она увидела полный ужаса взгляд отца и впервые в жизни впала в транс. Она испытала блаженно сонное состояние, ей почудилось, что движение толпы вокруг замедлилось, почти остановилось.
– Оно не разобьется! Окно уцелеет! – услышала она, как в забытьи, свой собственный крик, и в этот миг, когда время замерло, она увидела, что камень слегка изменил траекторию, а когда мир снова пришел в движение, камень, ударившись о деревянную раму окна, упал на землю.
После этого случая она стала испытывать свои возможности провидения путем проб и ошибок. В том же году весь Пачхигам сильно встревожился из-за отсутствия дождей. Назребаддаур подслушала разговор двух оказавшихся в лесу односельчан. «Неужели мы так и не дождемся дождя?» – спросил один другого. И тут же девочка снова ощутила восхитительное затормаживание времени. «Дождетесь! – ясным голосом заявила она пораженным мужчинам. – Дождь начнется в среду!» И действительно, в среду после полудня лило как из ведра.
Люди стали поглядывать на Назребаддаур со смесью опаски и восхищения, то есть так, как обычно смотрят на предсказателей. Влюбленные, жаждавшие узнать, ответят ли им взаимностью, игроки, желавшие знать, ждет ли их удача, любопытствующие и ни во что не верящие, добродушные и суровые – вскоре все они проторили дорожку к домику посреди леса. Не раз и не два она подвергалась нападкам – обычно со стороны тех жителей, которые, сталкиваясь с чем-то необычным, стремятся от него отмахнуться. Ее спасло то, что она никогда не врала и не сплетничала, никогда не предсказывала, если не была уверена, что способна дать ответ.
Дело в том, что ведьмина сила, позволявшая ей направлять будущее в желанное русло, являлась и исчезала внезапно, ее невозможно было вызвать сознательно, и Назребаддаур лишь тогда доверительно сообщала взыскующему, что все устроится наилучшим образом, когда не сомневалась в своей способности обеспечить благополучный исход. Однако с годами чудесный дар стал почему-то вызывать у нее тревогу.
Казалось, способность изменять ход событий в положительную сторону должна была бы приносить ее обладательнице одну лишь радость, однако судьба-злодейка наделила Назребаддаур философским складом ума, в результате чего она, отзывчивая по природе, иногда впадала в мрачную тоску. Ее стали одолевать сомнения. Так ли уж это хорошо, если ты способен изменить будущее в лучшую сторону, спрашивала она себя. Быть может, чтобы стать умнее и сильнее, людям нужны все-таки и боль, и страдания? Станет ли мир, в котором все идет прекрасно, чистым раем, или же невыносимым местом скопления особей, которые, будучи избавлены от опасностей, жизненных передряг, катастроф и печалей, превратятся в большеголовых самонадеянных тупиц? Может, ее помощь приносит вред? Может, ей следует перестать совать свой длинный нос в чужие дела и предоставить судьбе решать, что хуже, а что лучше? Спору нет, счастье дорогого стоит, и она верила, что помогает людям заполучить его, но что, если несчастье тоже имеет свою немалую ценность? Кому она служит – богу или дьяволу? На все эти вопросы она не находила для себя ответа, но они возвращались к ней снова и снова, что само по себе тоже было своего рода ответом.
Несмотря на сомнения, Назребаддаур продолжала практику благих предсказаний, она не могла отказаться от мысли, что коли ей ниспослан подобный дар, значит, до́лжно его применять. Но страхи не уходили. Внешне все оставалось по-прежнему: она улыбалась, говорила легко, властно и убедительно, однако скрытое беспокойство нарастало – медленно, но нарастало. Одна вещь, о которой она не рассказывала ни единой живой душе, страшила ее более всего: ей представлялось, будто все беды, которые она отводит от Пачхигама, скапливаются где-то еще; что в то время, пока она бездумно вываливает на пачхигамцев запас удач, несчастья накапливаются, словно вода за плотиной, и настанет день, когда плотину прорвет, они хлынут потоком, и все потонут. Ее худшие опасения мало-помалу начали сбываться.
С легкой руки старшей подруги люди не обратили должного внимания на приспущенное веко Фирдоус и стали обращаться за советами также и к ней, в результате чего супруга Абдуллы начала приторговывать талисманами – продавала заговоренные перцы и лимоны, чтобы подвешивать их на длинных веревочках под крышей дома, куски малахита, черные волосяные кисти и клыки сура – свирепого кашмирского медведя, – которые полагалось вешать как оберег на шею ребенка. Фирдоус стали приглашать на свадебные церемонии, где она подводила глаза новобрачным специально изготовленной смесью с толченым углем и окуривала молодых супругов душистым дымом семян белого цветка избанд, известного также как рута. Во время церемонии Фирдоус вместе с Назребаддаур в сопровождении хора певцов-кастратов из соседней деревни пели величальную песнь:
- Девушка непокорная, дикая
- Получила в мужья парня славного, тихого.
- От глаза дурного, от сглаза злого
- Их спаси, их убереги, о Всевышний!
После того как Назребаддаур затворилась у себя в хижине и отказалась от воды и пищи, Фирдоус, донашивавшая тогда Номана, пришла к ней с едой и принялась уговаривать, чтобы та позволила ей войти. Самовольно Фирдоус этого сделать не осмелилась, потому что это могло навлечь несчастье на ее голову. Подруги уселись по разные стороны тонкой бамбуковой перегородки и, прижавшись к ней губами, повели свой последний в этой жизни разговор.
– Живи! – молила Фирдоус. – Не оставляй меня в этом подлом мире наедине с горшками и дрязгами.
Она услышала, как подруга губами касается перегородки, целуя ее, словно прощалась навсегда с возлюбленным.
– Время прощаний подошло к концу, – услышала Фирдоус ее шепот. – Потому что грядет ужас, и для того, чтобы сказать про него, не найдет слов никакой провидец.
– Ну и умирай, коли хочешь! – потеряв терпение, крикнула Фирдоус и крепко, словно оберегая от зла нерожденное дитя, обхватила руками раздутый живот. – Только, скажу тебе, проклинать всех нас из-за того, что ты сама решила уйти, дело недостойное.
Но проходил день за днем, и стало казаться, что черному пророчеству Назребаддаур сбыться не суждено. Пачхигаму покровительствовали звезды, а оба его самых уважаемых семейства – Номаны и Каулы – служили тому живым подтверждением. Пандит Пьярелал имел во владении яблоневый сад, а Абдулла Номан – персиковую рощу. Помимо этого, у Абдуллы были ульи с пчелами и табун низкорослых горных лошадок, а у Наставника – поле с шафраном, а также загоны с овцами и козами. В тот год лето выдалось доброе, и сочные плоды клонили книзу ветви, полные соты сочились медом, шафран уродился на диво, скот набирал вес и кобылы народили кучу отличных жеребят. Актеры – исполнители традиционных пьес были нарасхват. Особым успехом пользовалось в то лето представление на тему жизни и приключений Зайн-ул-Абеддина – жившего в пятнадцатом веке, известного в народе просто как Великий Бадшах, то есть великий правитель. Единственным темным облаком на этом ясном небосводе были натянутые отношения пачхигамцев с ширмальцами. Абдулла Номан ничуть не сомневался, что люди его деревни смогут и впредь успешно защитить себя от налетов соседей, но размолвка его огорчала, хотя сама идея нарушить монополию ширмальцев на устройство пиршественных угощений принадлежала именно ему. Правда, по поводу своей инициативы он ни малейших угрызений совести не испытывал – мир не стоит на месте, и, чтобы выжить, нужно постоянно чему-то учиться. В этой истории его больше всего огорчало то, что распалась его дружба с ширмальским старостой – шеф-поваром по имени Ямбарзал. Острая на язык супруга еще больше разбередила его душевную рану.
– Пожертвовать дружбой ради успеха дела – значит прогневить Всевышнего, – возвестила она. – У нас и без того все хорошо, а ширмальцам худо: если их не пригласят кормить других, то им самим придется голодать.
Беременность сделала Фирдоус тяжелой и неповоротливой, так что бо́льшую часть времени она проводила вместе с Пампуш, или с Гири – с Косточкой, как та предпочитала себя называть. Гири тоже была беременна, но по сроку на два месяца меньше, и поскольку мечтать дозволяется о чем угодно, они мечтали о том, чтобы их будущих детей тоже связала на всю жизнь прочная дружба. Казалось, эти сладкие фантазии только подогревались возмущением Фирдоус по поводу того, как ее супруг поступил с главным кулинаром Ширмала. Пампуш пыталась как могла защищать Абдуллу.
С задней веранды дома Абдуллы, где сидели женщины, за полем шафрана виднелся Ширмал, и Пампуш, глядя в ту сторону, тихо сказала, что ширмальский староста ни у кого не вызывает особых симпатий. Абдулла был единственным, кто поддерживал с ним дружеские отношения.
– А это, знаешь ли, очень сложно – любить человека, который не замечает никого, кроме самого себя, – задумчиво произнесла она, – и это лишний раз показывает, какой он благородный, твой Абдулла. Теперь, после того как они раздружились, толстяк-ваза́ остался совсем один в целом свете.
Имя вазы, Бомбур Ямбарзал, означавшее «пчела на нарциссе», вполне соответствовало его характеру: он жалил кого вздумается и был чудовищно тщеславен. Он управлял ширмальским ульем, потому что слыл непревзойденным мастером своего дела. Однако вся поварская команда его терпеть не могла, а причиной тому была его склонность к муштре подчиненных и надоевшее всем жужжание про необходимость начищать котлы до такого блеска, чтоб он мог видеть в них, как в зеркале, свое отражение. Пока ширмальцы сохраняли свое звание лучших кулинаров Долины и в чудовищных количествах поставляли кушанья во время праздничных церемоний, люди мирились и с его укусами, и с его самолюбованием. Но вот доходы стали падать, а вместе с ними стала заметно слабеть и его власть, в то же время – как вскоре станет ясно – влияние нового муллы Булбула Факха, напротив, стало заметно расти. Всю вину за это и за многое другое Ямбарзал возложил на Абдуллу.
Отчасти из восхищения кулинарным искусством Бомбура Ямбарзала, отчасти из уважения к его статусу деревенского старосты Абдулла делал все возможное, чтобы поддерживать с ним дружеские отношения. По его инициативе они вдвоем время от времени отправлялись ловить форель в горных ручьях; случалось, проводили вечера за кружкой черного рома или уходили на несколько дней в горы. За личиной расплывшегося, хвастливого индюка Абдулла сумел разглядеть другого Ямбарзала – одинокого человека, единственной страстью которого была кулинария. Он относился к своей профессии со священным трепетом, ожидая того же от своих соратников, и испытывал страшное разочарование, когда замечал, с какой преступной легкостью его помощники отвлекались от служения божественному гастрономическому искусству ради семьи, ради любви или просто из-за утомления.
– Если бы ты не был настолько суров к самому себе, – сказал ему однажды Абдулла, – то, возможно, стал бы мягче относиться к другим и тебе веселее жилось бы.
Бомбур тотчас ощетинился.
– Я не плясун и не шут, – резко бросил он. – Я занимаюсь устройством пиров, а не забавляюсь играми.
Эти слова показали, что у них с муллой Факхом была общая, очень опасная черта – фанатизм. А безумные идеи Булбула Факха вскоре превратили жизнь обеих деревень в настоящий кошмар.
После горшечной войны всякие контакты между Бомбуром и Абдуллой были прекращены. Так продолжалось до тех пор, пока не прибыли посланцы от махараджи Дарги с требованием замириться, ибо близился праздник Дассера[6] и им предстояло объединить усилия и вместе с персоналом дворцовых кухонь приготовить достойное угощение (и развлечение) для торжественного пиршества в садах Шалимар. Празднество планировалось устроить с невиданным размахом, таким, какого не помнили со времен Джахангира[7].
Подобно тому как набираются блох от запаршивевшей собаки, к Фирдоус перешли некоторые приемы Назребаддаур. Одолеваемая провидческим зудом, Фирдоус тотчас же по этому случаю заявила, что грядут серьезные перемены к худшему и махарадже про это известно.
– Он устраивает одно увеселение за другим, как будто завтра наступит конец света, – изрекла она. – Дай-то Всевышний, чтобы это касалось только его самого, а не нас с вами.
Девять ночей подряд Пьярелал Каул неутомимо воспевал богиню Дургу и на десятый день проснулся весь сияющий.
– С чего это ты такой довольный? – проворчала Пампуш.
Из-за беременности она в тот день чувствовала себя совсем плохо, поэтому настроение у нее было хуже некуда. К тому же ее извели песнопения. Супруг-пандит славил Всевышнего, не закрывая рта, вот уже девять дней, причем пел не только во время служб в маленьком деревенском храме, но и дома, отчего она не могла заснуть.
– Сколько бы ты ни голосил про эту любовь к богине, – в сердцах заметила Пампуш, – единственная женщина в твоей жизни – вот этот раздутый шар, то есть я.
Но на восторженное состояние Наставника ничто, даже дурное расположение духа его половины, повлиять не могло.
– Нет, ты только представь! – воскликнул он. – Сегодня мусульмане нашей деревни с соизволения махараджи-индуиста будут готовить пир в садах Великих Моголов, иначе говоря мусульман, в честь того дня, когда всемогущий Рама предпринял поход против демона Раваны ради освобождения своей драгоценной супруги Ситы. Более того – на праздновании будут разыграны два представления: одно – наше, традиционное – «Рам-лила», а другое – легенда о мусульманском султане – «Бадшах». Индусы, мусульмане – какая нам разница? У нас в Кашмире оба представления обозначены двумя колонками на одной и той же афише; мы едим из одной посуды, мы смеемся над одними и теми же шутками. Мы будем с превеликим удовольствием следить за победами славного Зайн-ул-Абеддина, а наши братья и сестры мусульмане с таким же увлечением станут смотреть, как Рама выручит свою Ситу, – они все любят Ситу и хотят, чтобы ее спасли. У нас нет споров, нет проблем! А еще – фейерверки! В Шалимаре установят огромные фигуры – среди них будут и Равана, и его брат Кумбхакарна, и его сын Мегхнад. Представь – мусульманин Абдулла Номан будет исполнять роль самого бога Рамы! Он пустит стрелу в Равану – и сразу за этим на фоне фейерверка запылают все чучела сторонников Раваны!
– Это, конечно, замечательно, – уныло покачала головой Пампуш, – только я-то все это вряд ли увижу; меня наверняка будет выворачивать наизнанку за ближайшим кустом.
На противоположном конце Пачхигама проснувшаяся на рассвете Фирдоус обнаружила, что ее желтые волосы потемнели. Ребенок должен был вот-вот родиться, и ей казалось, будто в вены ее влили какую-то постороннюю жидкость. Одолеваемая мрачными предчувствиями, она решила, что тень, упавшая на ее волосы, есть дурной знак. Абдулла привык доверять инстинктам жены и потому даже спросил ее, не стоит ли поварам и актерам послать к черту заказ махараджи и остаться дома, но она покачала головой.
– Назребаддаур была права – затевается что-то поганое, – прошептала она, похлопывая себя по невероятных размеров животу, – но сейчас меня больше пугает тот, кто еще внутри, но скоро появится.
Это был первый и последний раз, когда она высказала вслух то, что тщательно скрывала от всех и чему не находила никаких рациональных объяснений: еще до появления на свет мальчика, который с первого дня стал общим любимцем, мальчика светлого, доброго и самого искреннего из рожденных в Пачхигаме, она стала бояться его до смерти.
– Не тревожься ты так, – начал успокаивать ее Абдулла, неверно истолковав ее слова. – Мы будем отсутствовать всего одну ночь. Парни будут рядом. – Говоря про парней, он имел в виду пятилетних двойняшек Хамида и Махмуда, а также Аниса, двух с половиной лет от роду. – Да и Пампуш побудет с тобой до нашего возвращения, – добавил он.
– Если ты полагаешь, что мы с Гири Каул собираемся сидеть дома и пропустить такой праздник, то, значит, мужчины еще глупее, чем я о них думала, – сказала Фирдоус уже своим обычным, не допускающим возражений тоном. – И еще: коли дитя решит родиться сегодня в ночь, то уж лучше мне в это время быть вместе с женщинами, а не оставаться одной в опустевшей деревне наедине с привидениями. Или ты так не считаешь? И кроме всего прочего, кому как не мне, прямой наследнице великого Искандера по женской линии, надлежит открыть торжество в садах Моголов?
Абдулла Номан знал, что упоминание в качестве довода имени Искандера Великого делало дальнейшую дискуссию бессмысленной.
– Хорошо, – сказал он, пожимая плечами, – если вы, курицы неповоротливые, хотите снести детей, словно яйца, под кустом в тот самый момент, когда господа будут лакомиться жареными цыплятами, – дело ваше.
«Александрийские фантазии» Фирдоус, которая настаивала, будто светлые волосы и голубые глаза достались ей от македонца, служили причиной самых бурных ссор между нею и супругом, который считал правление завоевателей-чужеземцев бедствием ничуть не меньшим, чем эпидемия малярии. С другой стороны, не усматривая в этом никакого противоречия, он с превеликим наслаждением исполнял роли иноземцев, правивших в Кашмире как в период, предшествовавший установлению власти Моголов, так и в более поздние времена.
– Правитель на сцене – это всего лишь метафора, это идея величия, обретшая плоть, – говорил он, поправляя войлочную шапочку, которую носил постоянно, словно корону, – в то время как правитель во дворце либо пропойца, либо докука, а когда он на боевом коне, – при этом Фирдоус, как он и ожидал, сразу разъярилась, – то для простых мирных людей он во все времена символ большой беды.
Что до нынешнего правителя Кашмира (который был индуистом), то тут Абдулла дипломатично придерживался политики нейтралитета.
– В настоящий момент мне все равно, кто он – великий раджа, великий мудрец или великий бандит, – сказал он перед началом праздника в Шалимарских садах. – Он наш наниматель, а актеры и устроители пиров Пачхигама привыкли относиться к каждому нанимателю как к махарадже.
Семья Фирдоус поселилась в Пачхигаме во времена ее деда. Прибыли они на коротконогих горных лошадках, с патронташами, набитыми золотым песком, на который ими были приобретены плодовые сады и выпасы. Все это досталось Фирдоус как единственной наследнице и после свадьбы перешло в качестве приданого в собственность самого почитаемого в округе человека, сарпанча Абдуллы Номана. Прежде чем поселиться в Пачхигаме, семейство проживало в живописной (а также кишевшей разбойниками) местности, известной как холмы Пир-Раттан, недалеко от Пянджа, в деревне под названием Буффлияз. Считалось, что деревня была так названа в честь Буцефала, любимого коня Александра Македонского. Согласно легенде, именно в этом месте сотни лет назад Буцефал испустил свой последний вздох. Абдулле было известно, что в тех местах Буцефала почитают в качестве второстепенного божества и поныне. Именно по этой причине при любом его презрительном замечании о боевых конях щеки буффлиязки Фирдоус заливала краска гнева. Не меньший ее гнев вызывали и непочтительные высказывания относительно гигантских муравьев.
О гигантских муравьях в Северной Индии в свое время написал историк Геродот, и ученые при дворе Александра поверили ему. Эти ученые были отнюдь не глупцами, не наивными невеждами, каких было много в Средние века, когда миром правил меч. Они, к примеру, без колебаний отмели (не спрашивайте, путем какого рода изысканий) расистского толка версию греков о том, что у индийцев сперма черного цвета. Так или иначе, они действительно были убеждены в существовании муравьев-золотоискателей. Верило в это и население Пир-Раттана. Старики Буффлияза утверждали, что и Александр Великий направился в эту таинственную местность, потому что слыхал об огромных и волосатых, похожих на муравьев существах; они меньше собаки, но больше лисы, скорее всего, размером с сурка, и для постройки своих гигантских конусообразных жилищ используют золотой песок. Как только отряды греков, вернее их предводители, собственными глазами убедились в существовании муравьев-золотодобытчиков, многие из них отказались от возвращения в родные места, поселились в холмах Пир-Раттана, разбогатели и стали жить в праздности, плодясь и размножаясь, в результате чего среди их потомков наряду с черноволосыми и горбоносыми появились светловолосые и голубоглазые дети с греческими прямыми носами. Сам Александр тоже пробыл в тех местах довольно долго и успел пополнить свою казну, а также походя забить, так сказать, несколько голов в чужие ворота, вследствие чего на генеалогических древах некоторых семей возникли побочные ответвления. Первым отростком на одном из таких дерев и стал две тысячи лет назад предок Фирдоус.
– Мои предки ведут свой род от Искандера Великого, – рассказывала Фирдоус младшему своему сынишке Номану. – Они знали тайные места, где находились муравейники с золотом, но со временем запасы золота истощились. Тогда мы набили сумки тем, что осталось, переселились в Пачхигам, а здесь нам пришлось сделаться устроителями развлечений для богачей, коими мы сами были когда-то.
Фирдоус Номан была пачхигамкой уже в третьем поколении, супругой самого сарпанча, к тому же, несмотря на приспущенное, как у змеи, веко и россказни о средиземноморских предках и подземных городищах змей, пользовалась покровительством Назребаддаур. Поэтому в деревне все дружно предпочли не вспоминать о том, что во времена их дедов было известно всем и каждому, а именно, что когда некий Батт (или Бхатт?) прибывает в деревню под покровом ночи из разбойничьих мест, сорит деньгами направо и налево и таким манером добивается признания деревенской общины, а дальше проводит ночь за ночью, не смыкая глаз, с заряженным ружьем наизготовку и называет себя явно вымышленным именем, смутно представляя, как его нужно произносить, тогда и дураку понятно, что мохнатые, ростом с сурка муравьи-золотоискатели не имеют к данной ситуации ни малейшего отношения.
Поначалу почтенный господин Батт, или Бхатт, вообще почти не общался ни с кем из местных – он просто просиживал ночи напролет без сна, оберегая жену и ребенка, и днем всем казалось, что глаза у него вот-вот лопнут от нестерпимой боли.
Никто не решался задавать ему вопросы в лоб, и лет через пять-шесть он сделался поспокойнее, словно бы поверив в конце концов в то, что за ним больше не охотятся. Прошло десять лет – и он впервые улыбнулся. Возможно, главарь банды, изгнавший Бхатта из Буффлияза, вполне довольный полученной властью, решил не преследовать побежденного соперника; а может статься, гигантские муравьи, хранители сокровищ, действительно существовали, но решили отпустить его с миром. В древних сказаниях говорилось, будто муравьи пускались вдогонку за похитителем своих сокровищ, и горе тому – будь то мужчина или женщина, – кто не успевал убежать! Нет ничего страшнее, чем быть съеденным заживо муравьиной ордой, лучше уж повеситься или самому перерезать себе горло. Наверное, Батт, или Бхатт, очень боялся, что его настигнет армия муравьев, но ему повезло: муравьи то ли сбились со следа, то ли нашли новую золотую жилу и потеряли интерес к жалким мешочкам золотой пыли, оставшейся после нашествия чужеземцев. Так или иначе, лет через пятнадцать стали один за другим умирать те, кто был свидетелем появления Бхатта, а когда на двадцать первом году житья в Пачхигаме он сам мирно испустил дух – как положено, на собственной постели, без всякого ружья в изголовье, – это окончательно примирило с ним пачхигамцев и они перестали злословить по поводу его темного прошлого. Когда же Фирдоус вышла замуж за самого уважаемого в деревне человека, про бандитское золото уже вообще никто не вспоминал, и версия про муравьев-золотодобытчиков оказалась единственно возможной. Оспаривать эту версию – значило добровольно подставлять спину под удар и иметь дело с острым как бритва язычком Фирдоус, что было по силам лишь одному человеку – самому сарпанчу Абдулле, хотя и он временами обращался в бегство под яростным натиском ее словесных атак. Однако же проснувшаяся в день праздничного пиршества Фирдоус, заметив, что волосы ее потемнели, произнесла непонятные слова про то, что боится сына, который еще не родился, но будет рожден тою же ночью в прославленных садах Шалимар. «Меня от него дрожь пробирает», – повторяла она про себя и до, и после его появления на свет, – потому что, едва он раскрыл глаза, мать заметила в них золотистый разбойничий отблеск, предупреждавший ее о том, что в бурной, неспокойной жизни его ожидают и утерянные сокровища, и ужасы, и множество смертей.
У входа в сад Шалимар рядом с величественным озером, с колышущимися на водной глади бесчисленными лодочками-шикарами, создававшими впечатление зрительской аудитории, с нетерпением ожидавшей начала представления; под шепчущимися чинарами и шелестящими тополями, вблизи отстраненно глядящих вниз горных цепей, сосредоточенных лишь на одном – ценой гигантских усилий медленно, очень медленно вздыматься все выше и ближе к девственно-чистым небесам, толпились жители Пачхигама. Они принесли и привели на убой живность – кур, коз и овец, чьей крови вскоре суждено было зажурчать потоками, подобно знаменитым садовым каскадам; они уже сняли с повозок и водрузили на головы и плечи кухонную утварь, театральные костюмы и соломенные чучела демонов. Тут же, словно для их увеселения, на пустой бочке пристроился крошечный оратор. Оглушительно стуча ярко раскрашенной палочкой по громадному барабану, он обратился к собравшимся с неожиданным воззванием.
– Есть дерево в раю, – запищал карлик, – оно укрывает и оберегает всех несчастных. Я всегда знал, что именно на этой земле, в нашем земном раю, как мы его называем, хотя кое-кто из чужаков считает это пустым хвастовством, в нашем несравненном Кашмире, произрастает самый близкий родич того священного дерева – тооба. В легенде говорится, что местонахождение этого земного близнеца райского дерева было указано великому Джахангиру святыми людьми – пирами – и вокруг него Джахангир велел разбить этот знаменитый сад Шалимар. Поныне никто не знает, как оно выглядит, это дерево, и вот сегодня с помощью одному мне известного магического действа эта тайна будет открыта вам.
Говорун был смуглым человечком с маленькими блестящими глазками и приплясывающими усами, которые, казалось, жили своей самостоятельной жизнью и выделывали немыслимые акробатические трюки над белозубым, растянутым в улыбке ртом. Несмотря на бочку и неимоверно высокий тюрбан, он все равно оставался ниже любого из присутствующих. Абдулле при виде него пришло в голову, что, вероятно, этот человек взялся за ремесло фокусника, чтобы отомстить людям за свое убожество: из-за ничтожно малого роста мир не замечал его, в отместку и он в свою очередь овладел искусством дематериализации предметов и вещей реального мира.
Однако Фирдоус восприняла его более серьезно.
– Он смешон, только когда пищит и колотит в барабан, – шепотом проговорила она. – Но приглядись к нему повнимательнее, когда он делает передышку. Тебе не кажется, что в эти короткие минуты он вдруг меняется и выглядит как человек, уверенный в себе и, пожалуй, даже властный? Если бы он не верещал, то, может, сумел бы заставить нас поверить, что перед нами не обычный шарлатан.
– Я Саркар Седьмой! – выкрикнул карлик, ударяя в барабан. – Дамы и господа! Перед вами устроитель невероятнейших иллюзий, миражей и конфузов, наследник легендарного фокусника Саркара в седьмом поколении! Одним словом, я владею всеми видами волшебства, главным и самым древним из которых является индраджал! – Человечек снова ударил в барабан что есть мочи и при этом едва не свалился с бочки, что вызвало, к сожалению, громкий смех присутствующих. – Смейтесь сколько угодно! – воскликнул разозленный Саркар номер семь. – Но попомните мои слова: сегодня ночью, в самый разгар праздника, после пиршества и представления, после танцев и фейерверка, я устрою так, что сад Шалимар исчезнет! Он исчезнет по меньшей мере на три минуты. Райское дерево – только оно одно способно противостоять моим чарам! Вот когда оно предстанет перед вашими глазами, тогда посмотрим, кто будет громче смеяться – я или вы!
Человечек последний раз ударил в барабан, спрыгнул с бочки и стал пробираться сквозь толпу.
– Мы не хотели вас обидеть, – сказала, останавливая его, Фирдоус. – Мы сами актеры и первые будем аплодировать, если ваш трюк удастся.
Саркару Седьмому стало стыдно за свою выходку, но он постарался этого не показать.
– Думаете, я новичок? – фыркнул он. – Вот, смотрите! И тут малыш вынул из-за пазухи рулон газетных вырезок. Люди подошли ближе, и он начал с гордостью зачитывать заголовки:
– «Саркар Седьмой заставляет исчезнуть идущий поезд!», «Бомбейский Каскад цветов волшебным образом исчез!» – Но главное свое чудо он приберег напоследок: – «Таинственное исчезновение Тадж-Махала!» – выкрикнул он и умолк.
Газетные вырезки произвели глубокое впечатление, и настроение толпы изменилось. Люди перестали обращать внимание на его рост и теперь смотрели на коротышку с уважением. Скептиком оказался один лишь Абдулла.
– Так вот ты чем занимаешься! – воскликнул он с громким, вызывающим смехом. – Хотелось бы знать, как это у тебя получается? Это что – массовый гипноз?
– Никак нет, что вы! Гипноз тут совершенно ни при чем! – лукаво покачал головой карлик. – Просто я умею убирать из вашего поля зрения все что захочу! Ничего сверхъестественного, никакой черной магии! Это чистая наука, искусство Высшей Иллюзии, великая наука управления разумом!
Посыпались вопросы, но Саркар номер семь, ударив в барабан, призвал всех к молчанию.
– Довольно, пока это все! – торжественно провозгласил он. – Неужели вы думаете, что я стану выдавать свои секреты, прежде чем вы увидите все собственными глазами? Скажу одно: сила воли позволяет мне создавать и разрушать мировую гармонию, и в этом секрет моего успеха. Что такое индраджал? Это иллюзия счастья, ибо когда вы счастливы, то вам кажется, что возможно все. А теперь, о язык мой, перестань болтать! Я и так сказал слишком много! Разыгрывайте вашу пьесу, фигляры, а после увидите, как играет настоящий мастер! – сказал он, еще раз ударил в барабан и скрылся среди кустов.
– Вот увидишь, – сказал жене пандит Пьярелал Каул, – к концу вечера я разгадаю его фокус-покус с исчезновением!
Этой ночи суждено было стать ночью мрачных исчезновений: еще никто не знал, что она унесет и Гири Каул.
С того самого момента, как Абдулла Номан вошел в сад и зашагал по шуршащей листве, толстым покровом усыпавшей землю, его стали одолевать сомнения в успехе всего предприятия. Ночь выдалась необыкновенно холодная для октября, и уже начал падать снег. «К тому времени, когда прибудут разряженные гости, метель разойдется вовсю, и люди начнут мерзнуть, – думал он. – Достанет ли переносных жаровен, чтобы согреть пирующих? И дальше что? Мерзнущую публику расшевелить трудно. Праздник в саду в такую погоду – дело немыслимое. С таким снегом ни „Рам-лила“, ни „Бадшах“ не совладают».
И все же мало-помалу волшебная красота сада сделала свое дело, и уныние покинуло Абдуллу. Ведь рай – это тот же сад, как бы его ни называли – райские кущи, Гулистан, Джаннат или Эдем, а Шалимар – его зеркальное земное отражение. Абдулла нежно любил все кашмирские сады Великих Моголов: и Нишат, и Чашма-Шахи, но более других, конечно же, Шалимар. Выступить здесь с представлением было его самой заветной мечтой. Нынешний правитель Кашмира никак не был связан с Великими Моголами, но при столь богатом воображении, как у Абдуллы, ему ничего не стоило подменить его образ другим – знакомым и любимым. Абдулла стоял в самом центре спускавшегося террасами сада и направлял своих людей в заранее определенные для них места. На самой верхней из террас актеры уже приступили к установке сцены, в кухонных палатках команда поваров уже вовсю строгала, отбивала, резала, кипятила и варила бесчисленные яства… Абдулла прикрыл глаза и силой воображения вызвал к жизни образ давно почившего создателя этого земного чуда с колышущимися кронами дерев, зеркалами каскадов и музыкой, плывущей по воде, – образ монарха, влюбленного в природу, правителя с душой романтика, для которого Земля была возлюбленной, а пышные сады – любовной песнью ей. Знакомое состояние, близкое к трансу, охватило его. Сарпанча Абдуллы больше не было; остался Джахангир – Великий Хранитель Вселенной. Все тело его расслабилось, что-то чувственное проступило в лице – лице человека, упоенного властью. «Где же паланкин? – пронеслось в его затуманившемся сознании. – Где носильщики в веревочных сандалиях? Им полагается нести меня на своих плечах в разубранном паланкине. Почему я следую пешком?»
– Вина! – шепнули его губы. – Подайте мне сладкого вина, и пусть играет музыка, велите музыкантам, чтоб начали играть!
Временами сомнамбулическое состояние Абдуллы перед началом представления пугало даже его собратьев-актеров. Когда он давал волю воображению, то многим казалось, что сарпанч имеет особую власть над умершим, может заставить его войти в свое тело и тем самым добиться абсолютного перевоплощения. Это производило на них более сильное впечатление, чем само представление, но некоторым становилось не по себе. Поэтому и теперь, по заведенному правилу, актеры призвали Фирдоус – уж она-то умела возвращать супруга из прошлого в настоящее.
– Мир объемлет тьма, – словно в забытьи проговорил, обращаясь к жене, сарпанч, – сделаем же все, что в наших силах, дабы сохранить память о свете.
Это были предсмертные слова Джахангира, произнесенные им сотни лет назад по дороге в Кашмир. Он умер, так и не достигнув желанной цели – своего земного рая, своего сада, подобного гимну, сада, где змеились террасы и щебетали птицы. Фирдоус поняла, что состояние мужа требует мер решительных и жестких, тем более что у нее самой были новости, о которых ее Абдулле следовало знать. Для начала она грубо дернула мужа за полу. С войлочной накидки-чхугха и с его бороды бесшумно ссыпались горки снега.
– Никак ты накурился? – нарочито резко проговорила она. – Этот сад плохо влияет на маленьких, ничтожных людишек – им начинает казаться, будто они всемогущи.
Оскорбление проникло сквозь пелену затуманившегося сознания Абдуллы, и он вернулся к унылой реальности: никакой он не правитель, он здесь, чтоб увеселять господ. Он – слуга. Фирдоус, которая угадывала его мысли прежде, чем он успевал их додумать, громко рассмеялась ему в лицо, отчего на душе у Абдуллы сделалось еще тоскливее, а щеки запылали от унижения.
– Хочешь как следует сыграть правителя, – заговорила Фирдоус более мягким тоном, сменив гнев на милость, – обдумай сперва роль Зайн-ул-Абеддина, с нее тебе начинать, а дальше – думай про Рамачандру, «Рам-лила» будет представляться после перерыва. Прямо сейчас самое важное – жизни тех, кто рядом с тобой. У Гири начались преждевременные роды, а все потому, что ты так сказал.
Мысли его прояснились. И все же… все же… Жизнь и смерть – они были повсюду, во все времена.
В начале пятнадцатого века султан Зайн-ул-Абеддин заболел страшной болезнью и непременно бы умер, если бы не вмешательство знаменитого врача, ученого человека по имени Батт (или Бхатт). После того как сей ученый доктор излечил сиятельного Зайн-ул-Абеддина, тот сказал: «Проси, и одарю тебя чем хочешь, ибо что может быть ценнее новой жизни, которую подарил мне ты!» – «Для себя мне ничего не нужно, – отвечал Батт, или Бхатт. – Однако тот, кто правил до тебя, о господин, обрек моих братьев по вере на гонения, вот они-то и нуждаются в даре, равноценном жизни». Зайн-ул-Абеддин тотчас отдал приказ прекратить преследования кашмирских брахманов. Вдобавок к этому он лично проследил за восстановлением их в правах собственности, позаботился о розыске их оказавшихся на чужбине близких, а также дозволил им беспрепятственно отправлять все службы и исполнять свои религиозные обряды. Он отстроил им храмы, велел снова открыть их школы, освободил от жестоких налогов, восстановил библиотеки рукописей и запретил убивать коров. Так начался золотой век Кашмира.
Он обрел дар речи, и бессвязные слова, будто напуганные овцы, стали выскакивать из его рта:
– Пампуш, айя-аа, хаи! Где она? Что происходит? Она жива? А ребенок – он будет жить? Где Пьярелал? С ума сходит, наверное! Говорил ведь я вам, чтоб сидели дома! Аре-е! Когда это началось? Где? Что нам делать?
Жена прикрыла ему рот ладонью и громко, так, чтобы слышали все, с наигранным возмущением произнесла:
– Вы только послушайте его! И это наш сарпанч, глава всего Пачхигама! Всего и делов-то – еще один малыш родился, а у него такой вид, будто сам малым ребенком стал!
Остальное она торопливо прошептала ему в самое ухо, и это были слова ободрения:
– Мы набрали простынь и устроили место для родов позади кухонных палаток. Там женщины, они знают, что делать. Ребенком я займусь сама, остальные приглядят за близнецами и Анисом. Гири совсем плохо, да тут еще эта метель. В списке гостей есть имена врачей, некоторые живут недалеко, возле Сринагара, Пьярелал уже отправился к одному из них. Все, что возможно, мы делаем. Предоставь это мне. У тебя сейчас и без того забот хватает.
Абдулла приоткрыл было рот, но Фирдоус поняла, что он готов произнести свое обычное «я тебя предупреждал», и зашипела:
– Не смей этого говорить! Даже и не думай!
И Абдулла снова стал самим собой: да, конечно, сейчас приведут врача, Пампуш и ребенок будут спасены. «Вмешательство врача, ученого человека», – вспомнились ему слова из пьесы «Бадшах». Сейчас предстояло проверить, как обстоят дела на кухне и за сценой. Абдулла стал «обходить посты», раздавая указания, налаживая контакты с охраной махараджи, с привезенными слугами и поварами дворцовой кухни. На самой верхней из насыпных террас сада, по обе стороны водного каскада, были поставлены ярко расцвеченные шамиана – шелковые палантины, и дворцовая обслуга уже расстилала под ними прямо на земле скатерти-дастарханы, раскладывая валики-подушки таким образом, чтобы возле каждой могла расположиться группа из четырех гостей.
Абдулла был везде и всюду, чтобы лично убедиться, что все идет как должно. Снег падал большими пушистыми хлопьями, и трудно было сказать, то ли это проклятие, то ли благословение свыше. В палатке на самой нижней из террас ему преградил дорогу ваза́ Ширмала, и его раскрасневшееся лицо свидетельствовало отнюдь не о добром расположении духа.
Похоже, что повеление махараджи позабыть хотя бы на время о разногласиях на этого человека никак не повлияло и настрой у него был далеко не мирный.
– Невиданное унижение! – возопил он. – Подумать только – нас назначили обслуживать террасу, где будут сидеть самые что ни на есть захудалые из гостей! И это нас, которым нет равных в кулинарном искусстве, нас, прославленных мастеров в приготовлении плова и метхи, подлинных художников аб-гоша! А вам, пролазам и выскочкам, ворам и невеждам, считающим, будто можно готовить такой пир без старшего вазы, а тем более без главного шефа, такого как я, – вам достались более важные гости! Это оскорбление, и мы его не позабудем. Одно меня утешает: на самую высокую террасу вас, паскудников, тоже не допустили, потому как придворные повара пригрозили уволиться, если их лишат чести угощать махараджу и его близких друзей. Ясное дело – чтобы угодить своим поварам, махараджа счел возможным оскорбить весь Ширмал.
Абдулла решил смолчать. Что правда, то правда: пачхигамцев назначили обслуживать средний ярус, однако после окончания пира его труппа будет разыгрывать две пьесы, а представление завершится возжиганием демонов и фейерверком – и все это предстоит сделать им непосредственно пред очами самого махараджи. «Бедняга Бомбур, – подумал Абдулла, очередной раз одолеваемый чувством вины перед бывшим другом, – не стану я сыпать ему соль на незажившую рану». Он молча кивнул, что можно было счесть если не извинением, то знаком уважения, и двинулся дальше. Он еще не догадывался и даже не подозревал, что в предстоящую ночь его ожидает не пиршество и не представление, но нечто совсем иное; что эта ночь станет поворотным моментом в его жизни, как и в жизни всех, кого он любил, – ночь, после которой мир перевернется, реки потекут вспять и звезды сдвинутся с привычных мест и будет им все равно, где всходить, ибо все станет зыбким и опустится мрак, а с ним нагрянет ужас, – словом, сбудется все то, что произнесли уста Абдуллы, не спросивши согласия у его разума. Занятый мыслями о подготовке праздника, он шел сквозь метель, чуть подавшись вперед. Его прочные высокие сапоги тяжело ступали по вороху листьев. Он как раз направлялся взглянуть, успели ли построить помост на верхней террасе, и был уже у центрального водоема, когда его нагнала Фирдоус. Она схватилась за его руку, чтобы удержаться на ногах, и в этот миг, словно напуганные происшедшей с ней переменой, взметнулись вверх восклицательными знаками фонтаны. Обычная уверенность ей явно изменила, лицо было напряжено, а «ленивый глаз» скосился еще больше.
– Послушай, – начала она, но вдруг замолчала; лицо ее исказилось, она сцепила зубы, обливаясь холодным потом, переждала, пока отпустит, и только после этого заговорила снова: – Я готова признать, что все сложилось хуже, чем я думала.
За кустами обе женщины разродились одновременно, под наблюдением известного врача и философа-суфия Ходжи Абдул-Хакима. Он был дипломированным специалистом, знатоком трав и медицинских препаратов – как традиционных, так и современных – Востока и Запада. Однако все его знания на этот раз оказались не нужны: Жизнь явилась сама собою, а Смерть отогнать не получилось. Результат – один младенец мужского пола, один – женского, одни роды легкие и один летальный исход. Фирдоус Номан родила – как косточку выплюнула.
– Ну вот и ты, торопыга, – шепнула она в ушко младенцу, пренебрегши обычаем, потому что первым словом, услышанным ребенком, должно было стать имя Божие. – Твой отец – маг перевоплощений, называющий свой талант актерским мастерством; мать у тебя – из семьи с темным прошлым, а ночь твоего рождения – странная ночь; так что ты уж постарайся вырасти нормальным человеком и не пугать меня.
В этот момент пронзительно вскрикнула Гири. Фирдоус рванулась к умирающей подруге, но ее удержали силой, женщины захлопотали возле выжившей матери, запеленали обоих младенцев и прикрыли лицо умершей. Ночью в повозке, запряженной буйволами, ее усыпанное цветам тело доставят в родной Пачхигам, а назавтра предадут сожжению на погребальном костре из душистого сандала. Что тут обсуждать? Смерть – дело обычное. Такое случается сплошь и рядом, хотя не столь часто, чтобы это грозило вымиранием деревне, – ее население росло год от года. Человек смертен, и когда приходит его черед, это надлежит принять как данность. По нему поплачут и совершат все полагающиеся обряды. Наставнику и его новорожденной дочери будет нужна помощь и поддержка, и они ее получат, деревня возьмет их в свои теплые ладони. Пьярелал будет жить дальше, будет расти и его дочь. Жизнь потечет своим путем, растают снега, и цветы расцветут опять. Смерть – это еще не конец всему.
Абдулле сообщили о рождении четвертого сына, однако пока что ему некогда было предаваться ликованию: появления гостей ожидали с минуты на минуту, а дел оставалось еще очень много. К тому же внутренне он уже стал готовить себя к перевоплощению в Зайн-ул-Абеддина. Знаменитый султан для Абдуллы был олицетворением всего, за что так любил он свою кашмирскую долину, – олицетворением веротерпимости и слияния в один общий поток двух религиозных течений – индуизма и ислама. Кашмирские пандиты, в отличие от брахманов всей остальной Индии, с удовольствием вкушали мясную пищу; кашмирские мусульмане, быть может завидуя широкому выбору богов, имевшемуся в распоряжении индуистов, чуть-чуть отступили от сурового монотеизма своей веры и ревностно почитали места упокоения своих святых-пиров. Считаться кашмирцем, иметь ни с чем не сравнимое счастье жить на этой благодатной земле означало превыше всего ценить то, что сближает, а не то, что разъединяет, и Бадшах Зайн-ул-Абеддин был для всех символом этого единения. Абдулла прикрыл глаза, чтобы полностью войти в образ, и потому его не было рядом с другом-пандитом в момент, когда Пампуш умирала, истекая кровью во время родов.
Стайка крылатых теней выпорхнула из сада с ее душою. Под иллюминированными деревьями горько плакал Пьярелал, и, обняв его за плечи, так же безутешно рыдал рядом с ним суфий-философ, светило медицины Ходжа Хаким.
– Друг мой, – говорил он сквозь слезы, – проблема смерти встает перед нами ежедневно и ежечасно. Все мы задаемся одними и теми же вопросами: сколько нам еще осталось прожить? Будет ли ниспослана нам тихая кончина, или суждено принять смерть в муках? Сколь много удастся нам еще совершить в этой жизни? Сколь долго будет нам дано наслаждаться ее благами? Доведется ли увидеть, как будут вырастать наши дети?
В любое другое время шанс обсудить онтологические проблемы, не говоря уже о возможности углубиться в тонкости различий между мистицизмом суфиев и индуистов, переполнил бы радостью сердце Наставника. Однако нынешняя ночь выдалась совсем особой, не похожей ни на какую другую.
– Она уже знает ответ на все вопросы, – захлебываясь слезами, выговорил Наставник, – но до чего же горек он, этот ответ!
– Проблема смерти – это и проблема жизни, мой дорогой, – отвечал сквозь рыдания Ходжа Хаким, проводя обеими руками по лицу безутешного вдовца, – а вопрос о том, как жить, есть и проблема любви. Вот на этот вопрос вам и предстоит найти для себя ответ, и нет иного пути ответить на него, как продолжать жить.
Слова иссякли, и оба, подняв головы к зловещему огрызку луны, заголосили громко и горестно. До того, как здесь был разбит сад, это место служило пристанищем стаям шакалов. Стенания двух взрослых мужчин напоминали об их протяжном вое.
Смерть – самая приметная из всех отсутствующих – явилась в Сад, и ее приход послужил сигналом, – отсутствие приняло знаковый характер. Сгустились сумерки, пора было появиться гостям, из кухни уже неслись дразнящие ароматы, и, несмотря на трагический случай, все приготовления были закончены в срок. Но где же гости? Холод, возможно, и заставил некоторых остаться дома. Те немногие завсегдатаи праздника Дассера, которые уже пришли, были укутаны с головы до пят, и по их унылому виду никто бы не догадался, что эти люди собрались повеселиться. Время шло, а ожидаемого наплыва гостей все не происходило; хуже того: один за другим стали потихоньку куда-то исчезать дворцовые слуги, носильщики, стражники, повара – среди них даже те, кому было поручено готовить и подносить еду самому махарадже.
Пытаясь спасти положение, Абдулла метался по Саду, кричал, звал, приказывал, но почти никто его не слышал. Возле Императорского павильона он наткнулся на фокусника Саркара. Тот сидел, обхватив голову руками.
– Это провал! Это катастрофа! – причитал он. – Метель всех перепугала, и, похоже, не только она. Горе мне, самый великий трюк в своей жизни я буду вынужден демонстрировать кучке деревенских неучей!
Раскинутые шатры, яркими пятнами выделявшиеся среди сгустившейся тьмы в свете опутавших деревья разноцветных лампочек, почти опустели и выглядели жутковато и неуместно среди снежных наносов. Призрачная атмосфера пира без гостей так подействовала на Бомбура Ямбарзала, что заставила его позабыть о ссоре.
– На что намекал этот фокусник, когда сказал, что не только снег помешал людям явиться? – испуганно спросил он Абдуллу. – Как ты думаешь, может, и нам небезопасно здесь оставаться?
Абдулла и сам не знал, что думать: радость отцовства и смерть милой сердцу Пампуш привели в полное смятение его душу. Покачав головою, он сказал в замешательстве:
– Подождем еще немного. Давай направим своих людей в Сринагар, пускай разузнают, в чем дело. Что-то ведь должно вскорости разъясниться.
У него голова шла кругом. Ясно, что «Бадшах» сегодня не будет разыгран, а тень Зайн-ул-Абеддина все не покидала его: обрывки пьесы засели в голове, словно шрапнель, и мешали ясно мыслить. Во второй раз на протяжении одного вечера ему пришлось сначала вызывать дух великого султана, а затем прогонять его, и Абдулла совсем лишился сил.
Почти при полном отсутствии реальных гостей Шалимар начал заполняться разного рода слухами: закутанные с ног до головы, с надвинутыми на лица для защиты от непогоды капюшонами, они занимали пустые места у раскинутых дастарханов. Среди них были слухи-нищие, выползшие из канав, но были и другие – пышно разодетые, размалеванные, прикинувшиеся знатью. Представлявшие все социальные слои, эти слухи, вольготно развалившись на подушках, создавали завесу таинственности, словно густо падающий снег. Слухи были смутные, неопределенные, туманные, нередко зловещие. Они казались какой-то новой разновидностью живых существ; в соответствии с теорией Дарвина они стремительно прошли все стадии эволюции и стали бесстыдно совокупляться. Как положено при естественном отборе, выжили наиболее приспособленные, и тогда в общем невнятном бормотании стали различимы их голоса. В шепоте, писке и злобном шипении слышалось и повторялось раз за разом одно и то же слово – кабаилис. Оно было совсем новое и для большинства обитателей Сада непонятное, но оно внушало ужас. «Отряды пакистанцев-кабаилисов перешли границу, они грабят, жгут, насилуют и убивают всех подряд, они уже близко, на подходе к Сринагару» – так говорили слухи. И тут явился самый мрачный из них, он уселся в кресло, предназначенное для махараджи. Он заговорил, и в голосе его прозвучали испуг и презрение. Махараджа обратился в бегство, потому что услышал про распятого человека.
Распятого звали Сопор, и был он простой пастух. Далеко на перекрестке горных дорог его со стадом овец окружила толпа кабаилисов, требуя показать путь на Сринагар. Пастух Сопор намеренно указал им неверное направление. Они проплутали целый день, а когда обнаружили обман, вернулись и распяли его; когда же им прискучили его крики и стоны, вбили еще один гвоздь ему в горло.
Столько новостей сразу, в одну ночь, столько непонятного! Слух-фантом, связанный с Пакистаном, возникал и прежде, но прожил всего два коротких месяца. Может быть, именно поэтому его выход из теневого мира в реальный, где существуют государственные границы, вызвал столько яростных споров среди наводнивших Шалимар слухов.
– Пакистан в своем праве, – вопил один, – ведь кашмирским мусульманам помешали присоединиться к своим братьям по вере!
– О каком праве может идти речь, когда Пакистан послал орду кабаилисов-убийц? Разве тебе не известно, что этим головорезам было сказано, будто в Кашмире полно золота и красавиц и можно безнаказанно насиловать и убивать неверных? И такому государству ты готов служить?
Кто-то всю вину возлагал на махараджу.
– Он слишком долго медлил с решением, – шептали они. – Со дня раздела прошло целых два месяца, а он все не мог решить, куда примкнуть – к Индии или к Пакистану.
– Дурак! – наступал на него четвертый. – Он велел арестовать шейха Абдуллу, который был за равноправие всех вероисповеданий, и слушает одного Маулави Юсуф-Шаха, а тот, естественно, на стороне Пакистана.
Вскоре выкрики слились в общий хор панических голосов:
– На нас наступает пятитысячная армия, собранная из племен, а командиры у них – офицеры регулярной армии! Они уже в десяти милях отсюда… в пяти… в двух!
– В приграничной полосе возле Джамму изнасиловано и убито пять тысяч женщин!
– Уничтожено двадцать тысяч индийцев хинду и сикхов! В Музаффарабаде солдаты гарнизона из мусульман подняли мятеж и поубивали своих братьев по оружию – хинду вместе с их командирами! Бригадный генерал Раджендра Сингх в течение трех суток, имея в подчинении всего сто пятьдесят человек, геройски защищал дорогу на Сринагар!
– Да, но он уже мертв, они разорвали его на куски. Подхватим же его боевой клич: «Хамлавар, хабардар, хам кашмири хайн таяри!» – Берегитесь, захватчики, мы, кашмирцы, готовы дать отпор!
И снова разноголосица:
– Шейх Абдулла освобожден!
– Махараджа высказался в пользу Индии! Индия посылает нам в помощь свои войска!
– Только успеют ли они?
– После приема в честь праздника Дассера махараджа сбежал в Джамму!
– В Бомбей!
– В Гоа! В Лондон! В Нью-Йорк!
– Если уж он сбежал, то что остается делать нам? Бежим! Спасайся, кто может! Быстрее, быстрее же!
Паника захлестнула Шалимар. Абдулла кинулся к жене и детям в устроенную стараниями Фирдоус тесную палатку для родов. Мрачная Фирдоус сидела на земле с новорожденным сыном на коленях, а рядом, возле тела Пампуш, стояли, склонив головы, пандит Пьярелал Каул и Ходжа Абдул-Хаким. Наставник вполголоса поминал богиню Дургу. Некоторое время Абдулла не мог произнести ни слова. Его мучил стыд за собственную некомпетентность; он не знал ничего, или почти ничего, по поводу подстерегавшей их беды. Он – глава деревни, сарпанч – обязан был знать. Как он смеет считаться защитником людей, если не умеет предвидеть опасность? Значит, его напрасно избрали старостой. Он ничем не лучше Ямбарзала. Мелочное соперничество и профессиональное тщеславие застили глаза им обоим, и это привело к тому, что они не смогли уберечь своих людей от надвигающейся беды и вовремя увести их отсюда куда-нибудь в безопасное место. По его щекам потекли слезы стыда. Резкий голос Фирдоус вернул его к действительности.
– За что ты благодаришь свою Дургу? – со злостью выкрикнула она, обращаясь к Пьярелалу. – Ты славил ее девять дней, а на десятый она отняла у тебя жену.
Пандита ее слова нисколько не возмутили.
– Когда молишь Всевышнего даровать желанное, – кротко ответил он, – то надлежит со смирением принять и отрицательные последствия его исполнения. Мне выпало счастье иметь жену, которая любила меня и которую я любил всей душой. Оборотная сторона любви – это боль от утраты ее. Сегодня я так страдаю, потому что до этого дня я знал любовь, и за одно это стоит быть благодарным богине, судьбе или счастливому расположению звезд, называй как хочешь.
– Может, мы и вправду разные, – тихонько, будто про себя, сказала Фирдоус, отворачиваясь от него.
Ходжа Абдул-Хаким вдруг заторопился.
– Пожалуй, я не останусь в Кашмире, – заметил он перед уходом. – Не хочу видеть, как печаль разрушает красоту этого края. Направлюсь-ка я на юг, – может, мои знания пригодятся в одном из тамошних университетов.
«Все стремятся в Индию, и только в Индию. Не в Пакистан», – подумалось Фирдоус. Она повернулась к нему спиной и, вместо того чтобы пожелать доброго пути, прошептала:
– Тебе повезло. У тебя есть выбор.
Абдулла взял у Фирдоус запеленутого новорожденного сына и мягко сказал:
– Отсюда нужно уходить. От слухов люди совсем потеряли голову. – А про себя подумал: «А моя голова весь день была занята всякими царями и раджами. Александр, Зайн-ул-Абеддин, Джахангир, Рама – вот о ком я думал не переставая, в то время как наш теперешний правитель своей нерешительностью привел нас на грань уничтожения, и теперь никто не в состоянии дать ответ, может ли и захочет ли Индия, где давно уже нет никаких царей, нас спасти, а если и захочет, станет ли для нас это благом».
В ночи загрохотал барабан, звуки приближались, становились все громче, все требовательнее, и люди, услышав их, замирали на месте, нестройный хор слухов наконец умолк, и все увидели шествующего по центральной аллее Сада маленького человечка, который отчаянно молотил по дхолу[8]. Когда он убедился, что привлек к себе внимание, то поднес к губам рупор – его громкий голос прорезал морозный воздух:
– Плевать мне на все! Я собирался показать вам нечто небывалое и сделаю это, будь я проклят! Мой гений восторжествует над подлостью жизни! Говорю всем – с седьмым ударом барабана Шалимар исчезнет!
И он ударил в барабан – раз, другой, третий, четвертый, пятый, шестой… И после шестого гулкого удара Шалимар, как он и предсказывал, исчез из виду. Сад объяла кромешная тьма. Раздались отчаянные крики.
Саркар Седьмой до конца жизни проклинал госпожу Историю, лишившую его самого большого успеха в его карьере фокусника – номера с исчезновением сада Шалимар, хотя публика, вероятно, поверила, что трюк ему удался на славу, потому что седьмой удар барабана пришелся на тот момент, когда электростанция в Мохре взлетела на воздух. Ее взорвали пакистанцы, вследствие чего Сринагар и его окрестности погрузились в полную темноту. И небесное дерево тооба сохранило свою тайну. В окутанном тьмой Шалимаре оно так и осталось не опознано. У Абдуллы Номана возникло невероятное ощущение, будто он присутствует при реализации метафоры: знакомый, привычный мир исчезал на глазах – чернильная слепая ночь являла собой неоспоримо точный символ смены времен.
В оставшиеся ночные часы крутом слышались крики и топот бегущих ног. Абдулле каким-то чудом удалось отправить своих подальше в горы. Все погрузились на одну повозку: Фирдоус устроилась возле мертвой Пампуш, рядом с нею – Пьярелал Каул. Прижимая к груди маленькую дочку, он продолжал не переставая славить Дургу. Тут по счастливой случайности Абдулла в темноте столкнулся с Бомбуром Ямбарзалом. Бедняга весь съежился, дрожа от страха, но Абдулле удалось кое-как привести его в чувство:
– Нельзя оставлять здесь все наше хозяйство, иначе мы пустим по миру жителей обеих деревень.
Общими усилиями они собрали горстку людей из числа ширмальцев и пачхигамцев, с их помощью разобрали переносные печки-вури и перетащили к дороге котлы с едой. Сцену тоже демонтировали, декорации и костюмы загрузили в большие плоские корзины и снесли вниз, к озеру. Всю ночь ширмальцы и пачхигамцы трудились бок о бок не покладая рук, и когда над холмами забрезжил рассвет и Сад стал виден снова, ваза́ и сарпанч крепко обнялись и поклялись друг другу в нерушимой дружбе и вечной любви. Меж тем высоко в светлеющих небесах несуществующие планеты-тени Раху и Кету продолжали заниматься своим привычным делом: разжигая и подавляя, подталкивая и не пуская, они, невидимые глазу, исполняли свой вечный танец борения чувств в сердцах человеческих. Актеры ушли, а в саду Шалимар остались стоять гигантские фигуры царя демонов, его брата и его сына, начиненные так и не взорванными петардами. Равана, Кумбхакарна и Мегхнад взирали с высоты на дрожавшую Долину, и им было все равно, кто там внизу мусульманин, а кто хинду. Их время – время демонов – пришло.
Глава 3
– Человека губит наличие у него нравственного начала, – философствовал Пьярелал, сидя, как обычно, на берегу говорливой речки Мускадун. – В этом смысле зверям Кашмира повезло куда больше. Смотрите, к примеру: обезьяна – пондж, лис – потсала, шакал – шиял, кабан – сур, сурок – дрин, овца – ньян, кукушка – каил, антилопа – хиран, мускусный олень – кастура, леопард – сух, черный медведь – хапут, осел – бота-кхар, двенадцатирогий горный козел – хангул, як – дзомба. Некоторые из них опасные хищники, другие просто страшные на вид. Обезьяна сжирает орехи, лис хитер и поедает кур, шакал устрашает всех воем, кабан уничтожает посевы, леопард беспощаден и поедает коз, черный медведь – гроза пастухов, осел же, напротив, труслив и чуть что – спасается бегством. Однако ж у них есть оправдание: каждый поступает согласно своей природе. Звери не властны изменить свою природу, за них это делает она сама. В царстве зверей нет места неожиданностям. Другое дело человек. Он непредсказуем и изменчив. Лишь человек способен, понимая, что такое добро, творить тем не менее зло, и только тогда, когда он перестанет жаждать земных благ и отринет плотские желания…
Слова Наставника журчали, словно воды Мускадуна. Бунньи Каул знала, что когда ее отец, человек, любимый и уважаемый всеми, потому что и сам он любил людей, человек с избыточным количеством подбородков, потому что едва ли не еще сильнее любил он обильную пишу, – принимался оплакивать пороки рода человеческого и призывать всех вести аскетическую жизнь, это означало, что он впал в тоску по любимой жене, которая при жизни ни разу не разочаровала его, всегда изумляла изобретательностью в делах любви и которую он желал до сих пор, хотя со дня ее смерти прошло уже четырнадцать лет. В таких случаях Бунньи старалась быть особенно ласковой, чтобы своим вниманием заглушить отцовскую печаль. Нынче, однако, ее мысли были заняты совсем другим, и роль заботливой, любящей дочери была позабыта. Она и ее возлюбленный Шалимар сидели, как всегда, каждый на своем камне, они не сводили друг с друга глаз, изо всех сил стараясь скрыть предательски счастливые улыбки.
То было первое утро после величайшего события их жизни, которое имело место на высокогорной лесной поляне возле Кхелмарга. Опьяненная любовью Бунньи полулежала, томно выгнув спину, в откровенно вызывающей позе. Отец, меланхолически глядя на нее, вскользь подумал, что нынче она более чем когда-либо напоминает свою мать, но по недалекости, свойственной всем отцам, не понял, в чем причина этого. Причина же заключалась в том, что руки желания оглаживали ее познавшее мужчину тело. Но клоуна Шалимара ее вид привел в состояние замешательства: он не только возбуждал, но и тревожил. Шалимар успокаивающими жестами ладоней попытался дать ей знать, что следует держать себя в руках и не проявлять столь явно своих чувств. Однако в этот раз невидимые нити взаимопонимания явно перепутались и сработали в неверном направлении: чем настойчивее он показывал ей на землю, тем сильнее выгибала она спину: его жесты призывали ее успокоиться, а она приходила во все большее возбуждение. Позже, на поляне для тренировок, когда оба они высоко над землей упражнялись на канате, он спросил:
– Почему ты не перестала, когда я попросил тебя успокоиться?
– А ты не просил меня перестать, – отозвалась она со смехом. – Я чувствовала, как ты гладишь меня, как ласкаешь вот тут и тут, как вжимаешься в меня, как входишь в меня все глубже и глубже, и я завелась. Ты ведь этого и добивался – разве не так?
Только теперь Шалимар начал догадываться, что утрата невинности разбудила в Бунньи странную дерзость, неуправляемую, стихийную бесшабашность, граничащую с глупостью, ибо ее желание демонстрировать их любовь перед всеми могло привести к скандалу и разбить жизнь им обоим. Горькая ирония заключалась в том, что Шалимар и полюбил-то Бунньи в первую очередь за ее отвагу, за то, что она почти ничего не боялась, за то, что она всегда добивалась, чего хотела, не считаясь ни с чем. Теперь же именно эта черта ее натуры, столь ярко проявившая себя после ночи любви, грозила поломать им обоим жизнь. У клоуна Шалимара был знаменитый трюк, который он сам придумал: трюк состоял в том, что, стоя на канате, он постепенно наклонялся в сторону, а когда уже казалось, будто падение неминуемо, то, разыгрывая испуг и растерянность, он вдруг, словно смеясь над силой земного притяжения, с поразительным искусством и ловкостью выпрямлялся. Бунньи пыталась овладеть этим трюком, но, размахивая, словно ветряная мельница, руками и хихикая, вынуждена была в конце концов отказаться от дальнейших попыток и признать свое поражение.
– Это невозможно, – заключила она.
– Люди нам и платят за то, чтобы увидеть невозможное, – стоя на натянутой проволоке, процитировал отца мастер клоунады и перевоплощений Шалимар и поклонился, словно ему аплодировала толпа. – Абдулла Номан часто повторял своим актерам: всегда начинайте выступление с какого-нибудь немыслимого трюка – проглотите кинжал, завяжитесь узлом, бросьте вызов закону притяжения – словом, что-нибудь такое, чего не в состоянии сделать никто из зрителей. После этого зритель уже ваш.
«Наверное, есть случаи, когда законы сцены не годятся для реальной жизни», – думал Шалимар с нарастающей тревогой. В настоящий момент Бунньи, стоя на проволоке и размахивая, словно знаменем, своей новой ролью возлюбленной, отклонилась слишком далеко. Она пренебрегала принятыми нормами, а в реальной жизни эти мощные законы могли привести к падению еще быстрее, чем силы гравитации.
– Давай полетим! – крикнула Бунньи, смеясь ему в лицо.
Она утянула его подальше в лес, отдалась ему там снова и на какое-то время заставила его позабыть обо всем на свете.
– Взгляни правде в глаза, – прошептала она. – Женатый или нет, но ты уже вломился в каменные ворота.
Поэты в своих опусах предпочитали называть преданную жену бунньи – прекрасной чинарой, – «кенчен ренье, чхаи шижинджи бунньи», то есть нежно колышущимся, упоительной тенью укрывающим древом, однако в обиходе для девицы брачного возраста существовало другое, двусоставное слово. Одна его часть – бранд – вообще-то означала «вход» или «ворота в помещение», другая – канва – «камень». По довольно забавной причине их объединили в одно, и получились «каменные ворота». Так называли в народе любимую жену.
«Будем надеяться, что эти камни не обрушатся на наши головы», – подумал про себя, услышав ее слова, Шалимар, но не стал говорить этого вслух.
Клоун Шалимар был не единственным, чьи помыслы были сосредоточены на Бунньи. Полковник индийского гарнизона Хамирдев Сурьяван Качхваха с некоторых пор только о ней и думал. Ему исполнился тридцать один, он считал себя духовным наследником древних раджпутов, более того, он полагал, что хоть и не по прямой линии, но связан кровным родством со знаменитыми раджпутскими принцами-воинами из Солнечной династии Сурьяванов и Качхвахов, тех самых, которые в славную эпоху борьбы за независимость, будучи правителями независимых княжеств Мевара и Марвара, попортили немало крови как Моголам, так и британцам. То было время, когда власть в Раджпутане оказалась сосредоточенной в двух неприступных городах-крепостях – Читоре и Мехранге – и легендарные воины-раджпуты, несмотря на малочисленность, одерживали победу за победой: врезавшись в ряды противника, они рубились саблями, крушили черепа булавами и разрывали кольчуги заостренными топориками-чхаунч с хищно изогнутым, как клюв, концом.
Во всяком случае, окончивший военную академию в Англии Качхваха носил пышные раджпутские усы, имел раджпутскую выправку, истинно британский командный голос и являлся начальником расположенного в нескольких милях к северу от Пачхигама военного лагеря, который местные из-за его свойства постоянно увеличиваться именовали не иначе как Эластик-нагар[9]











