Читать онлайн Моноклон (сборник)
- Автор: Владимир Сорокин
- Жанр: Контркультура, Современная русская литература
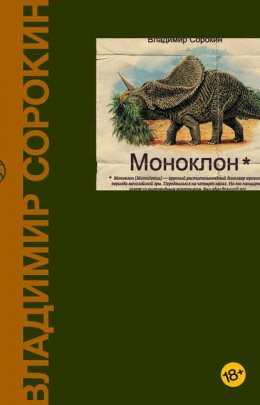
Моноклон
Виктор Николаевич проснулся от странного, нелепого сна. Ему приснился покойный отец, довоенный Весьегоньск, свадьба дяди Семена и Анны, на которой он побывал десятилетним мальчиком. Во сне все было почти как тогда, в далеком 1938-м, но он сам почему-то был уже нынешним стариком и отец звал его дедом Витей. Его посадили во главу стола, отец сидел рядом и все время подливал ему вкусного, легкого, как березовый сок, самогона, от которого дед Витя, будучи по сути мальчиком, сильно захмелел и уже не мог сидеть, а упал под стол и, хохоча, стал хватать всех за ноги, отчего собравшиеся разозлились и принялись сильно пихать и бить его сапогами, галдя, что дед Витя опозорился. Потом его подхватили и поволокли вон из дома, а он от опьянения не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, и ему стало так смешно, так весело, что он хохотал, хохотал дико до тех пор, пока не разрыдался. Разлепив веки, полные слез, он поморгал ими. Слезы скатились по щекам на подушку. Потом он долго лежал, глядя в потолок с чешской хрустальной люстрой, купленной покойной женой в середине семидесятых в магазине «Свет» на Ленинском проспекте.
Дурацкий сон спутал мысли. Лежа и теребя пальцами край одеяла, Виктор Николаевич приводил мысли в порядок: в двенадцать придет Валя сделать последний укол, потом надо сходить в булочную, после обеда обещал зайти Коржев, сыграть в шахматы, а вечером должен заехать Володя. А завтра – идти за пенсией. И завтра будет готово белье, Володя заедет и получит. Жаль, что не сегодня, он бы по пути и заехал, а завтра ему опять придется кругаля давать.
– Весьегоньск… – произнес он, откинул одеяло и сел на кровати.
Нашарив ногами тапочки, скосил глаза на тумбочку: часы «Янтарь», газета «Известия», сборник кроссвордов, книга Суворова «Ледокол», томик стихов Вероники Тушновой, стакан кипяченой воды, очки для чтения, фигурка Дарта Вейдера, подаренная семилетним правнуком, валокордин, упаковка церебрализина с последней ампулой, упаковки ноотропила, сонапакса, феназепама, фуросемида, ношпы и папазола.
Взял сонапакс, выдавил из кассеты таблетку, сунул в рот, запил водой.
Посидел, щурясь на солнце в просвете штор, шлепнул себя по коленкам, встал. Пошел в ванную, шаркая тапочками по старому паркету:
– Весьегоньск… Весь-е-гоньск…
Зажег свет в ванной, вошел, спустил полосатые пижамные штаны, осторожно сел на унитаз. Посидел, жуя сухими губами, почесывая колено. Помочился медленно, с перерывами. Заворочался, пожевывая, серьезно вцепился в колени. Напрягся, опустив голову. Дряблые складки на шее угрожающе собрались под упрямым подбородком.
Тужась, закряхтел. Замер. Но недовольно выдохнув, покачал головой, расслабился, распрямляясь – Горные вершины спят во тьме ночной…
Встал, подтянул штаны, спустил воду, подошел к раковине, глянул в зеркало. Из зеркала на него уставился восьмидесятидвухлетний Виктор Николаевич. – Гутен морген, – сказал ему Виктор Николаевич, взял зубную щетку, слегка трясущейся рукой выдавил на нее пасты и стал чистить свои ровные новые зубы.
Вычистив, сплюнул, прополоскал рот, умыл лицо, долго вытирал его розовым полотенцем. Затем снял с себя пижаму, повесил на крючок и осторожно, не торопясь, шагнул через борт ванны, схватился за металлическое кольцо, подтянул другую ногу. Открыл воду, отрегулировал, снял трубку душа с рычажков, похожих на довоенные телефоны, переключил воду, направил струю на свои худые ноги. Убедившись, что вода теплая, направил ее на свое худощавое, смуглое тело с обвислым животом. На теле было два старых шрама: на левом бедре, когда в 58-м на охоте его задел клыками раненый кабан и на правом локте, когда в 91-м он сломал руку, поскользнувшись возле своего подъезда. Еще на теле виднелись две татуировки: посередине груди орел, когтящий змею, а на левом плече сердце, проткнутое двумя кинжалами, и еле различимая надпись «Нина». Обе татуировки были старыми, пятидесятых годов.
Виктор Николаевич поливал свое тело из душа, опустив голову, отчего складки на шее снова угрожающе собрались, а нижняя губа сумрачно отвисла.
– В сто концов убегают рельсы… – проговорил он, вспомнив песню Пугачевой. – По рельсам… и по шпалам, по шпалам, по шпалам…
Выключил воду, взялся за кольцо, с осторожностью перенес свое тело из ванны на коврик. Снял полотенце и долго вытирался. Облачился в халат красного шелка, вздохнул, вышел из ванны и направился на кухню, шаркая тапочками. Но за окнами большой комнаты что-то зашумело. Виктор Николаевич прошаркал в большую комнату, подошел к окну.
Поседевшие брови его удивленно поползли вверх: весь Ленинский проспект, простирающийся под окнами, был заполнен молодежью в одинаковых серебристых скафандрах и белых гермошлемах с надписью «СССР».
– Космонавты! – удивленно пробормотал Виктор Николаевич.
И сразу вспомнил:
– Сегодня ж 12 апреля! День космонавтики, сволочи дорогие! Мать честная!
Пораженный, он покачал головой. Сотни, тысячи космонавтов заполняли проспект. Машин не было. По краям у домов темнели зеваки.
За свою сорокалетнюю жизнь на Ленинском проспекте он не видел ничего подобного. Случались здесь демонстрации коммунистов в ельцинские времена, было и знаменитое побоище на площади Гагарина в 1993 году, в трехстах метрах от его дома, когда патриоты из «Трудовой Москвы» схватились с ельцинским ОМОНом. Но такого не было еще никогда.
Виктор Николаевич открыл окно, высунулся, радостно завертел головой:
– Ничего себе! Космонавты! Космонавтики!
Восторженно рассмеялся. Весенний ветер зашевелил его редкие седые волосы.
В толпе космонавтов шло какое-то движение, подготовка к чему-то. В центре, в мешанине блестящих на солнце тел стала приподниматься ракета с гербом России на корпусе. Едва она встала вертикально, нос ее откинулся, в ракете показалась фигура в скафандре. Толпа радостно зашумела. Сидящий в ракете приветствовал всех взмахами рук. Потом открыл свой гермошлем, поднял руку, прося тишины. Толпа стихла. С шестого этажа Виктор Николаевич разглядел лицо парня в открытом гермошлеме: чернобровое, скуластое, с птичьим носом. – Дорогие друзья! – заговорил парень звонким, бодрым голосом, и динамики разнесли этот голос по проспекту.
– Сегодня двенадцатое апреля. День космонавтики. В этот день Юрий Гагарин покорил космос, совершив свой героический полет. Наша держава заявила о себе на весь мир и во весь голос. Сегодня здесь, на Гагаринской площади, у памятника первооткрывателю космоса собрались тридцать тысяч молодых россиян. Каждый из вас готов повторить подвиг Гагарина. Потому что в душе каждого из вас живет любовь к своей родине, желание сделать ее еще более могущественной, еще более свободной! И мне, из этой ракеты сейчас кажется, друзья, что сегодня каждого из вас зовут Юрий!
Толпа зашумела.
– Каждый патриот России – космонавт в душе! Наш президент – космонавт № 1!
Толпа зааплодировала.
– А уж наш премьер – космонавт из космонавтов!
Толпа радостно заревела.
Выступающий подождал, пока шум стихнет, выдержал паузу и вдруг запел:
– Заправлены в планшеты космические карты…
– И штурман уточняет в последний раз маршрут! – тут же подхватила толпа.
– Давайте-ка, ребята, покурим перед стартом, у нас еще в запасе четырнадцать мину-у-у-ут! – подпел толпе Виктор Николаевич с шестого этажа.
Сзади в комнате, на письменном столе зазвонил телефон. Виктор Николаевич недовольно обернулся, заспешил к столу, снял трубку, приложил к уху, возвращаясь с трубкой к окну. Звонил сын Володя.
– Вов, тут у меня под окнами такое творится! Тридцать тысяч космонавтов!
Говоря по телефону, он высунулся в окно.
– А? Что? Это не бред, дорогой мой, а кра-сота! Послушай, как поют!
Он протянул руку с телефоном из окна. Худая рука закачалась в воздухе. Виктор Николаевич подождал, потом втянул ее в комнату, приложил трубку к уху:
– Слышал? Вот! Это эти… как их… ну, идут которые? «Мы вместе»? Как их? Да! Да! Собрали тридцать тысяч, можешь себе представить? Сегодня же День космонавтики, сынок! Вот так! А? Что? Нет. А чего? Валя? Так она же в двенадцать прибудет. Да? Ну, пусть раньше, я не против. Я попозже только в булочную… Да. Хорошо, Вов. В данный момент просто прекрасно! Настроение ве-ли-колепное! Готовность – номер один! Выхожу на орбиту! Да. Да. А белье завтра. Хорошо. Жду вечером.
Он нажал на трубке красную кнопку, положил ее на подоконник. За окном пела блестящая толпа:
- На пыльных тропинках
- Далеких планет
- Останутся наши следы!
Улыбаясь поющим вместе, Виктор Николаевич закрутил головой, оглядываясь: кто из соседей следит за происходящим? Но высунулись только молодые Рубинштейны с третьего этажа, девчонка Горбунова с четвертого и еще какая-то пара внизу. А на шестом и пятом никто окон не раскрыл.
Виктор Николаевич сжал жилистый кулак, выкинул в окно и крикнул:
– Слава героям космоса!
Рубинштейны и Горбунова услыхали, глянули снизу, замахали ему.
В дверь позвонили.
– Чего? – недовольно обернулся он.
Понял, что это Валя приперлась пораньше, как только что сообщил ему Володя.
– Твою мать… – сплюнул весенним воздухом Виктор Николаевич. – Всегда вовремя!
Качая головой, зашаркал в прихожую.
– Взбрело ей именно сию минуту… куда летит ночное такси, лети, лети, меня вези…
Недовольно бормоча и напевая, щелкнул замком, размашисто распахнул дверь:
– Валя, быстрей! Я вам щас такое покажу!
За дверью стояли трое мужчин. Один из них тут же пихнул Виктора Николаевича в грудь. Виктор Николаевич отшатнулся, попятился назад, но не упал. Трое вошли в темную прихожую, захлопнули за собой дверь.
– Хороший день, – спокойно произнес один из них, что повыше, выходя из прихожей.
– Вы кто? – спросил Виктор Николаевич, не испугавшись.
Человек приблизился к Виктору Николаевичу, снял шляпу и произнес:
– Моноклон.
Виктор Николаевич замер.
Человек был сильно пожилым, как и Виктор Николаевич. На лбу у него, прямо посередине, был вырост, напоминающий спиленный рог. Левую бровь пересекал глубокий старый шрам, отчего левый глаз смотрел совсем сквозь щелочку. Зато правый, светло-серый, глядел умно и решительно.
– Узнал, – улыбнулся Моноклон и, оглядевшись, повесил шляпу на спинку стула, не торопясь, снял свой бежевый плащ, отдал одному из вошедших с ним. Тот повесил плащ на вешалку.
Виктор Николаевич попятился в большую комнату. Моноклон пошел за ним:
– Я же обещал тебе.
Виктор Николаевич допятился до овального обеденного стола, стоящего посередине комнаты, ткнулся в него и стал. Моноклон подошел, остановился напротив. Двое встали рядом, по сторонам. Они были молодыми, крепкотелыми, в кожаных куртках, с мужественными лицами. В руке у одного парня была кожаная сумка.
– А обещанного ждут не три года, – произнес Моноклон и протянул руку.
Парень достал из сумки что-то продолговатое, завернутое в черный бархат, передал Моноклону. Тот взял и положил на стол.
– Что это? – спросил Моноклон у хозяина квартиры, кивнув на сверток.
Но лицо Виктора Николаевича словно окостенело. Стоя в своем красном шелковом халате и тапочках, он уставился на сверток.
– Валек, – скомандовал Моноклон.
Один из парней раскрыл сверток. На черном бархате лежал наконечник обыкновенной кирки. Но он был идеально отполирован и сверкал в солнечном свете, как дорогой японский меч. Валек взял этот блестящий, плавно изогнутый кусок железа, поднес к лицу Виктора Николаевича. На одной грани кирки было выгравировано:
PROCUL DUBIO[1]
На другой:
AD MEMORANDUM[2]
Виктор Николаевич уставился на блестящий металл. Моноклон заглянул в глаза смотрящего, удовлетворенно кивнул:
– Помнит.
Парни с ухмылками переглянулись. Ветер из распахнутого окна шевелил занавески с верблюдами, бредущими на фоне пальм и пирамид. За окном шумела и смеялась толпа. Но визитеры не обращали на этот шум человеческий никакого внимания.
– Время, – скомандовал Моноклон.
Парни схватили Виктора Николаевича, сорвали с него халат, залепили рот зеленой клейкой лентой. Моноклон смахнул со стола шахматы, вазу и газету «Завтра». Ваза разбилась, шахматы покатились по паркету. Парни бросили Виктора Николаевича грудью на стол, навалились, прижали его худое, смуглое тело. За окном толпа запела песню про Землю, ожидающую возвращения из космоса своих сыновей и дочерей.
Моноклон вынул из сумки кувалду. Придерживая Виктора Николаевича, парни свободными руками вцепились в его дряблые ягодицы со следами уколов, развели их. Моноклон вставил в геморроидальный анус острый конец кирки, надавил, загоняя глубже. Виктор Николаевич зарычал, забился в руках парней. Но те держали крепко. Придерживая свое орудие, Моноклон размахнулся и ударил по его широкому концу. Сталь вошла в содрогающееся тело. Ноги жертвы беспорядочно заплясали. Моноклон размахнулся и ударил сильнее. Сталь вошла глубже. Тело Виктора Николаевича словно окаменело. Только нога билась о ножку стола равномерно, будто отсчитывая время.
Моноклон размахнулся и ударил изо всех сил. Металл почти целиком ушел в тело, а из левого бока, чуть повыше поясницы, разрывая смугло-желтую кожу и раздвигая ребра, выдавив струйку крови, вылез острый конец. Его появление положило предел казни: нога перестала биться, тело обмякло. Парни отпустили Виктора Николаевича. Моноклон глянул на блестящий, прошедший сквозь старческое тело металл, опустил кувалду:
– Ну вот…
Тяжело, астматически дыша, передал кувалду парню. Впалые щеки Моноклона побагровели. Глядя на неподвижное тело, он хлопнул себя по карманам, потом вспомнил:
– В плаще.
Валек вернулся в прихожую, достал из кармана плаща пачку немецких сигарет без фильтра, золотую зажигалку, протянул Моноклону. Тот закурил, привычно загораживая огонь от ветра. Обе руки его были покалечены: на правой не хватало мизинца, на левой четвертый палец и мизинец не сгибались.
– Все? – спросил парень, убирая кувалду и бархат в сумку.
– Все, – дымя, Моноклон повернулся, чтобы покинуть эту квартиру навсегда, но вдруг взгляд его задержался на фотографиях, висящих на стене над письменным столом. Он подошел, хрустя осколками хрусталя. Фотографий было шесть, все в аккуратных рамках: родители Виктора Николаевича, его жена, сын, внук, правнук, молодой Виктор Николаевич в форме старшего лейтенанта госбезопасности с косой надписью в уголке «Норильск 1952», и коллективная фотография выпускников юридического факультета Казанского университета 1949 года.
Моноклон приблизил свое лицо к этой фотографии. Третьим слева во втором ряду стоял Виктор Николаевич. Рядом с ним стоял Моноклон. Его лицо тогда было полнее, круглее, но вырост на лбу был таким же, как и теперь.
Он затянулся и стал медленно выпускать дым в фотографию.
Парни между тем осторожно подошли к окну, глянули, не высовываясь. За окном пели блестящие:
- Я Земля, я своих провожаю питомцев —
- Сыновей, дочерей.
- Долетайте до самого солнца
- И домой возвращайтесь скорей.
Постояв возле фотографий, Моноклон резко повернулся и пошел из комнаты. Парни поспешили за ним. Валек помог ему надеть плащ и шляпу. Моноклон поднял воротник плаща, кивнул другому парню на дверь. Тот глянул в глазок:
– Чисто.
Открыл дверь. Они вышли, тихо прикрыв дверь за собой. Щелкнул замок.
В большой комнате на столе осталось лежать тело старика, проткнутое железом. Широкое охвостье кирки торчало из сочащегося кровью ануса, узкий штырь выглядывал из левого бока. Занавески с верблюдами слабо покачивались. Толпа перестала петь и просто шумела.
– Ух-ты, ах-ты! – разнесли динамики голос бровастого парня.
– Все мы космонавты! – заревела толпа.
– Ух-ты, ах-ты!
– Все мы космонавты!!
– Ух-ты! Ах-ты!
– Все мы ко-смо-нав-ты!!!
Ноги старика пошевелились. Руки ожили, ладони поползли по столу к голове. Тело сдвинулось с места, сползло со стола и повалилось на пол. Старик застонал. Трясущейся рукой нащупал пластырь, содрал его с губ. Изо рта выползло шипение. Он сипло всхлипнул и, тряся головой, пополз под столом. Пополз к окну. Кровь скупо сочилась из ануса, ноги размазывали ее по паркету. Он полз, полз по осколкам хрусталя, по шахматным фигурам. Подполз к батарее отопления, вцепился в батарею руками, подтянул правую ногу и рывком, со стоном и шипением подтянулся, схватился за подоконник, урча и хрипя, стал тянуть, подталкивать свое тело, отклячив неподвижную левую ногу. Голова его сильно тряслась. Невероятным усилием, словно старый манекен, он вполз грудью на подоконник, схватился, подтянулся. Его лицо возникло в проеме окна. Он увидел всю ту же переливающуюся толпу космонавтов. Раскрыл рот, чтобы закричать. Но изо рта его хлынула кровь, скопившаяся в пропоротом желудке. Кровь плеснула на белый, прошлой осенью покрашенный внуком низ оконного проема, потекла назад, по подоконнику, закапала на паркет. Лишь одна капля, отскочив, минуя зеленый откос водоотлива, сорвалась вниз, сверкнула рубином на солнце, полетела, подхваченная влажным воздухом. Ветер отнес каплю крови от дома и уронил на толпу блестящих.
Капля крови упала на шлем хохочущего шестнадцатилетнего парня по имени Виктор. Но он ее не почувствовал.
Тридцать первое
– Это вы такие видите сны? – осведомился прокурор.
– Да, такие вижу сны… А вы уж не хотите ли записать? – криво усмехнулся Митя.
– Нет-с, не записать, но все же любопытные у вас сны.
– Теперь уж не сон! Реализм, господа, реализм действительной жизни!
Ф. М. Достоевский «Братья Карамазовы»
Нам всем грозит свобода,
Свобода без конца.
Д. А. Пригов
Шестикрылый Сарафоний, Сокрушитель Гнилых Миров, явился Тамаре Семеновне Гобзеевой во сне в ночь на двадцать восьмое. Сияя невероятными переливами зелено-оранжево-голубых цветовых оттенков и обдавая колыханиями белоснежных крыл, он вложил свои тонкие светящиеся указательные персты в уши Тамары Семеновны. В ушах стало горячо, а на сердце сорокадвухлетней одинокой женщины так сладко, что она замерла, готовая умереть от счастья. Во сне своем она лежала голая на крыше шестнадцатиэтажного дома в Ясенево по улице Одоевского, где проживала последние двадцать восемь лет. Крыша была покрыта теплым серым пеплом, на котором было приятно лежать. Не вынимая своих горячих перстов из ушей Тамары Семеновны, ангел склонил над нею свой пронзительно красивый лик. Лик сиял неземным сиянием и источал неземную волю. Сарафоний был создан совсем из другого материала, чем Тамара Семеновна. Его чистота заставила женщину замереть от стыда за собственное несовершенство. Трепеща сердцем, Тамара Семеновна застыла, перестав дышать, боясь своим нечистым дыханием спугнуть ангела, эту громадную чудесную бабочку о шести крылах. Не вынимая своих горячих пальцев из ее ушей, Сарафоний приблизил свой лик к ее животу. Уста его открылись, сияющий, ослепительный язык, словно острый меч, вышел из этих уст и коснулся клитора Тамары Семеновны. Это было остро и больно, как ожог. Она вскрикнула и проснулась.
Было еще темно. Тамара Семеновна приподнялась, села на кровати. Сердце ее оглушительно билось. Грудь болела, словно по ней ударили. В ушах было горячо.
– Господи… – прошептала она и осторожно вздохнула.
Спустила ноги с кровати. И почувствовала, что они дрожат. Она сунула руку под свою ночную рубашку, коснулась лобка. Он был горячий и влажный, словно после акта любви, которого у Тамары Семеновны не было уже полтора года. Она встала, но колени тут же подогнулись. Оперевшись на заваленную корректурами тумбочку, она постояла, приходя в себя. Потом осторожно двинулась по направлению к кухне. Голова слегка кружилась, Тамару Семеновну пошатывало в темноте квартиры. Пройдя коротенький коридор, она вошла в кухню.
Свет уличных фонарей обозначал знакомые предметы. Постояв возле холодильника с налепленными на дверь магнитными сувенирами из Турции, Черногории и Болгарии, она подошла к столу, налила фильтрованной воды в чашку и жадно выпила, глядя в окно.
Сон потряс ее. С трудом она вспомнила, что уже шесть лет как разведена, что сын сейчас у сестры в Ельце, что денег осталось всего одиннадцать тысяч, что завтра нужно ехать в издательство сдавать аж три проклятые чистовые верстки. Вспомнила, что мама о чем-то попросила вчера.
– Подзарядка… – автоматически произнесла она. Поставила пустую чашку на стол. Зашла в туалет. Не включая света, села на унитаз и обильно помочилась в темноте, трогая свои горячие, все еще подрагивающие ноги. Не подтираясь, роняя редкие капли в темноте, вернулась в постель, легла и тут же провалилась в глубокий сон без сновидений.
Проснулась она в третьем часу пополудни. Солнце светило сквозь тюль недавно постиранных занавесок. Тамара Семеновна откинула одеяло, собираясь встать, но вдруг почувствовала в себе что-то, чего раньше не было. Она приподняла ночную рубашку и увидела, что на месте клитора у нее торчит маленький мужской половой орган. В изумлении она уставилась на него. Он был похож на маленький гриб боровик. Тамара Семеновна потрогала его. Прикосновение было новым и приятным. Это было удивительно. И хорошо. Никакого страха не было у нее в сердце. Наоборот, этот маленький розовый член наполнил ее каким-то новым покоем, которого так не хватало ей в жизни. Словно в прежнем существовании ее оставалась некая обширная лакуна, которую сейчас заполнили. И заполнение это положило начало Новому и Большому.
Тамара Семеновна улыбнулась члену. Сняла с себя рубашку, встала, подошла к балконной двери, открыла и голая вышла на балкон. Солнечный свет лег на ее фигуру. Тамара Семеновна посмотрела на хорошо знакомый пейзаж: гаражи, автостанция, окружная дорога с двумя вечно-встречными потоками машин, лес с вкраплениями новостроек.
– Свобода… – произнесла она и улыбнулась.
Двое суток она никуда не выходила, не отвечала на звонки. Голая, счастливая, она только ела, пила и радовалась происходящему в ней. А происходило нечто Великое: член ее рос ежеминутно, увеличиваясь в длине и в объеме. К утру следующего дня налитая кровью головка его увесисто покачивалась возле колен Тамары Семеновны.
– Свобода… – произносила она радостно.
Это было как роды. И как всякие роды, это было сильнее ее воли и желания.
К полдню 31-го огромный фаллос свисал у нее между ног, почти касаясь пола. Он был потрясающе могуч и красив. Тамара Семеновна лежала на кровати, трогая и гладя его, любуясь неизбежным наползанием складок и упругой полнотою вен. Иногда она вставала и осторожно, мелкими шажками перемещалась на кухню, где жадно ела все, что попадалось под руку. Фаллос висел у нее между ног, наливаясь. Тяжесть его восторгом отзывалась в сердце Тамары Семеновны.
Когда солнце стало клониться к закату, она уже точно знала, что надо делать.
В пять часов, надев водолазку и длинную юбку, в которой она обычно на Пасху и в Рождество ходила в церковь, Тамара Семеновна вышла из своей квартиры, спустилась на лифте и мелкими шажками пошла к автобусной остановке. Дождавшись автобуса, доехала до метро «Теплый стан». Сошла с автобуса и медленно, считая каждую ступеньку, спустилась в метро. Фаллос, как язык древнего колокола, тяжко покачивался под юбкой в такт ее шажкам.
Она прошла через турникет, оберегающе скрестив руки над пахом. Опять спустилась по лестнице. Вошла в поезд и встала у глухой двери, отвернувшись от людей. Доехала до «Третьяковской», считая остановки. Вышла из вагона, перешла по переходу, с осторожностью двигаясь в толпе, вошла в другой поезд. Ее толкнули в спину, она замерла, стараясь сохранять равновесия, чувствуя, как тяжко качнулся под юбкой фаллос. Она обняла его ногами, удерживая.
Какая-то женщина, глянув снизу в ее бледное лицо, встала со своего места:
– Садитесь.
С напряженной улыбкой Тамара Семеновна отрицательно покачала головой. Женщина села на свое место. На станции «Маяковская» Тамара Семеновна вышла из вагона и тут же оказалась в плотной, беспокойной толпе. Одни что-то выкрикивали, другие решительно шли, взявшись под руки.
– Граждане, не поддавайтесь на провокации! – фальцетом выкрикивал какой-то бодрый старичок.
Толпа понесла Тамару Семеновну к эскалатору.
«Только б не упасть!» – взмолилась она.
И чудом не упала. Оказавшись на эскалаторе, схватилась одной рукой за нагревшийся резиновый поручень, другой – за парня с рюкзаком.
Парень что-то выкрикнул про 31-ю статью Конституции и многие из стоящих на эскалаторе подхватили. Тамара Семеновна держалась. Ноги ее дрожали, во рту пересохло. И уже почти наверху, когда рифленые ступени под ногами стали привычно складываться, она вдруг почувствовала, как шевельнулся под юбкой фаллос. Это шевеление стоило всей прежней жизни Тамары Семеновны. Она оцепенела в восторге.
Толпа с эскалатора понесла ее вперед, через стеклянные двери, на площадь, где разноцветная людская каша шумно упиралась в ряды угрожающе одетых в черное милиционеров.
Фаллос Тамары Семеновны стремительно восстал. Задрав ее юбку, он мощно раздвинул толпу. Люди даже не успели шарахнуться от него. Наливаясь силой и объемом, багровая головка двинулась вперед по площади, подминая и расшвыривая людей. Став размером со стоящий неподалеку милицейский автобус, она снесла два ряда черного оцепления и приподнялась над площадью.
Чудовищный фаллос воздымался. Смугло-розовое тело его вытягивалось, выгибаясь кверху. Толстенные фиолетовые вены, подобные чудовищным ископаемым змеям, ползли по фаллосу, наполняя его кровью. Он наливался, толстел и креп с каждой секундой. Головка уперлась в памятник Маяковскому. Раздался треск. Каменный Маяковский отшатнулся назад и стал рушиться навзничь.
Площадь замерла.
Маяковский громко рухнул, разваливаясь на куски.
Люди вскрикнули.
Скрытое до этого в облаках солнце выглянуло. Лучи его пролились на багровую головку фаллоса, воздымающегося над Москвой все выше и выше…
Тамара Семеновна открыла глаза.
С недоумением она обнаружила себя стоящей на площади возле выхода из метро «Владыкино», где так и не побывала ни разу в жизни. Она стояла, подняв свою длинную юбку. Напротив стояли разные люди. И молча смотрели на нее: кто с усмешкой, кто с хмурой неприветливостью. Прямо напротив стояли двое парней – русский и таджик. Они держали в руках недоеденное мороженое.
Тамара Семеновна опустила глаза вниз, посмотрела на то, что было у нее под задранной юбкой и что она теперь показывала всем. Там виднелся ее обычный женский пах, поросший негустыми волосами. Ниже паха шли ее обыкновенные ноги. Никакого фаллоса не было и в помине.
Это вызвало у нее еще большее недоумение.
Не опуская юбки, она перевела свой взгляд на людей.
Люди смотрели на ее пах.
– Пыздец? – вопросительно произнес таджик и лизнул мороженое.
Тамара Семеновна опустила юбку и пошла в метро.
Тимка
Продавщицы Мокшева, Голубко и Абдуллоева без стука вошли в кабинет Сотниковой. Екатерина Станиславовна, надев стильные узкие очки в тончайшей золотой оправе, перелистывала бухгалтерский отчет за третий квартал для налоговой.
– Да… – не глядя на них, произнесла она, быстро просматривая подшитые листы.
Продавщицы молча, со скучающе-напряженными лицами встали посередине кабинета.
– Да? – она подняла глаза, увидела вошедших, сняла очки, потерла переносицу загорелой рукой с огромными накладными ногтями молочного цвета и двумя золотыми кольцами, вместе составляющими венецианскую маску.
Продавщицы молчали.
– Так, – она поморгала, повела затекшей шеей. – Где Нина Карловна?
– Идет из фасовки, – буркнула Голубко.
Сотникова вытянула из плоской пачки «Слим» тонкую сигарету, закурила:
– Значит, человеческого языка не понимаем?
Продавщицы молча смотрели на нее.
– И работать профессионально не желаем?
– Мы хотим работать, – ответила за всех коренастая, со сросшимися черными бровями Абдуллоева.
В кабинет стремительно вошла маленькая, круглая Нина Карловна:
– Что случилось, Катерин Станиславна?
– Случилось, опять случилось, – закивала головой Сотникова, выпуская дым сквозь пухлые губы. – Стоят и трут, стоят и трут. Опять!
– Девочки, – Нина Карловна укоризненно повернулась к продавщицам.
– Мы обсуждали кондишен, – сказала Мокшева.
– Что? – скривила губы Сотникова.
– У нас холодновато в отделе.
– Пятнадцать градусов, как положено, – тряхнула клипсами Нина Карловна. – У вас же кофты под халатами, вы чего?
– Конди-и-шен! – Сотникова откинулась в кресле, закачалась. – Врет и не краснеет.
– Мы правда обсуждали кондишен, – Голубко смотрела исподлобья.
– А чего ж вы ржали, как кобылы, а? – повысила голос Сотникова. – От холода?
– У вас у каждой свой фронт: колбаса, мясо, полуфабрикаты, – зачастила Нина Карловна. – Каждая стоит на своем, каждая отвечает за свое место, каждая следит, каждая смотрит покупателям в глаза, улыбается, предлагает…
– Стоят и трут, стоят и трут! – взмахнула рукой Сотникова. – Как неделю назад терли, так и сейчас. Вы что, на митинге? Оппозиция?
– Мы не оппозиция, – ответила с улыбкой Голубко. – Больше не повторится, Катерина Станиславовна.
– У нас не Черкизон, красавицы, – стремительно стряхнула пепел Сотникова. – Мы и так покупателей теряем, время слож-ней-ше-е. А вы мне – нож в спину. На, Екатерина Станиславовна, получай нож в спину!
– Бонуса лишитесь, – качала круглой головой Нина Карловна. – Лишитесь бонуса.
– Конечно! – качалась в кресле Сотникова. – Новогодний бонус получат далеко не все. И это не только из-за кризиса. Не только.
– Будем стараться, не будем разговаривать, – улыбалась Голубко.
– Молча будем работать, – закивала Абдуллоева.
– Девочки, делайте выводы, – посоветовала Нина Карловна.
– И это в последний раз! – подняла палец с молочным ногтем Сотникова.
– Обещаем, – кивнула Голубко.
– И я вам обещаю. Идите! – мотнула головой Сотникова.
Продавщицы вышли.
– И ты иди, – Сотникова недовольно подтянула к себе отчет. – Распустились, дальше некуда!
Нина Карловна вышла.
Заглянула секретарша Зоя:
– Катерин Станиславна, по мерчендайзингу.
– Все собрались? – Сотникова не подняла головы.
– Да.
– Щас я выйду.
Зоя закрыла дверь.
Сотникова отодвинула отчет, встала, зевнула, потянулась. Подняв вверх руки, вышла из-за стола на середину кабинета. Расставила длинные крепкие ноги на ширину плеч, положила руки на затылок. Стала делать круговые движения влево и вправо, резко выдыхая. На ней были светло-серые, в тонкую белую полоску расклешенные брюки с широким ремнем и белая блузка с вышитыми серебристыми лилиями.
Зазвонил мобильный. Она подошла к столу, взяла, глянула на номер, опустила руку с мобильником вниз, задумчиво облизнула губы. Выдохнула. Быстро приложила мобильник к уху:
– Слушаю.
– Здравствуй, – раздался женский голос.
– Здравствуйте, Ольга Олеговна.
– Я к тебе еду.
– Куда?
– Туда. Ты что, не на работе?
– Я на месте… но…
– Что – но? Я уже на проспекте.
– Но здесь, ну, у меня… не очень…
– Очень. Подъезжаю, встреть.
Разговор прервался.
– Блядь… – Сотникова бросила мобильный на стол, оперлась о столешню руками, сильно тряхнула головой.
Ее короткие, густые, гладкие волосы, крашенные в цвет спелой ржи, взметнулись волной и опали.
– Ну что за блядь… – вздохнула она, схватила мобильник и пошла из кабинета, громко цокая высокими каблуками.
– Зой, ко мне никого в течение часа. Никого! – бросила на ходу, минуя секретаршу.
– Понял, – кивнула Зоя.
Сотникова прошла по коридору, вышла в зал. Здесь толпились, ожидая ее, все двенадцать мерчендайзеров в синих халатах со своими блокнотами.
– Отбой до пяти! – громко объявила она, проходя сквозь них.
Двинулась по залу, огибая стеллажи и посетителей, негодующе качая головой:
– Блядь… ну блядь… ну, что ж за блядь, господи…
По ходу заметила на полу упаковку пастилы, подняла, бросила в большую, стоящую на полу сетку с игрушечными мягкими поросятами. Прошла сквозь свободную кассу.
– Здрасьте, – сказала полная молодая кассирша.
Сотникова пересекла вестибюль с банкоматами, камерой хранения и киоском оптики, прозрачные двери разошлись, она шагнула на брусчатку, встала. На улице было по-прежнему слишком тепло, слишком солнечно и слишком сухо, несмотря на сентябрь. Молодые каштаны и липы и не думали желтеть. На пыльном газоне дремали три бездомные собаки.
Быстрым шагом Сотникова прогулялась от входа в гипермаркет до клумб и обратно, повернулась и увидела подъезжающую черную «Волгу». Молочным ногтем показала свободное место на стоянке. «Волга» свернула, запарковалась. Из машины вышла миниатюрная Малавец в форме советника юстиции второй степени, двинулась ко входу.
– Дерьмовочка подъехала… – пробормотала Сотникова, злобно щурясь на Малавец.
Та шла своей походкой: быстрой, целеустремленно-деловой и слегка комической, словно игрушечной.
– Здравствуйте, Ольга Олеговна, – произнесла Сотникова, когда та приблизилась.
– Здравствуй, Катя, – не взглянув на нее, Малавец обвела площадь возле входа своими серо-голубыми, беспокойными, слегка выпученными глазами.
Ее худощавое, остроносое лицо было, как и всегда, бледновато-желтым, сосредоточенно-озабоченным. Беспокойные глаза непрерывно всматривались во все. Она была лет на девять постарше Сотниковой. – Ольга Олеговна, – выдохнула Сотникова, – дело в том, что у меня сегодня много людей, реально много, а поэтому…
– А поэтому ты их всех сегодня уволишь, – произнесла Малавец, облизнув сухие, перламутрово-розово напомаженные губы и оглядывая мужчину с лабрадором на поводке.
– Поймите, здесь нереально, я уже не могу здесь…
– Реально. Пошли.
Малавец решительно направила свое маленькое, худощавое тело в форме к входу. Ее ноги были достаточно стройны, но руки коротковаты. На согнутой левой руке висела дамская сумка, казавшаяся слишком большой для Малавец.
Сотникова последовала за ней.
– Ольга Олеговна, ну давайте завтра у меня…
– Завтра суд. И послезавтра. И послепослезавтра, – произнесла Малавец.
– Вечером давайте.
– Вечером я отдыхаю. Пошли, времени нет.
Малавец прошла в турникет, свернула в отдел фруктов, на ходу выхватила изо льда бутылку со свежевыжатым ананасовым соком, открыла, отпила, остановилась, вращая глазами:
– Куда… я забыла…
– Идите за мной, – недовольно буркнула Сотникова, громко цокая каблуками.
Малавец последовала за ней. Сотникова пересекла зал, вошла в коридор, свернула к своему кабинету. У нее зазвонил мобильный, она глянула, отключила его, распахнула дверь.
– Катерин Станиславна, звонил Лапшин, – доложила Зоя, пригубливая кофе.
– Зой, ко мне никого в течение часа. Никого!
– Понял, – буркнула Зоя.
В секретарскую вошла Малавец с соком в руке.
– Здрасьте, – кивнула ей Зоя, покосившись на форму. – А Лапшину что сказать?
– Через час.
Сотникова толкнула дверь в кабинет, пропуская Малавец. Та вошла. Сотникова закрыла и заперла за ней дверь, присела на край стола для заседаний, скрестив руки на груди и недовольно глядя в стену с благодарностью от Московской патриархии. Малавец села за стол Сотниковой, отодвинула отчет, поставила на стол сок и сумку. Открыла сумку, достала старую серебряную пудреницу, раскрыла. Из сумки вынула костяную трубочку, всунула конец в ноздрю, склонилась над пудреницей, сильно втянула в одну ноздрю, потом в другую. Замерла, глубоко выдохнула. Взяла бутылку с соком, отпила. Потом отключила свой мобильный:
– Давай.
Сотникова вздохнула:
– Ну, я приехала, как и договаривались, в девятом часу.
– Так, ты, во-первых, сядь поближе, вот сюда, – Малавец указала на стул.
Сотникова пересела, положив ногу на ногу.
– И сядь нормально, – пошарила по ней глазами Малавец. – Ты сидишь с каким-то вызовом.
– Нет никакого вызова, – Сотникова сняла правую ногу с левой, провела ногтями по коленям.
– Вот так естественней, – откинулась в кресле Малавец.
– Приехала, позвонила. Он открыл, я захожу, говорю: «Я ваша новая кухарка, от вашей бывшей жены. Меня зовут Виктория». Он говорит: «Ах, как вы вовремя. Я очень голоден, купил карасей, а жарить не умею». Вот. Я говорю: «Не волнуйтесь, я все сделаю». Он говорит: «Прекрасно! Тогда я сейчас пойду ванну приму. А вы располагайтесь и начинайте». Вот. Сам пошел в ванную, я прошла на кухню, там на столе уже лежал белый передничек, я его надела, рыба лежала в раковине. Взяла нож и стала чистить карасей. И тут он вошел на кухню неслышно, быстро сзади подошел и за зад меня взял, а я…
– Стоп! – хлопнула в сухопарые ладоши Малавец. – Стоп.
Сотникова вздохнула, поскребла ногтями свои колени.
– Ты что мне рассказываешь? – спросила Малавец.
– Ну… историю…
– Какую?
– Ну, то, что было у нас с ним.
– Ты рассказываешь страстную историю. Страст-ну-ю. И тай-ну-ю. Я к тебе приехала, отложив две важнейшие встречи только для того, чтобы ты рассказала мне страстную, тайную историю. Которую никто еще не знает. И никто, кроме нас с тобой, не узнает. А поэтому, если ты лишишь меня оча-ро-ва-тельных подробностей, я завтра же плюну на твое дело и передам его кому следует. И тогда ты узнаешь, как Бог свят и суд строг. Поняла?
– Я все поняла, хорошо, – вздохнула Сотникова.
– Рассказывай спокойно, не торопясь. И с исчерпывающими подробностями. Ясно?
– Ясно.
– Прошу, – Малавец сунула руку себе под юбку, сжала колени.
– Он вышел из ванны, я услышала, хоть он и шел босиком.
– Как ты была одета?
– На мне была юбка совсем коротенькая, колготок не было и трусиков тоже не было. Как договорились.
– Как договорились, – кивнула Малавец. – Продолжай.
– И майка. Лифчика не было. И этот белый передничек. Он взял меня за зад, обеими руками, стал трогать попу. Сначала через юбку, а потом забрался под юбку. И говорил: «Продолжайте, продолжайте». Я не оборачивалась, продолжала чистить карасей. Потом он опустился на колени, раздвинул мне ягодицы и стал лизать мне анус.
– Не анус, а попочку, сладкую попочку.
– Да, сладкую попочку.
– Он залез в нее язычком своим?
– Да.
– Глубоко? – дернула головой Малавец.
– Сначала не глубоко, а потом глубоко.
– А ты что? – Малавец сводила и разводила колени.
– Мне было очень приятно.
– Сладко тебе было?
– Сладко.
– Сладенько он язычком своим… да? Туда, сюда… сладенько? В попочке у Катеньки? Туда-сюда. Язычком забрался, да?
– Забрался в попочку мою языком, – кивала Сотникова.
– А Катенька что делала в этот момент?
– Чистила карасей.
– Чистила карасиков маленьких, хороших, а он, хулиган, Катеньке в попочку языком забрался, в сладенькую попочку?
– Забрался языком, – кивала Сотникова, разглядывая свои ногти. – А потом…
– Погоди! – прикрикнула Малавец, тяжело выдохнула. – Он что… он сам… сам он стонал?
– Стонал.
– Сладко стонал, да?
– Сладко.
– Стонал тебе в попочку… а сам в ней язычком, язычком… да? да? да? да-а-а-а-а-а!
Малавец беспомощно вскрикнула и мелко затрясла головой, задвигала рукой под юбкой. Потом схватила отчет и с силой швырнула в Сотникову:
– Сука!
Сотникова испуганно отшатнулась, вскочила, отбежала к двери.
Тряся головой, Малавец закрыла глаза, облегченно, со стоном вскрикнула:
– А-а-а-а!
И тут же простерла свободную руку к Сотниковой.
– Прости, прости.
Сотникова нерешительно стояла у двери.
– Прости… – выдохнула и облегченно задышала Малавец. – Это так… это ничего… это нервы… присядь. Присядь. Присядь!
Сотникова подняла отчет, положила на стол для совещаний. Села на свой стул.
Малавец открыла пудреницу, втянула в правую ноздрю. Отпила сока. Пошмыгала носом.
Помолчали: Сотникова смотрела в стену, Малавец вздыхала и трогала свои щеки, на которых проступили два розовых пятна.
– Кать, ты пойми меня, пожалуйста, – заговорила Малавец. – Я хочу, чтобы ты меня правильно поняла.
– Я хочу курить, – буркнула Сотникова.
– Кури, конечно, кури.
Сотникова взяла со стола сигареты, зажигалку, закурила, положила ногу на ногу.
– Понимаешь, у каждого человека есть свое святое. Не в смысле веры, Бога, чудес. А просто – свое, родное святое. Которое всегда с тобой. И каждый должен уважать святое чужого человека, если хочет называться человеком. Я готова уважать твое святое. Всегда. Я никогда не растопчу его, никогда не осмею. Потому что я в первую очередь уважаю себя как личность, как мыслящий тростник. И уважаю свое святое. И твое. Я всегда пойму тебя. Как поняла с этим процессом. А у меня были все основания не понять ни тебя, ни Самойлова, ни Василенко. Но я поняла и тебя, и Самойлова, и даже мудака Василенко. И теперь вы живете нормальной человеческой жизнью, вам пока ничего не угрожает.
– Пока, – выпустила дым Сотникова.
– Пока, – кивнула Малавец, откидываясь в кресле. – Конечно, пока! Мы все живем – пока. Не пока бывает только у мертвецов. Или у ангелов. У них вместо «пока» – вечность. Ewichkeit. А у нас – dolce vita. Этим мы от них и отличаемся.
Помолчали.
– У меня очень сложный день сегодня, – Сотникова со вздохом выпустила дым.
– У меня тоже.
– Ко мне едут важные люди.
– А у меня в приемной сидят два депутата Государственной Думы. Сидят и пьют кофе. И ждут меня. Сядь нормально.
Сотникова с неудовольствием опустила ногу.
– И не кури столько. Ты молодая, красивая женщина. Зачем ты куришь? Курят от разлада с собой.
– Хочу и курю.
– Ты же дым вдыхаешь! Задумайся один раз: вдыхаешь дым. Это же бред полный – дышать дымом, получая от этого удовольствия.
– А кокаин вдыхать – не бред?
Лицо Малавец стало строгим:
– Это самый экологически чистый наркотик. Знаешь, сколько суток водка держится в организме? Двенадцать. А кокаин – всего трое суток. И никакой ломки.
– А зависимость? – Сотникова загасила окурок.
– А где ты видишь эту зависимость? – узкие, подбритые брови Малавец изогнулись. – Где?
Сотникова молча курила, отведя глаза.
Малавец махнула рукой:
– Никакой зависимости, рыбка. Но я тебе не предлагаю.
– Я и не прошу.
Малавец закрыла пудреницу:
– Что он дальше делал с тобой?
– Дальше… ну, он обнял меня за ноги сзади. Прижался. Я поняла, что он голый. И почувствовала его член.
– Не член! – хлопнула по столу Малавец. – А божественный фаллос!
– Божественный фаллос.
– Как ты его почувствовала?
– Ну… – глаза Сотниковой шарили по кабинету.
– Можно без «ну»?
– Он когда прижался сзади, он же стоял на коленях…
– Так, – Малавец сунула руку себе под юбку.
– И его чле… божественный фаллос у меня оказался здесь… между коленями.
– И что?
– И он стал тереться между ними, а я его ими сжала.
– Сильно сжала?
– Достаточно.
– А он что в это время делал?
– Фаллос?
– Он сам!
– Он по-прежнему внедрялся языком в мою попку.
– О-о-о… хорошее слово… – нервно улыбнулась Малавец, двигая рукой под юбкой. – Внедрялся… именно внедрялся. Точное слово! Внед-рял-ся! И тебе было хорошо?
– Да, мне было хорошо. У него язык такой… настойчивый.
– А фаллос?
– Фаллос горячий.
– И крепкий?
– Крепкий. Твердый.
– Твердый и большой. Ведь, правда, у него большой? Ты это сразу почувствовала?
– Да, – Сотникова обхватила руками свои бедра, вздохнула, распрямляясь, выпятив грудь. – Он у меня между колен прошел и высунулся.
– Знаешь, какой он длины?
– Нет.
– Угадай, – нервно улыбалась, покачивая головой, Малавец.
Пятна на ее щеках проступили сильнее.
– Двадцать?
– Двадцать четыре сантиметра. Вот каков божественный фаллос моего бывшего мужа. А головка его фаллоса – как большой абрикос. Только малинового цвета. Ты видела его головку?
– Да, я поглядывала вниз, хоть и продолжала чистить рыбу.
– Ты… так краешком глаза, да? Свой глазок-смотрок, да? Краешком… краешком увидела, как он это, да?
– Угу.
– Как он высунулся… упругий, да? Туда-сюда, да? Туда-сюда… через ножки твои белые, да?
– Да.
– А сам он… что… сам что? Сам что он?
– Он мычал.
– В попку мычал?
– В попку мычал.
– И язычком в нее, да? Да? Язычком в попочку, а фаллосом своим мужественным… между ножек белых, ножек гладких, да? Ты ножки свои эпилируешь или бреешь?
– Просто брею.
– Сама?
– Да.
– Молодец. Сама! Ты побрила их специально, накануне, да?
– Да.
– Побрила, тайно побрила, гладила ножки свои, готовила, чтобы ему было слаще, нежнее для фаллоса, да?
– Да.
– Чтобы скользил он… скользил по нежному, через нежное… через ножки Катенькины… так вот… скользил, скользил, сколь-зил, сколь-зил, сколь-зил… а-а-а-а-а!!
Малавец оцепенела, открыв рот и закатив глаза. Вскрик ее перерос в хрип. Сотникова угрюмо смотрела на нее, сложив руки на груди.
– Ой, не могу… – Малавец уронила голову на стол, затихла, слабо всхлипывая.
Сотникова закурила.
– Ой… кошмар… кошмарик… – дышала Малавец, поднимая и опуская узкие худые плечи.
Отдышавшись, она понюхала из пудреницы. Отпила сока из бутылки. Откинулась в кресле:
– Кать, ты волком-то на меня не смотри. Не надо.
Сотникова отвернулась.
– Мы с тобой договорились: три ходки. Две уже прошли. Сходишь к нему, когда он из отпуска вернется, в последний раз, и дело с концом.
– Лучше бы деньгами, – Сотникова встала, достала из холодильника бутылку минеральной воды, налила себе в стакан.
– Денег мне от тебя не нужно. Я уже озвучила тебе: взяток не беру.
– Напрасно.
– Ты не хами мне, Кать. Я все-таки тебя постарше. Я, Катенька, видала такое, что тебе и не снилось.
– А может, все-таки деньгами? – Сотникова подошла к Малавец, присела на край стола со стаканом в руке.
– Не все в жизни измеряется деньгами, – Малавец положила свою небольшую руку Сотниковой на колено.
– А может? – Сотникова зло смотрела на Малавец.
– Кать, мы договорились.
– А может?
– Кать… – Малавец решительно вздохнула, сцепила пальцы замком.
– А может? – голос Сотниковой дрогнул.
– Катя! – Малавец хлопнула ладонью по столу.
– А может?! – вскрикнула Сотникова, отбросив стакан и красивые, полные губы ее затряслись.
Не разбившись, стакан покатился по полу.
Малавец встала, обняла ее за плечи:
– Катя. Давай по-хорошему.
Сотникова отвернулась. Малавец вздохнула, подпрыгнула и села рядом с ней на стол:
– Я тебе сейчас расскажу одну историю. И ты все поймешь. Вот двое. Он и она. Встретились. Полюбили друг друга. Быстро выяснилось, что они не просто любят друг друга, а жить без друг друга не могут. Совпадают, как две половинки прекрасной раковины. А внутри – жемчуг. Большая жемчужина любви. И она сияет в темноте. Они счастливы. Счастливы и душевно и физиологически. От акта любви получают колоссальное наслаждение. И у него, и у ней были истории раньше. Были партнеры, были партнерши. Но все померкли по сравнению с реальностью, так сказать. Все прошлое померкло. То есть их близость, это было что-то… Искры сыпались, сердце останавливалось. Иногда она даже теряла сознание. А он, когда кончал, плакал, как ребенок. Так это было сильно. И они были так счастливы, так счастливы, что… просто словами это и выразить невозможно. Как говорится: счастливы вместе. И счастливы не-ре-аль-но! Вот. А потом она забеременела. Они очень хотели ребенка. И он родился – мальчик, здоровый, жизнерадостный. Плод их любви. Она кормила его своей грудью, молока было много. И муж, чтобы не было мастита, помогал ей, сцеживал у нее молоко. Потом он стал просто отсасывать у нее молоко, просто пить его. Ему очень понравился вкус ее молока, ему все в ней нравилось, он боготворил ее, как и она его. Она кормила своей грудью двух своих любимых мужчин – сына и мужа. И была счастлива. И это продолжалось целый год. А потом она перестала кормить сына. Но муж продолжал пить ее молоко. Он очень любил одну позу во время их соития: он сидит на стуле, она сидит на нем лицом к нему. И во время акта он сосал ее груди. А они отдавали ему молоко. И оно не кончалось, оно лилось ему в рот, лилось сладким потоком, потоком любви и благодарности этому человеку, благодарности за то, что он есть, что она его встретила, что они вместе. И это продолжалось. Десять лет. Невероятно, да? Никто и не поверит в такое! Десять лет она поила своим молоком любимого человека. Поила по ночам. Вот… А потом она стала чувствовать смертельную слабость. У нее было много работы, она делала свою карьеру, серьезную. У нее начались головокружения, она похудела. Она обратилась к врачу, рассказала об их сладкой тайне. Врач сказал, что это разрушительно для ее здоровья. И она перестала кормить мужа своим молоком. Он конечно же понял ситуацию, он сам и предложил это, естественно, он же хотел ей добра, он думал об их счастье, о будущем. Они хотели еще детей. Ее карьера состоялась, да и он прилично зарабатывал. После того как она перестала поить его молоком, она поправилась, головокружения прошли. Она забеременела, но девочка родилась мертвой. А через год он ушел от нее к другой женщине. К другой женщине… – Малавец погладила плечо Сотниковой, помолчала.
– Она тяжело перенесла его уход. Очень. Можно сказать – и не перенесла. Совсем. Не смирилась с его потерей. Старалась забыться в работе. Там она достигла приличных результатов, стала личностью. У нее появился мужчина. Но она не испытывала с ним и десятой доли того, что со своим бывшим мужем. Попросту – не кончала. Потом появился еще один. То же самое. Ее муж был необычный сексуальный партнер, очень необычный. Нет, он не был извращенцем, он делал все вполне обычно, но… у него был… как сказать… особый, неповторимый огонь, завод, которого не было ни у кого. Он мог просто положить ей руку на спину, и она сразу сходила с ума от желания. И потом, он действительно очень любил секс. Любил по-настоящему. Даже не любил, а обожал. Обожал. В этом было что-то маниакальное. А она обожала его. Да… В общем, она порвала с этими двумя. И стала жить одна, с сыном. Причем с мужем они остались друзьями. Она слишком любила его, чтобы навсегда порвать. И она растила его сына. Плод их любви. Они перезванивались каждую неделю. И однажды он пожаловался, что у него нет кухарки. И она помогла, послала к нему свою уборщицу, которая и готовила прилично. Та вернулась и рассказала, что он неожиданно овладел ею, когда та чистила рыбу. И когда кухарка это рассказывала, мне стало так хорошо, что…
Малавец замолчала. Серо-голубые, выпученные глаза ее наполнились слезами.
Сотникова слезла со стола, взяла сигарету, закурила.
Малавец сидела на столе, положив на форменную юбку свои маленькие руки.
– Почему вы мне сразу не рассказали? – спросила Сотникова, стоя к ней спиной.
– Не задавай глупых вопросов.
Малавец смахнула слезы, шмыгнула носом, не слезая со стола, вытащила из сумочки пачку бумажных носовых платков, высморкалась. Взяла пудреницу, глянула на себя в зеркальце, опустила в пудреницу трубочку, понюхала.
Сотникова задумчиво подошла к сейфу, клюнула его пару раз ногтем, резко повернулась на каблуках:
– Когда третья ходка?
– Ну… – шмыгая носом, Малавец сделала неопределенный жест рукой. – Можно на той неделе.
– Не позже. Мы потом уедем на Родос.
– Хорошо. Он пока в Москве.
– Не позже, – повторила Сотникова.
– Я договорюсь с ним на следующий уик-энд. Третья ходка.
– Третья ходка, – по-деловому кивнула Сотникова.
– И дело твое и Самойлова, оба дела будут закрыты. Это говорю тебе я, Ольга Малавец. И все у вас будет зашибитлз, как говорит мой сынок. Поэтому гаси свою сигарету, садись сюда.
Сотникова потушила сигарету, села на стол.
– Поближе.
Она придвинулась к Сотниковой. Та взяла ее за руку, свою другую руку сунула себе под юбку:
– Что он делал потом?
Сотникова облизнула губы, вспоминая:
– Потом… Потом он встал с колен, немного вставил мне член… то есть фаллос во влагалище и как бы замер. И перестал дышать. Я сперва подумала, что с ним что-то произошло. И он так стоял, обняв меня. И я тоже перестала… я перестала.
– Что?
– Рыбу чистить.
– И вы так замерли, да? – Малавец стала теребить у себя под юбкой.
– Да. Он стоял как статуя. И держал меня руками. И я тоже стояла.
– А фаллос его божественный?
– Слегка в меня вошел.
– В пипочку твою… да?
– Да.
– В пипу, да?
– Да.
– Разлизал он тебе попу… разлизал настойчивым языком своим… языком настоящего мужчины… а вошел в пипу?
– Да. А потом вдруг…
– Погоди! – сжала ее плечо Малавец. – Погоди, погоди, погоди…
Сотникова замолчала.
Малавец прикрыла глаза, теребя себя под юбкой медленней, покусывая свою узкую нижнюю губу:
– Не надо торопиться… все спокойно… все хорошо…
Сотникова тупо смотрела перед собой.
– И что было потом? – быстро спросила Малавец.
– Потом он резко вошел в меня.
– Куда вошел?
– Во влагалище.
– Чем вошел?
– Фаллосом.
– Горячим?
– Да.
– Решительно?
– Да.
– Страстно?
– Да.
– Глубоко?
– Да.
– Что он сказал тебе?
– Он меня обнял всю и прошептал мне в ухо: «Я забил в тебя, киса!»
– В ушко твое прошептал?
– Да, в самое ухо.
– Горячо прошептал?
– Да.
– И что потом? – всхлипнула Малавец.
– А потом он стал двигаться во мне.
– Двигаться?
– Двигаться.
– Двигаться?
– Двигаться.
– И двигаться?
– Двигаться.
– А потом, а потом?
– А потом он стал кончать в меня.
– Кончать?! Стал?!
– Кончать. И стонал.
– Стонал?!
– Стонал и повторял: «Я забил в тебя, киса».
– Я забил в тебя?! – вскрикнула со всхлипом Малавец.
– Забил.
– Забил?!
– Забил.
– За-бииииииииииииииииииил! – проревела Малавец, закатывая глаза.
Сотникова напряженно замерла.
Конвульсии охватили субтильное тело Малавец, из открытого рта рвалось рычание. Пальцами она вцепилась в плечо Сотниковой. Та сидела, словно окаменев, косо поглядывая на дрожащие ноги Малавец.
Наконец, Малавец перестала дергаться, отпустила плечо Сотниковой, прижала ладони к разгоряченному лицу:
– Все… все… все…
Сотникова со вздохом облегчения слезла со стола, взяла сигарету и закурила, прохаживаясь по кабинету.
– Все… – Малавец посидела на столе, пошевелила ногами в строгих черных туфлях, медленно спустилась со стола, сделала несколько шагов, остановилась.
На ее щеках багровели два пятна. Статная Сотникова прохаживалась, куря, не обращая на Малавец внимания. Та взяла со стола свою пудреницу, подержала в руках, резко закрыла:
– Не буду. Дай-ка мне, что ли, сигаретку.
Сотникова дала, поднесла огня.
Малавец закурила. Лицо ее сразу посерьезнело.
– Вот так, Катя, – она взяла себя за локти.
– Мне пора работать, – Сотникова быстро и жадно докурила, сунула окурок в пепельницу.
– Да… – Малавец шарила прозрачными глазами по кабинету, словно видя его впервые.
Сотникова отперла дверь, заглянула в секретарскую. Зоя сидела за своим столом и блестящими металлическими щипцами правила себе ресницы. – Лапшин, два раза. Маркович и таможня, – доложила она.
Сотникова вернулась в кабинет.
– Кофейку у тебя выпью? – спросила Малавец, попыхивая сигаретой, но не затягиваясь.
– У нас машина кофейная сломалась, – соврала Сотникова. – И у меня завал работы.
– Ладно, в «Кофемании» попью, – Малавец бросила недокуренную сигарету в пепельницу, взяла свою сумку. – Проводи уж меня.
Сотникова неохотно кивнула.
Они вышли из кабинета, двинулись по коридору.
– Спасибо, – Малавец вдруг обняла Сотникову за белую талию.
Сотникова шла целеустремленно, не реагируя.
– Я ведь Любку, уборщицу нашу бывшую, уговаривала. Не уговорила. Выгнала дуру к чертовой матери. А блядищ он не терпит…
Впереди, в зале гипермаркета раздались истошные женские крики.
– Чего это? – пробормотала Малавец.
– Не знаю… – нахмурилась Сотникова, ускоряя шаг. – Кошелек, что ли, у кого-то вытащили…
– Щас воровство карманное просто жуткое, – покачала головой Малавец, отставая. – Кризис, естественно.
Они вышли в зал.
За длинными стеклянными витринами рыбного и мясного отделов никого не было.
– Прекрасно… – пробормотала Сотникова.
За стеллажами безалкогольных напитков послышался женский вскрик, перешедший в хныканье и бормотанье. Сотникова обошла стеллаж. На полу, подплывая кровью, лежала девушка-мерчендайзер в синем халате. Ее очки и блокнот валялись рядом. На полу спиной к стеллажу сидела мелко дрожащая женщина средних лет. Рядом стояла тележка с продуктами. Содержимое тележки сосредоточенно разглядывал полноватый подполковник милиции.
– Мда… с натуральными продуктами у тебя явно прокол, – проговорил он и, заметив Сотникову, обернулся.
– Кто… – Сотникова остановилась возле трупа, схватила себя ногтями за губы.
– Убил ее? – поднял брови подполковник. – Я.
Сотникова вперилась в него. Его загорелое, холеное лицо не выражало ничего особенного. Слегка покрасневшие глаза смотрели вполне обычно. Сотникова увидела пистолет в его руке. Сзади подошла Малавец.
– О, прокуратура, – подполковник глянул на форму Малавец. – Так быстро?
– Что здесь… происходит… – пробормотала Малавец, пуча глаза на распростертое тело.
– Здесь происходит отстрел, – сообщил ей подполковник. – По принципу красоты.
Обе женщины оцепенели. Сидящая заскулила.
– Самые красивые катапультируются в лучший мир, – произнес подполковник, кивнул на сидящую. – Вот эта явно не подходит. Ползи отсюда, потребитель полуфабрикатов!
Он легонько пнул женщину ногой. Та послушно поползла прочь, поскуливая от ужаса.
– Женщина в форме, – подполковник сощурился на Малавец. – Это красиво, не спорю. Но сама по себе ты не красива.
Малавец оцепенело смотрела на него.
– А вот ты, пожалуй, подходишь, – он перевел взгляд на Сотникову. – Ты красива. По-настоящему.
Он навел на Сотникову пистолет и выстрелил. Пуля попала Сотниковой в грудь, прошла навылет, пробила четыре упаковки виноградного сока «Добрый» и впилась в пакет манной крупы. Сотникова упала навзничь.
Подполковник повернулся и скрылся за стеллажами с продуктами.
– Кать… – выдохнула Малавец.
Сотникова лежала на спине, раскинув руки и глядя в потолок. Ее полные губы слабо, еле различимо задвигались, хватая воздух. Она стала икать.
– Катя… – прошептала Малавец, схватившись за свои все еще красные щеки.
Сотникова смотрела на потолочный светильник вытянутой прямоугольной формы. Светильник сиял светом дня. Этот свет стал сиять, сиять, сиять, сиять и потянул Сотникову за собой. Она полетела за светом, понеслась, понеслась, понеслась, понеслась. И уперлась в закрытое пространство. За этим пространством, как за прозрачной стеной, стоял хомяк в человеческий рост. Шерсть его переливалась радужными сполохами, за ушами темнели два зигзага, белые усы на пухлых щеках сияли. Сотникова сразу узнала его. Это был ее хомяк Тимка, которого ей купила бабушка на Птичьем рынке, когда Кате было восемь лет. Хомяк тогда стал ее самым близким другом в семье, где ссоры между пьющей и гулящей матерью, работающей официанткой в ресторане «Якорь», и истеричным, сильно верующим в Бога отцом, младшим научным сотрудником «Мосгидропроекта», нарастали и рушились как снежные лавины. Катя любила хомяка, тискала, разговаривала с ним, дарила ему подарочки, баловала печеньем, рассказывала про школу, про подруг, про мальчишек, про учителей и задачки, брала этот теплый шерстяной комочек в ладоши и дула на него теплым воздухом. Тимка жмурился от удовольствия. Перед отцом Катя была всегда и во всем виновата, потому что училась она посредственно, мать же о ней заботилась и любила, пока была трезвой. Пьяная мать становилась чужой и непонятной, Катю она тогда или не замечала, или начинала резко тискать и целовать со слезами, словно прощаясь навсегда, что было страшновато. Когда пьяная мать после ссоры с отцом плакала, запершись в ванной, Кате было тоже не по себе. Была еще бабушка, она была хорошей и большой, всегда доброй, но она жила в Бронницах со своими козами, курами и собакой Вальком, приезжала в кунцевскую двухкомнатную квартиру родителей всегда только на день. Катя летом гостила у бабушки вместе с Тимкой. Коз и кур она тоже любила, разговаривала с ними, как и с Тимкой. Но козы и куры так не понимали Катю, как Тимка понимал ее. А разговаривать с Вальком было трудно: он все время сидел на цепи и был злой. Тимка жил на кухне в стеклянном аквариуме, устланном соломой и ватой. Он пил воду из половинки пластиковой мыльницы, ел из консервной крышки и спал, забившись в вату. Приходя из школы, когда родители были на своих работах, Катя кормила Тимку, говорила с ним, грела его своим дыханием, потом выпускала его побегать по квартире. Тимка бегал, семеня ножками и все обнюхивая. Он прожил в Катиной семье год. Однажды зимой Катя выпустила его побегать, а сама включила телевизор и стала смотреть Олимпиаду, фигурное катание. Потом она пошла в туалет, но услышав, что объявляют выступление ее любимых Линичук и Карпоносова, она кинулась из туалета, распахнув дверь так сильно, что та ударила по лыжам отца, стоящим в прихожей, лыжи повалились на пол, и Катя услышала писк Тимки. Лыжи упали на него. На руках у Кати Тимка умер всего за несколько минут: черные глазки его наполнились слезами, он беспомощно перебирал передними лапками, открыв рот. Потом затих. Положив его на стол, Катя рыдала до вечера. Первым с работы пришел отец. Он, как всегда, был устало-недовольным.
– Тимку твоими лыжами убило! – зло плача, выкрикнула ему Катя.
Увидев на столе мертвого хомяка, отец вдруг стал серьезным, усталость дня и привычная раздражительность сошли с него. Он сел за стол, поправил очки, взял Катину руку и сказал спокойно и серьезно:
– Не плачь. Смерти нет. Твой Тимка не умер. Он ушел к Богу.
– Он… вот он, он еще тепленький, – не соглашалась, всхлипывая, Катя.
– Это уже не Тимка, – продолжал отец. – Это просто тело его. А душа его на том свете. Мы все туда уйдем и все там встретимся. И твой Тимка встретит тебя, когда ты туда придешь. И дедушка покойный встретит. И дядя Семен. И мои дедушка с бабушкой. И все друзья и все родственники. Всех воскресит Господь. А теперь пошли, похороним Тимку.
Они оделись, отец взял совок, Катя – Тимку, спустились на лифте во двор, разгребли снег возле липы и закопали Тимку в не очень мерзлую землю. На следующий день выпало много снега, дворник почистил двор и возле липы вырос сугроб. Идя в школу, Катя говорила сугробу:
– Тимка, я в школу иду.
Возвращаясь из школы, говорила:
– Тимка, я пришла домой.
Нового хомяка ей почему-то не купили. А потом она забыла про Тимку. И вот сейчас он стоял перед ней, огромный, как медведь, красивый, благородный, и внимательно смотрел на нее сияющими глазами. Это был ее Тимка, но совершенно новый, преобразившийся. От него проистекала удивительная благодать. Но еще большая благодать дрожала и колебалась неземным светом за его спиной. Благодатное море света переливалось за спиной у Тимки. Всепоглощающий радостный покой исходил от этого моря. И это море ждало Сотникову. И ей ужасно захотелось в это море. Море тянуло, в нем было Другое, Радостное и Великое. Вся предыдущая жизнь Сотниковой вдруг показалась ей по сравнению с этим морем света чем-то маленьким, ничтожным, ссохшимся и сжавшимся, как бабушкина перчатка в старом комоде. Но море не пускало ее: Тимка стоял на пути. Она поняла, что должна что-то Тимке, чтобы он пропустил ее туда, в царство Вечной Радости. Сияющие глаза Тимки говорили ей, чего ждет он от нее. И она сразу поняла и вспомнила: просфорка! Она вспомнила, как однажды она пустила Тимку на стол, чтобы он погрыз просфорку, которую Катин отец принес из церкви. В общем, Катя сделала это даже не нарочно, не для того, чтобы досадить зануде-отцу, а просто ей было как-то весело и приятно, что Тимка поест просфорку, которую отец так значительно приносил из церкви и только натощак позволял есть Кате и младшему братику Леше. Тимка обхватил просфорку своими лапками, прижал к белому брюшку и стал грызть.
– Ешь, Тимка, и стань святым! – со смехом повторяла Катя. – Съешь всю – и станешь святым Тимкой!
Тимка ел быстро, наполняя свои защечные мешки. Он съел почти две трети просфорки, оставив кусочек в виде полумесяца. Но вдруг захрустел входной замок: отец возвращался из магазина. Катя быстро выхватила у Тимки объеденную просфорку, посмотрела кругом – куда бы сунуть? – карманчиков на платье не было, кинуть под диван, – выметут веником, а потом накажут, в унитаз – поздно, отец уже раздевается в прихожей. Катя подбежала к комоду, заглянула за него, но там было так широко, все видно, там просфорку не спрятать. Рядом с комодом стоял приемник-проигрыватель «Ригонда», Катя заглянула и увидела, что сзади красивой «Ригонды» картонная крышка, а в ней маленькие дырочки и две дырки побольше. Катя едва успела сунуть полумесяц в дырку, как отец вошел с авоськой, полной продуктов:
– Кать, где мама?
– У тети Сони, – ответила Катя, положив руки на «Ригонду».
Отец хмуро глянул сквозь очки и унес авоську на кухню.
– Опять хомяк на столе? – раздался его недовольный голос.
– Я заберу, пап, – ответила Катя.
Катя заглянула: хлебный полумесяц исчез в «Ригонде» бесследно. Она забрала озирающегося Тимку со стола и отнесла на кухню, опустила в его стеклянный домик.
– Стол для людей, пол для хомяков, – бубнил отец, разбирая пакеты со снедью. – На столе мы едим, на столе трапеза, которую я благословляю каждый день. В последний раз, слышишь?
– Слышу, – ответила Катя.
Про просфорку отец не спросил ни в тот день, ни на следующий.
А теперь Тимка хотел этот оставшийся, завалившийся в «Ригонду» кусочек.
Сотникова открыла глаза. Она лежала в реанимационном блоке. И поняла, что в Сияющее Море Радости она не попала. Убогий земной мир снова окружил ее. Рядом в синем и белом халатах стояли двое бородатых людей. С недовольством она стала вглядываться в них. В одном из них она узнала своего мужа Василия. Другой бородатый был врачом.
– Катенька, – произнес Василий, беря ее руку.
Она смотрела на него, словно видела впервые, хотя и вспомнила, кто он в ее земной жизни.
– Катенька, ты слышишь меня?
Она пошевелила губами. Они были сухими, шершавый язык потерся о них. Она сглотнула. Глотать было очень больно, почти невозможно. Но в простреленной груди ни боли, ни тяжести не было.
– Да, – прошептала она и почувствовала, что в правой ноздре у нее трубка.
– Милая, ты жива, – улыбнулся Василий.
– Да, – скорбно согласилась она.
– Чудо. Пуля не задела ни сердца, ни позвоночника, ни пищевода, никаких внутренних органов! – голос Василия задрожал от радости. – Чудо, Катюша! Чудо, радость моя!
Она смотрела на его осунувшееся бородатое лицо. Это тусклое, изможденное, обсосанное земной жизнью лицо обещало всю ту же серую, ограниченную, убогую, знакомую до тошноты земную жизнь.
– Наклонись, – прошептала Сотникова.
– Вам нельзя много разговаривать, – предупредил врач и отошел к соседней больной, лежащей с закрытыми глазами под капельницей и с такой же кислородной трубкой в носу.
Василий приблизил свое лицо, отчего оно стало для нее еще невыносимей. Каждая морщина этого лица, каждый волос в бороде, казалось, говорил ей: «Это наша жизнь, другой не будет».
Сотникова провела языком по губам и негромко заговорила:
– Помнишь «Ригонду», которая стоит у моего отца? – «Ригонду»? – наморщил лоб Василий.
– Приемник «Ригонда». У него стоит. Возле пианино.
– Да, да, конечно, помню, – закивал он, гладя ее руку. – Отец тоже жутко переживает, даже хотел…
– Открой в нем заднюю панель, найди там кусочек просфорки.
Василий серьезно кивнул.
– И принеси мне его сюда. Немедленно.
Василий покосился на врача. Тот, подозвав сестру, занялся соседней больной.
– Катенька, тебе нужен покой… – зашептало лицо Василия.
– Немедленно, – произнесла она, отводя глаза. – Немедленно. Немедленно.
– Хорошо, хорошо, я все сделаю, – противно и знакомо затряс он лысеющей головой.
– Сегодня. Немедленно, – хрипло шептала она.
– Хорошо, – кивнул он. – Сашу не пустили сюда, он тоже здесь, в коридоре. Он так плакал, когда узнал.
Она вспомнила, что у нее есть сын. Это не вызвало у нее никаких чувств. Потом вспомнила своего отца на инвалидной коляске. Отец показался ей далеким, словно в перевернутом бинокле. Она вспомнила, что ее мать давно уже умерла. И добрая бабушка умерла.
– Принеси мне сегодня, – повторила она.
– Все сделаю, дорогая, не волнуйся. Принесу просфорку. И иконку принесу. Полина заказала сорокоуст, когда узнала, сразу пошла в храм и заказала. Чудо случилось, слава Богу. А этого гада пристрелили, этого мента, оборотня, сволочь эту, наркомана поганого. Его больше нет, Катенька, забудь. Четверых женщин насмерть застрелил, троих ранил. Пристрелили его, как бешеную собаку, отморозка. О тебе по всем каналам говорят. Ты – герой, Катюша. Василенко мне звонил, Сегдеева звонила, Аня звонит каждый час, Николай звонит. И эта, из прокуратуры, та самая, как ее, Малавец, справлялась, предлагала помощь, любые связи, такая душевная женщина, сказала, что все с вашим делом уладилось, а мы что про нее думали, а?
– Сегодня, – Сотникова закрыла глаза в надежде снова увидеть сияющего Тимку.
Но перед глазами была тьма.
– Вам пора уходить, – раздался голос врача. – Вы знаете, мы вообще сюда никого не пускаем.
– Катюш, я приду. – Она почувствовала на своей щеке бороду мужа.
Но глаза не открыла.
Облизнула губы.
– Попить хотите? – раздался женский голос.
Сотникова открыла глаза. Рядом стояла медсестра с поильником.
– Да.
Сестра напоила ее.
– Сколько я здесь? – спросила Сотникова.
– Со вчерашнего дня.
– Сейчас утро?
– Двенадцать часов. Скоро будем обедать.
Сотниковой захотелось помочиться.
– Мне можно встать?
– Нет.
– Я в туалет хочу.
– Вы в памперсе.
– А… – Сотникова потрогала себя под тонкой простыней, почувствовала памперс.
– Я… у меня сильное ранение?
– У вас все обошлось чудесным образом, – улыбнулась медсестра. – Пуля прошла навылет, ничего не задев. Скоро вас переведут в обычную палату.
Сотникова стала мочиться, глядя на свои руки. Только сейчас она заметила, что ее роскошные накладные ногти сняли.
Вечером пришел муж. Он принес свежую просфорку, иконки Богородицы и Целителя Пантелеймона. Сотникова хотела закричать на него из последних сил, но потом передумала, поняв, что этот человек с тусклым лицом ничем ей не поможет. Она потребовала, чтобы к ней пустили сына. Когда тринадцатилетний Саша подошел к ее кровати и поцеловал ее, она взяла его руку:
– Сашенька, сделай для меня одно дело. Это очень важно.
– Я все сделаю, мамочка.
– Съезди к дедушке в Кунцево, открой заднюю панель у старого приемника дедушкиного, найди там кусочек просфорки, он туда завалился. Он мне очень нужен. Без него у меня ничего не получится.
– Я все сделаю, мамочка.
– Никому не говори об этом. И принеси мне его сюда. Сам.
– Я все сделаю, мамочка, не волнуйся.
Назавтра Саша пришел к ней. И протянул ссохшийся тонким полумесяцем кусочек просфорки.
– Спасибо, Сашенька, – она взяла этот полумесяц и зажала в кулаке. – А теперь иди. Я буду спать.
Сын поцеловал ее и ушел.
Через сорок две минуты ее сердце остановилось.
Губернатор
Едва губернаторский кортеж из трех черных и чистых машин подъехал к Дворцу культуры, как по гранитной лестнице к нему заспешили директор Тарасевич, постановщик Соловьев и выпускающая редактор с местного телевидения Соня Мейер.
Губернатор вышел из машины. Встречающие дружно поприветствовали его. Он ответил им с деловой улыбкой. Приехавшие сопровождающие лица стали выходить из машин, обступать губернатора. Одетый в бурого медведя, двухметровый охранник Семен выбежал из машины охраны и с рычанием опустился на колени перед губернатором. Губернатор обхватил его за мохнатую шею своими короткими руками. Медведь легко встал, подхватил губернатора на спину и пошел вверх по лестнице. Все двинулись следом.
Медведь внес губернатора в просторное фойе с новым паркетным полом, увешанное пейзажами местных живописцев. Двери в зал были предусмотрительно распахнуты. Медведь внес губернатора в большой зал на полторы тысячи мест.
Посередине зала в проходе виднелся длинный стол под красным сукном со стульями и безалкогольными напитками. На подробно расписанном заднике сцены, в окружении вековых сосен и лиственниц светилась огромная цифра «350».
Медведь опустился на колени перед столом, губернатор слез со спины и сразу по-деловому сел в центре стола лицом к сцене, потер свои крепкие ладони:
– Садитесь, садитесь, садитесь.
Все стали быстро рассаживаться за столом. Губернатор глянул на часы:
– Так, сколько по времени?
– Номер или концерт? – уточнил постановщик. – Вы же меня ради номера выдернули! – усмехнулся губернатор. – Концерт я семнадцатого посмотрю. Вместе с президентом.
– Всего минут десять, Сергей Сергеич, – заулыбался бородатый постановщик.
– Там три минуты за одну идут, Сергей Сергеич! – пошутила Мейер.
– Ну, ну, – подмигнул ей губернатор. – А кто из старого состава?
– Поляков и Бавильцева, – отозвался постановщик.
– Всего двое, стало быть? – губернатор повернулся к 1-му вице-губернатору. – Вот так, Николай Самсонович. Годик прошел, люди разбежались. Спрашивается, а почему?
– А потому что Базыме так и не дали квартиру, а Борисова и Золотильщикову позвали в Екатеринбург, в театр, – спокойно и быстро ответил 1-й вице-губернатор.
– Базыме? – губернатор повернулся ко 2-му вице-губернатору. – Почему Базыме не дали?
– Бобслей, – напомнил тот.
– А… бобслей… – вспомнил губернатор, оттолкнулся кулаками от стола, откидываясь на спинку кресла. – Ладно, давайте глянем.
Постановщик поднял руку. Свет в зале погас. На сцену с залихватским посвистом слева выбежали парни в косоворотках и сапогах с гармошками, ложками и сопелками, а справа – девки в ярких сарафанах. На середину сцены в три прыжка вылетел рыжий парень в алой косоворотке и лихо заплясал «русскую». Остальные, замкнув за ним полукруг, заиграли и запели:
- Наш Ванюша – парень бравый:
- Как забрили его в рать,
- Отслужил, пришел со славой,
- Начал девкам в сиськи срать.
- Срал дояркам и свинаркам,
- Срал пастушкам и кухаркам,
- Срал здоровым и больным,
- Срал тверезым и хмельным.
- Срал легко, игриво, ловко,
- Срал с напором, со сноровкой,
- Срал толково, деловито,
- Срал и тайно, и открыто.
- Срал в избе и на природе,
- Срал в хлеву и в огороде,
- Срал в сенях и за кустом,
- На мосту и под мостом!
Из пола сцены поднялась невысокая березка, окруженная травяной поляной. Самая красивая из девушек стремительно сбросила с себя сарафан, нательную рубашку и повалилась навзничь в траву, выставив роскошную грудь. Девушка закрыла глаза, изображая спящую. Рыжий парень, состроив озорное лицо, на цыпочках подкрался, влез на березку, уселся на суку, приспустил полосатые штаны и быстро испражнился, попав девушке точно между грудей.
Сразу же зазвучала грустная песня, протяжно зазвенели балалайки. Девушка проснулась, глянула на свою грудь, закрыла лицо рукой и разрыдалась. Другие девушки закружились вокруг нее плавным хороводом, напевая:











