Читать онлайн Зима в раю
- Автор: Елена Арсеньева
- Жанр: Исторические любовные романы
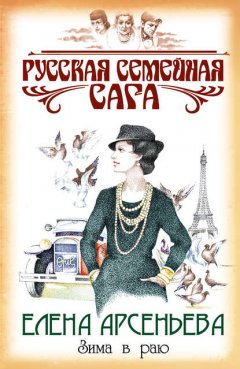
И лучше умереть, не вспоминать,
Как хороши, как свежи были
розы…
Г. Иванов
Из официальной переписки
«Тов. Григорию Федорову, председателю Энского губсовета, члену коллегии Комиссариата труда.
Т. Федоров!
В Энске явно готовится белогвардейское восстание. Надо напрячь все силы, составить тройку диктаторов, навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т. п. Ни минуты промедления… надо действовать вовсю: массовые обыски. Расстрелы за хранение оружия. Массовый вывоз меньшевиков и ненадежных. Смена охраны при складах, поставить надежных… Прочтите это письмо друзьям, ответьте мне по телеграфу или по телефону. Ваш Ленин».[1]
Из сообщений энского «Рабоче-крестьянского листка»
«ДОВОЛЬНО СЛОВ!
Преступное покушение на жизнь нашего идейного вождя, товарища Ленина, убийство товарища Урицкого, еще раньше убийство товарища Володарского, организованные на средства буржуазии и при ее непосредственном участии, переполнили чашу терпения революционного пролетариата. Рабочие и деревенская беднота требуют принятия самых суровых мер к буржуазии, чтобы отбить охоту к убийству из-за угла вождей революции. Вся обстановка начавшейся борьбы не на живот, а на смерть побуждает отказаться от сентиментальничанья и твердой рукой провести диктатуру пролетариата.
В силу этого Энская губернская комиссия по борьбе с контрреволюцией расстреляла вчера 41 человека из вражеского лагеря.
За каждого убитого коммуниста или за покушение на убийство мы будем отвечать расстрелом заложников буржуазии, ибо кровь наших убитых и раненых товарищей требует отмщения.
Да здравствует революция!
Да здравствует диктатура пролетариата!
Да здравствует товарищ Ленин!»
ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Настоящим Энская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности при Энском совете рабочих и крестьянских депутатов (Отдел по борьбе с контрреволюцией) доводит до сведения граждан Энска и губернии, что лица, являющиеся в Отдел на предмет ходатайства об освобождении бывших офицеров, чиновников и прочих, Отделом приниматься не будут. Лица, которые, несмотря на настоящее объявление, будут продолжать приходить в Отдел с вышеуказанными ходатайствами, будут тут же арестовываться и препровождаться в тюрьму.
Чрезвычайная Комиссия (ЧК)»
Пролог из 1919 года
В ночь с 6 на 7 сентября из ворот Энской конторы Народного банка, что на Большой Покровской улице (буквально только что переименованной в честь дорогого, преждевременно павшего на своем посту товарища Свердлова!), медленно выползла колонна грузовиков, закрытых брезентом. По обеим сторонам следовали мотоциклетки с пулеметами и еще грузовики, битком набитые вооруженными людьми. В грузовиках сидели сто двадцать чекистов и милиционеров.
Тротуары были пусты – какие там ночные прогулки в такую пору суток, в такую пору жизни Советской республики! Только ветер шуршал рано опавшей листвой. Однако на всех углах выставлены были милицейские посты.
Длинная колонна проследовала вниз, мимо Лыковой дамбы, свернула на Зеленский съезд, а оттуда по Рождественской улице, через мост – и прямиком по бывшей Царской, ныне Совнаркомовской, выехала к Московскому вокзалу. Люди попрыгали наземь и принялись разгружать грузовики. Снимали с них небольшие, очень тяжелые ящики и несли на дальние запасные пути, где стоял состав уже с паровозом в голове. Каждому пришлось пройти не один раз. Вдоль всего пути стояли, на небольшом расстоянии друг от друга, вооруженные солдаты. Казалось, все вооруженные силы губернии были мобилизованы этой ночью для того, чтобы обеспечить сохранность двух тысяч четырехсот ящиков, которые переправлялись из подвалов Государственного банка на вокзал.
До самого утра шла погрузка. Уже когда на хмуром осеннем небе чуть забрезжил рассвет, поезд медленно тронулся. И тут же замер: паровоз не мог двинуть его с места. Чекисты забегали по станции. Спешно пригнали второй паровоз, и наконец-то эшелон потащился в сторону Москвы.
– Золотой эшелон, – устало пробормотал сквозь зубы невысокий черноволосый человек с мелкими чертами лица. – Ох, сколько хлеба можно купить детям, а мы это золото…
Что-то грохнуло сзади, и этот звук оказался последним, который он расслышал в своей жизни. Вряд ли он даже успел понять, что именно произошло, когда выпущенная в затылок пуля прошила его череп и вышла наружу, разворотив лицо.
Стоящие вокруг люди шарахнулись, с ужасом глядя на высокого человека в кожанке, перетянутой ремнями, с наганом в руке. Из-под фуражки с красной звездочкой кое-где выбивались волосы с проседью, но глаза, синие, яркие глаза блестели молодо, безжалостно, озорно.
– Не болтать! – скомандовал он, погрозив стволом нагана, словно огромным указательным пальцем. – Или кому-то еще охота маслину словить?
Люди так и шарахнулись в стороны.
– Ну, смотрите! – протянул синеглазый, скалясь в улыбке. – Никаких разговоров! Отправили груз в Москву – ну и отправили. Впервой, что ли?
– Что там у тебя, товарищ Верин? – подошел человек с бородкой, обливающей челюсти, в пенсне и таком же кожане, как у синеглазого. Вообще они были очень похожи: высокие, статные, с бездумно-жестокими, заострившимися от усталости и революционной ярости лицами, только второй выглядел лет на пять старше.
– Все хорошо, товарищ Юрский! – козырнул Верин и сверкнул бесовскими своими глазами. – Имели место быть разговорчики в строю, но я их пресек.
– Так и продолжай, – кивнул Юрский и, многозначительно хлопнув по кобуре, быстро пошел к зданию вокзала, где ждали машины: дело сделано, можно уезжать.
Впрочем, он знал, что отдохнуть не удастся: спустя два дня предстояло отправить второй такой же эшелон, а груз еще нужно упаковать. Сотрудники Народного банка, мобилизованные для этой цели, не расходились по домам уже несколько суток…
Всеволод Юрский прибыл в Энск три дня назад в составе правительственной комиссии из трех человек. Возглавлял ее комиссар бывшей царской экспедиции заготовления государственных бумаг Минкин. Комиссии следовало отправить в Москву золото в счет оплаты контрибуции Германии согласно Брест-Литовскому мирному договору. Конечно, то фактически была контрибуция за национализированную германскую собственность и авуары, и хотя большевики отказались платить долги царского правительства, от этого долга они отказаться не могли.
Разумеется, операция проводилась под строжайшим секретом. И сотрудники Энского отделения Народного банка, и местные чекисты и милиционеры были убеждены, что спасают царское золото, вывезенное год назад в Энск, от белочехов, которые рвались к городу из-под Самары и Казани. И потому золото якобы уходило в Москву, как указывалось в накладных.
Впрочем, Москва-Товарная и была первым пунктом остановки эшелонов. Здесь золото пересчитали, переложили золотые слитки из деревянных ящиков в специальные банковские, металлические, по пятьдесят килограммов в каждом, и 10 сентября первый эшелон, везущий 42 860 килограммов золота, двинулся по Брянской железной дороге через Оршу в Берлин.
15 сентября в «Известиях» промелькнуло коротенькое сообщение: «Первая партия золота, подлежащего выплате Германии согласно русско-германскому добавочному соглашению, прибыла в Оршу и принята уполномоченными германского императорского банка». Поместили сообщение, набранное петитом, на последней полосе, на него трудно было обратить внимание… Однако имеющие глаза да увидят!
Пролог из 1924 года
Последнее письмо Дмитрия Аксакова жене
«Париж, отель „Le bôton de maréchal“
Ну вот, Сашка, ну вот и все…
Да понимаю я, что тебе ни мое письмо, ни я сам даром не нужны, мы с тобой давно чужие – ты развелась бы со мной, когда б явилась к тому малейшая возможность, а если до сих пор не сделала этого, то лишь потому, что все вокруг и без нашего участия развелось, вся Россия с нами развелась. А теперь тем паче ни в каких разводах нужды нет – я здесь, ты там, и он там, где-то близко к тебе, уж всяко ближе, чем я… Вот интересно, заполучила ты его наконец или так и не удалось?
Полно, разве это мне интересно? Другое, совсем другое интересно: жива ли ты? Жива ли Оленька? А Шурка? А твои отец и тетушка?
Я надеюсь, что вы все живы и здоровы – если это возможно теперь в стране, которая раньше звалась Россией, а теперь стала Совдепией, Рэсэфэсээрией. Мы все думали, что большевики скоро упьются кровью, перебесятся, как когда-то французы в свою революцию, однако теперь ясно, что надежды были иллюзорны. И все же мне ничего не остается, как слепо верить: вы живы, здоровы и, может быть, иногда даже вспоминаете меня. А если и нет, все равно мне некому больше писать это последнее в моей жизни письмо.
Сашка, ты нынче станешь вдовой. Минуло десять лет нашей презабавной супружеской жизни, состоявшей из сплошных разлук. Теперешняя затянулась до того, что сейчас плавно перетечет в разлуку вечную. Да, ты станешь вдовой. А Оленька, стало быть, наполовину осиротеет. Что касается меня, то я намерен присоединиться к своим родителям, которые давно уже, как принято выражаться, поджидают меня на небесах. Вот сейчас я хорошенько пошарю в своих дырявых карманах… где-то там, среди табачных крошек, двух или трех сантимов, которые у меня остались после того, как я снял на час этот номер в отеле почти на самой авеню Опера€ (эта чертова Опера€ сейчас из окошка видна, во как!), – и достану на свет божий маленькую толстенькую пульку с острым носиком. Она тоже последняя. Припрятана на черный день.
И вот он настал.
…Почему-то сейчас вдруг вспомнился тот вечер, когда я собирал вещи, готовясь уходить из Энска, чтобы добраться до Самары, где в то время как раз были чехи и наши части. От надрывных сцен, которые между нами происходили, все твои домашние устали так, что больше не могли друг на дружку смотреть и мечтали только об одном: чтобы все скорее кончилось, чтобы я ушел, ушел, ушел и прекратились бы взаимные попреки в том, что было, чего не было… И только твоя тетушка, твоя милая, прекраснодушная тетушка возопила: «Димитрий, вы что же, бросаете свою семью на произвол судьбы?!» Но мы все понимали, что, останься я в Энске, за мной не сегодня, так завтра придут, и найду я свой конец под стеной острога, как нашли те первые сорок человек, список которых мы прочли несколькими днями раньше в «Энском листке»: «Августин, архимандрит. Орловецкий Николай Васильевич, протоиерей. Чернов Михаил Михайлович, генерал-майор. Спасский Константин Иванович, начальник арестного дома в Балахне, сын священника. Тараканов Иван Никодимович, бывший редактор газеты „Энский листок“. Жилов Никита Лукич, полицмейстер…» (Я эти имена до сей поры помню наизусть!) Я знал, что очень просто могу оказаться в следующем списке, а если нынешний редактор «Листка», в доме которого я жил, вздумает за меня хлопотать, его имя тоже непременно окажется в списке, и будем мы у стенки стоять рядышком, по-родственному: «Аксаков Дмитрий Дмитриевич, штабс-капитан. Русанов Александр Константинович, бывший редактор «Энского листка». Итак, я собирался в дорогу… Ты торопливо чинила напоследок что-то из моего белья, а я от нечего делать открыл книжку, которую читал твой отец, – ну конечно, это оказался Бальмонт, он же вечно читал Бальмонта…
- В моем саду мерцают розы белые,
- Мерцают розы белые и красные.
- В моей душе дрожат мечты несмелые,
- Стыдливые, но страстные.
- Тебя я видел только раз, любимая,
- Но только раз мечта с мечтой встречается.
- В моей душе любовь непобедимая
- Горит и не кончается…
Какая чушь, раздраженно подумал я, отбросил книжку и забыл о ней. И стихи забыл. А вот сейчас вспомнил… Знаешь почему? Потому что полчаса тому назад, когда я шел по коридору отельчика, когда открывал дверь в свой номер, за соседней дверью певучий девичий голос читал нараспев эти самые стихи:
- Моя любовь – пьяна, как гроздья спелые.
- В моей душе – звучат призывы страстные.
- В моем саду – сверкают розы белые
- И ярко, ярко-красные.
Она читала по-русски, что неудивительно: в Париже, я думаю, не меньше тридцати тысяч нашего брата, а то и все пятьдесят. Она читала по-русски, и, ах, как мне захотелось постучать в дверь и увидеть ту, которая так страстно напоминала мне о жизни, о прошлом, о тебе! Но я этого не сделал. Не захотел возвращаться в былое. Ведь сегодня последний день моей жизни.
Я знал, что когда-нибудь он настанет. Все-таки не зря револьвер свой не продал тогда, на каком-то вшиво-блошином пюсе[2] тому наглому арабу. Арабов тут, в Париже, развелось, надо тебе сказать… Я на их физиономии еще с константинопольских времен смотреть не могу – уж больно они мне турок напоминают! Все черные, как тараканы… хотя, если правду сказать, прусаки всегда бежали шибче черных. Случались, конечно, промашки – ставишь на прусака, а выиграет черный. Редко, но бывало… Во время одной из таких промашек я и спустил два перстенька, данных мне покойной матушкой в январе восемнадцатого… Я их, вместе с матушкиными брильянтовыми серьгами и разными другими ее побрякушками, и через Самару пронес, и через Казань, и в Одессе не потерял, и на пароходе по пути в Турцию не продал за краюху хлеба или флягу воды, и даже в лагере на острове Галлиполи сохранил, хотя уж там-то… в голом поле, как говорили мы, русские… это было чистилище, врата ада! А вот попутал же бес, когда удалось выбраться в Константинополь: спустил перстеньки, и серьги спустил прусакам на прокорм!
Да нет, ты не думай, я не спятил, не заговариваюсь, просто-напросто у нас, у русских, в Константинополе главная забава была – кафародром. Не понимаешь? Тараканьи бега по-гречески. Прусаки – это тараканы. Рыжие, усатые…
Ростовское скаковое общество вывезло в Константинополь своих скакунов, да вот беда – прогорело из-за дороговизны кормов. Ну а тараканов держать значительно дешевле!
Ты не думай, кафародром – это не бог весть что такое. Просто-напросто стол, на котором устроены желобки, по ним и пускали бежать тараканов, запряженных в проволочные коляски. Вообрази: обычные черные или рыжие тараканы, только невероятной величины, испуганные электрическим светом, мчатся со всех ног. Вокруг жадная любопытная толпа с блестящими глазами – господа русские офицеры, поставившие на этих жирных сволочей последние подштанники или, к примеру, тетушкины или маменькины бриллиантики. И я среди них.
Ну так вот – вышло раз, что один таракан сдох на бегу, другой выскочил из желобка, ну и остался я вовсе гол как сокол. Может, и отыгрался бы, когда б поставил на кон последнее свое имущество – браунинг, но предпочел уйти с проигрышем. С этим браунингом я расстаться никак не мог. Он мне память об Одессе… о том последнем вечере в Одессе… Я дал себе слово не вспоминать о нем никогда, но ведь через несколько минут, как только закончу письмо, для меня уже начнется никогда и ничто. Мы ведь все разбежались по щелям тогда, ну совершенно как тараканы, сошедшие с желобков! Мы пробивались в порт, уже с боями по улице пробивались: в нас стреляли из-за угла; несмотря на то, что город был вроде как наш еще, еще шло сражение на окраинах. Вдобавок в город вошли отряды атамана Григорьева – он был заодно то с красными, то с петлюровцами. Матросня у него была как на подбор – веселая, чернобородая, резала всех подряд!
Мы – несколько человек, отбившихся от роты, – свернули в проулок, и вдруг с крыши полетели камни. А навстречу стреляли. В порт не пройти! Ворвались в какую-то заброшенную гостиницу, забились в номера на втором этаже, отстреливались, пока не кончились патроны. А они валят снизу. Мы стали искать черную лестницу – нет ее! Стали прыгать в окна – снизу набегали, били камнями и прикладами еще не поднявшихся на ноги, выстрелами сшибали в прыжке, как птиц – влет. А по лестнице топот – погоня! Толпа валит: «Бей юнкарей!» Сволочи, кто вам тут «юнкаря»?! Штабс-капитаны? Ротмистры? Господа офицер-ры!
А впрочем, не до тонкостей было, ноги бы унести! Я сунулся было в окно, да товарищ – Витька Вельяминов, ты должна его помнить, он ведь шафером на свадьбе у нас был, мы с ним и на фронте встречались невзначай, а потом вместе уходили из Энска зимой восемнадцатого, – за рукав ухватил:
– Убьют! Нельзя! Надо отсидеться, чтобы не нашли.
А из коридора слышны хлопки дверей – в номера заглядывают, ищут наших. Выстрел, другой. Неясный говор… И вдруг полный непередаваемого ужаса женский крик – крик, от которого волосы шевелятся на голове. Откуда здесь женщина?! Кто-то со страшной скоростью бежит по коридору мимо нашего номера, и, как свора гончих по заячьему следу, проносятся за ним несколько человек… Выстрел, падение тела. Снова топот множества ног.
Близко уже. Мы с Вельяминовым переглянулись – вот сейчас и наш черед настанет! – и, не сговариваясь, ринулись в два больших тяжелых шкафа, стоящих в разных углах просторного номера. До сих пор помню (знал, что по гроб жизни помнить буду!) огромную двуспальную кровать на разлапистых ножках – голые пружины, ни матраса, ни, конечно, белья, помню одну криво висящую тяжелую штофную портьеру, пахнущую пылью (вторую сорвали, конечно), помню изуродованный стол о трех ногах, кое-как приткнутый к стене, чтоб не упал, и эти два огромных платяных шкафа… Впрочем, они только чудились такими огромными снаружи. А изнутри оказалось, что они тесны, словно гробы, не по мерке сделанные. Забиться некуда, распахнут – вот они мы, господа офицер-ры! Стреляйте в упор!
Но деваться было некуда, не выскакивать же. Я вжался в заднюю стенку – она оказалась фанерной, и я все время опасался, что проломлю ее, – и перестал дышать.
Они вошли. Молча, тяжело дыша. Я слышал их запаленное дыхание, чуял звериный запах их пота, мне чудилось, что мой шкаф, мой гроб, мою камеру пыток окружили смрадные звери… Откроют шкаф или нет? Найдут меня или нет?
Они ходили по номеру, заглядывали под кровати, а потом открыли, конечно, шкаф – большого ума на это не нужно было, – но не мой, а тот, в котором сидел Витька Вельяминов. Я слышал возню, крики, проклятия, стоны, хохот, ругань… Помню, мелькнула-таки, да, мелькнула-таки малодушная мысль: повезло-де, что не меня нашли… Но в следующий миг до меня дошло, что я еще не спасен, что им никто не мешает открыть и мой шкаф! Воспоминание о той минуте я таил даже от самого себя, никогда к ней не возвращался, стыдился, но сейчас, накануне вечного никогда, все же признаюсь: в жизни такого страха не испытывал, как в тот миг, – даже когда лежал перед немецкими окопами с ногой, разорванной пулями. Даже когда мы с Витькой уходили из Энска через красные посты. Даже когда я карабкался в Казани в последний вагон последнего эшелона, а пули красных, шедших за нами по пятам, пробивали мою папаху и полы моей шинели… Да ладно, что тратить время на перечисление всех ужасов, которые мне пришлось испытать? Такого не было, вот и все слова. И словно сердце у меня остановилось от того ужаса. Я то ли сознания лишился, то ли парализовало меня – до сих пор не понимаю, только я словно окаменел. А может быть, я сделался частью шкафа… одной из досок или фанерок, из которых был он сколочен. Очень может быть, что убийцы открывали шкаф, но не нашли меня там. Не удивлюсь этому.
Не помню, сколько прошло времени. Когда я очнулся и вернулся в человеческое состояние, в номере было тихо. Вдали слышалась канонада – значит, город еще не сдали, значит, еще есть надежда… надежда добраться до порта. Каким-то невыразимым чутьем понял, что в номере я один. Открыл дверь шкафа, высунулся…
Было светло, так странно светло! Не сразу я понял, что напротив горит дом и огни пожарища освещают номер. С трудом распрямляя замлевшие, затекшие ноги, вывалился из шкафа – прямо передо мной в луже крови лежал Витька Вельяминов. На левой стороне груди вырезан крест, над ним гвоздями прибита Георгиевская лента, на плечах зияют кровавые погоны, а недавно закрывшаяся рана на боку разворочена и утыкана обгорелыми спичками. Глаза его смотрели прямо на меня. Я не могу тебе описать их выражения… Глупец тот, кто думает, что мертвые не могут смотреть! В его руку был всунут браунинг – ну да, Витькин браунинг, еще с Первой мировой оставшийся.
Я не могу понять, зачем убийцы бросили браунинг, да еще вложили его в мертвую руку. В насмешку, что ли? Я взял его и выбрался из гостиницы. Я ничего не мог сделать для Витьки. Я бросил его, как мы бросали в боях, при отступлении, наших убитых. Меня утешала только мысль, что я отомщу за него убийцам…
Черта с два, ни за кого я не отомстил! Где бы я искал его убийц? А впрочем, каждый встречный мог быть таким убийцей. Но в том-то и дело, что на всем пути до порта мне не попалось ни души. Судьба Онегина хранила, черт его дери! Я с боем, с помощью браунинга, захватил местечко на уходящем английском крейсере. Мы там бок о бок дрались за жизнь, за то, чтобы оказаться наконец в земле обетованной, в этом раю, где нет ни революций, ни эвакуаций: монархисты, анархисты, казаки, студенты, которые швыряли в этих казаков камнями, поэты, купцы… Смешались в кучу кони, люди, вот уж воистину! Не все пробились на борт. Я – пробился…
Но спустя трое суток жесточайшего голода и жажды подумал: а ради чего я так старался? Ради новых мучений? Ради судорог в желудке и пересохшего горла? Не лучше ли мне было лежать на дне морском, около причала, где легли десятки тех, кто карабкался на борт и срывался в воду, и тонул на наших глазах? Только я так подумал – неподалеку бабахнул выстрел. Это пустил себе пулю в голову казачий ротмистр – один из тех, кто так же, как я, с белыми, незрячими глазами, расчищал себе путь на спасительный пароход. Ага, хладнокровно подумал я, дорожка на тот свет, значит, проторена! Ну, давай быстрей, Митя, пока след еще виден! И я уже потащил было браунинг к виску, да не смог его поднять. Вот, думаю, до чего ослабел, что даже и покончить с собой сил нет. Неужто не заслужил быстрой смерти? Неужто еще страдать, терпеть муку смертную? И вдруг я ощутил, что кто-то держит меня за запястье и мешает руку поднять. Покосился люто: да пошли бы вы все, миротворцы-многотерпеливцы, к такой-то матери! Однако со мной рядом никого не оказалось, кроме… кроме Витьки Вельяминова. Он был совершенно такой, каким я оставил его на полу в номере. С вырезанными на плечах погонами, с кровавым крестом на груди. Губы его были искусаны в кровь и запеклись. Он смотрел на меня мертвыми глазами, и я отчетливо слышал его голос: «Что знаешь ты о мучениях, о смертных муках? Что можешь рассказать нового об этом мне? Ты в долгу у меня, потому что я мертв, а ты жив. И это значит, что теперь ты должен жить и за себя, и за меня! Ты спасешься, ты можешь вернуться в Россию и вернуть Россию себе и всем тем, кто останется жив!»
Спустя мгновение его голос был заглушен другим: вполне живым. Английский боцман зычно провозглашал, что командование крейсера приняло решение накормить пассажиров и отныне кормить их один раз в день, а поить – трижды.
«Вот видишь», – сказал мне Витька, а потом искусанные губы его дрогнули в слабом подобии улыбки, и он исчез.
С тех пор я видел его еще дважды. В подобных ситуациях… И вновь он говорил мне те же самые слова: о том, что я должен вернуться в Россию и вернуть ее себе и всем тем, кто еще жив.
И сегодня, пока я рассчитывался с портье, пока поднимался на лифте и шел в снятый на час номер, я, честно тебе признаюсь, иногда оглядывался: не спешит ли за мною Витька с его увещеваниями. Но я ни за что не дам ему уговорить себя. Сегодня – не дам! Ни за что!
Я оглядывался напрасно. Он не догнал меня в коридоре, не вошел за мной в эту комнатенку. Его нет рядом и сейчас, и я знаю, что он не появится даже тогда, когда я прижму дуло к виску и начну спускать курок. Думаю, он тоже понимает: все кончено. Мы, все те, кто надеялся, что рано или поздно большевикам придет конец, что Европа и другие страны помогут, помогут-таки нам дать отпор разбойникам и убийцам, захватившим Россию, – мы все сегодня впервые осознали: этого не будет. Не будет штыков, аэропланов, кавалерии, пушек, кораблей. Нам не на кого надеяться, кроме себя, а что можем сделать мы сами, остатки Белой армии, остатки русского народа? Ничего.
Мы – обломки былого, а что можно построить из обломков? Опять же – ни-че-го.
Мы размышляли об этом и раньше, но продолжали надеяться. Сегодня надежды наши рухнули.
Знаешь, что произошло сегодня? Окончательно смолкли разговоры о том, что большевики долго не протянут. Франция признала Советскую Россию. Французы больше не собираются воевать с большевиками. Они поставили большой, черный, жирный крест на той стране, куда в четырнадцатом году приезжал их президент Пуанкаре. На прежней России! На нашей с тобой и с Вельяминовым России… Витька это тоже понимает, потому не явился и не явится остановить меня. Он понимает, что мне остался один только выход. Он ждет меня. Так что…
Вот сейчас я заклею листок в конверт, проставлю адрес: Россия, Энск, Варварка, дом 2, квартира 2, Аксаковой Александре Константиновне. Надпишу письмо русскими буквами, потому что заведомо знаю: оно никогда не найдет адресата. У меня ведь нет денег на марку, это раз. Во-вторых, Энск, возможно, еще и называется Энском, но улицу Варварку, конечно, уже переименовали в честь какой-нибудь жуткой большевички, вроде той Розалии Землячки, о которой в Добрармии ходили кровавые легенды и которая сотнями расстреливала из пулемета офицеров в Севастополе – собственноручно… Кроме того, я почти убежден, что ты тоже «переименована», в смысле, поменяла фамилию. Честное слово, я не возражаю! Прежде всего потому, что это бессмысленно, а главное – даже если теперь ты зовешься мадам Вознесенская, я желаю тебе счастья. Я желаю тебе только счастья, где бы, с кем бы ты ни была. Лишь бы ты была жива!
Повторюсь: я понимаю, что ни жизнь, ни смерть моя для тебя уже давно ничего не значат. Строго говоря, я пишу это письмо даже не тебе, измученной и отчужденной Александре Аксаковой, а Сашеньке Русановой – той самой, которой я когда-то шептал на чернопрудненском катке в разгоревшееся от мороза ушко: «Невольно к этим грустным берегам меня влечет неведомая сила…» – и которая однажды пришла к карточному шулеру Поликарпу Матрехину, чтобы приворожить жениха. И «приворожила» – на нашу с тобой общую беду и вечную разлуку.
Прощай, моя хорошая, моя бывшая жена, моя давняя любовь. Хочется сказать тебе хоть что-то еще, кроме сухого и безвозвратного «прощай», но ничто нейдет в голову, кроме… кроме почему-то этих стихов:
- В моем саду мерцают розы белые,
- Мерцают розы белые и красные.
- В моей душе дрожат мечты несмелые,
- Стыдливые, но страстные.
- С тобой познал я только раз, любимая,
- То яркое, что счастьем называется, —
- О тень моя, бесплотная, но зримая,
- Любовь не забывается.
- Моя любовь – пьяна, как гроздья спелые.
- В моей душе – звучат призывы страстные.
- В моем саду – сверкают розы белые
- И ярко, ярко-красные.
Подпишусь так же, как подписывался в письмах с фронта, – твой муж Дмитрий Аксаков».
1937 год
– Мама, ты что это подхватилась ни свет ни заря?
Александра вздрогнула, обернулась.
Она-то думала, встанет самая первая, потому и кралась из спальни на цыпочках, опасаясь разбудить домашних, и вся сжималась, когда скрипела под ногой половица. А поглядите-ка, люди добрые: Оля уже сидит, забившись в уголок возле кухонного стола, и перед ней стакан дымится, а на тарелке, под горкой сметаны… Ах, что это? Неужели оладьи?
Александра чуть повернула голову: ну конечно, Любка у плиты стоит, ловко переворачивает на сковороде румяные кругляшки.
– Доброе утро.
Говорится это неразборчиво, почти не размыкая губ.
– И вам того же.
Ответ столь же невнятен и небрежен.
– Мама, налить тебе чаю? – Оля попыталась выбраться из-за стола и как-то отвлечь двух женщин от взаимного созерцания и взаимной ненависти.
– Я сама.
Александра сунула под ворот халата растрепанную косу, чтоб не мешала, и присела к столу. Грея руки о стакан, посмотрела на дочку. Оля уже умыта, причесана (хотя что там причесывать-то, о Господи, с этими буби-кофами или как их там зовут, нынешние новомодные стрижки?!), уже одета – только как-то странно одета, в толстый свитер Шурки, в стеганую жилетку Константина Анатольевича, в которой тот выходит подметать опавшие листья или снег с крыльца и вокруг дома.
– Куда это ты так вырядилась?
У Оли в глазах мелькает что-то – испуг, что ли? Она замирает. Исподлобья глядит на мать – и молчит. Позади, на плите, перестает скворчать сковорода. Александра чувствует, что Любка так и ест ее глазами. Аж спине больно.
– У нас сегодня субботник, – наконец выговаривает Оля.
– А, вон что, – кивает мать безразлично, принюхиваясь. Какой аромат издают оладьи, ну просто бо-жест-вен-ный! Как хочется взять хоть одну штучку, махнуть краешком по белоснежной горке сметаны…
Нельзя. Александра лучше всю оставшуюся жизнь будет грызть одни плесневелые сухари, чем притронется хоть к чему-нибудь, что вышло из рук Любки.
Чтобы отвлечься, она начинает расспрашивать дочь, хотя, сказать по правде, ее очень мало интересуют всякие там комсомольские глупости:
– Ну и что сегодня? Едете на расчистку дорог? Разгрузку вагонов? Разбивку какого-нибудь сквера?
Оля как-то странно вздрагивает и заливается краской. Да что такое?! Стоп, стоп… В голову Александры вдруг проникает страшное подозрение. А что, если Оля врет? Если субботник – только предлог? А на самом деле она собирается на тайное свидание?
С кем? А если с…
И тут же Александре становится стыдно. Ну, нет! Ни одна нормальная женщина не отправится в таком нелепом виде на свидание, особенно Оля, которая одежде придает большое, даже слишком большое значение. Но, честно говоря, Шуркин свитер еще совсем неплохо выглядит. Когда брат вернется (Александра произносит мысленно именно «когда», а не «если», потому что иначе это будет предательством), он еще вполне сможет поносить свой свитер. Оля напялила его потому, что он ей страшно идет. Ее короткая стрижка в сочетании со свитером смотрится отлично. Ну просто комсомолка с плаката «Все вступайте в Осоавиахим!».
Красивая девочка получилась. Правда, чрезмерно похожа на Дмитрия (вот только глаза у нее карие, а не серые, ни в мать, ни в отца). Беспутный, легкомысленный Дмитрий Аксаков, сгинувший в безвестных далях Гражданской войны, не заслужил такой дочери! Ну что ж, зато ее заслужила она, Александра Аксакова, в девичестве Русанова.
Она берет из круглой вазы сухарь – отнюдь не заплесневелый, конечно, но все же и не тот сахарный с изюмом, какие лежали когда-то, двадцать лет назад, в этой самой вазе синего «бемского», то есть богемского, стекла… Помнится, тетя Оля ворчала, мол, вазу и разбить недолго, сухари, мол, нужно держать в обычной плетеной сухарнице, как все люди делают, но горничной Дане так нравилась синяя круглая ваза, что она снова и снова доставала ее из буфета и ставила на стол… Так и повелось, и наконец все к этому привыкли, и тетя Оля тоже привыкла, перестала ворчать… Тети Оли давно нет в живых, и Дани – тоже, а хрупкая ваза так и не разбилась, вот чудеса! Какая пакость эта Любка, могла бы предложить оладью, хоть одну! Нет, конечно, Александра ни за что не взяла бы, но Любка могла бы все же предложить…
– Ну, что молчишь, Ольгуша? Где вы сегодня показываете чудеса трудового энтузиазма? – спрашивает она и делает глоток чудесного горячего чаю.
– На Петропавловском кладбище, – бормочет дочь, опустив голову, и, отодвинув тарелку, начинает выбираться из-за стола.
Любка бросает взгляд на недоеденные оладьи, но ничего не говорит Оле. Просто сдвигает сковороду с огня (когда проснется тесть, она нажарит ему свежих оладий) и стоит молча, прислоняясь к краю плиты и переводя свои светло-карие настороженные глаза то на мать, то на дочь.
Странное у нее выражение лица… Но Александре некогда думать о выражении Любкиного лица.
– А там что, на кладбище? – удивляется она, думая, какое странное совпадение: ведь она сегодня собиралась именно на Петропавловское кладбище. В этот самый день, восемнадцать лет назад… Ах, да что вспоминать, она и так знает, что сегодня за день. – Чьи-то похороны? Но ведь оно уже почти десять лет как закрыто. Или снова начали там хоронить? И вроде память расстрелянных чоновцев летом отмечали… Что вам на кладбище-то делать?
У Оли на лице появляется страдальческая гримаса.
– Ой, мам, давай потом поговорим, а? А то я опоздаю, мы в восемь собираемся на Новой площади, а сейчас уже…
– А сейчас еще четверть восьмого, ты сто раз успеешь, тут ходу минут двадцать, – строго говорит Александра, понимая, что дело нечисто: слишком уж торопится уйти от разговора Оля, слишком напряжена Любка.
– Пусть она идет, – вмешивается вдруг невестка. – Пусть идет, я сама тебе все расскажу.
Александра едва не роняет кружку с чаем и от изумления забывает обо всем на свете.
Любка заговорила с ней! С ума сойти можно! Они же не разговаривали… Сколько времени? Да с тех пор, как Шурка сообщил о своем решении жениться на бывшей проститутке, которая прижилась у Русановых в комнатенке умершей от инфлюэнцы горничной, а заодно и кухарки Дани. Это еще в восемнадцатом было, сразу после того, как упала на улице и разбила голову бедная тетя Оля.
В то время на улицах ближе к вечеру воцарялась глухая тьма. Электричество и в домах-то в иные дни зажигали только на час, от пяти до шести, но даже если оно было, отключали в десять вечера… то есть в восемь, так как часы перевели со времени революции на два часа вперед. На улицах же царил сплошной мрак: минус двадцать на дворе плюс черный туман. По сугробам было ни пройти ни проехать – дворники-то с началом революции перешли все на ответственные посты, работать стало совершенно некому. Днем, случалось, сгоняли интеллигентов прочищать, вернее, пробивать тропки в снегу, но это был мартышкин труд: снегопады и оттепели чередовались с жестокими заморозками, мигом все заново колодело и схватывалось наледями.
На такой вот наледи тетя Оля и поскользнулась – упала, ударилась головой, потеряла сознание, да так и осталась лежать. Никто даже не остановился поднять ее, помочь… А впрочем, может, просто не видел никто, в темноте-то. И вообще, в те поры прохожих на улице было раз-два и обчелся, всяк норовил поскорей пробежать туда, куда ему было нужно. На улицах валялись неубранные трупы лошадей, собак… иногда людей. Жуткие были времена!
Русановы прождали ночь, утром вышли на поиски пропавшей Олимпиады Николаевны и нашли, но… но к тому времени она уже была давно мертва и вся закоченела. Даню, такое впечатление, свалила не столько инфлюэнца, сколько горе: она не пережила ужасной смерти обожаемой «барышни», с которой нежно нянчилась всю жизнь.
Лишь только Русановы справились с двумя этими трагедиями (Даню и Сашенька, и Шурка знали всю жизнь, она была не столько прислугой, сколько родным человеком в доме, ну а уж то горе, которое причинила им смерть тети Оли, вообще описать невозможно), как появился товарищ Верин. Он сообщил, что принят правительственный декрет, а в поддержку ему – решение губисполкома об изъятии излишков жилплощади у бывших буржуев.
– Как это? – помнится, спросил отец. Он один из всех Русановых брал на себя этот труд – беседовать с Вериным. Ни Шурка, ни Сашенька его в ту пору и словом не удостаивали, но отец очень многого не знал из того, что приключилось за последние годы с его детьми, не знал тонкостей их отношений с Вериным, а потому причин их вопиющей невежливости с большим человеком понять не мог, сильно осуждал за нее сына и дочь и старался быть приветливым с гостем. – Как это понимать – изъятие излишков жилплощади, а, товарищ Верин? Будут ходить по домам и реквизировать избыточные сажени и аршины? Физически? Или химически?
– Напрасно вы этак-то, Константин Анатольевич, – промурлыкал, как обычно, вкрадчивый Верин, который в последнее время приобрел какие-то кошачьи повадки противу прежней грубости, которую он, впрочем, называл революционной непримиримостью. – Никто ничего реквизировать не будет. Придет комиссия, обмерят все, посмотрят комнаты, а потом вас уплотнят.
– Упло… – попытался повторить старший Русанов, но немедленно начал заикаться. Словцо-то… ох, не тотчас и выговоришь…
– Уплотнят значит подселят кого-нибудь, – терпеливо пояснил Верин. – В вашу квартиру вполне могут определить целое семейство, причем не так чтоб муж, жена да ребенок, а с целым выводком. Две комнаты у вас как пить дать заберут, оставят вам две, да и то лишь потому, что Александр вон Константинович – ответственное лицо, на виду у всех, опять же – творческий человек, которому необходимо место для творческой работы.
– «Железный занавес русской истории с грохотом опустился. Представление кончилось. Публика встала, чтобы надеть шубы и идти домой. Глядь – ни шуб, ни домов», – процитировал отец «Божественную комедию» Розанова, которую еще на заре революции приобрел в книжном магазине на Покровке и которой восхищался ни чуть не меньше, чем ее куда более знаменитой «тезкой». Тогда еще можно было купить подобные «зубастые» книжки. Потом все это, всякую свободу, в одночасье прикрыли. – Вот уж воистину…
– Не понимаю ваших опасных намеков, – сказал Верин, скаля большие белые зубы.
Все он понимал, конечно, но любил играть с людьми, как кошка с мышкой.
– Две комнаты! – воскликнул Константин Анатольевич. – Но нас же четверо! И где, предполагается, Александр будет вести эту самую творческую работу, если мы четверо будем жить в двух комнатах?! Где будет его кабинет?
– Да вон хоть в боковушке, – как ни в чем не бывало ткнул Верин в сторону Даниной каморки, которая пустовала после ее смерти.
Новую прислугу Русановы не взяли. По очередному постановлению горсовета плата домашней прислуге теперь должна была составлять самое малое двести пятьдесят рублей, а Шурка и Саша вдвоем едва тысячу получали. В больнице даже хирургам платили от силы шестьсот рублей, а Саша была всего-навсего медицинской сестрой со ставкой в триста рублей. В редакции же «Рабоче-крестьянского листка» высокий оклад был только у ремингтонистки[3] (аж полторы тысячи!), а редактор (нетрудовой элемент, гнилая интеллигентская прослойка) получал семьсот рублей. Константин Анатольевич вовсе не работал: клиенты нынче не шли к частным адвокатам, все больше обращались в государственные конторы, там было хоть долго, и нудно, и грязно, и грубо, и очереди огромные, зато дешево. При таком бюджете Русановы просто не могли позволить себе выбросить четверть всех денег на прислугу. Поэтому готовил теперь Константин Анатольевич, а убиралась в квартире Саша, когда удавалось найти время и силы после дежурства.
– В боковушке, знаете ли, пускай ваш товарищ Троцкий свои прожекты сочиняет! – рассердился на Верина Константин Анатольевич. – А нормальный человек должен работать в нормальных условиях.
– Согласен, – кивнул Верин. – Целиком и полностью согласен! Я, собственно, затем и пришел, чтобы предложить вам выход из положения.
– Какой же? – настороженно спросил старший Русанов.
– Да очень простой. Вы поселяете к себе только одну жиличку – причем именно в пустующую боковушку, а на прочую вашу жилплощадь она претендовать не будет. А я…
– А кто эта жиличка? – немедленно перебил Русанов, и Верин сделал значительное лицо.
– Боевой, проверенный товарищ, немало пострадавший при свергнутом режиме за свои свободолюбивые убеждения. Работящая девушка, очень близкая мне по духу. И вообще нас связывает совместная борьба. Не подумайте чего – она мне как сестра по классу, отношения сугубо товарищеские! Ну так вот, я к чему веду… Вы поселяете у себя означенную гражданку, вписываете ее в домовую книгу, а я, в свою очередь, убеждаю жилищный комитет, что вашу квартиру уплотнить невозможно, поскольку она уже уплотнена до предела.
– Но как же… – растерянно пробормотал Русанов, оглядываясь на столь же растерянных детей.
– Да очень просто! – напористо убеждал Верин. – И вам прямая польза. Вы сами посудите. Гражданка эта, говорю, из самых что ни на есть трудящихся масс, она вам помогать будет, а то я же вижу, как Александре Константиновне содержать жилплощадь в чистоте трудно. И уберется Любовь Гордеевна (так ту гражданку звать-величать), и платить ей не нужно будет. Прямая, говорю вам, выгода!
Русановы согласились не сразу. Но спустя несколько дней, когда объявления о грядущем «реквизировании излишков жилплощади» были уже расклеены на всех афишных тумбах и фонарных столбах, когда внизу, у вдовы статского советника Куваевой, начал обживаться целый выводок шумных ребятишек вкупе с визгливой мамашей и скандальным папашей, они все же вынуждены были смириться с подселением. И в один из вечеров Верин привел… нет, не комиссаршу в кожаном реглане, красной косынке и кавалерийских сапожках, как следовало бы опасаться, а светловолосую скромную женщину в простеньком пальтишке и беленьком платочке в горошек. При виде ее Шурка и Саша враз вытаращили глаза и хором воскликнули:
– Это вы?!
– Узнали, вижу! – благодушно закивал Верин. – Ну, тем лучше, ведь не чужие. А вам, Константин Анатольевич, представляю моего боевого товарища и почти родственницу Любовь Гордеевну Милову. Надеюсь, уживетесь мирно.
Константин Анатольевич уставился на Любовь Гордеевну (имя это ей совершенно не шло, было для нее слишком громоздким!) с превеликим замешательством. Дело в том, что ему ее представлять никакой надобности не было, он ее тоже узнал… И едва сдержался, чтобы не спросить ехидно Верина, в каком смысле гражданка сия – проверенный товарищ: в ширину или в глубину? Самому Русанову – пардон, конечно! – приходилось проверять сию особу и так, и этак, да не единожды, поскольку до мая четырнадцатого года звалась она Милка-Любка и считалась одной из самых популярных гулящих девиц в заведении «Магнолия», что стояло в полугоре на Рождественской улице (ну да, в том самом доме, где нынче приют для малолетних сирот). В мае четырнадцатого Милка-Любка умудрилась попасть в стычку с полицией, которая накрыла конспиративную явку эсеров-боевиков. Погибла ее сестра Вера, монашка из часовни Варвары-мученицы, а сама Милка-Любка была арестована. И хоть ее скоро выпустили, поскольку влипла она в то неприятное дело совершенно случайно, назад в «Магнолию» ее не приняли: мадам очень сильно блюла репутацию заведения, и «политическим» места у нее не было. А потом и сама «Магнолия» увяла под ветром войны, революции и всех последующих событий…
С тех пор и до сего дня о Милке-Любке Русанов ничего не слышал, хоть и вспоминал о ней частенько: очень уж горазда была простая русская деваха на некоторые сугубо итальянские штучки, иным бы поучиться… И вот сейчас некоторые пробелы в ее биографии были восстановлены младшими Русановыми. Оказывается, в то время, когда полиция устраивала облаву на боевиков на улице Канатной, там оказалась и Сашенька! Ее Милка-Любка привела к своему дядюшке, карточному шулеру Матрехину, промышлявшему заодно ворожбой и даже привораживанием женихов. Пришла-то Саша ради одного жениха, но «приворожила» невзначай другого, за которого вскоре и вышла замуж. Конечно, Милка-Любка не знала подоплеки ее скоропалительного брака с капризным и дерзким красавцем Дмитрием Аксаковым, но, видимо, чувствовала себя в долгу перед простодушной барышней, которая по ее вине натерпелась страхов (ведь пальба в тот день на улице Канатной происходила нешуточная!), а потому, случайно встретившись уже потом, в шестнадцатом году, с ее братом Шуркой, по мере сил своих защищала его от некоего бывшего боевика Бориски. Шурка знал его также как грабителя и убийцу по кличке Мурзик, знал и под партийной эсеровской кличкой – товарищ Виктор. И тем, что Шурку не прикончили в Андреевской ночлежке, а потом во время Сормовских сахарных бунтов, тем, что он остался жив после страшного побоища во дворе Энского острога, а потом Мурзик не утопил его в Волге близ Доримедонтова, хотя и пытался, Шурка был обязан именно Милке-Любке и ее расположению к Сашеньке Русановой.
Это все было рассказано старшему Русанову с большими или меньшими подробностями. Саша умолчала, например, о том способе маскировки, к которому они с Митей Аксаковым вынуждены были прибегнуть на втором этаже матрехинского дома, когда его обшаривали агенты сыскной полиции. Побудила ее к молчанию элементарная скромность и стыдливость, поскольку способ сей был… скандальным, скажем так. Ну а Шурка сам не знал, почему не открыл отцу, что именно Бориска, Мурзик и он же товарищ Виктор – одним словом, исчадие ада, явившееся из его прошлого, – теперь зовется Виктором Павловичем Вериным и является весьма значительной личностью в губисполкоме. Наверное, промолчал он из обыкновенного стыда. Стыд состоял в том, что Шурка слишком о многом был вынужден забыть – о том, например, что на дворе Энского острога весной семнадцатого года был растерзан начальник сыскной полиции Георгий Смольников – может быть, лучший из людей, которых знал Шурка Русанов, – а также жестоко изранен агент сыскного Григорий Охтин, его друг. Толпу к убийству подстрекал не кто иной, как Мурзик… Но теперь этого проклятого душегуба, сляпавшего себе на волне революционной неразберихи новые имя, отчество и фамилию, звали иначе. Вместо имени он оставил свою партийную кличку, вместо отчества взял партийную кличку какого-то не то большевика, не то эсера товарища Павла, только раз встреченного Шуркой на конспиративной квартире, но надолго отравившего страхом все его существо, ну а фамилию Мурзик взял в память Веры-монашки (чего Шурка не знал, как не знал и о тех неразрушимых узах, которые безжалостного убийцу с погибшей монашкой связывали). Так вот, от проклятого Мурзика теперь зависела жизнь тех, кого Шурка любил и без кого он не мыслил своей собственной жизни. Он слишком хорошо знал, на что способен Мурзик… В Доримедонтове, на берегу стылой ноябрьской Волги, ставшей брачным ложем и могилой для Настены, его невенчаной, мгновенной жены, Шурка получил тому новые доказательства. И с тех пор он ощутил, как в нем умерло некое душевное свойство… люди называют его гордостью, и, по мнению Шурки Русанова, это свойство было излишней роскошью для человека, которому приходится жить и выживать в год тысяча девятьсот восемнадцатый от Рождества Христова… и во все последующие годы, каждый из которых в своем роде был не лучше, а то и хуже года восемнадцатого.
Итак, младшие Русановы молчали, ну и, само собой, Константин Анатольевич тоже помалкивал относительно бурного постельного прошлого новой жилички, оберегая, само собой, не столько ее репутацию, сколько свою собственную. Все-таки свобода нравов, которую проповедовали революционеры (вон комиссарша Коллонтай на каждом углу кричит: свобода, мол, крылатому Эросу, посношаться с кем ни попадя нынче можно так же легко и просто, как выпить стакан воды!), отнюдь не каждому кажется столь уж великим достижением человечества. Сословные предрассудки и правила приличия – они декретом Совнаркома не могут быть уничтожены столь легко и просто, как само деление на сословия. Довольно со старшего Русанова того, что вот уже пять лет он состоит в незаконном сожительстве с актрисой Николаевского… ах, извините, товарищи, бывшего Николаевского, ныне государственного драматического театра Кларой Черкизовой. Это нанесло огромный ущерб его репутации в собственном доме. Бедная Олимпиада Николаевна, милая тетя Оля, себе все сердце надсадила из-за того, что beau-frère Konstantin, обожаемый ею с давних-предавних лет, был просто-напросто потаскун, бросивший собственное сердце и беззаветную любовь своей belle-sœur к ногам какой-то вульгарной актрисульки. Признаться публично, что ты попирал семейный очаг не только с оной актрисулькой, но и с дешевой проституткой… Ну, нет, Константин Анатольевич скорей бы язык себе откусил, ей-богу!
Так… Удалось. Кажется, никто ничего не заметил. Вот позору было бы…
Вовремя успел! В комнату уже входили люди. О, генерал Скоблин! Идет сюда! Что ему нужно? Видел что-то? Теперь главное – придать своему лицу самое нахальное и независимое выражение…
– Слушайте, штабс-капитан, – сказал Скоблин. – Тут один человек жаждет с вами познакомиться. Вы не против, если я вам его представлю?
– Что? – Дмитрий Аксаков подальше убрал руку за спину и чуть наклонился вперед, к невысокому генералу: – Что вы сказали, ваше превосходительство? Я не расслышал.
Скоблин самодовольно улыбнулся: голос его жены Надежды Плевицкой, доносившийся из парадной залы, в которой проходило очередное собрание РОВСа, Российского общевойскового союза, а теперь шел концерт, перекрывал все звуки. От чудесного голоса ее был некогда в восторге сам государь император, ныне, увы, покойный, и его августейшее семейство… также отправленное большевиками в мир иной. Все знали, что Николай Владимирович Скоблин с величайшим пиететом относится к своей знаменитой жене, считает ее истинной матерью командиршей (так ее прозвали еще во время знаменитого галлиполийского сидения), а поэтому охотно сопровождает ее не только на концерты, но и в maisons de couture, дома моды, где она заказывает свои повседневные или концертные туалеты.
Не теряя той же улыбки, Скоблин прикрыл дверь. Голос Плевицкой стал глуше. На самую чуточку, но разговаривать можно.
– Познакомиться с вами, говорю, желает один господин. Старинный мой знакомый, из Софии прибыл. Я его еще по Крыму помню, по Добрармии. Потом он был ранен, дороги наши разошлись, но теперь и он добрался до Парижа. Все пути ведут к свиданью, как поется в старинной французской песенке.
Не то чтобы Дмитрий Аксаков был академически образованным человеком, но даже он знал песенку шута из «Двенадцатой ночи» Шекспира:
- Где ты, милая, блуждаешь,
- Что ты друга не встречаешь
- И не вторишь песне в лад?
- Брось напрасные скитанья,
- Все пути ведут к свиданью, —
- Это знает стар и млад.
Тем не менее Дмитрий кивнул. Скоблин был известен тем, что постоянно путал цитаты. К этому уже привыкли, и генерала никто не поправлял: из вежливости или потому, что не хотели ссориться со значительным лицом в РОВСе, ведь Скоблин был очень самолюбив и обидчив, как, впрочем, все малорослые мужчины, жены которых, во-первых, знамениты, а во-вторых, возвышаются над ними на несколько вершков.
– Согласны? Ну и ладненько, – сказал Скоблин, который был к тому же слишком переимчив по натуре, а оттого слишком много выражений бывшей деревенской девчонки Дежки, ныне звавшейся Надеждой Плевицкой, перешло в его лексикон. – Шадькович, подите сюда! – махнул он рукой, и от притолоки, которую доселе подпирал, отклеился скромной внешности белобрысый человек в штатском костюме очень хорошего пошива и качества.
Дмитрий чуть приподнял брови. Похоже, сей шпак не бедствует. Редко встретишь в Париже преуспевающего русского… то есть они существуют, конечно, но известны наперечет. Большинство щеголяет либо в чужих обносках, купленных на дешевых распродажах, либо в обносках собственных, за двадцать лет эмигрантского безумия приобретших вид совершенно непристойный. А этот ишь ты, почти с иголочки одет!
– Познакомьтесь, господа, – покровительственным тоном сказал Скоблин. – Вот вам обещанный штабс-капитан, коего зовут Дмитрий Дмитриевич Аксаков. А это Кирилл Андреевич Шадькович, мой старинный знакомец. Не смотрите, что он в партикулярном платье: служил с нами в Добрармии не за страх, а за совесть, даром что не военный доктор, а статский. Ох и врач, ох и кудесник! Помните, как у Чехова: чудесный доктор? Вот это он и есть, – хохотнул Скоблин, а Дмитрий вздохнул: Скоблин опять перепутал, на сей раз Чехова с Куприным.
Шадькович или не знал таких тонкостей, или просто не заметил обмолвки Скоблина. Его небольшие бледно-серые глаза (вообще он вполне мог бы зваться альбиносом, настолько был светловолос, светлоглаз и белокож) не отрывались от Дмитрия с изумленным выражением.
– Нет, она истинно вторая Ленорман! – пробормотал потрясенно. – Причем не уступает первой!
– Пардон? – нахмурился Дмитрий. Он мигом сделался раздражен и не смог скрыть этого.
Экстатическое выражение в глазах Шадьковича чуть померкло. Он покраснел так безудержно и ярко, как краснеют только альбиносы.
«Был белый, стал красный, как все просто, – подумал Дмитрий и с трудом сдержал неуместный смешок. – Совершенно как в жизни бывает!»
– Извините, господин Аксаков, – пробормотал Шадькович. – Понимаю, что поведение мое кажется вам странным, но вся штука в том, что наша сегодняшняя встреча была мне предсказана. Нагадана. Напророчена. Выбирайте любое слово – все подойдут.
Дмитрий почувствовал, что у него раздулись ноздри, но сдержал приступ ярости:
– Не объясните ли более вразумительно?
У Шадьковича сделалось виноватое выражение:
– Извините, сударь, я весьма впечатлительный человек, несмотря на то, что моя профессия должна была сделать из меня сугубого матерьялиста. Она и сделала, и я, поверьте, навидался столько умирающих и мертвых, что был крепко убежден: у человека нет ничего, кроме тела. Ничего. Rien, как выражаются французы. Никакой души! Однако сегодня я встретился с некоей женщиной, и после этого мой матерьялизм уже трижды – за один только день! – дает изрядную трещину.
Дмитрий вздохнул. Он много слышал об уловках, на которые вынуждены идти торговцы ради рекламы своего товара (да что слышал! Сам такими уловками пользовался, ибо побывал в свое время торговцем, коммивояжером, да кем он только не побывал за те почти два десятка лет, что живет во Франции!), но такой откровенной наглости ожидать не мог даже от… А впрочем, от нее-то как раз откровенной наглости и стоило ожидать, какие бы то ни было тонкости и нюансы ей чужды, она неудержима и неостановима, как немецкий панцер, здоровенный танк!
– Ну что ж, – сказал он с очередным тяжким вздохом (очень хотелось послать восторженного альбиноса подальше, но было неловко – прежде всего перед Скоблиным, который, отойдя, наблюдал за ними с покровительственным, отеческим выражением… с чего бы это?), – поскольку вы упомянули имя мадам Ленорман, известной карточной гадалки, напророчившей в свое время славу Наполеону, осмелюсь предположить, что вы посетили сегодня какую-нибудь пророчицу, провидицу или кого-то в таком роде?
Теперь Шадькович покраснел так, что можно было только диву даваться, как еще кровь из его щек не брызжет.
– Видите ли, – пробормотал он переконфуженно, – я сейчас нахожусь в таких затруднительных обстоятельствах, на таком распутье, что мне дорог всякий совет. Всякий! То есть друзей-приятелей, к которым бы я мог обратиться, у меня довольно, однако не всякому душу станешь открывать. Народ они по большей части бескомпромиссный, для них существует лишь «да» и «нет», черное или белое. Ну а затруднение мое… весьма деликатного свойства. Не будь я сам медик, я бы к доктору за советом пошел, честное слово, поскольку ни перед кем люди так не выворачивают душу наизнанку, как перед доктором.
– Перед батюшкой еще выворачивают, – подсказал Дмитрий. – Отчего вы не направились в храм Божий, к примеру?
– Отчего не направился? – пожал плечами Шадькович. – Как раз направился! Взял таксомотор и, едва прибыв в Париж, прямиком от Лионского вокзала велел везти себя на рю Дарю[4]. А там заперто было. Доехал на такси до Монмартра, гулял довольно долго и вдруг вижу около одной двери табличку с русскими буквами: «Предсказываю судьбу». То есть вывеска-то была на двух языках, конечно, но я именно на русский клюнул. Вот те на, как по заказу! Шарлатанство, думаю, конечно, а все же вдруг… Позвонил, отворила мне милая дама лет этак шестидесяти, но, как говорится, со следами былой красоты. Никакая, по счастью, не цыганка – бр-р, я этих пошлостей не выношу! – пожаловался альбинос доверительно. – Определенно светская дама в стесненных обстоятельствах. Справился о цене, она показалась мне вполне удовлетворительной, ну что такое пятнадцать франков в наше время? Дама разложила карты, посмотрела на них, на меня… и, вообразите, начала, как по писаному, рассказывать мне про мою жизнь. Про смерть первой жены, про гибель второй во время отступления из Ростова. Про детей, потерянных где-то в России. Сказала, кстати, что они живы… – Лицо Шадьковича исказилось судорогой боли. – Профессию мою угадала безошибочно. Ну тут, может быть, ногти помогли, мы, врачи, ногти стрижем чуть не до мяса, это уж традиция такая еще с пироговских времен, когда руки раствором сулемы мыли для дезинфекции. Но все остальное! Все остальное разве можно было просто так угадать? И прошлое мое, и будущее?
– Ну, насчет прошлого угадать не нужно быть Зигмундом Фрейдом, – щегольнул модным именем Дмитрий. – Кто из нас, из русских эмигрантов, бывших военных, не терял близких, кто не разлучен с семьями? Держу пари, не столько вам о вас дама рассказывала, сколько вы доверчиво выкладывали. Она, гадалка эта… то есть я хотел сказать, всякая гадалка вообще обладает удивительным умением расположить человека к себе и заставить его душу наизнанку вывернуть.
Шадькович посмотрел на него с сожалением:
– Вы истинный Фома неверующий. Ничего, ровно ничего я ей про себя не говорил, совершенно с ней не откровенничал. Я просто-напросто внимал ей с разинутым ртом. А самое главное, речь шла не только о прошлом, но и о будущем!
Концерт закончился, генерал Скоблин отворил дверь. Из залы начали выходить зрители. Мелькнула невысокая, крепкая фигура генерала Миллера, главы РОВСа; рядом с ним, как всегда, шел генерал Кусонский, начальник канцелярии. До этого господина у Дмитрия имелось дело, поэтому он решил закончить бессмысленный разговор с Шадьковичем:
– На самом деле вам сегодня дважды повезло, Кирилл… Кирилл Андреевич, если не ошибаюсь. Повезло на встречи с гадалками и гадателями! Я тоже в этом ремесле не из последних. Не верите? Хотите вот так, запросто, скажу, на какой улице обрели вы свою вторую мадам Ленорман? На рю Марти, 21. В комнатке для консьержки расположены ее скромные апартаменты. Верно?
– Ну да, – кивнул Шадькович, ничуть, впрочем, не изумленный такой догадливостью. – Значит, вам тоже приходилось у нее бывать? Вы ее знаете? Отчего же тогда не верите моему рассказу? И ведь вы меня даже не дослушали…
– Нет, это вы меня послушайте! – нетерпеливо махнул рукой Дмитрий. – Ваша милая гадалка предсказала вам на нынешний вечер что? Встречу со мной, верно?
Шадькович пожал плечами:
– Ну да… но…
– Вы ей говорили, что пойдете на собрание РОВСа? Ну, вспомните. Говорили?
– Что-то не припоминаю, хотя, может статься, и говорил, а может, и нет…
– Да не может! – с досадой отмахнулся Дмитрий. – Не может быть, чтоб не сказали! И она вам, конечно, напророчила, что вы на собрании встретитесь с высоким шатеном (вернее, бывшим шатеном, поскольку я уже наполовину седой), бывшим штабс-капитаном бывшей русской армии Дмитрием Дмитриевичем Аксаковым. Верно?
И он взглянул на Шадьковича с победным выражением. Однако напрасно: Шадькович глаза изумленно не таращил, не охал ошарашенно, руками потрясенно не всплескивал. Впрочем, Дмитрию уже попала вожжа под хвост:
– Ладно, я больше не буду вам голову морочить, как морочила гадалка. Вся штука в том, что сия особа – моя собственная теща. Да-да! Ее наступательную, бесцеремонную методу я тотчас распознал. Лидия Николаевна Шатилова – вот как звать-величать сию даму. Наверняка ведь вы познакомились.
– Она сказала только, что ее зовут мадам Лидия, – пролепетал Шадькович, в глазах которого наконец-то появилось требуемое изумленное выражение.
– Вот-вот, – ухмыльнулся Дмитрий. – И она, конечно, великолепно знала, что я буду на собрании РОВСа. Как же не знать, когда в ее присутствии моя жена просила передать привет Надежде Васильевне Плевицкой? Вот мадам Лидия и предсказала вам роковую встречу, подробным образом меня описав и наименовав. Так?
Шадькович опустил голову. Похоже, он был совершенно уничтожен разоблачением… срыванием, так сказать, всех и всяческих масок, как выразился бы главный большевизан товарищ Ленин.
– Ну, довольно, – проговорил Дмитрий, которому никогда не доставляло удовольствия зрелище чужого унижения, и нетерпеливо оглянулся: Кусонский уже вышел в коридор. – Покончим с пустой болтовней. Мой вам совет: поменьше доверяйтесь всяким…
– А мой вам совет, – с неожиданной яростью вскинул голову Шадькович, и его бесцветное альбиносье лицо снова ужасно покраснело, – научитесь дослушивать собеседника до конца. Прошу у вас еще минуту терпения. Только минуту! Я должен вам рассказать. Мадам Лидия предсказала мне три события на сегодняшний вечер. Первое: чуть выйдя из ее подъезда, я окажусь в смертельной опасности, которой, впрочем, избегну, но только чудом. Опасность будет исходить от белого человека.
– Ага, – кивнул Дмитрий. – От белого человека или белой лошади. Совершенно то же самое предсказала некая гадалка Александру Сергеевичу Пушкину, моему любимому поэту. Что и говорить, наша мадам Лидия – особа весьма образованная.
– Далее она сказала, что я совершенно неожиданным образом поправлю свое финансовое состояние, но врожденная порядочность моя послужит в данном случае мне в ущерб, и я в одночасье лишусь всего, что только что приобрел, – продолжал Шадькович, решив, видимо, вообще не внимать ехидным репликам Дмитрия. – Я расскажу, как сбылись эти два предсказания. Лишь только ступив на мостовую, я едва не был сбит таксомотором. По счастью, никакого увечья мне не было причинено. Кажется, водитель испугался более моего. Выскочил в такой панике, что… В общем, он рассыпался в извинениях, а я посмотрел на него – и не смог удержаться от смеха: он был и правда белый! Он был совершенно такой же альбинос, как я! – И Шадькович хихикнул. – Видите ли, люди такой, с позволения сказать, породы довольно редко встречаются, а тут р-раз – и сошлись нос к носу! Сначала он ничего не понял и решил даже, что я от потрясения сошел с ума, а потом оценил юмор ситуации, и мы с ним вволю посмеялись, даже визитными карточками обменялись, решив на досуге создать в Париже клуб альбиносов. А почему бы нет? Но это к слову. Как видите, первое предсказание мадам Лидии сбылось в точности.
– Не удивлюсь, между прочим, – хмыкнул Дмитрий, – что она сама наняла вуатюр… Тьфу, автомобиль, простите великодушно, галлисизмы воленс-ноленс так и липнут к языку![5] Сама, говорю, наняла автомобиль с шофером-альбиносом… С нее, поверьте, станется, я ее уже лет двадцать пять знаю, это такая плутовка, что не приведи Господь!
– Хорошо, – не стал спорить Шадькович. – Оставайтесь при своем скептицизме. Но слушайте! Простившись с нанятым, как вы изволите думать, водителем такси, я отправился дальше, и путь мой привел меня на пляс Этуаль. И здесь, лишь только начал я выходить на Елисейские поля, как обнаружил валяющийся на земле пухлый бумажник. Я, конечно, его подобрал. Открыл – и в глазах у меня зарябило от количества купюр! Много их там было. Много, и все по большей части пятидесяти– и стофранковые. Думаю, там лежало не меньше пяти тысяч франков – сумма для меня громадная!
– Не токмо для вас, – пробурчал Дмитрий.
– А надо вам сказать, что я как раз шел и размышлял о том, что нахожусь в самых стесненных обстоятельствах, и неведомо совершенно, как я буду жить через неделю. Костюм этот, который вы на мне видите, – перехватил он взгляд Дмитрия, – ссудил мне мой добрый приятель, у которого я остановился. Он человек не бедный, но не сможет содержать меня вечно. Я ищу работу, но русского врача не больно-то жалуют во французских госпиталях. Я уже смирился, что придется идти на должность санитара или вообще не по специальности трудиться, и найденные деньги, конечно, позволили бы мне продержаться какое-то время, даже немалое. Словом, размечтался я, да, размечтался… И вдруг увидел бредущего навстречу молодого человека лет двадцати, не более. Типичный французик: субтильный, невысокий, в поддернутых брючишках, руки в карманах, вокруг шеи шарфик намотан, на голове кепи. Идет, вперив взор в землю, а сам плачет! Слезами плачет! Я посмотрел на него и…
– Дальше не рассказывайте! – отмахнулся Дмитрий. – Вы спросили, что с ним стряслось. Бумажник оказался его, и вы денежки вернули владельцу, верно?
– Совершенно верно. Филипп Леви, так его звали, этого жинома[6], по-детски рыдая, поведал, что нес деньги, собранные всей родней в подарок его брату, задумавшему выкупить ко дню своей свадьбы автомобильную мастерскую, в которой он трудится. Несчастный Филипп уже размышлял о том, каким образом покончить с жизнью, а тут – я… Честное слово, он чуть ли руки мне не лобызал. Вот так я в одночасье разбогател – и в одночасье же лишился всего, что приобрел.
– Не удивлюсь… – начал было Дмитрий, но Шадькович протестующе выставил вперед руку.
– Избавьте меня, Христа ради, от догадок вроде той, что мадам Лидия нарочно подослала поперек моего пути француза с бумажником! Зачем ей это, скажите, бога ради?
– Поясню, так и быть. – Дмитрий оглянулся, убедился, что Кусонский все еще стоит в коридоре и беседует с Плевицкой (ну, это надолго, дама сия велеречива до изнеможения собеседника!), а значит, можно не слишком спешить. – Поясню. Теща моя находится со мной в конфронтации. Мы с женой оба работаем целый день. У нас дочь, ей десять лет. После того, как заканчиваются уроки в ее эколь… в школе, стало быть… девочка фактически предоставлена самой себе. Денег на гувернантку у нас нет. Я не раз просил Лидию Николаевну оставить свое малопочтенное занятие, которое не приносит ей особого дохода – так, на булавки, с позволения сказать! – и посвятить себя присмотру за внучкой. Однако она не собирается бросать гадание, обижается на мой скептицизм, настраивает против меня мою жену, а главное, идет на самые дурацкие ухищрения, чтобы убедить меня в том, что она «истинно вторая Ленорман, причем ни в чем не уступает первой», – с откровенной издевкой процитировал он Шадьковича. – Соседи прожужжали мне все уши, рассказывая о сверхъестественных способностях мадам Лидии. Ее французские родственники тоже поют в унисон. Я уж не говорю о моей жене, которая находится истинно под гипнозом своей маменьки… Именно поэтому я ничуть не удивлюсь, если узнаю, что история с бумажником и шофером-альбиносом инспирированы моей драгоценной тещей. Ну а уж встреча со штабс-капитаном Аксаковым… Х-хе!
– Между прочим, о штабс-капитане Аксакове и слова не было сказано, – качнул головой Шадькович. – Мадам Лидия просто сказала, что на собрании РОВСа я увижу человека, который болен той же болезнью, что и я, а главное, ищет те же средства излечения от нее, которые ищу и я.
– У вас что, тоже временами случаются прострелы? – ухмыльнулся Дмитрий. – Они у меня как последствие чудовищных галлиполийских сквозняков, от которых некуда было деться. Другими болезнями не страдаю, здоров, извините, как бык.
– Моя болезнь, а также и ваша, судя по всему, зовется nostalgie, – негромко сказал Шадькович.
– Батюшки! – чуть не схватился за голову Дмитрий. – Да кто ж из нас, эмигрантов, сей смертельной болезнью не болен?! Незачем было знакомиться со мной, можно было хоть к Скоблину тому же обратиться. Мы все тут подвержены частым и неодолимым приступам nostalgie. Эва, нашлась Ленорман!
– Слушайте! Да дослушайте вы меня до конца! – почти вскричал Шадькович. – С вами говорить – Божье наказание, честное слово! Мадам Лидия предрекла мне, что человека этого я увижу в то мгновение, когда он будет стоять ко мне спиной и… срывать цветок. Поняли? Срывать цветок!
Дмитрий открыл рот и снова закрыл.
Вот черт…
– А ну-ка, покажите, что у вас за спиной, – приказал Шадькович, и Дмитрий неохотно опустил руку.
– Это что? Цветок! – чуть не вскричал Шадькович.
На самом деле то был не столько цветок, сколько росток… Хотя велика ли разница?!
В убогой муниципальной школе, где училась Рита, дочка, неожиданно оказался большой зимний сад, и у преподавательницы биологии не было более верной помощницы, чем Рита€ Аксакуф, как ее здесь называли. Девочка была просто помешана на диковинных растениях. Какие-то амазонские лилии, цветы аргентинской ванили, филиппинские орхидеи, замбезийские папоротники – где только она не отыскивала семена или отростки экзотических тропических растений, изо всех своих неразумных сил пытаясь заставить их расти в горшках, кашпо, ящиках, кадках и даже бочках! Кое-что приживалось, но кое-что вымирало, конечно. Рита переживала, рыдала горько, и утешить ее можно было, только пообещав раздобыть очередное невиданное растение. В основном, конечно, удавалось это Татьяне: сделавшись помощником управляющего maison de couture «Русская мода», «La mode russe», она часто посещала на дому состоятельных клиенток, привозя к ним очередную коллекцию, если сами дамы по каким-то причинам не могли явиться в maison или просто ленились сделать это. Стоило ей увидеть какое-нибудь экзотическое деревце или цветок, как она проявляла чудеса шпионской ловкости, лишь бы его раздобыть для дочери: способна была даже прислугу подкупить! Впрочем, гораздо чаще удавалось выпросить отросток у самой хозяйки. Последней idée fixe Риты стала белая сакура. Сакуру, японскую вишню, цветущую розовым цветом, в Париже раздобыть было можно: если не в посольском сквере, то в одном из дорогих японских ресторанов, один из которых так и назывался – «Сакура». В посольский сад, конечно, ходу не было никакого, а из ресторана Дмитрий намеревался выкрасть отросток с помощью знакомого прапорщика-башкира, с которым вместе когда-то драпали из Казани – тот служил в «Сакуре»… японцем. (А что такого? Русские офицеры самых высоких званий частенько трудились в кабаках цыганами (брюнеты) либо малороссами (светловолосые). Так почему бы башкиру не сделаться самураем?) Может статься, белая сакура в «Сакуре» и произрастала, однако доступа туда у Дмитрия уже не было, поскольку его знакомого башкира, как выяснилось, из японцев погнали, и теперь он служил узбеком в «Самарканде»: плов на блюде подавал да наливал зеленый чай в пиалы. Рита про сакуру отцу все уши прожужжала, всю душу из него вынула, да где ж ее взять? Дмитрий уже приготовился копить деньги, чтобы поездить по дорогим питомникам, собрался даже заказать каталог «Jardin des platanes», «Сада платанов», питомника, который специализировался именно на экзотических растениях, как вдруг нынче вечером, ожидая Кусонского перед концертной залой, случайно поднял глаза на изящную полуколонну, стоявшую в скромной стенной нише, – да так и обмер: в ракушечном кашпо возвышалась она – белая сакура! Дмитрий столько раз видел ее изображение в многочисленных Ритиных книжках по цветоводству и каталогах, что узнал с одного взгляда. Неужели она всегда тут стояла? Или появилась недавно? Откуда взялась? Чей-нибудь подарок РОВСу? А впрочем, какая разница! Главное, вот она, перед ним, белая сакура, можно неприметно отломить веточку, спрятать под борт кителя и…
Отломить веточку он успел, а вот спрятать – нет.
Ч-черт, теща никак не могла знать про эту сакуру. Или могла? Насколько известно Дмитрию, она ни разу не бывала в здании РОВСа. Или бывала? От Лидии Николаевны всего можно ожидать. Но даже она, настоящая ведьма, никаким образом не могла догадаться, что ему взбредет в голову отломить веточку именно сегодня – и его за столь неблаговидным занятием засечет Шадькович.
Вот холера, а? Неужели и впрямь – ясновидящая, вторая мадам Ленорман, не уступающая первой…
Чудеса! Сказки! Невероятно! Не может быть!
Дмитрий нипочем не желал смириться.
– А все же про болезнь и про лекарства – чушь, к делу никак не относящаяся, позвольте сообщить вам, многоуважаемый Кирилл Андреевич! – произнес он с заносчивой интонацией самонадеянного юнца и повернулся, чтобы уйти: ну хоть такая малость, как последнее слово, должно было остаться за ним!
Однако рука Шадьковича проворно ухватила Аксакова за рукав:
– А по-моему, самое главное здесь – именно болезнь, именуемая тоской по родине, и лекарства, которые вы тайно пытались найти на… на рю Дебюсси, – Шадькович оглянулся, понизил голос: – в «Обществе возвращения на родину». Там же искал их и я. Искал – и нашел… А вы?
Лелька повернулась перед зеркалом раз и два, изогнулась, пытаясь заглянуть себе за спину: как сидит новая алая кофточка, не морщит ли, не тянет. Не видно ничего! Ну что в таком-то жалком стеклышке разглядишь? Давно нужно большое настенное зеркало купить, да где ж его возьмешь… В магазине одни пустые полки, а талон в закрытый распределитель еще выпросить надо. У кого же его выпросить? У начальника цеха? У главного инженера? А может, братик принесет? Сказать ему: «Гошенька, мне зеркало нужно, да побольше, но не просто так красоваться, а для нашего дела!» Принесет или нет?
Она невесело хохотнула.
– Лелечка, – донеслось из угла чуть слышное, – деточка, не крутись перед зеркалом, маленькая! Это грех, грех. Иди лучше книжечку почитай. Или в куколки поиграй…
– Я уже не маленькая, – вздохнула Лелька, – давно уже не маленькая. Мне уже двадцать пять. Ты забыла, няня? А куколки мои – вон, под окошком топчутся.
И чуть приподняла выщипанные, подкрашенные брови, прислушиваясь.
Из приоткрытой форточки слышно гудение мужских голосов. Мат-перемат – а как же иначе, ведь голоса принадлежат проснувшемуся от вековой спячки пролетариату! – изредка перемежается нетерпеливыми восклицаниями:
– Ну где там эта сука?
Сука – это она, Лелька Полякова. Пишбарышня из заготконторы, или, как теперь говорят, машинистка. Машинистка, а еще… а еще первейшая потаскуха во всем районе. А как иначе жить? Что толку с заготконторы, в которой она трудится! Про Лелькин веселый нрав каждому известно, в том числе и участковому, и в жилтовариществе. Ну и что? Никто Лельку не трогает, потому что, поговаривают, среди ее ухажеров есть очень влиятельные граждане. Да и что тут такого? Лелька весело и охотно дарит свою благосклонность каждому-всякому, кто о ней спросит. Никому не отказывает и со всяким идет к нему на квартиру или в общежитие к «группе товарищей», а если своего жилья у человека нету или, к примеру, там жена из угла в угол мечется, а детки на рояле гаммы наигрывают или за столом обеденным делают завтрашние уроки, то она и к себе приведет, в полуподвальную комнатку на улице Загорского, бывшей Малой Печерской, в деревянном доме, что стоит почти бок о бок с заброшенной, ободранной часовенкой Варвары-великомученицы. Конечно, часовня давно закрыта-заколочена, зимой ее чуть не до крыши заметает снегом, летом к стенам льнет крапива выше человеческого роста, ну да и ладно, кому она нужна, та часовня, вместе с какой-то там Варварой-великомученицей…
Раньше, в незапамятные, еще досоветские времена, Октябрьская улица, отходящая от часовни к Большой Покровской, ныне – Свердлова, называлась Дворянской. Со старых времен сохранилось с десяток домов – двухэтажных, малость поветшавших, но еще нарядных, либо сплошь каменных, либо с нижним каменным этажом. Они отделены от улицы небольшими палисадниками, заборы которых оплетены вьюнком и хмелем. По бывшей Дворянской улице Лелька никогда не ходит, а если ей до зарезу нужно попасть на пересекающую ее Ошарскую, то она лучше по Варварке, то есть Фигнер, дальним путем обойдет. Но когда брат, Гошка, идет навестить Лельку, он непременно пройдет по бывшей Дворянской и не упустит случая, чтобы не скользнуть взглядом по старым особнячкам.
Ну и зачем это нужно, зачем?!
– Лелька! Лелька, выходи! – слышны нетерпеливые молодые голоса под окном.
Ну да, пора. Сегодня вечеринка – танцевальный вечер в бывшем Дворянском собрании, теперь – Доме культуры имени товарища Свердлова. Эх, как летает в вальсе Лелька, как отбивает каблучками чечетку! Жалко, что запретили в клубах танцевать буржуазные танцы – танго, чарльстон и фокстрот, а то и в них она была бы первой. «Тебе, Лелька, надо было в артистки идти!» – так говорят все. Все, как один, кто видел, как Лелька танцует, кто слышал, как она поет. «В артистки-стрекулистки!» – хохочет она в ответ и начинает болтать о чем-нибудь другом. Разговоры про артисток она терпеть не может, так же как и сам театр: никогда туда не ходит, хотя имеет возможность раздобыть контрамарочку через кого-нибудь из ухажеров.
– Няня, я пошла, – говорит Лелька, наконец отклеившись от зеркала и последний раз проведя по губам помадой. Цок-цок каблучками… Завернула за занавеску, наклонилась над грузным неподвижным телом, распростертым на топчане. – Тебе чего-нибудь нужно? Попить? Киселя хочешь?
– Нет. Не уходи… – чуть слышно шелестит то, что лежит на топчане – лежит недвижимо уже который год и мечтает о смерти, как о спасении, но Бог все не прибирает: наверное, потому, что тогда совсем уж некому будет приглядеть за детьми.
– Няня, я должна, – глухо отвечает Лелька и низко-низко, так что лаковый, туго застегнутый пояс врезается в талию, наклоняется, прикасается губами к неживой, пергаментной коже старухиного лица. Черные глаза ее мягко, влажно мерцают, наливаясь непрошеными, ненужными слезами. – Если придет Гошка, скажи, я надеюсь, что сегодня-то… Нет, ничего не говори. Да Гошка, впрочем, все равно не придет, он тоже там будет. Сегодня там весь город соберется! Может быть, и… А ты засыпай, меня не жди, я не знаю, когда вернусь, может быть, и утром. Спокойной ночи, няня.
– Храни тебя Господь…
Лелька с комком в горле выскакивает из-за занавески, втискивает туфли в поношенные ботики, набрасывает потертую котиковую шубу, которую носит этой холодной весной долго-долго.
Глаза угрюмо обшаривают убогую комнатенку.
Вещи раскиданы по колченогим стульям, на покосившемся столе тарелка с остывшим супом, на стенках открытки, пришпиленные кнопками. Это все фотографии драматических артисток и артистов Энского театра. Большая загадка, почему Лелька, при всей своей нелюбви к театру, держит их на стенах. Почти все они старые, еще до революции изданы. Из новых только одна – Клара Черкизова в роли Джульетты. Ведущей актрисе Энского драмтеатра уже под пятьдесят, ей бы кормилицу играть или госпожу Капулетти, но нет, она изображает Джульетту. Воздушное платье туго натянуто на могучей груди, рукава-буф чуть не лопаются на широких плечах, распущенные локоны парика игриво обрамляют накрашенное лицо, но никакой грим не сможет скрыть угрюмых складок у рта, морщин, избороздивших лоб, «гусиных лапок» в углах глаз. А рядом – совсем другая Джульетта. Тонкая – талию двумя пальцами обхватить можно! – молоденькая, с безумным, хмельным блеском огромных глаз. Эта фотография старинная – аж 1903 года. В уголке маленькими буковками так и написано: «Госпожа Е. Маркова в заглавной роли в трагедии У. Шекспира „Ромео и Джульетта“, 1903 г.». Если внимательно присмотреться к фотографиям, можно найти среди них госпожу Е. Маркову еще в двух ролях: Виолы из «Двенадцатой ночи» того же Шекспира и Лаллы Рук из спектакля «Песни Индии» по стихотворениям английского поэта Томаса Мура. Ну что ж, очень красивые фотографии, особенно последняя: Лалла Рук так вся и сверкает в роскошном наряде индийской принцессы, – поэтому неудивительно, что Лелька украсила ими стены своего неуютного жилья.
Засиженные мухами ходики заскрипели, начали отбивать удары.
– Семь часов! Опоздала! – взвизгнула Лелька и вылетела из комнаты, на ходу набрасывая на голову тонкую белую шаль.
Мужские голоса под окном снова закричали что-то сердитое, и враз весело зазвучал в ответ беззаботный хохоток Лельки, а потом стало слышно чавканье нескольких пар ног по раскисшей грязи, и вскоре все стихло: ни шагов, ни голосов. Компания выбралась на дощатый тротуар и по улице Фигнер, бывшей Варварке, заспешила на Свердловку, в Дом культуры.
Старая женщина повернула голову и посмотрела на слабо теплившийся огонек лампадки.
– Матушка Пресвятая Богородица… – прошелестели сухие губы. – Помоги ей! Помоги им!
Тишина. Темны и непроницаемы глаза на иконе.
«Кого ты просишь? – медленно текут мысли в старухиной голове. – Что она может? Она хоть и Богоматерь, а все – женщина! Ничем она не может помочь! Так же, как и ты сама…»
Старуха переводит глаза к другому образу – Спасу Нерукотворному. Но глаза Спасителя темны, неприветливы, безответны. Губы неприступно сжаты.
Судит? Или просто бессилен помочь?
Старуха медленно опустила тяжелые веки. Ах, уснуть бы и не проснуться! Не мучиться больше! Нельзя оставить детей? Но какая им помощь от старой няньки? Одна тоска и непомерная тяжесть забот.
– Господи, прибери меня! Господи, прибери! Господи, освободи!
Старая женщина молится так горячо, так истово, что теряет последние силы. Сон смыкает ей веки. Последние капли непролитых слез еще жгут глаза, но она не чувствует этого. Она уже не здесь – на продавленном топчане, в ненавистной каморке. Она в другой комнате, в другом доме, рядом люди. Другие люди, и вокруг другая жизнь. Смех, слезы, печаль, радость… Какое все это было счастье, какое теперь настало горе!
Кончилась жизнь, кончилась, и никакого нет впереди просвета, и никакой надежды, потому что даже если исполнится то, о чем так мечтает Лелька, чего жаждет Гоша, это будет значить для них только одно – смерть, страшную и мучительную смерть.
Словно заглянув в прошлое из далекого далека, ласкает старуха взором лица, которые снятся ей, лица дорогих, любимых людей. Какая-то синеглазая девушка с распущенными рыжеватыми волосами в платье василькового цвета, какой-то молодой мужчина с глазами черными, жгучими, насмешливо прищуренными, в черном вицмундире, а вот еще одна женщина – золотая сетчатая шапочка обтянула ее голову, словно шлем, в уголке рта зажата тонкая папироска в изящном мундштуке. Тут же дети, мальчик и девочка, у них тоже черные, яркие глаза…
Кто они? Где они теперь? Что с ними? Неужели их больше нет, неужели они – только сон, несбывшийся сон?
Уж казалось бы, после всего того, что привелось перенести Лидии Шатиловой за последние годы, довольно накопилось кошмаров, чтобы посещать ее каждую ночь и терзать в сновидениях, которые почти невозможно отличить от реальности – по боли в сердце, по горечи слез, по чувству безвозвратной утраты… Но нет же, являлись-таки ночами картины даже не прошлой, страннической, неприютной, мучительной – самарской, сибирской, харбинской – жизни, а позапрошлой, благополучной и достаточной: петербургской, московской, энской… доримедонтовской! Причем самыми тревожными, всегда предвещающими какую-то неприятность, были именно те сновидения, которые навевались ветрами, долетевшими из вовсе дальнего далека – из некогда милого и любимого, а после старательно забываемого и проклинаемого Лидией Доримедонтова.
Вот и тем утром проснулась она оттого, что запершило в горле – мучительно, до удушья! – и резко села в постели, глубоко вздыхая. Огляделась: ну да, сон, конечно, сон… Убогая реальность – тесная комнатушка, парижское обиталище, показалась райским садом по сравнению с той просторной светелкой, где Лидия только что пребывала. И все же она недоверчиво, с опаской вытянув шею, поглядела-таки на соседнюю кровать. Длинная голая ножка высунулась из-под одеяла (спать под перинами, как заведено здесь, мало кто из русских приучился: жарко, душно, тяжко!), стриженая кудрявая головка утонула в большой (опять же по-русски, французы-то предпочитают спать на каких-то несуразных думочках либо вовсе на валиках, вроде диванных, подсовывая их под шею) подушке. Слава те, Господи… Рита – Риточка, внучка! – там, на соседней кровати, а не Эва, Эвочка, сестричка…
Приснилось, будто лежит Лидия – Лидуся, как ее тогда, в те далекие поры, называли, – в своей девичьей кровати, стоящей под узким стрельчатым окном, и тонкая занавеска, колеблемая сквозняком, то и дело отлетает и касается краем ее щеки. От этого сон Лидуси тревожен и неглубок: не сон, не бодрствование – дремота. Она как бы и спит и в то же время слышит каждый звук: и соловьиный цокот – предутренний, уже утомленный, – и ржание лошадей, которых мальчишки ведут из ночного, и в ответ – вызывающее ржание Ветрогона, бессонного, неутомимого Ветрогона, которому лишний час в конюшне простоять – хуже нет наказания! – любимого отцовского жеребца, нет, черта бешеного, рожденного, кажется, для того, чтобы на нем кто-нибудь из наездников непременно шею себе свернул, и только одного человека он слушается воистину рабски. Слышит Лидуся мычание коров и рожок пастуха, уже ведущего стадо мимо усадебной ограды, и чьи-то дальние голоса – наверное, деревенские девки с утра пораньше за черникой собрались или по грибы…
А еще слышит она вкрадчивый скрип половицы под чьей-то ногой. Слышит легкое шлепанье босых ног, потом шорох приотворяемой двери. Удивляется сквозь дрему – почему не скрипит дверь? И отвечает сама себе: наверное, петли кто-то смазал. А кому бы их смазать? Да больше некому, кроме Эвочки. А зачем ей это нужно? Наверное, для того, чтобы без шума, незаметно выскользнуть из комнаты, не обеспокоив сестру. А куда она направляется с такой таинственностью? Откуда взялась такая забота о том, чтобы не разбудить Лидусю?
Да оттуда, снова отвечает она сама себе, что проклятущая Эвка крадется на свидание с Костей Русановым! То-то заржал Ветрогон – он обожает Костю, под ним ходит как шелковый, ну просто мед, а не лютый жеребец. Костя поедет на нем, Эвка возьмет нервную Ласточку. Ничего особенного – утренняя верховая прогулка, но Лидуся знает, что прогулка эта – до первой рощицы, а там всадники спешатся, привяжут лошадей, углубятся в заросли – и… Сколько раз оглядывала Лидуся ревнивым взором амазонку Эвелины, сколько раз находила на ней странные, подозрительные пятна, однажды присохшую травинку нашла… Ну, это-то вроде бы ничего особенного, сестра могла просто сидеть на траве… а вот пятна, что они значат?
Лидуся вскидывается и видит, как затворяется дверь. Постель Эвочки пуста.
Ну, коли так…
Лидуся сует руку под подушку. Она предчувствовала, нет, точно знала, что произойдет утром. Она еще с вечера припрятала острый узкий нож. Сейчас она выскочит в коридор и нагонит сестру. Обхватит сзади за шею и…
О нет, она не собирается убивать Эвелину. Вот еще, брать грех на душу из-за потаскушки! Она просто-напросто выколет Эвке глаз.
Лидуся оглядывается. Два акварельных портрета смотрят на нее со стены. Чудится, они – два изображения одной и той же барышни, только на первом она наклонила голову влево, а на другом вправо. И если присмотреться, увидишь, что у барышень разные глаза.
Все дело в нем, в левом Эвкином глазу. Карем, с прозеленью и даже какой-то золотой искрой! У Лидуси глаза серые, а у Эвочки один серый, другой карий. Вот в чем все дело! Своим дьявольским оком она и причаровала, лишила разума Костю Русанова, а Лидусю лишила надежды на счастье. Но еще неизвестно, в чьи объятия бросится Костя, когда удивит Эвку окривевшей!
И, вообразив сестру одноглазой, Лидуся начинает неудержимо хихикать. А потом хохочет, да так, что судорогой сводит горло – до удушья!
Именно в это мгновение она и проснулась. И обнаружила себя не в старом доримедонтовском доме, а в спальне парижской квартирки. Перекрестилась, заодно перекрестила спящую Риточку, глянула на часы, увидела, что подхватилась рано, вполне можно еще час поспать, – и снова опустила голову на подушку.
Черт, угораздило же проснуться в такую рань!
Конечно, заснуть не удастся. Впрочем, Лидия и не пыталась. Просто лежала и думала: ну мыслимо ли так ненавидеть человека, да не просто какого-то человека – а родную сестру, как она ненавидит Эвелину. С семнадцати лет ненавидит, с тех пор, как в жизни сестричек Понизовских появился адвокат из Энска Константин Русанов.
Потом, уже в 1907 году, когда Эвелина после долгого молчания написала сестре из Парижа и поведала свою историю любви к Эжену Ле Буа, а также рассказала, как поступил с ней милейший Костя Русанов, Лидия не то чтобы простила сестру, но хотя бы смягчилась к ней. И даже готова была ее снова полюбить, как любила в детстве и юности. Особенно была готова к этому, когда в забытый Господом ненавистный Харбин, где Лидия и Танечка никак не могли очнуться после смерти Олега и каждый день проходил между страхом, что и их убьют китайцы, как убили Олега, – и желанием самим развязаться с опостылевшей жизнью: просто-напросто пораньше закрыть вьюшку в печи, а вскоре уже встретиться и с Олегом, и с Никитой Ильичом, которого они лишились при отступлении из Самары. И вот в этот их поистине предсмертный миг пришел вызов из Парижа. От Эвелины. Она также прислала деньги на проезд через Китай, Америку и Францию.
Не передать словами, с каким разнежившимся сердцем встретилась Лидия с сестрой, но… при виде ее разных глаз снова воспылала к ней прежней ненавистью. Эвелина, совершившая, конечно, роковую ошибку с Костей Русановым (ну что он, в самом деле, такое, провинциальный адвокатишка, папильон и бонвиван!), на сей раз выбрала великолепный объект для супружеской жизни. Эжен Ле Буа – потомок аристократического рода, преуспевающий делец, владелец обширных виноградников в Бургундии, близ Дижона. Знаменитое белое вино «Le soleil de Moulene», которое успешно соперничало с самыми знаменитыми марками, помогло его предкам нажить немалое состояние. К несчастью, в годы войны многие виноградники были выжжены, заражены филлоксерой, «Le soleil de Moulene» утрачивало прежнюю славу, и все же Ле Буа оставались весьма зажиточными людьми. Особенно по сравнению с нищими Лидией и Таней, принужденными зависеть только от щедрот богатых родственников!
Буйная натура Лидуси, когда-то мечтавшей выколоть золотистый глазик своей везучей сестричке, просто не могла с этим различием смириться. Конечно, она видела Эжена Ле Буа и раньше, однако в ту пору она и сама была замужем за богатым человеком, ни в чем не знала недостатка, могла бы соперничать с сестрой в чем угодно, и, честное слово, добропорядочный красавчик-француз казался ей ужасно пресным по сравнению с «цивилизованным разбойником» Никитой Шатиловым, которому она была обязана жизнью, достатком, семейным счастьем. Но теперь Никиты нет уж на свете, Лидия вдовела который год, ее сын Олег был застрелен где-то в китайской тюрьме, а Эвка, эта потаскушка, наслаждалась счастьем с замечательным мужем и сыном!
А между тем пережитые невзгоды ничуть не состарили Лидию Николаевну. В 1924 году, когда они с Таней перебрались в Париж, ей исполнилось сорок четыре года. Конечно, дурак скажет, возраст уже немалый, но для настоящей женщины возраст – такая ерунда, на которую не стоит даже обращать внимания! И если Эвелина от сытой и безмятежной жизни изрядно обленилась и отупела (Лидия Николаевна чувствовала такие вещи безошибочно, а если не чувствовала, то превосходно умела убедить себя в этом!), то Лидия оставалась, как и всегда, истинной охотницей за привлекательными мужчинами, прекрасно знающей их повадки. И она моментально почуяла, что Эжен Ле Буа, сорокавосьмилетний буржуа, уже несколько пресытился своей добропорядочностью и незыблемостью своего статуса. Очень может быть, что ему поднадоели разные глаза Эвелины и захотелось чего-нибудь иного. Во всяком случае, Лидия вскоре почувствовала, что участливое внимание ее beau-frère[7] вполне готово смениться чувством менее родственным и в то же время более острым.
Ну и, конечно, она сочла нужным поощрить его. Чтобы не терялся, черт возьми!
Никаких угрызений совести Лидия не ощущала. Разве Эвелина, Эвочка, Эвка в свое время не отбила у нее Костю Русанова, можно сказать, ее жениха (на самом деле все обстояло не совсем так, но с течением лет истинная подоплека тех давних событий несколько подзабылась, и Лидия вспоминала их так, как хотела вспоминать)? Конечно, отбила! Значит, если на сей раз Лидуся отобьет у Эвочки мужчину, это будет не грабеж, не разврат, а просто-напросто восстановление справедливости.
Итак, Лидия сочла, что оный мужчина нуждается в поощрении. И она так ясно, как только могла, дала ему понять, что именно от него требуется.
К несчастью, от ее шага Эжен не осмелел, а вовсе струсил. И, очень может быть, намекнул на что-то такое супруге… Впрочем, Лидия так и не смогла распознать, и впрямь слабак Эжен доложил Эвелине, что сестрица не прочь «покормиться в ее огороде», или та сама разглядела неладное своим демонским оком. Да не суть важно! Главное, что сестрица устроила Лидусе кошмарную сцену, назвала бродячей шлюхой (la putain errante, вот как это звучало по-французски… куда приличней, чем по-русски, хотя вполне можно было воспользоваться русским выражением, однако добропорядочная буржуазка Эвелина Ле Буа окончательно офранцузилась и не пожелала осквернять свою французскую речь – выразилась попросту: бродячая шлюха, и все тут!) и в буквальном смысле слова указала сестре на дверь. Заодно бродячей шлюхой была названа и Татьяна, которую тетушка обвинила в попытке бесстыдно совратить кузена Алекса – наследника Ле Буа.
Но уж если насчет Эжена у Лидии и впрямь было рыльце в пушку, то Танечка, конечно, испытывала по отношению к кузену только родственные чувства. Невысоким ростом, легковесной юношеской статью, светлыми глазами с расширенными зрачками, отчего глаза казались темней, чем были на самом деле, косой прядью на высоком лбу, широкими бровями, внезапно хмурившимися, когда он что-то не понимал, четким очерком рта – всем этим он был поразительно похож на своего тезку и старшего брата – Александра Русанова, Шурку, которого Эвелина вынуждена была покинуть в России, чтобы умиротворить новоявленного Отелло – Костю Русанова и добиться свободы, получив возможность выйти замуж за Эжена. Одновременно с Шуркой была оставлена в Энске и старшая дочь Эвелины, Сашенька, рожденная от Константина и очень на него похожая, ну а Шурка-то был именно что сыном Эжена, совершеннейшим Ле Буа, особенно с этой своей черной родинкой у плеча… Да ладно, не о нем речь, не о Шурке и его родинке! Речь о том, что Таня смотрела на Алекса как на брата, ну а уж если молодой Ле Буа влюбился в прелестную кузину, то это его беда, а не ее вина.
Однако Эвелине попала вожжа под хвост. Буйным темпераментом старика Понизовского обладала не одна Лидуся, но и ее сестра-близнец. Пошли клочки по закоулочкам! Харбинские странницы были немедля изгнаны из дома Ле Буа, и только настоятельное заступничество Алекса помешало тому, чтобы мать с дочкой оказались просто-напросто на улице. Молодой человек увез их из дома на площади Мадлен и поселил в очень милом отеле «Le bôton de maréchal» близ авеню Опера́, дал на первое время денег и пообещал, что утихомирит мамашу, которая в одночасье превратилась в сущую фурию.
– Клянусь, я не дам вам пропасть, ma chère tante, – горячо частил он, обращаясь к Лидии, то и дело кидая жаркие взгляды на la chère cousine[8]. – Я исправлю эту вопиющую несправедливость. Можете не сомневаться, что через несколько дней все изменится, и мы снова будем вместе!
Лидия ни на минуту не усомнилась в искренности молодого человека. Эвка всю жизнь была вспыльчива, но отходчива. Любимый сын ее уломает. Скоро, скоро предстоит триумфальное возвращение изгнанниц в хоромы Ле Буа! Ладно, черт с ним, с Эженом, Лидия готова была вернуться туда не супругой старшего, но тещей младшего Ле Буа. Так и быть, ради счастья дочери она соглашалась смирить свои амбиции. Тем паче что Эжен – такая зануда… И он скоро совсем постареет. Быть его женой – все равно что спать в одной постели с бессильной мумией, а Лидия всегда испытывала тягу к постельным радостям. Особенно к тем, которые доставляются молодыми красавцами… Поэтому она столь охотно соглашалась пожертвовать собой ради Тани и остаться вдовой – незамужней, свободной.
Однако ее смирение и жертвенность остались не зачтенными на небесных счетах.
Как-то раз в их номере испортился звонок, которым вызывают прислугу. Ни чаю выпить, ни сигарет заказать! Таня отправилась к портье, а возвращаясь, ошиблась дверью, сунулась в соседний номер… да, как на грех, в ту самую минуту, когда его обитатель, вздумавший свести счеты с жизнью, уткнул в висок револьверное дуло. И надо же было так случиться, чтобы этим человеком оказался не кто иной, как Дмитрий Аксаков…
Вот и не верь после этого в злую волю Рока!
Да не кто иной, как Дмитрий Аксаков, был виновен в том, что Ле Буа практически отказались иметь дело с русскими родственниками и денег давали им, лишь бы с голоду не померли: только укоренившееся во французском сознании священное отношение ко всем членам la famille делало свое дело. Возмущение Эвелины, с одной стороны, было понятно: муж ее дочери, покинутой в России большевикам на растерзание, заводит бурный роман с двоюродной сестрой Сашеньки! И намерен жениться на ней, даже не получив развода от российской жены!
Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Лидия с трудом удерживала готовое сорваться с языка: «Да ведь ты, моя милая, сама первая Сашеньку бросила в России, причем именно ради того, чтобы выйти за Эжена Ле Буа, не получив развода!» Что ж, одна Лидия знала, что парижский, католический брак Эвелины с Эженом был, строго говоря, недействительным браком – свершившимся при живом муже – пусть православном, но живом. И сын их был незаконнорожденным. И не он являлся истинным наследником виноградников в Бургундии и недвижимости в Париже, а Шурка Русанов, застрявший в далекой России и, очень может статься, уже пущенный большевиками в расход.
Лидия знала, что, приведя эти доводы, она может переубедить Эвелину и та перестанет бесноваться и поливать грязью Дмитрия и Таню. Другое дело, что ей самой их скоропалительный брак совершенно претил. Для дочери она видела в мечтах иную участь. Татьяна дивно красива, недаром легко победила в Харбине в конкурсе красоты среди русских эмигранток. Несколько модных домов, открытых эмигрантами в Китае – «Киевский салон дамских нарядов» Матузова, «Торговый дом» Чурина, салоны «Варшавский», «Антуанетт», «Мадам Софи», «Рекорд» и прочие, – наперебой зазывали к себе в манекены «Мисс Харбин 1922», явную претендентку на звание «Мисс Россия» следующего года. Таня выбрала работу в доме Чурина – его еще называли «Дамское счастье», потому что это был огромный универсальный магазин, а не просто дом моды, – и хорошо зарабатывала, пока напуганные китайцами хозяева не отказали ей от места. Лидия очень рассчитывала, что дочь и во Франции продолжит блестящую карьеру манекена. Мадам Шатилова всегда была практична, она ведь не только флиртом с Эженом Ле Буа занималась – она в будущее заглядывала! Париж куда шикарнее Харбина, здесь есть где развернуться красавице со стройной, почти мальчишеской фигурой. Само собой, русских maisons de couture полным-полно, причем не абы кем открытых, а особами из высшего света и даже принадлежащими к императорской фамилии, взять хотя бы «Китмир» великой княгини Марии Владимировны или «Бери», который держал великий князь Гавриил Константинович со своей морганатической супругой княгиней Стрельнинской, бывшей балериной Антониной Нестеровской. Ничем не уступали им «Ирфе» скандально знаменитых князя и княгини Юсуповых, «Итеб» баронессы Бузард, бывшей фрейлины последней императрицы, «Поль Каре» леди Эджертон, урожденной княжны Лобановой-Ростовской, «Тао» княгинь Трубецкой, Оболенской, Анненковой. Обворожительные русские манекены играючи могли сделать карьеру и у знаменитых французов – Поля Пуаре, Коко Шанель, в домах «Шанталь», «Лавен», «Дам де Франс», «Скиапарелли», «Женни», «Уорт»…
Конечно, рынок русских красавиц был огромен, причем в манекены не гнушались идти девушки, носившие самые громкие фамилии – Оболенские, фон Медем, Дельвиг, Шаховские, Эристовы. С ними соперничали и знаменитые актрисы кино – Бакланова, Карабанова, Кованько. И все же Лидия не сомневалась, что Татьяна прекрасно устроится.
Как же, устроилась!
Влюбилась по уши, совершенно спятила от любви. Дмитрий смотрел на нее как на Божьего ангела, спасшего его от смерти, и относился почтительно и платонически. А Танька просто рехнулась, честное слово! Лидия знала, что дочь многое от нее унаследовала, например, сладострастный нрав (старинная, еще московская история с домашним учителем Лаврентием Кораблевым это вполне доказывала!), и не сомневалась, что именно Татьяна завлекла Дмитрия в постель, лишь бы каким угодно способом закрепить свои права на него. Ну что ж, закрепила, забеременев и мигом оставив от хрупкой, трогательной фигурки лишь воспоминания. Слов нет, она и после родов осталась красавицей, однако в моду нынче вошли худышки в мальчишеском стиле, а роскошным женщинам в maisons de couture делать было совершенно нечего. Немало времени прошло, прежде чем Татьяна смогла устроиться в «Адлерберг», изготовлявший нижнее женское белье! Какое-то время пышные формы Татьяны здесь очень даже котировались, Лидия сама бывала на нескольких показах и признала, что дочь выглядит просто великолепно во всех этих панталончиках, ночных сорочках и пеньюарах. Но потом, представьте, вмешался Дмитрий. Ревность у него взыграла, видите ли! А по какому праву? Он ведь не женился на Татьяне. Да, он так и не женился на ней, негодяй!
Ну, конечно, если совсем уж честно… дело было не только в его негодяйской натуре. Вернее, вовсе не в ней… Эвелина пригрозила заклеймить его двоеженцем, если он только посмеет венчаться с Татьяной. Да, были такие случаи, когда эмигранты женились в Париже вновь, получив всего лишь словесное разрешение от прежних (российских) брачных уз. Такое разрешение в церкви на рю Дарю давали без особых хлопот, ведь прежние супруги почти наверняка были мертвы – ну кто, в самом деле, мог выжить в безумной совдеповской России? Конечно, подобное особо не афишировалось, огласки старались избегать. В самом крайнем случае просто регистрировались в мэрии. Дмитрий готов был пойти на это, Татьяна вообще на все готова была… Однако в том, что Эвелина устроит скандал, не следовало сомневаться. Ответить ей тем же, доказать, что она и сама двоемужница, было очень соблазнительно, однако Лидия не решилась бороться с сестрой ее же оружием. Поди докажи Эвкино бурное прошлое, во-первых, а по католическим правилам она законная жена Эжена Ле Буа, во-вторых же, Ле Буа богаты… Не плюй в колодезь, пригодится воды напиться! Лидия это понимала. И Эвелина знала, что ее близняшка это понимает. Сестры, по такому случаю зарыв топор войны в землю, встретились, разумно все обсудили (поляки Понизовские были не только гонористы, но и расчетливы) и заключили между собой тайное соглашение: если уж Татьяна с Дмитрием друг без друга не могут, пусть живут во грехе, ну а Эвелина будет поддерживать их существование приличными суммами.
Соглашение устроило всех – понятие гордости в эмиграции притуплялось очень, очень скоро! Как говорится, на хлеб гордость не намажешь… да и самого хлеба на нее не купишь. Больше всех горевал Алекс – все-таки он испытывал к кузине отнюдь не только родственные чувства, но что делать, что делать, с’est la vie, – пришлось пожелать ей счастья с другим. Лидия знала, что Эвелина давно хочет женить сына, неустанно подыскивает ему невест cреди самых респектабельных фамилий, но все напрасно: он очень ловко уходит из расставляемых ему сетей. Как-то Лидия недоуменно спросила, почему Эвелина, которая сама вышла замуж по страстной любви (вернее, даже дважды выходила таким образом, ха-ха!), не позволяет сыну самому найти себе невесту. Пусть она даже будет не столь богата и родовита, но если Алекс ее полюбит…
– Ты что?! – Эвелина уставилась на сестру, как на дуру. – Это аристократы могут позволить себе мезальянс, то-то они и в жизни, и в романах, и в cinéma вечно женятся на простолюдинках. А буржуа должны думать прежде всего о респектабельности. В нашем кругу браки заключаются по расчету.
Лидия просто ушам своим не поверила. Бог ты мой, до чего же опростилась сестричка, правнучка гордых шляхтичей Понизовских! Сама себя перестала считать аристократкой, назвалась буржуазкой! А если честно, превратилась в совершенную мещанку…
А впрочем, ладно, лишь бы деньги давала.
Эвелина давала деньги исправно. Однако грянул кризис на Уолл-стрит… и деньги от Ле Буа поступать перестали. Пришлось съехать из Пасси на авеню Трюдан, пришлось поджаться во всем, причем поджаться очень сильно.
Разумеется, и Дмитрий все время искал возможности заработать, и Татьяна тоже, ну и Лидия не сидела сложа руки. Она именно что работала руками – беспрестанно перемешивая карты.
«Нет, Шуйский, не клянись!» – призывал великий Пушкин. «Не зарекайся!» – гласит народная мудрость. И Пушкина, и эту мудрость вспомнил Константин Николаевич – вспомнил очень скоро, когда однажды ночью, встав за нужным делом, увидел, как его сын Шурка входит в боковушку Милки-Любки (хоть вслух ее звали теперь просто Любой, Любашей, но Константин Анатольевич просто не мог называть ее иначе, чем прежним именем!), а через минуту оттуда раздаются звуки поцелуев, вздохи и характерный скрип топчана.
Константин Анатольевич, мигом забывший, что сыну его уже восемнадцать и что он сам некогда советовал ему пройти науку страсти нежной в объятиях опытной проститутки, рассвирепел, ощутив себя pater’ом оскорбленного familias. Он буквально стащил Шурку с Милки-Любки и выволок его в столовую, устроив страшный скандал с рукоприкладством и восклицаниями: «Вон из моего дома! И ты тоже, шлюха, пошла к черту!»
Шурка был так потрясен отцовской пощечиной (полученной впервые в жизни!) и тем, что вынужден стоять перед отцом и прибежавшей на шум Сашенькой почти нагим, прикрывая чресла только скатеркой, торопливо сорванной со стола, что оставался недвижим и бессловесен. Однако Милка-Любка очнулась довольно быстро. Она бросила любовнику брюки и заслонила его собой, пока он одевался. А потом показала, что клобук не делает монаха и, несмотря на жизнь в приличном доме, среди приличного семейства, она осталась той же хваткой шлюхой из заведения «Магнолия», которая очень умело работает и языком, и руками, и всеми прочими местами своего тела ради собственной выгоды.
– Если мы сейчас уйдем, тебе, старый дурак, утром пулю в лоб сам Верин выпустит, – сказала она, спокойно глядя в глаза Константина Анатольевича. – Не бывал в подвалах на Воробьевке? – И немедленно уточнила, как делали в описываемое время все граждане Советской России, не поспевавшие за переименованием улиц своих родных городов и беспрестанно путавшие новые революционные и буржуазные отжившие названия: – На бывшей Малой Покровке, в подвалах Чеки не бывал? Там все кровью да мозгами таких болванов, как ты, обрызгано!
Саша упала на стул. Константин Анатольевич схватился за сердце. А Милка-Любка спокойно взяла Шурку за руку и увела его… нет, уже не в свою боковушку, а в его собственную комнату, в которой он жил с тех пор, как появился на белый свет, и которой теперь было назначено стать первым семейным пристанищем молодых супругов Русановых: они расписались на другой же день.
Шуркину жену ненавидели и Константин Анатольевич, и Саша. Может быть, они отнеслись бы снисходительней к случившемуся, когда прошел первый запал, но после жуткой, кровавой угрозы Милки-Любки все добрые чувства к ней были разрушены в одночасье. Саше иногда казалось, что и Шурка побаивается жены. А впрочем, кто их разберет! Не больно-то долго довелось Саше наблюдать за отношениями брата и Любки– да, теперь Саша про себя называла ее чаще именно так, потому что не хотела смешивать Милку-Любку, ту девушку, которую она когда-то встретила на Острожной площади и которая сначала жаловалась ей на безответную любовь к Петьке Ремизу, а потом стала советовать отслужить молебен в часовне Варвары-великомученицы, – и эту тварь, грозившую смертью отцу так уверенно, словно бы и сама она не раз пускала пулю в лоб безвинным людям в том страшном подвале на Воробьевке… А иначе откуда бы ей знать, чем измазаны там стены?
Месяц спустя после того, как расписался с Милкой-Любкой, Шурка однажды, дождавшись, пока отец и сестра поужинают (ели теперь обе семьи раздельно и в разное время – в две смены, как это называлось в коммунистических столовых), вошел в гостиную, прислонился к притолоке и вдруг завел разговор… о Кларе Черкизовой.
Саша не верила своим ушам! Было время, когда они втроем – брат, сестра и тетя Оля – сомкнутыми рядами стояли, не позволяя отцу не то что жениться на Кларе, но даже осуждая его встречи с ней. Потом Саша немного смягчилась – были на то причины, Клара оказала ей одну услугу… Саша думала, будет век Кларе благодарна, однако все кончилось таким горем, таким надрывом сердечным… Кончилось кровавой трагедией… С тех пор Саша ни об этой, с позволения сказать, услуге, ни о Кларе Черкизовой спокойно думать не могла. Отец, конечно, по-прежнему встречался с актрисой – бегал к ней на Алексеевскую, ныне улицу Дзержинского, но по-прежнему украдкой, оберегая семейный покой, поскольку был уверен, что детям, Шурке и Саше, так же противна мысль о его связи с Кларой, как и прежде.
И вот пожалуйста: сын предлагает ему… Нет, просто невозможно поверить в то, что он предлагает!
– Папа, сколько можно вам с Кларой прятаться и таиться, будто вы гимназист с гимназисткой, которым родители запрещают встречаться? Ты уже не молод, а сейчас такое тяжелое время. Кларе трудно одной, у них в театре совсем скудные ставки и пайки. Вместе вам было бы легче жить. Она так давно любит тебя… Почему бы тебе не плюнуть наконец на все глупые условности и не расписаться с ней? Я понимаю, что она переедет сюда… Ну что же, мы с Любой могли бы перебраться в ее квартирку на Алексеевскую, то есть я хотел сказать, на улицу имени товарища Дзержинского. Или можно было бы обменяться жилплощадью, вы понимаете? Так сейчас многие делают…
Конечно, Шурка сам никогда до такого не додумался бы, сообразила Саша. Его Любка науськала! Она с трудом удерживала слезы. Бог ты мой, да что же сделала с ее любимым «песиком-братиком» эта революционная потаскуха?!
Саша покосилась на отца, надеясь увидеть на его лице выражение возмущения. Нет, ничего подобного! Константин Анатольевич имел вид ошарашенный, но в общем довольный.
Саша не знала, конечно, что не далее как вчера у него произошло очередное – один Господь знает, которое по счету! – выяснение отношений с Кларой. Так сильно они еще никогда не ругались, и таких крепких выражений Русанов-старший еще никогда не слышал от своей любовницы. Клара назвала его бесполезным старым потаскуном, которому она бросила под ноги свою молодость и красоту, а он даже воспользоваться ими как следует не сумел. Сам состарился бобылем и ее иссушил, измучил, состарил. А ведь она уже не молода, ей уже тридцать! И что теперь с ней будет? Ни семьи, ни детей, ни карьеры теперь не сделать, потому что в театр потоком хлынули с открывшихся в городе театральных курсов стриженые наглые комсомолки, которые, может быть, и не имеют представления о секретах актерского мастерства, может, и бесталанны, однако за каждой стоит влиятельный покровитель: какой-нибудь уполномоченный, или секретарь, или начальник подотдела, а то и целого отдела. И глупые, бездарные девчонки легко получают самые завидные роли, ее же, блистательную Клару Черкизову, незаслуженно обходят. А стоит ей только попытаться поспорить, как ее начинают стращать Чекой… Конечно, многие из начальников очень даже заинтересованно поглядывают на нее, ведь она по-прежнему красива и еще молода, ей всего тридцать! Вот взять хотя бы товарища Кравченко, заместителя начальника городской милиции. Уж так влюблен, так влюблен! Чуть ли не в ногах валяется! Он, между прочим, вдовец и намекает на самые серьезные намерения. Обещал Кларе все, что она захочет, любые роли… Но Клара, как дура, хранит верность Константину Русанову, которому ее верность и даром не нужна! Он не способен оценить такой женщины, как Клара, всей глубины ее любви и преданности! И сам будет виноват, если она примет одно из тех предложений, которые ей со всех сторон делают самые влиятельные мужчины города…
Мучительная сцена закончилась, как всегда, слезами, и Русанов, как всегда, сбежал. Благо теперь появился удобный повод сбега́ть в самый разгар выяснения отношений под предлогом комендантского часа. И все же воспоминание о Кларином лице, залитом какими-то особенно отчаянными слезами, преследовало его. Константин Анатольевич вдруг ощутил, что у него появился совершенно законный, так сказать, способ утереть ее слезы…
Боже мой, как счастлива будет Клара! И как приятно, что спасительную мысль высказал сын! Правда, при виде возмущенного лица дочери настроение Русанова-старшего резко пошло на спад, тем паче что Саша разразилась такими же слезами, какими обливалась вчера Клара…
Боже мой, от всего этого можно сойти с ума! И Русанов едва не сошел, особенно когда Милка-Любка имела неосторожность сказать Саше:
– Ты разве святая, чтобы всех судить? Разве праведница, чтобы людям мешать быть счастливыми?
Что тут началось… Такого взрыва негодования Русанов от своей тихой и скромной дочери не ожидал. Даже не предполагал, что Саша – его Сашенька, барышня, выросшая под нежным присмотром Олимпиады Николаевны, нежная девочка – способна так кричать и браниться! Даже Оля проснулась и ударилась в плач. Только это и заставило Сашу притихнуть. Она убежала к дочери, а Русанов уставился в изумленные физиономии сына и снохи. Потом вдруг на лице Шурки появилось какое-то странное выражение. Он встал и отошел к окну, приподнял занавеску, поцарапал пальцем по стеклу…
Ну а Константин Анатольевич только плечами пожал. Разумеется, ему было неведомо, что Милка-Любка ненароком, случайно угодила не в бровь, а в глаз. И Шурка, увидев, что произошло с сестрой, сразу вспомнил ноябрь шестнадцатого года, поминки по убитому актеру Грачевскому, потерянное, голодное выражение на лице Саши – и черные, пьяные глаза Игоря Вознесенского, которые не отрывались от ее глаз. И как они потом оба исчезли куда-то, а вернулась Саша домой чуть ли не за полночь, и лицо у нее было… неописуемое было у нее лицо, и голос странно срывался. Она стояла у окна и водила пальцем по запотевшему стеклу, словно писала что-то. Тетя Оля тогда воскликнула, ничего не понимая: «Ты где была?» – «В раю», – ответила Саша и ушла к себе в комнату.
Тогда Шурка был молод и глуп, даром что считал себя великим сыщиком из-за того доверия, которым дарили его Смольников и Охтин, ничего он не понимал ни в любви, ни в женщинах, ну а теперь, после всего, что ему пришлось пережить, все-таки поумнел. Поэтому он понимал сестру и не судил ее. И, чтобы отвлечь отца от странного поведения Саши, стал говорить о том, что с Кларой нужно все решить завтра же, не следует тянуть с таким важным делом…
Смешно, конечно. Тянули уже который год – так что может изменить всего один день?
Смешно… Да ничего смешного! Именно один несчастный день все и изменил. Именно в тот день товарищ Кравченко оказался настойчивее, чем обычно. И Клара, помня, как позорно сбежал вчера от нее Константин Анатольевич, решила для себя: все! Она не Сольвейг, чтобы вечно смотреть в морские туманы в ожидании престарелого Пер Гюнта. Кукольный дом должен быть разрушен!
Да, Константин Анатольевич явился к разбитому корыту – квартира Клары была пуста. Зато в квартире товарища Кравченко появилась хозяйка, и не просто какая-то там случайная гостья, а законная жена – Кравченко и Клара немедленно зарегистрировались. Так закончился роман Константина Русанова и Клары Черкизовой – роман, который, казалось, будет длиться вечно.
Между прочим, Кларина жизнь сложилась очень удачно. Детей у нее, правда, не было (Саша иногда вспоминала, как еще в войну, стоя в госпитальном коридоре, Клара сдавленно жаловалась, как ей хочется иметь детей от Константина Русанова), но муж ее вскоре стал начальником городской милиции. Ему прочили повышение до областных масштабов, но до него Кравченко не дожил – мужу Клары посчастливилось угодить под случайную пулю как раз накануне того времени, когда вся энская милиция, как городская, так и областная, угодила под грандиозную чистку, обезглавившую почти все партийные и советские организации Энска. Выяснилось, что все руководство города и области было врагами народа, агентами мирового империализма, шпионами нескольких разведок враз. Бел и чист остался только покойный Кравченко, что явилось великим благом для Клары: избегнув клейма «жена врага народа», она получала за Кравченко отличную пенсию, держала за горло весь драматический театр и – наконец-то сбылась ее мечта! – выбирала себе те роли, какие хотела: сегодня играла Раневскую и Вассу Железнову, а завтра – Джульетту, Флореллу из «Учителя танцев» Лопе де Вега и юную комсомолку Наташу в пьесе Михаила Светлова «Двадцать лет спустя».
Русанов же так и жил одиноко. Кто его знает, может, и происходили у него случайные встречи с женщинами, однако они были не только случайными, но и тайными: все вечера и ночи он проводил с внучкой и дочкой дома. Когда Саша дежурила в госпитале, Константин Анатольевич читал Оле сказки, потом помогал ей готовить уроки, потом, когда она поступила в университет, – готовиться к семинарам и переписывать пропущенные лекции.
Шурка и Милка-Любка так и не съехали на другую квартиру. Но все-таки они умудрились устроить себе отдельное жилье: открыли давно заколоченную черную лестницу, выходящую в заброшенный садик, и через нее проходили в боковушку (там теперь находился Шуркин кабинет), в его бывшую комнатку (супружескую спальню) и бывшую комнатку Саши (теперь там была их гостиная, или, как говорят в Энске, зала). Так жили молодые Русановы. Собственно гостиная, кабинет Константина Анатольевича и большая комната покойной Олимпиады Николаевны остались за семейством Русановых-Аксаковых. Кухня теперь стала общая – коммунальная, как принято было выражаться. Впрочем, теперь в Энске почти и не было домов, где на кухнях имелся бы один хозяин…
По сути, Русановы жили совершенно отдельно друг от друга – как чужие, соседи. Даже праздники праздновали отдельно. И гостей принимали разных. Только Верин наведывался и к тем, и к другим – иной раз оптом, начиная с Шурки и его жены, а потом заходя к Константину Анатольевичу и Саше. Одно время у Саши во время его визитов руки от ужаса холодели: боялась, что Верин имеет на нее какие-то виды. Но он только глазами играл – синими, необычайно красивыми и дерзкими глазами, а ни речам, ни тем более рукам воли не давал. Постепенно Александра привыкла к нему и перестала бояться. Правда, в последнее время появились у нее кое-какие новые подозрения, но они были настолько пугающими, что Александра предпочитала не давать им воли. Лучше было, как курице, прятать голову под крыло, как страусу, зарывать ее в песок, только бы не думать о том, что будет, если Верин и правда…
Нет, нет! Не надо! Это страшно!
В тридцать третьем году Верин вдруг исчез. Тогда многие исчезали – именно что вдруг. Прошел слух, что он арестован. Однако Виктор Павлович объявился снова – сообщил, что был в Москве на курсах партработников, и стал с тех пор большой шишкой в облисполкоме. Говорили, он влиятельный человек. Однако этот влиятельный человек и палец о палец не ударил, когда в один ужасный день его старинного знакомца и, можно сказать, приятеля Александра Константиновича Русанова исключили, опять же вдруг, из партии, а потом арестовали. Впрочем, всякий, кто пытался слишком уж настойчиво заинтересоваться судьбой арестованного знакомого, рисковал очень скоро возобновить с ним знакомство – в местах не столь отдаленных. И, хоть Верин и ничем не помог Шурке, все же от Русановых (родственников врага народа) и Милки-Любки (жены означенного врага) он публично не отмежевался и навещал их, пусть и лишь потемну да изредка. А еще помог Милке-Любке отстоять знаменитую боковушку и оформить ее на себя в домоуправлении. В две же другие комнаты молодых Русановых чуть ли не на другой день после ареста Александра Константиновича заселили какого-то холостого партийного выдвиженца, который мигом поставил в квартире перегородку, устроил себе кухню в маленьком коридорчике, ведущем на черную лестницу, и никак с Русановыми-Аксаковыми не общался. Ну и слава богу, сильно он был кому-то из них нужен! Хватало и Милки-Любки, с которой теперь приходилось жить «одной семьей»!
Александра не сомневалась, что Любка мигом разведется с Шуркой, тем паче что Верин настаивал: Любке нужно срочно отречься от мужа и подать на развод, тогда она будет свободна от всяких претензий властей, а то того и гляди сама угодит под статью как «член семьи контрреволюционера». Но нет, ничего такого не произошло. Любка по целым дням простаивала в очередях, чтобы передать мужу продукты в тюрьму (и возвращалась в слезах, потому что принимали только чеснок), чтобы разузнать о его дальнейшей судьбе (Верин задавать такие вопросы остерегался), а потом подробно рассказывала о своих хождениях по мукам Константину Анатольевичу и Оле – когда у той было время послушать.
Как-то так вышло, что лед между Любкой и Константином Анатольевичем с Олей растаял очень быстро. Одна Александра дольше всех держала глухую оборону: ревновала дочь к «тете Любе», отца – к «Любаше», дичилась, никогда не ела того, что готовила Любка, благо во время дежурств перекусывала в госпитале (а когда была дома, то готовила себе сама). Женщины почти не разговаривали, по утрам, столкнувшись в коридоре или на кухне, обменивались лишь короткими неприязненными кивками.
И вот теперь вдруг Любка сама предлагает ей что-то рассказать!
Хлопнула дверь – Оля убежала. Александра нахмурилась: что за спешка? Даже не поцеловала мать перед уходом! Никогда такого не было в заводе. Все-таки общение с Любкой оказывает на Олю неблаготворное влияние…
Да разве только в Любке дело? Боже мой, в каком кругу вращается девочка! Раньше тех, с кем Оля теперь сидит рядом в университетских аудиториях, даже близко не подпустили бы к Большой Покровской улице! А нынче «новая советская молодежь» по выходным дням шестого, двенадцатого, восемнадцатого, двадцать четвертого и тридцатого числа каждого месяца, ведь воскресенья давным-давно «отменили» – валом валит по улице Свердлова (на манер прежней Покровки ее называют Свердловкой), осыпая ее семешной лузгой, горланя песни, оглашая округу ужасным энским простонародным заречным говором, ведя себя преувеличенно громогласно и развязно, то и дело сворачивая в многочисленные пивные, открытые на Свердловке тут и там, а иной раз заглядывает в «Первый гастроном»… (Ах, как блаженно помнились Александре его витрины, уставленные сладостями: шоколад «Жорж Борман», пьяная вишня, вафли-пралине и «лоби-тоби»… А его залы, благоухающие душным кофейным ароматом – «Мокко», «Аравийский», «Ливанский»… Вот именно!!!) А выходит оттуда отнюдь не с пакетиком унылых советских сладостей (ириски либо «подушечки», раньше их покупало только простонародье, а теперь всякий за счастье сочтет, если талоны на эту тоску тоскучую раздобудет), но с чекушкой водки, которую компания и разопьет за углом, ничуть не стыдясь стоящего неподалеку милиционера.
Эх, да что им в том милиционере?! Кто его боится, кто принимает всерьез, несмотря на его грубость и оловянные глаза? Вот городовых – тех все боялись, даром что они называли даже нарушителей и преступников «господами» и то и дело брали под козырек…
А впрочем, Александра что-то слишком углубилась в ненужные воспоминания. Давно пора перестать вспоминать «прежние времена», от этого только еще хуже на душе становится. Вообще жить не хочется, словно в гроб тебя заталкивают, в огромный гроб, где уже почти двадцать лет лежит целая страна – Россия…
Она покосилась на Любку, которая угрюмо возила тряпкой по плите, вытирая белые капли жидкого теста. Неряха несчастная. Сколько налила… Ну, что она там хотела рассказать? Молчит. Но не спрашивать же ее первой!
Александра допила чай и пошла в ванную. Колонка была уже горячая (хорошо, что Любка встала раньше!), и Саша с удовольствием постояла под душем (ах, как она любила горячий душ!), замочила кое-какое белье, чтобы потом постирать, и вернулась на кухню, плотнее завязав халат. Она надеялась, что Любка уже убралась в свою боковушку. Сейчас еще стакан чаю выпить – и можно собираться. Сегодня особенный день – такой печальный, но такой дорогой Александре…
Надо еще успеть в церковь зайти, свечки поставить. Жаль, что на Петропавловском кладбище храм закрыт. Куда бы пойти, чтобы поближе? Столько теперь храмов порушено да закрыто, просто беда!
– Ты правда не знаешь, куда Оля ушла?
Голос Любки словно бы ткнул между лопаток, заставил вздрогнуть. Александра обернулась с высокомерным выражением:
– Разумеется, нет. Знала бы – не спрашивала бы!
Любка кивнула и снова умолкла. Нет, вот же противная какая, чего душу тянет?!
– А ты знаешь? – не выдержала, унизилась-таки до вопроса Александра. – Ну так скажи, ты же обещала.
Любка вскинула глаза. То смотрела в пол, а теперь уставилась на Александру, и на лице ее снова мелькнуло то же странное выражение, что и прежде.
Да Боже мой, что же это? Жалость никак?!
– Сегодня комсомольцы будут сносить памятники на Петропавловском кладбище, – сказала тихо. – Там решено парк разбить. Сначала сломают памятники, потом могилы… – Она сглотнула, словно подавилась, и Александра еле расслышала слово «убирать». – А потом, в апреле, деревьев насадят. Сегодня начнут… от самой церкви, с восточной стороны.
Какие-то мгновения Александра смотрела на Любку неподвижно, не в силах взять в толк, о чем та говорит. Потом прижала руки к груди и тяжело села на стул:
– Памятники ломать? Могилы убирать? И… его могилу тоже?!
Любка резко отерла краем ладони глаза, внезапно заплывшие слезами.
О том, что Дмитрий собирается зайти на рю Дебюсси, милейшая теща уж точно не могла знать. Он даже Татьяне не говорил, что собирается туда. Он, если честно, туда вообще и не собирался! Ноги сами принесли.
Этот дом на небольшой улице Дебюсси, что неподалеку от Сен-Жермен, ничем особенным не отличался от своих соседей справа и слева. Высокие, глубоко утонувшие в нишах окна; внизу магазины или бистро; полосатые маркизы над окнами, стулья, выставленные на панель, вывески, хоть и не украшенные неоновыми светящимися трубками (это могли себе позволить только самые богатые владельцы, скажем, на бульваре Сен-Жермен, а здесь, на Дебюсси, публика толклась все же чуточку попроще), но привлекающие внимание: чайный салон, книжная лавка, кондитерская, обувная и шляпная мастерские, куафер… Ну и все такое. Между двумя магазинчиками: винным и дамского белья – синяя дверь с чугунной кованой решеткой, невзрачная табличка на русском языке: «Общество возвращения на родину». Рядом пришпилена картонка, на которой приписано от руки и почему-то по-французски: «3-me étage» – третий, мол, этаж.
Дмитрий прошел мимо двери, бросив на нее только один косой взгляд. Дошел до последнего дома (улица Дебюсси совсем коротенькая), постоял на углу, словно в праздной задумчивости, озирая вывески, а на самом деле – приглядываясь, не мелькнет ли где подозрительная фигура. Недавно случайно услышал обрывок разговора в РОВСе: по словам досужих собеседников выходило, что за дверью дома номер 12 присматривают шпионы как минимум трех враждующих сообществ – РОВСа, Монархического союза и младороссов Казем-Бека. Ну и советские тайные агенты, конечно, тоже пасут желающих воротиться в родные пенаты: каждую мало-мальски значимую в эмигрантских кругах фигуру на заметку берут. Дмитрий Аксаков был фигурой, строго говоря, никакой – подобных в Париже тысячи, идут за пятачок пучок в базарный день. И не советских агентов, разумеется, он опасался, только своего же брата, офицера-эмигранта. Не хотелось бы услышать в РОВСе какой-нибудь ехидный намек, вроде: «Уж не вздумали ли в перебежчики податься, штабс-капитан? В опасных местах шляетесь, берегитесь, как бы не сделаться среди своих парией! А то и пулю схлопочете от особых ревнителей!»
Дмитрий прекрасно знал лютую ненависть своих бывших «товарищей по оружию» к Советской России, да и сам, честно говоря, этой ненавистью еще не переболел. Штука вся в том, что для него с некоторых пор главным в сочетании двух слов стало слово «Россия», ну а многие как заклинились еще в семнадцатом на прилагательном «советская», так о существительном и думать не желали. А ведь именно по «существительному» они и тосковали до безумия, но не признавались в том ни себе, ни другим. Воинствующе не признавались!
Еще неизвестно, захотят ли его принять на родине-то, рассуждал Дмитрий, а замараешься среди своих так, что никакими силами не отмоешься. Он отлично помнил анонимку, которая два года назад наделала в РОВСе столько шуму. Строго говоря, история была совершенно конфиденциальная, потому что касалась лица руководящего, однако выползла-таки из кулуаров!
Тем лицом, до которого касалась анонимка, был не кто иной, как Николай Владимирович Скоблин, начальник контрразведки РОВСа. На него поступил донос: Скоблин является сексотом ОГПУ, он выдал Москве семнадцать внедренных в СССР агентов и одиннадцать явочных квартир.
Это была настолько ужасная и невероятная анонимка, что ей никто не поверил. Будь на то воля генерала Миллера, он скрыл бы ее от товарищей по РОВСу, однако слухи все же просочились. Был устроен закрытый суд чести. Бледный от ярости Скоблин все отрицал и требовал хоть одного доказательства обвинений. Доказательств не было: просто перечень фактов.
– Господа, прошу всех выйти и оставить мне заряженный револьвер, – наконец сказал Николай Владимирович, напряженно глядя в глаза Миллеру.
Генерал не выдержал его взгляда. Не выдержал того, что вынужден голословно обвинять не просто товарища, но друга. Суд чести признал анонимку клеветнической, но… тем не менее ее тень прервала карьеру Скоблина в контрразведке РОВСа.
Впрочем, генерал продолжал исполнять свой долг – вел работу с агентами, готовыми к работе в СССР, встречался с осведомителями – РОВС имел их в посольствах Советской России и Германии. Отделался, как злословили недоброжелатели (у всех есть недоброжелатели, были они и у генерала Скоблина), легким испугом. Конечно, Дмитрий Аксаков и Николай Скоблин – величины несоизмеримые, однако суд чести – это вам не фунт изюму… А такой суд ожидает всякого, кто осмелился бы, тайно или явно, войти в дверь дома номер 12 по улице Дебюсси или даже просто задержаться напротив сего дома.
Дмитрий счел, что береженого Бог бережет. Один раз пройти по улице – это можно объяснить какой-то случайностью, в конце концов, его мог привести сюда обычный житейский интерес… К чему? К фотографическому ателье? К оценщику старинной мебели? К шляпнику? Нет! Его мог привести сюда интерес к флористу, чья маленькая лавочка на все четыре стороны испускала прелестные ароматы. Он зайдет в лавочку, спросит какое-нибудь невероятное растение – аргентинскую ваниль, или уругвайский шиповник, или еще что-нибудь, чего в простенькой лавчонке заведомо быть не может, повергнет владельца в столбняк своими ботаническими познаниями (а как же, поднаторел благодаря Рите!) и уйдет. И если за ним кто-то следит и захочет проверить, на кой черт шлялся штабс-капитан Аксаков в непосредственной близости от подозрительного дома, он может задать вопрос флористу. И удостоверится в алиби вышеназванного штабс-капитана.
Дмитрий обогнул серый «Опель», неудобно припаркованный сбоку цветочной лавки, и вошел в нее.
В лавке, разумеется, не сыскать было ни ванили, ни шиповника (там все больше азалии да цикламены продавались, причем невероятных, изысканных оттенков), однако сам флорист оказался очень непрост. Посоветовал за столь экзотическими растениями съездить в «Jardin des platanes», а глазом так и ел странного посетителя. Дмитрий потом, уже уйдя и поворачивая за угол, нарочно обернулся: флорист стоял на пороге лавочки и смотрел ему вслед, смешно вытягивая шею, очень похожий в своем обтерханном пиджачке и брюках гольф на тощего чибиса.
Дмитрий ушел с чувством, что задуманное алиби оказалось не очень удачным… Или на воре шапка горит? В том смысле, что, очень может быть, флорист принял его за вора, который задумал ограбить его убогую цветочную, да уловку придумал весьма неудачную? А, ладно, за кого угодно пусть принимает, только не за русского офицера, задумавшего стать перебежчиком.
С тех пор Дмитрий на рю Дебюсси ни ногой не ступал, дома о прогулке в той стороне словом не обмолвился. Тогда что ж получается? Лидии неоткуда было о ней знать! Но она знала… Или впрямь прозрела своим талантом, в который Дмитрий не верил?
С другой стороны, может быть, Таня проговорилась матери, что муж раза два бывал на собраниях младороссов?
Сначала Дмитрий думал, что у них просто сборища и треп «под лозунгом русского борща», но, оказалось, нет. Странная это была партия – первая, которая родилась в эмиграции и, как выражался глава ее Александр Казем-Бек, первая повернулась «лицом к России». Лицом, а не задом, как стояла вся эмиграция, считавшая, что с ней из России ушла соль земли и что «там» просто ничего уже нет. Разумеется, младороссам в офицерском союзе сильно мыли кости, мол, дурость у них, мода, ерунда, однако нельзя отрицать, что они монархисты, глубоко преданные идее единой, великой России. Дмитрий своими ушами слышал, как сам Миллер однажды сказал: «Да, да, думаю, даже уверен, что будет момент, когда по Москве проскачет белый конь, и вот если мы, неважно кто – РОВС, младороссы, монархисты, кто-то еще, – успеем в тот момент посадить на него русского царя, то и будет в России снова царь. Но это будет одно мгновенье, и если мы пропустим его, тогда – конец навсегда!»
Фраза стала как бы индульгенцией для всех, кто пытался найти родственные души среди младороссов, и поэтому тем, кто туда хаживал, никакой суд офицерской чести или обвинения в предательстве не грозили. Ну, фырканье раздавалось, так то ж ерунда, подумаешь, фырканье…
Но штаб-квартира младороссов находилась отнюдь не на рю Дебюсси! А Лидия Николаевна сказала… Точность ее слов поразила Дмитрия.
Разумеется, воротясь домой с собрания, он не преминул спросить у тещи, был ли у нее «в салоне» – Лидия Николаевна предпочитала светскую терминологию – человек по имени Шадькович, хорошо одетый альбинос. Теща передернула худыми плечами (с возрастом – ей недавно исполнилось пятьдесят семь – она отнюдь не раздалась, как следовало бы почтенной матроне, а, напротив, очень похудела… с другой стороны, в Париже теперь все дамы знай худели, точно с цепи сорвались: одни – голодая от недостаточности средств, другие – голодая от их переизбытка и следуя моде) и презрительно выразилась в том смысле, что она-де не ажан какой-нибудь, не полицейский, чтобы спрашивать удостоверение личности у подозрительных незнакомцев. Тем паче что белобрысый господин в добротном костюме ей ничуть не показался подозрительным. Душа у него была не на месте, и крепко озабочен он оказался будущим. Ну, Лидия и попыталась его относительно этого будущего просветить, как насчет ближайшего, так и насчет дальнего, а уж сбылись предсказания или нет, она даже думать не станет, потому что доподлинно знает: сбылись!
– А все же? – настаивал Дмитрий. – Что именно вы ему предсказали?
– Вам зачем? – глянула исподлобья Лидия Николаевна. – Поиздеваться в очередной раз вздумали? И вообще, откуда вам известно, что сей господин у меня был? Вы с ним знакомы? Или… – Тут она возмущенно раздула ноздри. – Неужели вы сами его ко мне и подослали, для проверки? А потом следовали за ним и выясняли, сбылись или не сбылись мои предсказания? Ну, знаете, Дмитрий Дмитриевич! Это уже выходит за всякие рамки!
Дмитрий мысленно хохотнул. Татьяна всегда говорила ему, что они с Лидией Николаевной – два сапога пара, очень друг с другом схожи, несмотря на то что терпеть друг друга не могут. Что ж, очень возможно, что и сапоги, правый и левый, не могут терпеть друг друга, только их ведь никто не спрашивает, как они друг к другу относятся, а что они вечно пялятся друг на друга, так это еще ничего не значит!
– Глупости какие, – постарался он пожать плечами с таким же пренебрежением. – Вечно у вас какие-то инсинуации в мой адрес… На самом деле я просто-напросто проходил мимо вашего салона и видел, как означенный господин с вожделением таращился на вывеску, а потом надавил на кнопку звонка. Велико было искушение остановить его и разъяснить, что стыдно в наш бурный и, не побоюсь этого слова, чрезмерно просвещенный век быть столь суеверным и доверчивым, однако я счел подобное поведение непорядочным по отношению к вам. К тому ж в ту минуту вы ему отворили и впустили его, так сказать, в святилище. Я мысленно пожелал этому господину удачи и отправился своим путем. И все же ответьте, что вы ему напророчили?
Лидия Николаевна вновь передернула плечами:
– Ах, как вы надоели мне, Дмитрий Дмитриевич, кабы вы знали! Ну, извольте, извольте: я посулила, что он сперва подвергнется смертельной опасности, но избегнет ее, потом ему выпадет возможность разбогатеть, но он отвергнет ее, вслед за этим он встретит человека, который страдает тем же недугом, что и у него, и они совместно обретут лечение и успокоение. И чрез это моему посетителю откроется путь туда, куда стремится его сердце.
– Интересно, кто же способен отвергнуть возможность разбогатеть? – пробурчал Дмитрий, маскируя своей фразой волнение.
– Вы, само собой, не отвергнете! – усмехнулась теща. – И правильно сделаете, потому что в клетке опять появились жильцы!
Клетка осталась от прежних хозяев квартиры. Когда семь лет назад ударил кризис и состояние Ле Буа, которые пусть сквозь зубы, но поддерживали русских родственников (о, la famille, семья! Для французов – это все! Они себе отказывать станут, но членам своей famille помогут, чем могут), резко уменьшилось, едва не сойдя на полное и окончательное ze€ro, семейству Шатиловых-Аксаковых пришлось съехать из очень приличной четырехкомнатной квартиры в плохонькую и тесненькую двухкомнатную, причем не в привычном Пасси, где обычно селились эмигранты (на Пассях, как называли этот арондисман, район, остряки-младороссы), а близ мрачновато-богемного Монмартра, на авеню Трюдан. Конечно, в пригороде можно было устроиться еще дешевле, но где взять лишние франки на пригородный поезд? Квартирка была пуста, ее еще предстояло меблировать, висели только щипцы на крюке около камина, а вместо люстры на потолке – невероятной красоты птичья клетка, которую с первого взгляда можно было принять за плетеный затейливый абажур. Натурально, ее сняли, но выбросить не выбросили – повесили в углу. Как-то раз Татьяна сунула туда счет за квартиру, потом за электричество… с тех пор повелось: неоплаченные счета «селились» в клетке и порой задерживались там надолго, жильцам иногда становилось даже тесно, столько их там накапливалось…
– Кстати, о жильцах, – сказала Лидия Николаевна. – Вернее, о возможности разбогатеть. Я прочла в «Le Monde» объявление о том, что на кинофабрике «Ciné-France» требуются фигуранты с благородной внешностью. Клянусь, там так и было написано: «avec l’apparence noble»! Видимо, опять ставят какую-нибудь историческую cinéma!
– Предлагаете тряхнуть стариной? – Дмитрий покосился в зеркало. Да, его l’apparence по-прежнему noble, что да, то да. В статисты, или, как здесь говорят, les figurants, он вполне годится. И принимать выигрышные позы перед камерой еще не разучился, и занятие довольно приятное, довольно щедро оплачиваемое. Это вам не вагоны разгружать! Это вам не рынок подметать после ухода продавцов, изредка косясь на горы вынесенного ordure, мусора, в которых немедленно начинают рыться клошары, и призывать на помощь всю свою гордость русского офицера, чтобы не подобрать выкатившееся из этих самых ордюров вполне хорошее яблоко, разве что самую чуточку, с одного бочка, тронутое гнильцой, или увесистую «попку» ветчины, повисшую на прокопченной, вкусно пахнущей веревочке, которая и сама по себе – хорошая основа для наваристого супа! Дмитрий немедля прогнал из памяти неприятные воспоминания – да, бывало раз или два, когда гордость русского офицера приходилось-таки спрятать в пустой, прохудившийся карман… Право, нацепить пудреный парик или треуголку и изобразить перед камерой благородного воина времен Людовика или Наполеона куда приятней.
Хорошая новость – насчет кинофабрики, надо бы встрепенуться душой. Однако он с трудом подавлял досаду: в кои-то веки решился поговорить с Лидией Николаевной о ее деле, так нет же, она увиливает. Как нарочно!
А может, и впрямь нарочно? Сколько раз зять беспощадно и довольно жестоко высмеивал ее, доводя чуть ли не до слез.
«Чуть ли не до», вот именно. Дмитрий вдруг подумал, что ни разу за тринадцать лет не видел свою высокомерную тещу плачущей. Она очень сильная женщина, эта особа, которая некогда сыграла роковую роль в его жизни. После революции бежала с семьей в Самару, потом эвакуировалась вместе с детьми на Дальний Восток, по пути похоронив мужа на безвестном сибирском полустанке, спаслась в Харбине, где погиб сын от рук китайцев, а Лидия Николаевна смогла каким-то чудом списаться с сестрой в Париже, получила вызов на себя и на Татьяну, пытается прижиться здесь, не сидит ни на чьей шее, а он, зятюшка богоданный, который тещу терпеть не может, только и знает, что язвит ее и презирает.
«Что за запоздалое самобичевание? – нарочно ухмыльнулся Дмитрий. – Ее можно уважать, точно, но меня она Туманскому в четырнадцатом году просто-напросто продала, нас вместе с Сашей продала, другого слова не подберешь. Кто раз предал, предаст и снова, как писал Шекспир. Хотя нет, у него, кажется, кто раз убил, убьет и снова… Да не суть важно! Я чую, как говорил когда-то мой фельдфебель Назар Донцов, нутром чую, что от нее можно ждать чего угодно, какой угодно подлости… Причем она будет убеждена, что намерения у нее самые благие! Вот именно – благие для нее! А ее благими намерениями вымощена дорога в ад для меня. Не будь она Таниной матерью, я бы при виде ее на другую сторону улицы переходил, не то чтобы в разговоры досужие с ней пускаться! Кто раз предал…»
– Вы меня ненавидите, несмотря на то, что со времен той старинной истории прошло больше двадцати лет, – вдруг проговорила Лидия Николаевна, тем самым подтвердив, что если она и не обладает сверхъестественными способностями по чтению чужих мыслей, то, во всяком случае, весьма проницательна. – Вам не хочется верить мне, но вы все же поверьте. Тот человек, ну, альбинос, вами упомянутый, будет вам самым верным другом. Только у него найдете вы понимание со всеми вашими бедами и проблемами, которые вскоре на вас обрушатся. Только он поможет решить вопросы, которые покажутся вам неразрешимыми. Я докажу, что говорю правду! – вспылила вдруг Лидия Николаевна, заметив промельк иронии в глазах Дмитрия. – И если я советую вам что-то, к моим словам следует прислушаться. Я докажу! Да вы и сами убедитесь. Вот слушайте! Завтра… – Она запнулась, прикусила, как бы в нерешительности, губу, но все же договорила: – Завтра, возвращаясь из Биянкура с кинофабрики, вы встретите человека из своего прошлого.
Дмитрий, ей-же-ей, был настроен на почтительное восприятие пророчества. Однако, услышав такое, просто не смог сдержать презрительной ухмылки:
– Лидия Николаевна, помилосердствуйте! Во-первых, держу пари, что на кинофабрику явится как минимум пяток знакомых мне господ офицеров – все, как на подбор, les hommes avec l’apparence noble, мужчины с благородной внешностью, – и они определенно из моего прошлого…
– Я сказала – возвращаясь с кинофабрики, – уточнила теща. – Только не оскорбляйте меня домыслами о том, что тем человеком окажется наш буланже[9] – вы, мол, были в его лавке позавчера, а это уже можно считать прошлым. И тем человеком не будет также прелестная мадам Жакоб, которая вам так старательно строит глазки и которую вы утром (о, ведь тоже прошлое!), не сдержавшись, ущипнули-таки за бочок, о чем немедленно был оповещен весь дом. Нет, тот человек воистину из прошлого! Война… выстрелы… немецкая речь… – пробормотала она вдруг, причем глаза у нее сделались затуманенные, точно у сомнамбулы. – Вы причинили ему страшное зло, однако через него он обрел свое счастье. Он не узнает вас, однако вы узнаете его с первого взгляда, ибо люди навсегда запоминают жертв своего злодейства.
И она торопливо вышла из комнаты, словно непременно желая оставить последнее слово за собой.
Дмитрий пожал плечами. Как там говорил Назар Донцов – нутром чую? Да! Ну ничего, завтра все выяснится.
– Что?! Миллион?!
– Да, миллион долларов.
Александр Русанов попытался отвернуть лицо от слепящего света настольной лампы, придвинутой к нему, и заглянуть в глаза следователя. Все еще кажется, что это какая-то шутка. Наверняка глаза следователя смеются. Наверняка он сам понимает всю нелепость своих слов.
– Я такую сумму даже представить себе не могу.
– Можете, можете. Вы их в руках держали. Тут никакого воображения тратить не нужно.
– И… куда я их дел, по-вашему?
– Об этом вы нам и должны рассказать. Я уверен, потратили на организацию преступной шпионской сети, на подготовку диверсий. Именно для того вам и передали деньги ваши заокеанские хозяева. И вы должны нам во всем признаться, Александр Константинович.
– Слушайте, а вы уверены, что ничего не путаете? Миллион долларов в Энске? Да что с ними тут делать? Их ведь никогда в жизни и на рубли-то не обменяешь. По-моему, это абсурд какой-то. Вам так не кажется?
Следователь вскочил так резко, что Русанов отпрянул.
– Вста-ать! – раздался крик.
Александр поднялся, свесив руки вдоль тела.
– Если тебе что-то кажется, ты перекрестись! Понял? – крикнул следователь. – А у меня достоверные сведения. И вот еще что: здесь вопросы задаю я. Я! А ты должен отвечать!
Русанов вздохнул.
Отвечать – что? На что? Ну невозможно же, в самом деле, воспринять всерьез утверждение о том, что он, Шурка, продал разведке США какие-то изобретения (что, ради всего святого, может изобрести журналист областной газеты!), да еще за миллион долларов… Что тут можно ответить?
Следователь сел и снова направил лампу в лицо стоящему перед ним Русанову:
– Подтверждаешь, что ты планировал убийство Сталина во время демонстрации Первого мая?
Русанов изумленно поднял глаза и уставился прямо в огненный сгусток света:
– Вы это как себе представляете? Я в Энске, а Иосиф Виссарионович как-никак…
– Вы планировали поездку в Москву на первомайские праздники, – сухим, казенным голосом ответил сгусток огня.
– С чего вы взяли?
– У нас неопровержимые сведения.
– Вот уж нелепость! Даже если бы я оказался в Москве, то как я мог совершить такое преступление? Да ну, чепуха.
Больше всего на свете ему хотелось рассмеяться. Но мешала нервная дрожь. Нет, это не шутки, это серьезно. Это страшно.
Почему он думал, что с ним этого никогда не случится? С тех пор, как парторганизация Союза журналистов выразила бывшему редактору, а ныне ведущему репортеру «Энской правды» политическое недоверие за недостоверное освещение в печати хода строительства новой очереди автозавода, можно было каждый день ждать самого страшного. Он не спал ночами, прислушивался к любому шороху на лестничной площадке, а днем не в силах был оставаться дома и, словно пытаясь избежать неизбежного, целый день как проклятый мотался по улицам, каменея при встречах со знакомыми. Впрочем, они при встречах переходили на другую сторону. Русанов никого не осуждал. Сколько раз и он шарахался, как черт от ладана, от возможных «врагов народа»! А вот теперь сам вступил в незримый «порочный круг» людей, общение с которыми может оказаться гибельным.
Украдкой от жены Александр собрал вещи в маленький чемоданчик, чтобы быть готовым ко всему. И уверял себя, что достойно встретит все, что уготовил ему Господь… И не почуял ничего недоброго, когда его внезапным звонком пригласили зайти в редакцию «Энской правды».
Когда-то он работал в этой газете репортером. Правда, тогда она называлась «Энский листок». Когда-то он возглавлял эту газету. Правда, тогда она называлась «Энский рабоче-крестьянский листок». После двадцать шестого года, когда в стране окончательно завершились относительно либеральные, более или менее «вегетарианские» времена, Русанов был от работы в газете «Энская правда» отстранен – за либерализм и халатность в работе с авторами. Как сказал старый друг и старый враг Виктор Павлович Верин, увольнение должно было его вразумить.
Не вразумило. Надо было вообще покончить с журналистикой, а он, идиот, чувствовал себя полумертвым, если не держал в руках перо. Когда-то, на заре туманной юности, у него даже псевдоним был такой – «Перо»…
А впрочем, у них у всех был этот псевдоним – у всех репортеров «Листка». Но Шурка Русанов был самое лучшее, самое блестящее Перо, это признавал сам Иван Никодимович Тараканов, царство ему небесное…
В приемной редактора – бывшей приемной Тараканова, бывшей приемной Русанова – его ждали двое. И при виде их Александр мгновенно вспомнил, что перед зданием редакции видел приткнувшийся к обочине «черный ворон».
Дурак, зачем пришел? Не нужно было! Мог бы… Мог бы что? Убежать? Да нет, уже не убежишь, уже все…
Бежать глупо, нужно попытаться убедить их в собственной невиновности, решил он тогда, но немедленно понял, что его уже без суда и следствия записали во враги народа. Прокурор, которого Русанов попросил отвезти его домой не в «воронке», чтобы не позорить перед соседями, а на такси, гневно вскричал:
– Для врагов народа у нас спецтранспорт!
Но и после обыска, во время которого даже землю из цветочных горшков вывернули, не говоря уже о вспоротых подушках и книжках с вырванными переплетами, даже и потом, когда Русанова привезли переночевать в камеру предварительного заключения на Свердловке, а потом повезли по Арзамасскому шоссе в тюрьму, он надеялся, что сумеет логикой и правдивостью разбить любое возводимое на него обвинение. Но услышать такое… Покушение на Сталина! Безумие! Чепуха!
– О нет, это не чепуха, – неожиданно мягким голосом проговорил следователь. – Отнюдь! Ваши сообщники выдали вас. Вы намерены были пройти в колонне…
– А как бы я туда попал? – перебил Русанов.
– Что? – озадаченно спросил следователь.
– Как бы я туда попал, интересно? Это ведь Москва, а не наш несчастный Энск, где в колонну всякий и каждый может шагнуть с тротуара. В Москве участвовать в демонстрации имеют право только москвичи. Причем не все подряд, а избранные от крупных заводов и организаций. Проникнуть посторонним в ряды демонстрантов невозможно, ведь в каждой колонне находятся ответственные за свою шеренгу, и они строго следят за всеми, особенно при выходе на Красную площадь, чужакам тут просто невозможно оказаться. Ну а если гости из глубинки получают приглашение, то им отводится место на гостевых трибунах, а они очень далеко от правительственной трибуны.
– Вот вы себя и выдали! – вскричал следователь. – Откуда у вас такая подробная информация? Вы готовились к покушению, собирали информацию, оплачивали ее…
«Ага, оплачивал. Из того мифического миллиона долларов», – горько усмехнулся Русанов. Возразил спокойно:
– Я читал газеты. Если я ничего не путаю, накануне прошлогоднего ноябрьского парада в центральной прессе была опубликована статья о мерах, предпринятых для усиления безопасности членов правительства и участников демонстраций. Странно, что вы не читали.
Следователь сделал вид, что не слышит, и знай гнул свое:
– У меня есть совершенно точные данные, которые свидетельствуют: вы намерены были вклиниться в одну из праздничных первомайских колонн по подложным документам, которые вам должны были обеспечить ваши московские сообщники.
– Чушь какая! – воскликнул Русанов. – Нет у меня никаких сообщников в Москве.
– А где есть? Только в Энске? Назовите их имена!
– Мне нечего вам сказать. Никаких сообщников у меня нет.
– Хорошо, мы еще вернемся к данному вопросу. А пока – относительно демонстрации и покушения на товарища Сталина. Итак, у вас была возможность оказаться в составе шеренги. Вот вы предательски идете по Красной площади, проходите мимо Мавзолея Ленина и…
Следователь выжидательно умолк.
Русанов тоже молчал.
– Ну, сволочь… – прошипел следователь, делая такое движение, словно собрался засучить рукава.
«Неужели будет бить? – подумал Русанов, уставившись на его руки. – Неужели рассказы, что на допросах бьют смертным боем, правда?»
Но следователь продолжал сидеть, только брови хмурил вовсе уж свирепо.
– Ну?! – В его голосе зазвучали грозные нотки.
– Что вам угодно? – устало спросил Русанов.
– Вы должны рассказать, что вы собирались сделать.
– Ну и что бы я мог сделать, интересно? – огрызнулся Русанов, злясь даже не на него, а на себя – за приступ унизительного страха. – Каким образом можно совершить покушение, идя по Красной площади? Из пистолета стрелять? Как вы такое себе представляете? Во-первых, человека с пистолетом немедленно обезоружили бы идущие рядом…
– Рядом должны были идти ваши сообщники, которые прикрыли бы вас, – подсказал следователь. – Прикрыли и обеспечили возможность стрелять в нашего вождя.
– Ах вот оно что! Но ведь дальнобойных пистолетов не существует в природе. В любом случае на таком расстоянии даже снайпер промахнулся бы, а я вообще стрелял только из дробовика по чиркам, да и то в трех случаях из четырех мимо.
– Это притворство, – сообщил следователь. – Вы нарочно скрывали свое умение. Кроме того, вы не собирались стрелять прямо из колонны, вы планировали выбежать из нее, когда приблизились бы к Мавзолею.
– А оцепление? – почти выкрикнул Русанов. – А агенты госбезопасности? А милиция? Да мне бы и шагу не дали шагнуть! О господи, да хватит глупости выдумывать!
– «О господи»? – медленно повторил следователь. – При чем тут Бог? Вы не в церкви, Русанов. И сейчас вам предстоит в этом убедиться. Только сначала подпишите вот это.
– Что это? – спросил Русанов, не спеша протянуть руку и взять исписанные мелким почерком листки.
– Ваше признание.
– Я ни в чем не признался. Мне не в чем признаваться. Я ничего не подпишу.
– Упорствуете? – неожиданно тонким, как бы обиженным голосом спросил следователь. – Ну, как хотите. Гнилая интеллигенция! Правильно товарищ Ленин вас наименовал.
– Меня? – поразился Русанов.
– Вас и вам подобных! Но ваши либеральные штучки здесь не пройдут!
И следователь неожиданно погрозил указательным пальцем с обгрызенным до мяса ногтем. Палец был совершенно по-гимназически измазан фиолетовыми чернилами. Затем положил допросные листы в папку, убрал ее в ящик стола, повернулся к окну и стал молча в него смотреть. Русанов стоял и ждал, что будет дальше. Прошло несколько тягостных минут.











