Читать онлайн Секция плавания для пьющих в одиночестве
- Автор: Саша Карин
- Жанр: Социальная фантастика
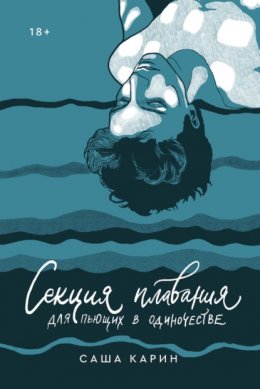
© Саша Карин, 2020
© Издание, оформление. Popcorn Books, 2020
© Вика Командина, иллюстрация на обложке, 2020
1/
Одинокие места
В Москве, в Крылатском районе, есть один укромный уголок, будто пришитый к миру грубой нитью. Под Крылатским мостом со стороны Филевской набережной, где у полей для гольфа Москва-река делает крутой поворот, начинается неприметная Островная улица. Зажатая между рекой и гребными каналами, она огибает Крылатский полуостров, протягивает отросток-тупик к запустелому комбинату детского питания и к спортбазе для гребцов. По Островной улице изредка ходит единственный маршрутный автобус, почти всегда полупустой. Весной и летом можно увидеть припаркованные кое-где автомобили спортсменов или гостей гольф-клуба; в остальное же время, поздней осенью и зимой, Островная улица с большой долей вероятности превращается в постапокалиптическую декорацию для малобюджетного фильма ужасов.
2016, осень
Это был первый день последнего месяца осени, бесцветный и по-московски пропахший водкой. На берегу сидел молодой человек и наблюдал безлюдный пейзаж Мнёвнической поймы. Он знал, что по ту сторону реки, где в заболоченной пустоши возвышались подъемные краны, у вдающейся в воду узкой полосы, поросшей плакучими ивами, находится одно из самых больших и старых подводных кладбищ Москвы. Там была похоронена его мать.
Ему не нравился тот берег. Минуты особенной тоски он привык проводить на стороне Островной улицы, откуда воды над кладбищем видны как на ладони, но все же были от него достаточно далеки.
Сидел он, собравшись в комок, на вымокшем обрывке газеты Metro, которую в переходе ему всучила тучная пожилая женщина. Рядом на земле лежала завернутая в пакет бутылка портвейна. Вокруг было уныло и тихо. Серое небо по оттенку ничуть не уступало воде; полудвижение реки и полная неподвижность кустов на другом берегу шептали молодому человеку о том, что время уходит. Он дрожал, хотя одет был в пуховую парку, а день стоял довольно теплый. Прижав острый подбородок к коленям, нервно курил и смотрел на другой берег.
У молодого человека было, конечно, имя. Мать, сознательно или нет, назвала его в честь знаменитого якобинца. Марату имя нравилось, но не целиком, поэтому он предпочитал, чтобы его произносили на французский манер – Мара́.
Кажется, никогда еще Мара не ощущал себя таким одиноким. Он подумал, что на этот раз у него действительно может получиться. Во всяком случае, он давно для себя все решил. У него не было никаких планов на будущее, так что едва ли кто-то осмелился бы его осудить.
Мару возбуждала мысль, что жизнь его может кончиться здесь, на берегу реки, хотя место по большому счету было ни при чем, оно всего лишь давало слабый толчок чему-то давно уже в нем зревшему.
Мара склонился над пакетом. Бутылка портвейна была наполовину пуста. Сейчас ему так сильно захотелось бросить бутылку в воду – возможно, для того чтобы сосуд навсегда воссоединился с жидкостью, – но в последний момент что-то его остановило. Почему-то Мара подумал, что не сдержится и заплачет. Подул ветер, безнадежный, как вой глухонемого, и пепел, сорвавшийся с кончика сигареты, обжег подбородок. Мара затушил сигарету и не заплакал.
Он неуверенно спустился к воде. Угрюмо свисали по бокам карманы пуховика, набитые камнями и мелкой бетонной крошкой. В водной ряби ему померещились печальные глаза Вирджинии Вулф, обугленные тела летчиков-камикадзе времен Второй мировой и бледные лица суицидальных подростков из депрессивных пабликов (дети трупного возраста – от тринадцати до семнадцати). Но по-настоящему отражались в воде только синие круги его глазниц, острые углы скул, правильный треугольник носа; гармонию геометрических фигур нарушали все же непослушные, давно не стриженные темные волосы, торчавшие из-под бесформенной вязаной шапки, и распухшие на морозе губы, похожие на двух сцепившихся слизней. В этом отражении, как ему показалось, он не был похож на себя самого, и это немного пугало. Было неприятно думать, что, когда его найдут, выловят или поднимут со дна, ничего в нем от прежнего Мары не останется. По крайней мере, будет он уже некрасив, тина облепит его лицо, а ко лбу – так он почему-то представил – прилипнет использованный презерватив.
Вода в Москве-реке была, как всегда, спокойна. Она неохотно впускала в себя отражение человека. Человек был ей не нужен. Люди, подумал Мара, не созданы для воды.
Вода, пожалуй, создана для осьминогов, устриц и мусора. В Москве-реке, если верить слухам, есть всего понемногу. А слухи ходили не просто так. До две тысячи второго года Крылатский пищекомбинат на Островной улице (стоит Маре обернуться, и он увидит это непримечательное здание) занимался в основном выпуском продуктов детского питания: яблочного пюре, сокосодержащих напитков, а также зефира, пастилы и мармелада. Однако предприятие прекратило это направление из-за убыточности производства и сменило профиль, сфокусировавшись на изготовлении модной в начале двухтысячных продукции: рыбных полуфабрикатов, суши и роллов, поставляемых в супермаркеты одной известной сети. Отходы нередко попадали в реку: рыбьи головы, плавники, хвосты, внутренности. Иногда с конвейера удавалось улизнуть сырым и вполне живым осьминогам. Так, если, конечно, верить слухам, в Москве-реке поселились экзотические гады, взращенные и мутировавшие на промышленных отходах, сигаретном пепле и креме для загара посетителей городских пляжей. Живут ли московские осьминоги семьями или держатся поодиночке – история умалчивает. Вскоре пищекомбинат закрылся, и его владельцам, чтобы избежать банкротства, пришлось заняться сдачей в аренду собственных производственных помещений.
За двадцать лет жизни Мара, родившийся в Москве, ни разу не видел живого осьминога даже в зоопарке, не то что в Москве-реке. И хотя Мару с детства тянуло к воде, к ее вечному неподвижному движению, его никогда не привлекало изучение морских и речных глубин. Сколько себя помнит, Мара рисовал. Он какое-то время всерьез считал себя художником…
Мара заставил себя оторвать взгляд от воды и достал из кармана телефон. Он вдруг решил, что стоило бы напоследок кому-то написать, с кем-то попрощаться. Это, конечно, был самообман, чтобы потянуть время. Он мог бы оставить одну из тех пошловатых предсмертных записок, но не позаботился об этом заранее, и бумаги при нем не было. Пока Мара думал, кому бы отправить последнее сообщение, глухое чувство чуть отступило. Он даже не услышал всплеска реки: это его бутылка портвейна скатилась в воду и, медленно кружась, поплыла по течению.
Почему-то ему захотелось написать человеку малознакомому, выбранному наугад из списка друзей в социальной сети. Ведь друзья из социальной сети – по крайней мере в своем большинстве – друзья ненастоящие, можно сказать, вымышленные. А в этот момент Мара был согласен на любое унижение; теперь все что угодно, только не оставаться одному. Виной тому был выпитый портвейн, который, несмотря на холод, еще не хотел его отпускать, или полудвижение Москвы-реки, или полная неподвижность кустов на берегу острова Нижние Мнёвники… В общем, это должно было стать его последней пьяной слабостью. Так он действительно думал.
Мара начал писать. И дал себе слово, что, как только отправит сообщение, тогда уже наверняка разлогинится отовсюду и пойдет в воду, чтобы ничего после себя не оставить.
Из окон медицинского корпуса открывался скупой вид на внутренний двор санатория. Пожухший газон, вытоптанный у углов выложенных плитами дорожек, редкие декоративные сосны перед крыльцом столовой, неровно подкрашенные скамейки под деревьями, крыша беседки, выглядывавшая из-за парковки для персонала, тоскливая альпийская горка на берегу искусственного озерца… Пейзаж, совершенно типичный для оздоровительных мест строгого режима и, по мнению специалистов, предотвращающий риск суицидальных намерений у пациентов.
Стремительно темнело, накрапывал дождь. Ветра, казалось, не было. По небу цвета глаз слепой собаки, сбившись в шумную тучу, пронеслась стая ворон. Внезапно в безлюдное спокойствие внутреннего двора вторглась женщина в санитарной униформе. Она появилась из-за приоткрытой двери столовой, негромко охнула и, прикрывшись от дождя сложенной пополам газетой, начала быстро спускаться по ступеням.
Девушка, лежавшая в чугунной ванне на первом этаже медицинского корпуса, без особого интереса следила за движением женщины в санитарной форме. Для нее она была всего лишь плывущим белым пятном на стекле. Вскоре пятно это скрылось из виду, и двор снова опустел. До слуха девушки доносились приглушенные крики ворон и едва различимый лай цепного пса. Тогда девушка почему-то подумала: «Вот здесь я останусь навсегда».
Она лежала неподвижно, как выброшенный из магазина бракованный манекен, в зеленоватой воде, из-за которой ее кожа казалась особенно бледной. Ванна стояла в углу просторного помещения, отделенная от дюжины других таких же ванн складной ширмой. Пол и стены помещения были покрыты зеленой плиткой, к потолку прикреплены люминесцентные лампы; кое-где из горшков торчали безжизненные на вид растения. Акустика в полупустом зале была неплохая: то и дело со всех сторон раздавались всплески воды.
Вода в ее ванне давно остыла, но девушка не спешила вылезать. С процедур она всегда старалась уходить последней, чтобы не столкнуться с другими пациентами. От холода ее руки, бедра и колени покрылись гусиной кожей.
Ее сложно было назвать красивой: впалые щеки, рот широкий, с узкими губами, нос с маленькой горбинкой (что, впрочем, ей скорее шло, чем наоборот), чуть раскосые, неестественно большие карие глаза, расставленные слишком широко, короткие черные волосы, небрежно торчавшие в разные стороны. В чертах ее лица все было чуть-чуть слишком. Тело у нее было худое, по-мальчишески угловатое. Маленькая грудь, узкие бедра, длинная шея. Лежа в ванной, она казалась немного сутулой. Но эта сутулость удивительным образом тоже ей шла, как кому-то идет чуть косящий глаз или большое количество татуировок.
На табурете рядом была свалена комом ее одежда: свободная черная футболка и штаны цвета хаки. Сверху лежали смартфон и медицинская карта; на первой странице карты была анкета с личной информацией. Графы заполнены врачом от руки – если постараться, почерк можно разобрать.
Девушку звали Лиза, недавно ей исполнилось девятнадцать лет. Лизе не нравилось быть «пациентом» – обезличенным номером в картотеке с закрепленным койко-местом (кто вообще придумал это ужасное слово?) и записанным за ней стулом в санаторской столовой. Про себя она называла пациентами всех, кроме себя. И все же Лиза и сама была пациентом, то есть принудительным гостем санатория «Сосны», «удобно расположившегося в сосновом бору в устье реки», как заявлялось в рекламном буклете. Это ее родители настояли на том, чтобы Лиза подлечилась в провинциальном санатории, хотя в ее случае о настоящем лечении речи не шло (возможно, потому отец и выбрал тихое место, как он считал, чтобы дочь могла пожить вдали от городского шума, у воды и хотя бы под присмотром).
С шестнадцати лет Лиза теряла зрение: медленно и неотвратимо реальность отдалялась от нее (или Лиза отдалялась от реальности), подобно тому как постепенно исчезает из виду московский мусор, уносимый течением большой тихой реки. К тому не было никаких явных причин, кроме психосоматических, как утверждали врачи; в детстве у нее не было выявлено никаких отклонений, как не было обнаружено и наследственной предрасположенности к возникновению этого странного заболевания. И все же с каждым годом Лиза все отчетливей осознавала, что погружается в темноту.
Здесь, в санатории, в окружении пожилых людей и инвалидов, Лиза жила уже два месяца, и было неизвестно, сколько еще проживет. По крайней мере с этой мыслью она уже успела смириться.
Постепенно пациенты начали вылезать из воды. Раздались, как обычно, их приглушенная речь, шаги, скрип дверей. Девушка подождала еще немного, потом медленно выбралась из ванны, вытерлась жестким от крахмала полотенцем и оделась. Взяла телефон, чтобы по привычке проверить журнал событий. Вообще-то приятелей в сети у нее было немного, писали ей редко, а с родными Лиза обычно связывалась в условленное время по вечерам, поэтому она очень удивилась, увидев оповещение о новом сообщении. Лиза не спешила открывать его (она бы и не смогла его прочесть без очков, даже с настройкой для слабовидящих), но все же заметила, что написал ей кто-то смутно знакомый. Мара Агафонов. Не сразу, но Лиза вспомнила это имя. Ей стало любопытно, сердце забилось чуть чаще, как это обычно бывало, когда она получала весточку из «реального мира».
Тогда она подумала, что это могла быть рассылка. И все же, направляясь к выходу, Лиза не могла побороть легкое возбуждение.
Выйдя из крыла оздоровительных процедур, она наткнулась на вытянутые ноги сидевшей у двери полной санитарки. Та опустила газету со сканвордом на колени и искоса посмотрела на девушку.
– Опять вы засиделись, – хрипло сказала санитарка, – придется все рассказать вашему лечащему врачу. Кто ваш лечащий врач?
– Извините, – прошептала Лиза. На вопрос решила не отвечать, меньше всего ей хотелось тратить время на последующие объяснения с Молоховым. Громогласный грозный Молохов и был ее лечащим врачом. Кроме того, был он здесь для нее царь и бог, от него целиком зависела ее теперешняя жизнь; только с ним из здешнего окружения Лиза общалась – по часу на осмотрах по вторникам и четвергам, а иногда и в неприемное время.
Санитарка покачала головой, заворочав складками под дряблым подбородком.
– Вы сюда лечиться приехали? Очень безответственно вы относитесь к лечению. Процедура не просто так длится пятнадцать минут. В следующий раз внимательней следите за песочными часами. Переворачивать нужно один раз, а не два…
Лиза нетерпеливо кивнула, крепче сжав смартфон в руке.
– Ладно, – вздохнула санитарка, – идите уже. И не опаздывайте в следующий раз.
В коридоре Лиза сняла с крючка свое пальто, надела его поверх мятой футболки, застегнулась на все пуговицы и одним движением обмоталась шарфом. Затем вышла из медицинского корпуса и быстрым шагом направилась через двор к маячившему за столовой многоэтажному зданию.
Когда она подходила к крыльцу, дождь перестал. Несколько пожилых пациентов, сидевших на лавках перед входом, нерешительно выглядывали из-под козырька, морщинясь под острыми лучами заходящего солнца. Несмотря на холодную погоду, как минимум двое из них были в тряпичных тапочках и выходить на улицу, по-видимому, не собирались. Одна женщина с густыми седыми волосами, собранными в аккуратный пучок, улыбнулась Лизе. Лиза это заметила – вернее, она заметила, как пятно в виде лица женщины дрогнуло и повернулось к ней. Тогда она задержалась на ступенях и улыбнулась женщине в ответ, хотя ее даже не узнала. Может быть, они сидели за одним столом в столовой или вместе занимали очередь на процедуры. Лиза вряд ли бы ее вспомнила, даже если бы захотела. А у стариков обычно хорошая память на такие вещи.
Лиза взбежала по лестнице и зашла в просторный и вечно пустынный холл. Над стойкой регистрации беззвучно работал телевизор. Крутили назойливую правительственную рекламу эвтаназии для «лиц пенсионного возраста». У них было несколько роликов с разными сюжетами: на одном из них пожилая супружеская пара шла в воду, взявшись за руки, на другом – молодая семья с тремя детьми провожала старика в каком-то нелепом парадном наряде до дверей социального бассейна; кроме того, были еще ролики с сюжетами про малоимущих и инвалидов.
Лиза вызвала лифт и поднялась на свой этаж. В коридоре на этаже было пусто, если не считать старика в кресле-каталке, дни напролет торчавшего у окна в комнате отдыха. Когда он не страдал от деменции, то трясся от страха: он все ждал, что со дня на день за ним явятся социальные работники и насильно уведут его в воду. Обычно Лизе было жаль этого старика, но не сегодня. Сегодня он был ей безразличен.
Лиза дошла до конца коридора, вставила ключ в замочную скважину, привычным движением потянула заедавшую ручку на себя и открыла дверь номера. С некоторых пор она жила одна, что было по здешним меркам большой удачей. После того как ее соседка (одинокая пожилая женщина) съехала, родители Лизы выкупили номер целиком. Жить в одиночестве Лизе нравилось: проще было засыпать без соседки, диагностировавшей себе все смертельные болезни и неизменно заходившейся кашлем по ночам.
Маленький номер, казавшийся больше своих размеров из-за скромной обстановки, представлялся Лизе зеркально отраженным: две кровати с двумя прикроватными тумбочками по левую и правую сторону от балконной двери; у стен, обернутых в цветочные обои с советских времен, – два стула с обивкой из потертой ткани, смотревшие друг на дружку, словно рассорившиеся братья, запертые вместе за общую провинность. В углу на кронштейне висел телевизор, а у окна стоял письменный стол на кривых ножках. На столе стояла фотография Вани, ее младшего брата, в маленькой деревянной рамочке с черным уголком.
Лиза прошла вглубь комнаты, положила на прикроватную тумбочку медицинскую карту. Немного подумав, оставила там же телефон. Сначала, чтобы нарочно потянуть время (наверно, ей хотелось еще немного побыть в тревожном ожидании), включила лампу над кроватью и задернула шторы. Потом разделась, убрала вещи в шкаф и накинула халат. Из холодильника, спрятанного в нижнем отделении письменного стола, достала вино в бумажном пакете и упаковку феназепама. По привычке приняла две таблетки, налила вино в стакан примерно до половины. После этого Лиза решилась прочитать сообщение. Будто бы вовсе не из-за него она так спешила вернуться в номер.
Она взяла телефон, надела очки и села на кровати, подтянув под себя ноги. В очках Лиза все еще могла читать вполне сносно, хотя длинные или малознакомые слова отнимали некоторое время на расшифровку.
Лиза открыла сообщение.
2/
Портрет художника в интерьере
Не с первого раза ему удалось открыть дверь. Руки Мары дрожали – больше от унижения, чем от холода и промокших насквозь ботинок. Обидно было снова терпеть поражение, но сердце все же предательски радостно стучало в груди.
Впрочем, на этот раз Мара зашел дальше, чем когда-либо. Все было бы кончено, если бы Мару не застал врасплох непонятно откуда взявшийся дворник. Появился он на берегу, из-за лысых кустов, и все испортил. Застыл у мешка с опавшими листьями и бесстыдно – вообще без всякого выражения – таращился на Мару своими узкими глазами. Тогда Мара, стоявший по пояс в воде, вдруг с тоской осознал, что уже совершенно трезв и теперь ему хочется только поскорее вернуться домой. Сам себе он показался жалким и беспомощным. Стоять на виду у этих узких глаз было неприятно, к тому же ноги горели от холода; озноб поднимался от промокших джинсов по спине до самого затылка.
Таджик (или это был узбек?) крикнул Маре что-то на своем непонятном экающем языке. Мара знал, что никто не имеет основания помешать ему уйти под воду, это было его законное право, и тем не менее присутствие постороннего в решающий момент его напугало. Прикрыв глаза рукой, защищаясь от последних лучей заходящего солнца – он видел в этой размытой красной точке стремительно летящего в горизонт летчика-камикадзе, – Мара пытался рассмотреть лицо дворника, но оно оставалось темным пятном на фоне розовато-серого неба. Очевидно, покой Мары был нарушен, а решимость со всем покончить куда-то улетучилась. Впереди были только трезвость и неприятные мысли.
В вагоне метро вокруг Мары расступались люди. Пассажиры старались не смотреть в его сторону, и он хорошо их понимал. К тому времени, как Мара доехал до своей станции, под его сиденьем образовалась приличная лужа. Всю дорогу он мог только пялиться себе под ноги. В россыпи синих и серых точек на линолеуме на дне вагона в какой-то момент ему начал мерещиться знаменитый портрет Сартра (во всяком случае, угадывались очки и трубка, косящий в сторону глаз); этот осуждающий Сартр, знающий нечто позорное о Маре, был одновременно и мурлоком из World of Warcraft, и – если отвести ненадолго взгляд, а потом посмотреть снова – самолетом (вид сверху), вероятно «кукурузником», проносящимся над абстрактными серо-синими колосьями ржи. Во всем этом не было никакого смысла. Мара чувствовал, пока шел к остановке, как под пальцами внутри ботинок хлюпает грязь.
Был уже вечер, когда Мара поднялся на одиннадцатый этаж подмосковной высотки и вошел в квартиру. Здесь он почти девятнадцать лет прожил вместе с матерью, а последние полтора года – без нее. Почему-то мысли о матери настигли Мару, когда он сбросил на пол мокрую одежду.
У его матери тоже получилось не сразу. Дважды она пыталась выброситься из окна: впервые – зимой незадолго до его совершеннолетия (хотя Мара не считал себя виновным в ее болезни); тогда она не разбилась, ее спас снег под окном; а потом, уже окончательно и успешно, – прошлой весной, когда снег под окнами сошел и ничто не могло ее спасти. Она покончила с собой, не оставив записки, так что можно было только догадываться, отчего она так отчаянно желала расстаться с жизнью. Мара задавался вопросом: почему же она предпочла такой странный способ? Почему не пошла в воду, как другие, как все нормальные люди, решившие закончить, но помнящие о своей семье? Об этом Мара часто думал первое время, но ответа так и не нашел. После такого он, конечно, не мог рассчитывать на пенсионную компенсацию.
От матери Маре достались хрусталь за стеклом в стенке (как обещал в клипе Хаски), соковыжималка и коллекция платьев, больше похожих на комплекты нижнего белья (мать работала в местном ночном клубе); ни к чему из этого Мара с тех пор не прикасался. Денег на похороны у Мары не было, так что ее похоронили по госпрограмме – на подводном кладбище. Пока ее погружали под воду, он пытался вспомнить, сколько ей было лет, но так и не вспомнил. Если бы Мара не был рассеян, он бы заметил, что с тех пор соседи перестали с ним здороваться и даже избегали выходить из квартир, пока он ждал лифт на площадке.
Нашлось бы у него больше сил (если бы его внутренние воды не текли так вяло и не были замутнены), он не остался бы жить в этом месте. Может, продал бы старую квартиру матери и снял себе комнату, как все, поближе к центру. Но Мара был слаб, и обстановка, по большому счету, была ему безразлична.
Смерть матери какое-то время преследовала его в кошмарах, а иногда находила во время бодрствования: в те дни и ночи, которые он неотлучно проводил у мольберта, и когда был измотан и напряжен работой, ему слышался шепот из соседней комнаты, запертой со дня похорон и не отпираемой даже для уборки.
Отсутствие матери не вызывало у него тоски или жалости; было нечто другое – с тех пор как Мара остался один, в нем поселилось тревожное чувство, копившееся где-то в кишках и постепенно отравлявшее его изнутри, незримо и беспощадно. Тяжелее всего, как он уже понял, было пережить весенние месяцы – с последних чисел февраля до начала мая. Когда снег таял, барабаня по железному козырьку, а на улице шумели птицы, Мара наглухо закрывал окна и плотнее задергивал шторы. Весну, ставшую для него воплощением смерти, он уже дважды переживал взаперти. В оставшиеся девять месяцев года он все же выбирался из квартиры: чтобы посидеть на крыше многоэтажки, или навестить одного из своих приятелей-знакомых, или бестолково побродить по улицам Москвы… Раз в месяц или около того, если хватало денег, он покупал билет на электричку – всегда в терминале, потому что избегал общения с кассиршами, – и ехал куда-нибудь наугад, только чтобы ненадолго сорваться с места.
Денег, впрочем, обычно не хватало: мать после себя оставила немного, и Мара быстро всё истратил. За полтора года, прошедших с ее смерти, он сменил несколько мест работы, на которых подолгу не задерживался: месяц продержался грузчиком на складе спортивной одежды, пять недель – курьером в конторе, три месяца с перерывами – котломойщиком в столовой для поминок. Были и разовые подработки, которые Мара особенно ненавидел: он мыл стекла придирчивой заказчице с YouDo, на «Севастопольской» таскал коробки с кальянами на пятый этаж торгового центра, в магазинчик старого жадного араба, недоплатившего ему пару сотен…
Изредка подворачивались заказы на портретную галиматью, реже – на роспись стен. В таких случаях от него требовалось делать «красиво»: в основном вырисовывать вульгарные витиеватые узоры, цветы и птиц. И совсем редко попадались заказы интересные, за которые Мара брался с удовольствием.
Но было кое-что еще: уже около года он встречался с замужней женщиной, с которой познакомился на поминках, когда работал в столовой. Мара смутно помнил ночь их первой встречи: он сидел на железной ступеньке у служебного входа, а она пришла с гостями, весь вечер, наверно, поднимала эти стаканы с водкой за покойника и – по итогу всего выпитого – подозрительно долго ждала машину на тротуаре. По случайности уставший Мара встретил ее на том тротуаре. В необычном для него припадке участия он решился помочь и вызвал для нее такси со своего телефона. Этой женщине Мара, видимо, сразу понравился – по крайней мере, она выпросила у водителя его номер.
Так они и познакомились. Женщина эта была старше Мары, можно сказать, она была ровесницей его матери. Поначалу они встречались только по взаимному согласию, хотя Мара ни разу не был инициатором этих встреч. Она называла его странным прозвищем «мой мальчик», а себя просила звать по имени, Аней, и изредка выдавала Маре деньги. Сам он никогда ничего у Ани не просил, но и не отказывался от подачек – принимал их просто, как когда-то брал у матери.
Как-то так Мара и жил – по большей части на хлебе «Каждый день», дешевом алкоголе и бич-лапше. А иногда его подкармливала Аня.
Этой осенью Мара нигде не работал, если не считать картин, – хотя сам он не решился бы назвать свои работы «картинами». На столе в его комнате скопилась стопка неоплаченных счетов.
Он включил свет. В коридоре, как всегда, пахло табаком и красками, как всегда, были разбросаны по углам пустые бутылки, в полумраке, как всегда, ждала его прихода запертая дверь. До чего же погано было вернуться домой.
Мара прошел в свою комнату, включил компьютер и поставил музыку – Music of the Air Тима Хекера. По привычке остановился у мольберта, взял кисть. Картина была недописана; он давно уже ничего не доводил до конца. Рано или поздно наступал момент, когда работа становилась ему противна.
Но сейчас, хотя ему было тошно, он все же заставил себя смотреть на холст – возможно, из-за какого-то необъяснимого желания наказать себя за сегодняшнюю слабость.
На нижней половине холста была вода, спокойные темно-зеленые волны; а верхняя половина – еще и, вероятно, уже навсегда – в карандаше: на ней проступал силуэт женщины без лица, склонившей голову набок; на заднем плане виднелась громадина ГЭС, лишенная еще объема и похожая на голову великана, поднимавшуюся из воды. В комнате было не меньше десятка подобных картин. Холсты с безликими женщинами на серых отмелях и в болотистых оврагах лежали на полу, на продавленном матрасе (кровати в квартире не было); не срезанные с подрамников работы стояли вдоль стен.
Рисовать Маре не хотелось. Он сразу понял, что сегодня опять ничего не выйдет. Голова еще кружилась после портвейна, ужасно тянуло в сон. Всего лишь очередной ранний вечер, из которого не удастся выжать ни одного мазка. На секунду ему показалось, что он забыл о чем-то важном. Мара простоял перед мольбертом, так к нему и не притронувшись, до конца песни. Когда заиграла следующая композиция, Chimeras, он отложил кисть и вышел в коридор.
Он прошел на кухню – по грязному скрипящему полу, мимо ванной комнаты, поглощаемой плесенью, где из-за сломанного смесителя вечно журчала вода. Все лампочки в кухне давно перегорели. Повсюду были разбросаны пустые бутылки и жестяные банки. Одну из банок Мара нечаянно задел ногой, и она с шумом откатилась куда-то в угол. Немного прибраться ему и в голову не приходило. В лунном свете, жалко сочившемся сквозь стекло, дрожала кошачья тень. Не обращая внимания на Мару, кот яростно насиловал диванную подушку.
Мара насыпал ему корма. Кот, услышав шуршание пакета, спрыгнул на пол и уткнулся в миску растрепанной мордой. Несколько мгновений Мара тупо слушал его жадное чавканье, потом на ощупь включил чайник и заварил растворимый черный кофе.
Во дворе еще было светло – вероятно, из-за полной луны. Но Мара знал, что вскоре улицу затопит чернота. Из деревянной коробки еще доносились хриплые крики подростков, игравших в футбол. Крики их были торопливыми и тревожными, и Мара подумал, что, когда дети вернутся домой, матери заругают их за опоздание, но разойтись наконец по домам им не давал страх быть осмеянными друг другом. И все же уйти им предстояло. В отличие от них, Мара мог представить конец этого развлечения: рано или поздно дети уйдут, можно сказать, их уже там нет; они окончат этот день, повзрослеют и затем состарятся. Время не имело для Мары значения: еще перед тем как сделать первый глоток, он знал, что чашка его в итоге будет пуста. Предвидя эту пустоту во всем, Мара жаждал поскорее ее достичь.
Он отпил горячего кофе. В этот момент высокий мужчина в длинном плаще и в шляпе с широкими полями рывками пересекал детскую площадку. Он неестественно переставлял ноги и был, вероятно, пьян. «Может, так маскируются осьминоги-мутанты из Москвы-реки?» – вяло подумал Мара.
Он вернулся в комнату с чашкой в руке, хотя кофе залпом выпил еще в коридоре. Ему захотелось достать из-под подушки любимый перочинный нож и вспороть все холсты. Сегодня он, вероятно, осмелился бы это сделать, если бы на столе перед компьютером не завибрировал телефон. Тогда Мара вспомнил об отправленном сообщении.
Несколько часов назад он написал этой девушке. Может, его привлекло сочетание цветов на ее фотографии? Хотя это было бы слишком просто. Скорее всего, он подумал, что нужно написать именно девушке. Так вышло – случайность. Пусть даже они были в друзьях, Мара ее не помнил. Имя знакомое, лицо на фото казалось знакомым – но никак уже не определить, откуда бы он мог ее знать. Ее профиль скрывался в конце списка друзей. У них не было общих знакомых, а история их переписки в социальной сети была чиста. Хотя бы до этого дня.
Он взял телефон со стола и открыл приложение социальной сети. Ему действительно пришло сообщение, но от одного из его немногочисленных знакомых, с кем Мара поддерживал какой-никакой виртуальный контакт. Всего лишь ничего не значащая связь, случайное переплетение сетевых нитей, приятельство для обмена картинками и ведения бессмысленных споров: об истории мира Dark Souls и тактиках в Darkest Dungeon, о выборе сцен для психоанализа в фильмах Славоя Жижека, о лирическом герое текстов группы «Кровосток»… Это он, его едва-знакомый, так невовремя вспомнил о Маре, чтобы прислать ему давно позабытый мем (Мара и его приятель по переписке сходились на том, что дурные шутки – самые смешные).
А сообщение, отправленное той девушке? Оно было отмечено прочитанным, и ответа от нее не пришло. Значит, вот и все: никаких ненужных объяснений ждать не приходилось, и Мара вроде бы должен быть спокоен. Он спросил себя: «Разве это не к лучшему?»
Мара отложил телефон на край стола экраном вниз и подумал: «Хорошо. Это действительно к лучшему». Все это было ошибкой, которая, к счастью, обошлась без последствий. И все же Мара, self-confessed adolescent, избалованный и самовлюбленный, не привыкший к отказам, почувствовал себя уязвленным, даже «отвергнутым» – именно это не совсем подходящее слово зажглось у него в голове яркой неоновой вспышкой. И на этом все могло бы кончиться, не начавшись. Мара и Лиза могли бы так и остаться незнакомыми друзьями в социальной сети, как десятки и сотни тысяч других ненастоящих друзей, неясно существующих только виртуально, приговоренных навсегда быть единицами в счетчиках на страницах сплетенных профилей…
Он подвигал мышкой, чтобы разбудить потухший монитор, а потом долго и рассеянно смотрел на рабочий стол. Не хотелось даже мастурбировать. Он закурил. Неприятные мысли роились у него в голове, наползая одна на другую. Вперемешку вспоминались его бывшие девушки, какие-то стыдные случаи из средней школы, потом появлялась мать (как она приходила за полночь пьяной, как орала, и как он запирался от нее в комнате), а через мать все возвращалось обратно к нему самому, сегодняшнему. Мара подумал: вдруг он не получил ответа, потому что был признан посмешищем и не понял этого?
Иногда он и сам считал себя посмешищем (с перерывами на приступы самоуверенности и редкого творческого подъема), и ему всерьез казалось, что он все делает не так, как другие: неправильно ходит и вообще двигается, не то говорит, не о том думает; его волновало даже, верно ли он подражает эмоциям собеседника во время разговора, потому что выражение собственного лица, собственная мимика были ему отвратительны. Бывало, он разговаривал с незнакомыми людьми – например, в транспорте, или на улице, если его ввязывали в разговор и он был вынужден ответить, или в супермаркете под окном, с кассиршами, которых побаивался, – но каждый раз он чувствовал себя неловко и напряженно, спрашивая сигареты, будто его пытали, и простые слова застревали в горле…
Может быть, думал Мара, что он странен (в плохом смысле слова), бездарен, ничтожен и неизвестно что о себе напридумывал, а ему просто некому об этом сказать? А если даже так: откуда-то у него в голове взялась эта сумасшедшая мысль – будто он художник? Только потому, что он тихо и даже без особых успехов отучился в художественном училище? И что, если его мать (женщина, с которой он девять месяцев был связан пуповиной) терпеть не могла эту его тихую натуру, видя в ней отражение натуры отца (мужчины, которого Маре даже не довелось узнать)? К чему тогда эти «безликие женщины у воды», которым – он и сам это понимал – не хватало техники, страсти, храбрости, от которых тянуло мертвечиной; и к чему вообще вся его жизнь – гнусный набор каких-то разрозненных, разбросанных по временной шкале, ничего не значащих фактов? Зачем, в конце концов, ему карандаш и кисть?
Мара встал с кресла, прижав ладони к глазам.
Музыка уже не играла – оказывается, несколько минут или больше. Но он только сейчас услышал эту тишину. Внутри у него просыпалась какая-то совершенно ненужная жалость к себе; от нее, как решил Мара, нужно было срочно избавляться. Склонившись над столом, он принялся отсчитывать мелочь на крепкое пиво; ему хотелось снова напиться и поскорее обо всем забыть.
Накинув на плечи шарф и подняв с пола сырую, единственную свою куртку, Мара вышел на улицу.
Первую банку «Балтики № 9» он открыл сразу на ступенях магазина и сделал несколько жадных глотков на виду у клянчащих мелочь пьяниц. Обычно алкоголь его успокаивал, приводил в оцепенение и приятную меланхолию.
Вообще-то Мара предпочитал вино или портвейн, но и к пиву не испытывал неприязни. Он не считал его обывательской слабостью, как кое-кто из его приятелей. Наоборот, он считал, что «Балтика» для русского человека – это родное, нечто вроде сентиментального артефакта, отсылающего к корням, к полю, связующее звено с широким и необъятным пространством…
К ночи похолодало, но теперь Мара почему-то не чувствовал стужу. Он присел на край мокрой скамейки под окнами многоэтажки и стал пить пиво из ледяной банки, обжигавшей губы. Не ел Мара с утра – или даже со вчерашнего вечера (он не мог сказать наверняка), – поэтому мгновенно опьянел.
Откуда-то всплыл в памяти Кьеркегор с его «только страдающий человек в силах по-настоящему оценить жизнь». На мгновение Мару это позабавило. Он даже посмеялся в кулак, а проходившие через двор две толстые женщины в страхе от него отшатнулись. Они почему-то еще больше его развеселили.
А потом опять вспомнилась эта девушка. Неужели он не заслужил хотя бы самого короткого ответа?
«Что, если написать ей еще раз?» Мара порылся по карманам куртки, но телефона не нашел. Он с трудом вспомнил, что телефон, должно быть, так и лежит в квартире на столе. Тут же наплыла какая-то обида: вот он сидит сейчас на этой лавке непонятно зачем, как дурак, и сам себя накручивает. Но в конце концов, твердо сказал он себе, его ведь не волнует ни эта девушка, ни что она о нем думает; его задело другое – что она могла так просто его проигнорировать.
Не станет же он вставать ради нее с лавки, спешить за телефоном домой, тем более что пиво еще не допито… Разве стоит какая-то девица того, чтобы Мара тратил на нее столько времени? Да есть ли вообще разница, напишет он ей сейчас, или потом, или совсем больше не напишет? «Нет разницы», – хмуро подумал Мара. И притворился, что вся эта история ему глубоко безразлична.
Он просидел во дворе еще с полчаса, упрямо допивая банку и наблюдая за тем, как гаснут в окнах огни, а потом все же поднялся и побрел обратно к подъезду.
Несколько раз за вечер, накрывшись тяжелым санаторским одеялом, Лиза перечитывала полученные от него сообщения. Среди привычно навалившейся к отбою тишины, указывающей на ранний сон пациентов за стенами – стариков и детей-инвалидов, – эти сообщения показались ей тоскливыми и страшными, как будто отголосками из прошлого, всплывшими из мрачной глубины на поверхность. В другой ситуации она, пожалуй, могла бы оставить их без внимания – если бы вечер не был таким тихим и пустым.
Он писал ей:
Мара, 1 ноября в 16:31
Привет. Мы, кажется, не знакомы. Меня зовут Мара. Был бы у меня сын, хотя об этом я раньше никогда не думал, – назвал бы его в честь себя, то есть в честь известного якобинца. Я бездельник, эгоист и бездарность. Сказать точнее, мне двадцать лет, и я безработный. Долгое время я думал, что я художник. Но, видно, не вышло. Стою сейчас на берегу реки, собираюсь топиться. Хорошее тут место, тишина и покой, но настроение у меня поганое. С таким настроением только камнем на дно.
Мара, 1 ноября в 16:35
Это, конечно, мало что обо мне расскажет, да и не знаю, зачем я вообще все это пишу. Но я вдруг решил: вроде как надо оставить что-то после себя. Вот я и оставляю эти прощальные слова. Потому что мое так называемое творчество уж точно ничего не стоит. Утром я хотел от всего избавиться, но в последний момент не решился. Хотя об этом не жалею: вышло бы слишком кинематографично. Всегда раздражал этот жест в кино – когда горит бумага и отблески огня пляшут в глазах главного героя, всё в таком вот духе.
Мара, 1 ноября в 16:39
Кстати о кинематографичности. Если тебе интересно, я сейчас смотрю, как садится солнце. На берегу поднялся ветер, руки у меня дрожат, но подозреваю, что это все же не из-за ветра. Надо уже решаться; зря я, что ли, тут торчу? Но все равно страшно, очень страшно. Пишу тебе, а все-таки легче становится. С незнакомым человеком прощаться легче, меньше возни. Ты извини, если мы встречались или познакомились где-то – я сейчас вспомнить не могу. Просто знай, что был я. А скоро меня, надеюсь, не будет.
Мара, 1 ноября в 16:43
Вспомнился мне вдруг сейчас Джармуш. Он мне нравится, один из любимых режиссеров. Я у него не всё пересмотрел, а он, может быть, что-то еще снимет. Я этого уже не увижу. Греков-философов я так и не прочитал, а давно хотел. Еще вспомнил, что ни разу не был в зоопарке. В детстве мать не сводила, а когда вырос, подумал, что это какое-то неприятное место, где мучают животных. И моря я не видел. А вообще вроде ни о чем больше не жалею. Родных у меня нет, осталась пара приятелей, но по большому счету никому я не нужен. И сам я никого не люблю. Хоть как-то привязан я только к коту. Интересно, что с ним будет без меня?
Мара, 1 ноября в 16:44
Прости, навязал я тебе это всё зачем-то. Выговориться захотелось.
Мара, 1 ноября в 16:51
Еще напоследок о Джармуше. У него в старом фильме, не вспомню сейчас название, был монолог главного героя, неудачника. В тему. Цитирую неточно, по дырявой памяти: «Что такое навязанный кому-то рассказ о себе, как не рисунок, полученный в результате соединения всех указанных точек и составляющий некую картину? Пока не соединишь точки – не разберешься, а стоит соединить, и результат вряд ли будет похож на правду. Я живу как перекати-поле и при этом не вижу никакой разницы. Я встречал, наверно, как и ты, каких-то людей, я общался с ними, жил и наблюдал за их поведением, как с самого дальнего места на заднем ряду. Но для меня люди, которых я знал, – не более чем череда комнат; это всего лишь места, где я проводил время. Ведь когда входишь в комнату, испытываешь некоторое любопытство, но через некоторое время эта новизна полностью исчезает и остается только страх, жуткий страх». Вот точно как будто про меня. Это я так отчаянно цитирую Джармуша, потому что собственных слов для моей обезличенной жизни у меня нет. Такой уж я есть, нерешительный и вялый, как член старика. Торчу сейчас на берегу реки, переминаюсь с ноги на ногу и сам не понимаю, зачем мне вдруг так страшно захотелось написать кому-то постороннему – ведь можно же просто наслаждаться в последние минуты одиночеством? Так или иначе, ты теперь меня отчасти знаешь. Может, это к чему-то тебя обязывает, а может, и нет, я не знаю. Может, и читать не станешь. Я ведь написал тебе случайно, это правда, ты просто была в списке моих друзей. Ты теперь кажешься мне смутно знакомой, но я не помню, откуда мог бы тебя знать. И я не стану тебя винить, если ты не ответишь. Я даже не жду ответа. Просто я всегда иду на поводу у своего настроения и ничего не могу с этим поделать. Но если вдруг ты все же решишь мне ответить, это будет значить, что и твое настроение в какой-то момент было созвучно моему.
Мара, 1 ноября в 16:53
Я вроде и напился, но что же так страшно? Выпил бы еще, но уже нечего, бутылку я потерял. В любом случае пора уже завязывать. Так что на этом вроде бы все. Вышло как-то сумбурно, но уж как получилось.
Мара, 1 ноября в 16:53
Пока, Лиза.
Мара, 1 ноября в 16:56
Вспомнил. «Отпуск без конца» тот фильм назывался.
Такие вот были сообщения. Поток мыслей, ведущий непонятно к чему, как разбитая дорога. Неужели он действительно в первом же сообщении написал ей, чужому человеку, о своем нерожденном сыне? Слишком невероятно, как во сне. И как же странно он выражается, этот Мара! Лиза даже подумала, что раньше, наверно, так люди писали друг другу письма.
Она посмотрела на часы – с момента отправления прошло много времени.
Как-то надо было ответить, но нужных слов найти ей никак не удавалось. Написать первую строчку, как всегда, оказалось сложнее всего. Нужные слова ускользали, рассыпались и терялись в ее ответе, который она начинала писать, а потом удаляла.
Лиза несколько раз внимательно перечитала его сообщения, потом отыскала тот фильм, о котором он писал, и дважды пересмотрела монолог главного героя в начале. За окном тем временем наступила уже настоящая (даже по городским меркам) ночь, подушка была измята, а одеяло скомкано и тянулось к полу.
Сон как рукой сняло. Даже транквилизаторы впервые за долгое время не избавили ее от тревоги. Лиза понимала, что уже не сможет заснуть, пока ему не напишет; она видела, что он был в сети с телефона. Живой? Вдруг ждет ее ответа? Вдруг передумал идти в воду? Наверно, он уже заметил, что она прочитала его сообщение, и, может быть, видел даже, как несколько раз она набирала и стирала свое…
Потом он вышел из сети и долго уже не появлялся. Лиза прошлась по комнате, задержавшись у окна. Допила вино и оставила стакан с рубиновой каплей на подоконнике. Тогда только она решилась что-то уже отправить, пусть и без точных слов.
Лиза, 1 ноября в 22:20
Привет, Мара. Ты еще тут? Я тоже часто чувствую себя очень одиноко.
Написала она.
Лиза, 1 ноября в 22:20
Не делай глупостей, плз
(Стерла последнее слово и заменила его на «пожалуйста».)
Лиза, 1 ноября в 22:20
Мы с тобой что-нибудь придумаем. Я, если тебе интересно, тоже бездельник, хотя и вынужденный. Это все бездельники, что ли, так себя оправдывают?
Лиза, 1 ноября в 22:23
Хочешь, расскажу о себе? Я давно живу в санатории, это далеко от города, в тихом лесу, тут рядом только маленькая деревня. На площади вместо асфальта растет желтая трава, так странно. Там же, на площади, единственный продуктовый магазин в округе и огромная красивая церковь. У меня из окна в хорошую погоду, если надеть очки, можно увидеть реку, она прямо за деревней, но сейчас уже поздно – сколько я ни вглядывалась, рассмотреть ничего не получается.
Лиза, 1 ноября в 22:24
Топиться я пока не собираюсь, даже никогда об этом не задумывалась. Может быть, только лет в тринадцать, но не всерьез, понарошку. Сказать по правде, ты меня сильно напугал.
Лиза, 1 ноября в 22:25
Ты еще тут, Мара?
Лиза, 1 ноября в 22:31
Давай я пока побольше расскажу о себе. Я верю, что мы с тобой еще поговорим. Мне ведь тоже, как я уже сказала, одиноко. Очень тут одиноко, не с кем поделиться. Мне часто кажется, как бы это объяснить, что со мной что-то не так. И дело не только в физическом состоянии, хотя у меня довольно серьезные проблемы со здоровьем, а в том, что жить и «общаться» как нормальный человек я в принципе не умею. Я патологически ненавижу все вокруг: чавкающих старушек в столовой, медицинский корпус и почти всех местных врачей, еще ненавижу безделие и график, который тут важнее всего, – но, если вдруг меня завтра отсюда выпустят, я, наверно, не смогу распорядиться свободой, придумать дела, чтобы занять время. От одной мысли об этом мне становится страшно. Хотя и дома я тоже проводила время впустую. Я ничего не умею, а учиться боюсь. Скучать и ненавидеть – только для этого я, наверно, родилась. Ничего особенного во мне тоже нет. Это нас объединяет, правда? Думаю, как и ты, я никогда не стремилась сближаться с людьми – вдруг они, эти люди, – только не смейся – такие же, как я? Ничего на самом деле не значат, ходят туда-сюда, важные, вечно спешащие, одетые по погоде, в сандалиях или под зонтами.
Лиза, 1 ноября в 22:33
Ты еще тут, Мара? Ответь.
Лиза, 1 ноября в 22:35
Если я тебя не напугала, я имею в виду мои загоны и мою очевидную глупость, то я не буду против, если ты мне еще напишешь. Я буду правда очень рада. Мне все равно тут совершенно нечего делать. Прости, что долго думала над ответом. Я не сразу увидела твое сообщение. Обычно мне не пишут.
Лиза, 1 ноября в 22:36
Напиши мне еще, Мара. Расскажи, что ты рисуешь. Хотелось бы взглянуть на твои картины. Уверена, не такие уж они плохие.
Лиза, 1 ноября в 22:39
Кстати, а я вот тебя отлично помню. Точнее, помню тот день, когда мы познакомились. Неудивительно, что ты забыл, ты же был пьян. Хочешь, дам подсказку? Вспомни про бассейн в Лефортово.
Лиза, 1 ноября в 23:04
Бассейн, Мара, вспоминай. Отвлекись от плохих мыслей и вспомни.
3/
Вокруг бассейна
Он сидел на продавленном матрасе в тусклом свете единственной уцелевшей в комнате лампочки. Медленно и внимательно читал ее сообщения. Потом открыл ее профиль и аккуратно пролистал фотографии, стараясь случайно не оставить лайк.
Фотографий было немного, рассмотреть как следует лицо девушки на них не удавалось. Самая старая фотография была выложена в августе 2012-го. Она на велосипеде где-то в лесу, стоит, опершись одной ногой о землю. Острая коленка перемазана зеленкой, на голове смешная кепка. Ладонь у козырька, будто она отдает кому-то честь. Мара не сдержал глупой улыбки. Вот зима того же года: она лежит на снегу, смеется. Рядом с ней какой-то парень, тянет ее за шарф, как будто собирается задушить. После этого несколько фотографий весны 2013-го: она покрасила волосы в зеленый, теперь у нее короткая стрижка. Как будто похудела. Мара подумал, что зеленый цвет ей не идет. Затем он пролистывает фотографии безлюдных мощеных переулков, фонтанов и клумб, уютных домиков с черепичными крышами и католических соборов – видимо, все это снято где-то в Южной Европе. Ее на них нет. Вот только пальцы ног со стершимся зеленым лаком на песке у кромки воды. И звездная ночь. И плетеные качели у складного деревянного столика. И бутылка вина на золотистой траве. Закат над подсолнуховым полем…
Мара задержал взгляд на одной из последних фотографий, сентября 2015 года: селфи с подругой на каком-то концерте. Лиза скромно одета, ее худые плечи вздернуты; на фоне высокой рыжеволосой подруги она выглядит как мальчик-подросток. Она смущенно улыбается, но в глазах как будто застыла печаль, даже легкое недовольство. Такие глаза, настороженные и диковатые, бывают у уличных котов, вечно ждущих от мира подвоха. Дальше еще пара снимков и всё. Последние семь-восемь месяцев она ничего не выкладывала.
Мара потушил экран. Он вспомнил про бассейн. Вспомнил эти глаза и эту девушку.
Прошлой осенью, немногим больше года назад, он работал над заказом в заброшенном, так и не достроенном корпусе оздоровительного комплекса в Лефортове, на «плохом» берегу Яузы.
«Хорошим» Мара называл берег Басманного района – в первую очередь из-за галерей современного искусства, где он мечтал однажды выставляться (но до сих пор его амбиции стать выставляющимся художником как бы разбивались о метафорическую водную преграду). Мара заочно любил «хороший» берег, как женщину на расстоянии, вечно пытающуюся выставить себя в хорошем свете: она прятала на своем склоне руины домов, стыдливо прикрытые тканью с нарисованными окнами, превращавшей их в неуклюжие театральные декорации; а возле Курского вокзала она скрывала бродяг, особенно в маленьком сквере, там на километр пахло сыростью и мочой, а одиночество, несчастье и какая-то старомосковская тоска, казалось, текли по проводам над головой… Но Мара все равно любил «хороший» берег Яузы.
В сентябре 2015-го у него была одна необычная подработка на «плохом» берегу. Его заказчики были организаторами подпольного фестиваля, дважды в год устраиваемого в сырых стенах здания детского бассейна. Для них Мара разукрашивал флуоресцентной краской полузаросший бурьяном котлован, переоборудованный под сцену и танцплощадку, – по меньшей мере триста квадратных метров, не считая сооруженных по периметру рамп и перил для скейтбордистов. Работа была тяжелая, и он успел возненавидеть всё на свете, пока ползал на карачках по холодному дну бассейна. За это Мара получил символическую плату в виде семи тысяч рублей и неограниченный доступ к бару на ночь концерта.
2015, осень
Напился он той ночью замечательно; у барной стойки по случайности познакомился с каким-то парнем, приехавшим покорять Москву. Тот угостил Мару фенамином в туалете. И Мара, не привыкший к стимуляторам, впервые за долгое время даже испытал подобие радости. Это было так на него не похоже, так непривычно – быть не вполне самим собой. Он смутно помнил, как сидел на высоком стуле, облепленном крафтовыми стикерами, не слишком внимательно вслушивался в громкие, уверенные и малопонятные слова его нового знакомого. Мара только кивал, неестественно дергая головой. Он думал о своем и ждал подходящей минуты, чтобы выговориться. В тот момент Маре казалось, что ему тоже всё по плечу: как-нибудь он пробьется, может, откроет студию, позовет к себе крутых тату-художников… Он погрузился в себя, а когда очнулся, новый знакомый куда-то исчез. Скорее всего, пошел танцевать. Со сцены как раз обрушилась музыка.
Мара поднялся из-за стойки. Ему одному пришлось оплатить за этого парня приличный счет в баре, который они договорились разделить поровну, – но тогда Мара был не в том состоянии, чтобы думать о деньгах. Его распирало изнутри, хотелось с кем-нибудь еще поговорить, поделиться своими мыслями. Он пошел по дну бассейна, натыкаясь на людей… но дальше какой-то провал. Лучше было, наверно, и не напрягать память, чтобы лишний раз не стыдиться.
А ближе к утру Мара уже начал трезветь, стоял в курилке под козырьком, окруженный заторможенными красноглазыми типами, и печально крутил на языке вылетевшую из зуба пломбу. В сыром воздухе уже зрела сентябрьская предрассветная серость, отчего неприятное ощущение во рту только усиливалось. Накрапывал дождь, но все больше народу вытекало из зала-бассейна в курилку. Железная дверь гремела у Мары за спиной, и громкость звона в ушах скакала от неприятно громкого до оглушительного. На сцене доигрывала сет последняя группа, откровенно косящая под Sonic Youth.
К нему подошла невысокая, небрежно одетая девушка и знаком попросила сигарету. На ней были мешковатый твидовый пиджак в клетку, мятые штаны цвета хаки и тяжелые коричневые ботинки на огромной подошве. Так сразу и не поймешь: куплено все это в каком-нибудь районном секонд-хенде или в бутике на Кузнецком Мосту. Короткие черные волосы вызывающе топорщились в разные стороны.
Мара поделился с ней пачкой. Мельком, только мельком, как это обычно бывает в таких случаях, они переглянулись.
2016, осень
Он вспомнил этот взгляд. Он его распознал, увидел, хотя остальное о той ночи помнил очень смутно. Взгляд темно-карих, почти черных глаз, в спокойствии которых сияли яркие лунные полумесяцы. Взгляд глубокий, холодный, как зубная боль. Спустя год он проявился в памяти так четко и легко, что Мара снова почувствовал ту зубную боль, тот привкус марли, те запахи предрассветной сырости и табака.
2015, осень
Девушка что-то спросила, но Мара не расслышал ни слова из-за шума со сцены. Тогда она сделала знак, что напишет вопрос в заметках на своем телефоне, и, подойдя на шаг, повернула к нему экран. Буквы были большие, возмутительно большие, но Мара все же наклонил голову, чтобы их прочитать. Несколько мгновений они стояли совсем близко, боком друг к другу, и Мара чувствовал запах ее волос – фруктовый аромат шампуня и, кажется, никаких духов.
Он прочитал сообщение и что-то ответил. Она тоже что-то сказала и засмеялась. Что сказала и почему засмеялась – опять же теперь и не вспомнить. Потом они молча курили в ожидании конца песни. Мара хотел заговорить с ней, когда стихнет этот шум, но слишком долго собирался с духом. В курилку хлынул поток людей, и они потеряли друг друга из виду.
Такое вот было знакомство. Кажется, ничего не значащий вопрос, ничего не значащее столкновение двух людей. Прибавление двух единиц в счетчиках на страницах сплетенных профилей. И все же – никогда не знаешь, к чему может привести вроде бы случайная встреча. По-разному люди знакомятся, оказываются вроде бы в случайное время в случайном месте, и тогда может произойти неожиданное; иначе говоря, используя выражение Жана Жене, «стоит вам по небрежности оставить незастегнутыми полы вашей нежности, и вот вы уже попались».
2016, осень
Стояла глубокая ночь, когда Мара писал ей снова. Она не была онлайн – так даже лучше. Теперь целая бесконечность до позднего ноябрьского рассвета в его полном распоряжении. Он все еще здесь, живой. А может, и хорошо, что так обернулось?
Мара давно не ощущал течения времени так чутко, как теперь, когда подбирал слова для той, кто их ждет. Она сама разрешила ему писать, и это было прекрасно, что она будет ждать. Может, ждать – это как плыть против течения. Или страдать от жажды. А если ожидание делится на двоих, оно словно превращается в игру с надувным мячом: ждать, чтобы поймать, ждать, чтобы вернуть. И в каком-то смысле это игра с самим собой. Это одновременно любовь и мастурбация: когда хочется подольше побыть в напряжении, чтобы отсрочить удовольствие конца.
Раньше такое ожидание – ожидание, зависящее от постороннего, – Маре было незнакомо. Ему давно казалось, что его жизнь ни с чьей чужой жизнью не соприкасается. Он слишком привык быть потерянным ребенком мира, замкнутым в собственных мыслях, но теперь, после этого странного повторного знакомства, всю ночь он был как под кайфом. До сих пор для него не находилось абсолютно необходимого существа, которому он мог бы открыться.
Давно уже Мара не надеялся на спасение извне – он научился ждать его только изнутри. Кажется, он всегда был таким. Еще в детстве, оставаясь дома в одиночестве, Мара любил выключить свет и сидеть в темноте, прислушиваясь к себе, пытаясь почувствовать текущие в нем под давлением внутренние воды, отделить их шум, поймать их невидимые течения. Он смутно ожидал чего-то, но ожидание это было слишком страшным и призрачным, чтобы быть настоящим. Например, иногда он ждал, что у него вдруг взорвутся зубы; ему казалось, что нервы внутри них пульсируют и напитываются кровью, готовые лопнуть в любой момент. Ему было страшно и хорошо, но в то же время хотелось, чтобы это поскорее уже случилось, чтобы не страдать от неопределенности.
Ожидание внутренней перемены слишком долгое время было для него единственно известной формой ожидания, а времени – часов и минут, которыми пользуются другие, – для Мары и вовсе не существовало. Последние полтора года его единственными мерами времяисчисления были картины и деньги, постепенно уходившие на алкоголь, холсты и краски. Как тревожный таймер, отсчитывающий крупицы свободы до поисков очередной работы.
А теперь ему вдруг была подарена эта драгоценность ожидания извне, ожидания другого человека. Кому-то он все-таки нужен.
Мара отправил сообщения ближе к утру. Опять все вышло длинно и путано, как в вырванной странице из блокнота городского сумасшедшего: он писал Лизе о матери, и об узкоглазом дворнике, и об ушедших под воду японских летчиках, и об осьминогах, скрывающихся на дне Москвы-реки. А перед тем как лечь спать, он исписал зарисовками несколько страниц в блокноте, безуспешно пытаясь поймать тот глубокий, как зубная боль, взгляд карих глаз.
Память Лизы – черное дно пруда подо льдом, куда не проникает солнечный луч; это контуры предметов, которые она различает словно сквозь замутненную занавеску. Память Лизы – это ее реальность, а ее реальность – это всего лишь ожидание момента, когда лампы в пустом зале наконец погаснут и на экране останутся только идеально смонтированные сцены из ее прошлого (обрезанные, показанные под правильным углом и при правильно выставленном свете), которыми она сможет наслаждаться отведенную ей маленькую вечность.
Она проснулась, как всегда, очень рано – еще до того, как в коридоре на этаже зашаркают старушки, и, следовательно, задолго до восхода солнца. Ее шея была обмотана двумя проводками наушников, а одеяло было скомкано в ногах.
Ей снился слишком правдоподобный страшный сон: она тонула в бездонном бассейне. Рядом как будто плавал ее отец (вернее, она подозревала, что это был ее отец, хотя в этом сне он выглядел иначе – почему-то был похож на писателя Кафку). Отец сидел в маленькой гребной лодке, короткими и уверенными взмахами весла рассекал водное пространство и при этом был так увлечен, что не слышал Лизиных криков о помощи или притворялся, что их не слышит. Его лодка быстро преодолевала расстояние от одного конца до другого; лишь на одном отрезке пути Кафке-отцу приходилось убирать весла и пригибать свою мальчишескую спину – в особенно узком месте с низким потолком посередине бассейна, где проход сужался до единственной дорожки, из-за чего форма бассейна напоминала перевернутые набок песочные часы. Отец был слишком занят, если судить по напряженному взгляду и сдвинутым густым кафкианским бровям. Он был пугающе целеустремлен и не обращал на Лизу внимания. А она беспомощно и, как ей казалось, невыносимо долго погружалась под воду, в темноту; и перед тем как ей навсегда раствориться, отец все же бросил на нее какой-то холодный, осуждающий взгляд.
Потом она открыла глаза.
В санатории Лизе не впервые снился отец. Странно, но мать ей никогда не снилась. А еще ей никогда не снился младший брат. Возможно, потому что отец регулярно напоминал о себе звонками – пару раз в неделю по вечерам после работы; говорил всегда о быте, о мелочах, старательно избегая больных тем.
А может, подумала Лиза, все дело было в преследовавшем ее чувстве вины, которое то вдруг горько подступало, то ненадолго скрывалось где-то внутри. Приснилась же ей вдруг вода, приснился вдруг и Кафка с веслом (однажды она читала что-то о любви Кафки к гребле, и, видимо, это произвело на нее впечатление; с тех пор она почему-то представляла его именно таким – с веслом в руке, в маленькой неудобной лодке). Во всяком случае, Лиза нащупала какую-то символическую связь между этим сном и собственным реальным безвыходным положением.
Ее отец работал в большой международной строительно-ремонтной компании. Занималась их фирма, насколько Лиза могла понять, не вдаваясь в скучные подробности, светопрозрачными конструкциями (окнами) и их монтажом. Отец давно уже был главой отдела и имел собственный угловой кабинет, отделенный от офиса стеклянной дверью. А с другой стороны кабинета были окна во всю стену, открывающие вид на оживленную магистраль.
Каждый будний день с десяти до шести ее отец сидел спиной к этому окну, и в зависимости от погоды солнечные лучи грели его спину – или не грели: если шел дождь или снег и небо было закрыто тучами. Иногда во время перерыва на обед, когда его подчиненные подрывались со своих неудобных мест, отец любил вздремнуть в своем удобном кожаном кресле, а потому предпочитал дни дождливые, сонные, по-особенному одинокие.
В конце одного из таких непримечательных рабочих дней (солнечный был день или наоборот – уже не вспомнить) отец заснул за рулем. Было это, наверно, спустя полгода после смерти Вани. По дороге с работы домой отец на полной скорости налетел на барьерное ограждение. Капот сжало в гармошку, но сам он остался цел. Ему повезло: он отделался довольно легко, хотя после аварии начал прихрамывать на левую ногу. Врачей и больниц Лизин отец побаивался, поэтому обратился в остеопатический центр и стал ходить на массаж. Несколько сеансов вроде бы помогли, но до конца от хромоты не избавили. После реабилитации ему посоветовали плавать в бассейне.
Сперва он как будто с неохотой следовал этому указанию: ходил в бассейн изредка, пару раз в месяц, – но потом прямо-таки втянулся. Так у ее отца впервые в жизни появилось хобби. В последнее время он стал плавать уже через день, перед работой. Ближе всего к дому был большой оздоровительный комплекс, куда можно дойти пешком. Но отец всегда заезжал туда на машине рано утром, чтобы успеть на работу до пробок. Его как будто не смущало, что совсем рядом, за выложенной плиткой стеной плавательного комплекса, находились социальный бассейн и похоронное бюро.
Во всяком случае, из бассейна отец возвращался счастливый, размявшийся, раскрасневшийся. Пил морс из холодильника и включал телевизор – с тех пор он полюбил передачи о здоровом питании.
Лизу маленькая радость отца раздражала – вероятно, потому что она была связана с водой. Как же так – Вани больше нет, какое теперь «здоровое питание»? Какой теперь плавательный бассейн? Так она считала. Хорошо, конечно, что отец жив и нашел себе хоть какое-то утешение, но обидно все же было, что он, по крайней мере при Лизе, о Ване не осмеливался заговорить. Как будто выстрадал какой-то отведенный срок и вычеркнул Ваню из памяти, попытался забыть.
С матерью Лиза тоже быстро потеряла связь. После Ваниной смерти та замкнулась в себе и за год заметно постарела. Она стала выпивать перед сном по бокалу вина; засиживалась допоздна на кухне, склонившись над столом в тусклом свете плафона, и задумчиво, как-то механически смахивала со скатерти невидимые крошки.
А потом в ней и вовсе что-то щелкнуло и сломалось: она будто разом стряхнула с себя всю скорбь, вдруг сделалась поверхностной, «как осенний лист, чудом держащийся над толщей воды» – так почему-то Лиза думала об этом странном ее преображении. Ее мать связалась с косметической компанией, больше похожей на секту, и стала отчаянно посещать их собрания; и вот уже Лиза наблюдала, как она подолгу смеялась с новыми подругами по телефону. Косметику матери привозили в огромных черно-розовых коробках. Бóльшую часть продать ей не удавалось, и она прятала коробки в шкафу, подальше от отца. Этого тоже Лиза понять не могла: какая теперь косметика? А отец как будто ничего не замечал или не хотел замечать; скрывался в своем бассейне, как моллюск в раковине. И на удивление ловко у ее родителей это вышло: они словно сбежали от реальности на пару. А Лиза осталась одна. Поэтому, хотя и не только поэтому, возвращаться домой из санатория Лизе не хотелось. Никто ее, как она думала, там не ждал.
Все незримо разваливалось на части. В родном доме, в родителях она видела какую-то болезнь, тихое безумие, а еще – немое осуждение. Вот именно что немое. Лиза ведь тоже чувствовала себя виноватой – однако хоть бы раз отец ее обвинил, позволил выговориться. Но эта вина в ней только оседала, копилась, не находя выхода, превращалась в невысказанную обиду на родителей и на саму себя. В общем, ни любви, ни поддержки от родителей Лиза давно не ощущала.
Поначалу она пыталась наладить отношения по мере своих сил. Но стоило Лизе завести разговор о Ване – и как будто никто не слушает: отводят глаза, меняют тему, как сговорились. Даже на кладбище они все вместе съездили лишь однажды, а потом навещали могилу только порознь – всегда находились какие-то обстоятельства и оправдания… Может быть, забыть действительно проще, но забывать же нельзя. Нужно заставлять себя помнить. Так она считала. Если забыть этот ужас, то дальше жить не получится. Прошлое неизбежно о себе напомнит и уничтожит то, что от их семьи осталось. И прятаться нельзя тоже: разве это жизнь – с маленьким трупом в чулане? Только вот как избавиться от прошлого, Лиза и сама не знала.
На Ваниных похоронах она почему-то не плакала. Слезинки не проронила. Но с каждым днем дома становилось ей хуже и хуже. И выхода у этой боли не было.
Почему же они не видят, что ее, Лизино, время тянется в этой невысказанной боли, а еще – в больницах, врачах, на лавке перед кабинетом, в осмотрах и лекарствах?
Пока отец отмерял в неделю километры хлорированной воды брассом и кролем, пока мать искала спасения в мелочах – где была маленькая Лизина радость? Где ее, Лизино, выдуманное чувство покоя? Где же ее спасительный бассейн? Плохо так думать, но куда от плохих мыслей спрячешься.
Она уговаривала себя так: если не хватает у них сил справиться с этим горем вместе, получить всё сполна, оставаясь при этом какой-никакой семьей, значит, правда должны они пережить это горе поодиночке. Так Лиза себя успокаивала, хотя и признавала в этом вынужденном решении какое-то противоречие. Она заставляла себя думать: «Этот санаторий, может быть, и есть мое одинокое место, мой бассейн и мой тихий шкаф – чтобы во всем разобраться, эту головоломку для себя решить, отыскать все мелкие детали в уголках памяти».
Только время все уходит, а лучше не становится. Зря говорят, что время лечит, – на самом деле оно уходит впустую; рано или поздно время все равно побеждает – как сильный препарат, исцеляющий разум, но разъедающий внутренности. Никого еще не исцелило время; его принимают, чтобы забыться. Для Лизы стрелка застыла на 23:58, как на часах Судного дня, – это и есть ее время, а тревожное ожидание на груде чемоданов в прихожей перед отъездом – ее связь с реальностью.
Время ползет, ползет едва слышно. Но Лиза его раскусила, это пакостное время, собравшееся вокруг нее в невнятную гармошку, смятым капотом отцовской машины, ржавеющей оградкой на кладбище. Время не знает маленьких радостей. Время эгоистично и подобно тупому ядовитому слизняку – оно течет медленно и тихо, оставляя за собой лишь едва заметный липкий след. Она представляет, как осенние листья засыпают разбитую дорожку, как собираются у берега заросшего санаторского пруда… Вот оно, время. Или как будто холодный ветер гуляет над пустырем у давно заброшенной стройки, где обитает стайка худых одичавших собак. В конечном счете ничего не имеет значения.
Время знают только московские реки, хмурые и бессмысленные водные жеребцы, – утекают зачем-то, несут себя вдоль Парка культуры, вдоль Нескучного сада, мимо Фрунзенской набережной, мимо Бережковской набережной, где они с Ваней когда-то гуляли; как песчинки в часах, просачиваются под стеклянные пешеходные мосты. И зачем им туда? Там сыро и пусто: можно громко крикнуть – и поднимется эхо, которое все равно никто не услышит. По мосту над рекой у Воробьевых гор простучит поезд на окраину. В поезде едут одинокие люди, спешат домой, чтобы напиться в мерцании монитора. Уже завтра кто-нибудь из них не выйдет на работу, но найдут пропавшего не сразу. Еще долго-долго в почтовом ящике будут копиться газеты и счета, а на подоконнике – пыль.
Человек в итоге со всей своей жизнью и так называемой душой вполне помещается в бетонную урну и находит вечный покой на дне реки, где среди других таких же погребальных урн и уродливых бетонных гробов, если верить слухам, селятся осьминоги… Постепенно домашние цветы обращаются коричневым прахом, сливаются с землей в горшке. А потом рухнет дом, растают ледники и детскую площадку поглотит вода. Сначала воды будет по локоть, потом глубина достигнет нескольких метров. Но в конце концов антенна самого высокого дома в районе, стоящего на холме, исчезнет под водой. И не станет ни осенних листьев, ни тропинки, ни худых собак… Вот оно, Лизино время, которое ей нужно помнить и нужно победить.
Лиза села на кровати. Над прямой пустотой стола поднимался прямоугольник фотографии с черным уголком.
– Доброе утро, – прошептала Лиза и не услышала собственных слов.
Из наушников глухо звучала песня «Что-то особое во мне» группы Shortparis – плейлист с этой песней Лиза обычно слушала на ночь. Опять она заснула вместе с музыкой. В санатории такое с ней случалось несколько раз – дело было, наверно, в каком-то особенно сонном воздухе или в так и не ставшем для нее привычным распорядке дня.
А может, на этот раз все дело было в нем, в этом Маре Агафонове, и без музыки этой ночью ей не удалось бы заснуть.
Как он там?
Сначала Лиза (даже прежде чем надеть очки) потянулась к телефону. Почему-то она почувствовала, что ее уже ждет ответ. Мара жив, она знала. Смерть она бы ощутила по запаху, по шуму ветра за окном.
Ее действительно ждали новые сообщения от него. Возможно, есть частица ее заслуги в том, что он до сих пор жив?
Поколебавшись, Лиза решила, что не станет читать сообщения сразу, подождет нужного настроения.
Поднявшись с кровати, она заметила, что у нее трясутся руки – как будто вовсе не спала.
Каждое утро все начиналось сначала: она одна в лодке посреди океана, и в этом опустошающем штиле ей предстоит вновь искать силы для жизни, как спасительный островок на горизонте.
Лиза оделась и спустилась во двор. Перед завтраком она обычно бродила по пустынной территории. Это был ее утренний ритуал, а ритуалы не откладывают, потому что они, даже самые глупые, священны. Пусть это была всего лишь бессмысленная смена положения тела в пространстве, пусть – нечто вроде выдавливания пустоты из тюбика зубной пасты, но эти прогулки уже успели войти в привычку и к тому же помогали ей справиться с вялым течением времени. Правда, она могла бы поклясться, что время в санатории течет иначе, чем снаружи, и иногда ей казалось, что один день здесь равен трем дням в Москве. Зато и ночь приходила в «Сосны» раньше и длилась как будто дольше. Раннее утро перед рассветом и поздняя ночь – вот что дарило Лизе надежду. Тем приятней было думать о том, что дни становятся все короче. Время, которое нужно убить, постепенно таяло у нее на глазах.
По тропинке, засыпанной опавшими листьями, Лиза спустилась к искусственному озерцу, присела на мокрую скамейку и положила на колени потрепанную толстую книгу в мягкой обложке.
Сейчас она перечитывала – и уже не впервые – «Волшебную гору» Томаса Манна (а ведь только одинокий человек с уймой свободного времени может позволить себе перечитывать оба тома дважды в год). Но, без сомнений, это было идеальное место для чтения Томаса Манна – в сырой тишине под тусклым фонарем. Лиза склонилась над книгой. Этим ноябрьским утром у нее в руках действительно было неисчислимое количество времени. Начинался очередной тихий день, который она собиралась провести в горько-приятном одиночестве.
Только в этот раз мысли путались и мешали сосредоточиться на чтении; несколько раз ей приходилось возвращаться к началу страницы. Она не знала наверняка: все из-за непрочитанных сообщений или из-за ночного кошмара, – но сердце стучало, а ведь уже давно ничего подобного с ней не происходило. Она привыкла думать, что внутри у нее совсем-совсем тихо и пусто…
Вскоре она не выдержала, захлопнула книгу, забыв оставить закладку, и открыла новые сообщения от Мары.
Мара, 2 ноября в 4:46
Я тебя вспомнил, Лиза, вспомнил ту нашу встречу в бассейне. Как же я мог тебя забыть? Прости меня за это.
Мара, 2 ноября в 4:50
Сейчас я дома. Ты, наверно, решишь, что я вовсе не собирался идти под воду, а только придумал повод тебе написать, но, поверь, это не так. Я давно уже вынашивал эту идею, как уродливого ребенка. Несколько раз я пытался, но никак не мог довести дело до конца. Мне не хватало решимости для последнего шага.
Мара, 2 ноября в 5:02
В этот раз меня спас, если можно так сказать, какой-то местный дворник. Он вроде убирал территорию от листьев, а может быть, просто следил за мной, этого я точно знать не могу. Наверно, это покажется странным, но я будто предвидел его появление на берегу – как раз перед тем, как меня застал врасплох взгляд его узких глаз, я думал о японских летчиках-камикадзе. Или я вспомнил о них потому, что у меня с самого утра крутилась в голове цитата японского же писателя Юкио Мисимы: «Безнадежность – это своего рода спокойствие». Как видишь, на меня производят большое впечатление чужие мысли.
Мара, 2 ноября в 5:07
Так или иначе, в воде у берега мне примерещились разбитые летчики в своих искореженных машинах, которые так точно ассоциируются у меня с этой фразой. И хотя мое желание со всем покончить не было спонтанным, все же именно слова Юкио Мисимы помогли мне обрести спокойствие и решиться пойти в воду. А то, что я отступил в последний момент, – для меня всего лишь очередное доказательство моей слабости.
Мара, 2 ноября в 5:16
Я думал, возможно ли это – здоровому и душевно полноценному человеку, в отличие от меня, крепко цепляющемуся за существование, добровольно пойти на смерть, причем принять эту смерть и заранее с ней смириться? Вообще-то мне очень сложно представить в роли камикадзе европейского человека. Может, такая жертвенность нам недоступна и характерна только для восточного типа мышления? Но ведь и в русском человеке должны быть зачатки этого мышления, раз уж мы до сих пор остаемся чем-то средним между людьми Запада и Востока, являясь как бы ментальным мостом между этими двумя мирами. Принято считать, что способность пойти на смерть есть у нас в крови, вернее, конечно, была в крови наших дедов и прадедов, но вот только имеет ли она что-то общее с хладнокровным решением отказаться от жизни, не зная наверняка, будет ли в этой жертве хоть какой-то смысл? О чем-то подобном я думал в тот момент, стоя по пояс в воде. Жизнь и смерть показались мне одинаково бессмысленными. Но я, конечно, вовсе не сравнивал – да и не имел никакого права сравнивать – свое глубоко эгоистичное желание с вынужденными жертвами военного времени.
Мара, 2 ноября в 5:19
В общем, вчера мне помешали, и я вернулся домой. Если бы ты мне не ответила, сегодня ничто не подняло бы мне настроение. Спасибо тебе за твой ответ. Ты даже не представляешь, как много это для меня значит. Я с радостью напишу тебе снова, если ты правда готова отвечать мне и дальше.
Мара, 2 ноября в 5:23
Мне было грустно читать о твоем одиночестве. Может, оно даже хуже моего, ведь моя мать умерла, она тоже предпочла покончить с собой, и я давно живу один. Мне, по крайней мере, никто не может помешать, мое одиночество – это константа, а тебе, вероятно, приходится прятаться, чтобы побыть наедине. То есть твое одиночество как будто вечно ждет тебя в засаде; так мне, по крайней мере, кажется.
Мара, 2 ноября в 5:37
Сейчас я собираюсь ложиться, но перед этим хочу тебя еще о чем-то спросить. Веришь ли ты в осьминогов, которые якобы живут на дне Москвы-реки? Как ты думаешь, если это правда, способны ли они испытывать хотя бы подобие человеческого одиночества? Недавно я случайно узнал, что у них целых три сердца, и я не могу себе это представить, мне становится страшно. Интересно, каково это, когда болят сразу три сердца?
Дочитав, Лиза выключила экран телефона и долго смотрела на спокойную воду декоративного пруда. Сперва она пыталась вообразить японского летчика-камикадзе, направляющего свою боевую машину в крутое пике, пыталась вообразить оглушительный рев двигателей и контрастирующую с этим ревом холодную решимость пилота, пыталась вообразить, как в последнюю секунду перед крушением закрываются его веки, навсегда прерывая взгляд еще живого человека, скрывающего все-таки в глубине души надежду о возвращении домой… А потом все мысли разом покинули ее, и время понеслось с невообразимой скоростью – так быстро, что она просидела на скамейке еще полчаса, даже не шелохнувшись.
Возвращаясь с прогулки, Лиза решила позвонить отцу. Ей вдруг страшно захотелось услышать знакомый голос, захотелось узнать, все ли у отца в порядке, а еще – приедут ли они с матерью на выходные. Кроме того, она думала о Маре. Она не знала, как ему ответит, но в одном все же была уверена: она обязательно ему напишет, а потом он, конечно, снова напишет ей. То, что между ними что-то началось – пусть и спустя год молчания, – для Лизы было очевидно. И она впервые подумала: «Как странно, что в сети все происходит так быстро и так легко говорить о сложных вещах с незнакомым человеком. И как приятно и как страшно думать о том, во что все это может вылиться».
4/
Куда текут реки
В столовую Лиза пришла с опозданием, за десять минут до конца обеденного времени. Опаздывала она регулярно, предпочитая за едой оставаться в одиночестве. Жевание и прихлебывание соседей по столу раздражали и отбивали аппетит.
В этот раз за столом сидела старушка с собранными в пучок седыми волосами. Она приветствовала Лизу легкой улыбкой. Лиза улыбнулась ей в ответ и поспешно отвела глаза.
Объедки, оставшиеся после других пациентов, еще не успели убрать со стола. Лиза брезгливо отодвинула подальше чью-то вылизанную тарелку. Кормили тут плохо, еда была безвкусной и всегда какого-то странного пепельного оттенка, хотя большинство пациентов это как будто не волновало, лишь бы порции давали побольше. Старушка, поправив на носу огромные очки, посматривала на Лизу, явно собираясь начать бестолковый разговор.
– Вечером ураган обещали, – сказала старушка.
Лиза не ответила. Как раз полная женщина в белом фартуке неспешно подкатила к столу тележку с едой и огласила меню:
– Щавелевый суп уже остыл, будете?
Лиза покачала головой.
– На второе картофельные зразы с грибами и рыба с пюре. – Женщина показала на блюда, оставшиеся на подносе. (Одни только эти названия приводили Лизу в отчаяние.) – Выбирайте быстрее.
Лиза выбрала рыбу и компот.
Женщина убрала пустые тарелки и укатила тележку. Столовые приборы печально звенели в такт ее шаркающим шагам.
– Вы в следующий раз пораньше приходите, а то ничего не останется, – подсказала старушка и, кажется, подмигнула. – Я здесь уже три недели живу, седьмого числа уезжаю. Раньше за другим столом сидела, вон за тем. – И старушка протянула трясущийся палец. – Я тут все-все знаю и вам подскажу.
– А я тут живу два месяца, – тихо ответила Лиза. – И не знаю, когда уеду.
Старушка замолчала.
Не доев своей порции, Лиза завернула остатки рыбы в салфетку, взяла с большого блюда топленое печенье и встала из-за стола. Старушка допивала остывший чай. После очередного глотка она опустила трясущуюся чашку на блюдце с отколотым краем.
– До свиданья, – сказала Лиза.
Старушка рассеянно кивнула.
У ступенек столовой Лиза оставила объедки на грязной тарелке. Тут же отовсюду набежали наглые толстые коты. Котов в окрестностях санатория водилось великое множество. В обеденные часы они неизменно собирались у столового корпуса, а в остальное время, если не шел дождь, лежали на отопительных трубах или занимали скамейки в аллее. У большинства из них были подраны уши, некоторые прихрамывали, а у самых старых котов от постоянных драк были разодраны бока или выбиты глаза, отчего их морды казались особенно бандитскими. Больше всего Лиза ненавидела молодых жирных котов, которым доставалась почти вся еда. Такие, пока сами не наедались до отвала, не подпускали к мискам слабых.
Лиза понаблюдала немного за тем, как они делят добычу, и покормила с руки взъерошенного котенка, которому, как всегда, не нашлось места у миски.
Во дворе было пусто и тихо. К ноябрю курортный сезон закончился и в санатории оставались по большей части только старики и инвалиды. И тех и других сюда сплавляли родственники. Некоторые жили в санатории по полгода, и их редко навещали. Кому-то здесь нравилось – в основном деревенским старикам, – но были и те, кто, пожив пару месяцев в санатории, бесследно исчезал. Такое, правда, происходило не то чтобы часто. Но каждое исчезновение, как бы оно ни скрывалось работниками администрации, все же не оставалось незамеченным для пациентов: когда номер таинственным образом освобождался, а вещи бывших жильцов складывались в подсобке на первом этаже главного корпуса, какая-нибудь старушка в столовой, перекрестившись, тихо говорила: «Ну вот и еще один пошел в воду». Спустя некоторое время за вещами пропавших приезжали родственники, хотя чаще их никто не забирал, и в кладовке годами копились наваленные друг на друга рюкзаки и чемоданы. Тогда уже вещи прибирал местный персонал – если, конечно, в куче невостребованного барахла удавалось найти что-нибудь стоящее.
Были среди пациентов и те, кто просто приезжал отдохнуть – погулять на праздниках и в выходные по сосновому бору или подлечиться. В основном семьи с детьми из Москвы и ближайших крупных населенных пунктов. Впрочем, к ноябрю таких почти не осталось: курортники исчезли еще в конце сентября, а вместе с ними исчез и детский смех. Когда-то этот смех, смех здоровых детей, Лизу раздражал. Тогда она еще думала, что пробудет здесь самое большее месяц-полтора… И вот уже незаметно подходит к концу осень, и медсестры в курилках вовсю треплются о надвигающемся новогоднем наплыве «городских мажоров», которые непременно займут пустующие люкс-номера.
Закачались над Лизой старые сосны: поднимался холодный промозглый ветер, который вскоре принесет зиму. Зима придет сюда раньше, чем в Москву; на сто пятьдесят километров раньше придет к Лизе зима.
Она пересекла двор и поднялась на второй этаж врачебного отделения. Ей нравилась длинная галерея между лечебным корпусом и жилым корпусом для врачей. Лиза заняла давно уже избранную ей скамейку напротив окон, выходящих на реку, чтобы поесть печенье. Река определенно существовала где-то там, за лесом, хотя Лиза едва ли могла ее разглядеть. Если бы Лиза писала книгу (она часто думала об этом, хотя дело так и не дошло до первой строчки), то она бы писала ее для воды. В книге Лизы не было бы привычной истории, начала и конца, пролога и катарсиса; герои умирали бы на каждой странице, не оставляя после себя следов и не внушая читателю никаких чувств. Жизнь одних героев плавно перетекала бы в жизнь других, и не было бы этому потоку ни конца ни края.
Лиза достала смартфон, открыла диалог с Марой и, подумав, написала:
Лиза, 2 ноября в 14:29
Привет, Мара. Как ты? Мне очень приятно, что ты снова мне написал, теперь я хотя бы знаю, что ты жив. Сказать по правде, мне никогда не приходилось читать такие длинные сообщения, и за это я очень тебе благодарна. Пока я читаю то, что ты мне пишешь, я и сама словно на время оказываюсь на свободе.
Дважды она стирала последнее слово, но в конце концов решила его оставить, раз уж оно так упорно просилось быть напечатанным.
Лиза, 2 ноября в 14:36
Твой вопрос кажется мне очень интересным. Не знаю, живут ли под водой осьминоги, но мне хотелось бы думать, что живут. Слухи не так уж и редко оказываются правдой. Когда я была маленькая, бабушка рассказывала мне о людях, добровольно уходящих под воду. Она всегда говорила, что это большой грех – покончить с собой. Бабушка пугала меня утопленниками, которые после смерти как бы не умирают насовсем, но, всеми забытые, продолжают существовать в каком-то темном и мрачном месте. Особенно это касается тех, кто был похоронен на подводных кладбищах. Скорее всего, бабушка говорила так, чтобы у меня не возникало дурных мыслей. А став взрослой, я никогда об этом у нее не спрашивала. Теперь никак не узнать, почему она так говорила, потому что моя бабушка уже умерла. Я никогда не размышляла о ее словах всерьез, но сейчас я думаю, что в них больше правды, чем сперва может показаться. Возможно, мне самой хочется верить, будто смерть – это не навсегда; на это у меня есть свои причины, может, я решусь тебе о них рассказать.
Лиза откусила от печенья и задумалась.
Лиза, 2 ноября в 14:41
Да, мне бы хотелось верить, что человеческая жизнь – всего лишь подготовка к чему-то по-настоящему важному. Может, к жизни под водой? Это бы меня немного успокоило. Хотя быть осьминогом и иметь три сердца действительно невообразимо печально. Об этом я не знала – что у них три сердца. Действительно, зачем им столько? Это в сто раз печальней, чем стать после смерти какой-нибудь, там, лягушкой или даже тиной или камышом. Быть лягушкой, тиной или камышом совсем не страшно. В этом больше смысла, чем проснуться однажды осьминогом на дне Москвы-реки, в темноте, холоде и одиночестве.
Закончив писать, она перечитала сообщения Мары. Вскользь он упоминал о смерти матери, и это интересовало ее больше всего. Может, зря она так просто размышляет с ним о смерти? Или совсем наоборот – именно смерть их связывает? Лиза увидела в Маре отражение самой себя. И это не показалось ей странным. Мара был так далеко, а потому почти что не существовал. Он был скорее образом, чем реальным человеком. А то, что невозможно доверить реальному человеку, так легко рассказать вымышленному персонажу из социальной сети.
Лиза чувствовала, что настала ее очередь ему открыться. И если у нее и появилось такое право – право как будто перейти невидимую черту и поделиться с Марой самым сокровенным, – то ей предстояло рассказать Маре о Ваниной смерти. Эта мысль пришла к ней просто и естественно. Это была страшная мысль, но и почему-то приятная. В конечном счете в виртуальном общении с малознакомым человеком важнее то, что пишешь ты, а не то, что пишут тебе. Рассказать о себе – вот, пожалуй, настоящая цель переписки в социальной сети, где тебя не могут осудить.
Пока она думала об этом, двери в лечебный корпус громко хлопнули и в галерею вошел Молохов. Подтянутый и грозный, вечно куда-то спешащий Молохов. Уверенными шагами он измерял пространство, задевая широкими плечами листья разросшихся папоротников; полы его распахнутого халата развевались, наподобие супергеройского плаща. Лет ему было под шестьдесят, слегка лысоват со лба, но это, впрочем, ему очень шло; к тому же волосы у него были довольно густые, серебристо-белого оттенка.
Лиза выключила экран и убрала телефон. Она как могла украдкой следила за врачом, а он сперва как будто не обратил на нее внимания. Но, проходя мимо Лизы, он остановился. Полы халата качнулись и замерли, опустившись, в ожидании дальнейших распоряжений.
– Что мы тут сидим? – по обыкновению громко спросил Молохов. И сразу сам, не дожидаясь, предложил вариант ответа: – Отдыхаем после обеда?
Лиза дернула плечами, словно резкий звук молоховского голоса передал ей статический заряд.
– Чем там сегодня кормят?
– Щавелевый суп, только я его не ела.
Молохов улыбнулся.
– Это зря. Что еще?
– Ну, картофельное что-то там и рыба.
Молохов быстро кивнул и задумался.
Лиза уставилась прямо перед собой, боясь встретиться с Молоховым взглядом. Слабые лучи скользили по стеклу. Лиза видела эти жалкие полосы словно сквозь мутную дымку. За окном, над вершинами приречных сосен, висел уголек солнца. А издалека надвигалась черная туча, похожая на огромного спрута, раскинувшего по небу рваные щупальца. «Где-то там, – подумала Лиза, – далеко, на берегу Москвы-реки, сидел вчера Мара Агафонов». Она опустила руку с недоеденным печеньем на худую коленку. Пара крошек упала на джинсы.
– Пойдем-ка побеседуем, – сказал Молохов, взглянув как будто сквозь нее.
– Мне же к вам завтра.
– А ты сейчас как будто занята? – спросил он, бросив на Лизу быстрый взгляд.
Этот вопрос ее смутил, и она не нашла, что ответить. Как будто он не знает (или только притворяется, что не знает): у пациентов нет никаких занятий, кроме борьбы со скукой. Она покачала головой.
– Я украду тебя ненадолго, никто и не заметит.
Молохов улыбнулся и властным движением взял Лизу под руку. Все его движения были властными, и все в нем – от резких морщин на лбу до туго стянутых на башмаках шнурков – дышало этой властью и призывало Лизу, да и всех вокруг, к немедленному подчинению. Он провел ее по галерее, через врачебный корпус, в свой кабинет, за дверь с табличкой «207».
Все медицинские кабинеты без исключения казались Лизе жалкими: ее угнетали однотипные нагромождения придвинутых к стенам канцелярских шкафов с медицинскими книгами, засиженные стулья у двери и больше всего – одинаковые грубые врачебные столы.
В молоховском кабинете Лиза бывала несколько раз в неделю, но все равно не смогла бы отличить его бедно обставленный кабинет от множества других. Она побывала в безликом множестве других. И хотя молоховский кабинет выглядел все же более аккуратным благодаря щепетильности хозяина, в остальном же это была самая обыкновенная убогая комнатка для еженедельного досмотра и очередного вынесения неутешительного приговора.
На стене, как особый опознавательный знак, висела таблица Сивцева, несколько верхних рядов которой она давно выучила наизусть: «ш-б, м-н-к, ы-м-б-ш, б-ы-н-к-м…» Эта таблица, эти усыхающие буквы непременно навевали тоску. Сколько еще подобных комнаток ей доведется повидать в ближайшие несколько лет, перед тем как она окончательно лишится зрения?
Едва они вошли, Молохов сразу подвинул для нее стул, повесил на спинку халат и жестом приказал ей сесть. Сам он обошел стол и опустился в массивное кресло у окна, сомкнув руки на груди. На столе перед ним лежала стопка выпиленных из фанеры пустых рам необычной формы; они еще не были покрыты лаком.
У Молохова было довольно странное хобби для врача – он увлекался столярным делом. Однажды из окна номера Лиза видела, как он идет по дорожке мимо жилого корпуса с фанерными листами под мышкой. Тем вечером Молохов закрылся в дальней хозяйственной постройке, и допоздна у него горел свет, мерцавший между сосновых стволов и показавшийся Лизе смутным маленьким светлячком в заоконной черноте… О странной любви Молохова к резьбе по дереву в санатории было наверняка известно не ей одной, но в тот момент Лиза подумала, что этот огонек светит только для нее.
И вот теперь эти рамы, старательно выпиленные ее лечащим врачом, возможно, именно той волшебной ночью, лежат у него на столе. Они подействовали на Лизу успокаивающе – в первую очередь потому, что являлись доказательством молоховской маленькой человеческой слабости.
Лиза послушно, хотя и неуверенно села на стул, сведя колени. Она слышала, как за окном воет ветер. Ей хотелось еще раз посмотреть в сторону реки – почему-то она надеялась, что увидит отсюда волнение воды, – но взгляд Молохова приковал ее к себе.
– Ну, улыбнись! – сказал он.
Лиза не улыбнулась, а вместо этого как-то неуверенно кивнула. Молохов ей нравился, но куда больше он ее пугал. Ее пугали его громкий голос и быстрые глаза, пугал поношенный, но всегда сверхъестественно вычищенный свитер, как будто без единой выбивающейся ворсинки.
По затянувшемуся молчанию она догадалась, что пришло время для привычного допроса. В этот раз Молохов начал издалека:
– Что-то с тобой творится, Лиза. Я за тебя волнуюсь. Мало ешь, гуляешь одна, пропускаешь процедуры.
Лиза пожала плечами.
– Это вам санитарка сказала?
В доносах она всегда подозревала санитарок.
– Нет. – Молохов усмехнулся, вытянул руки на столе. – Работа у меня такая – следить за здоровьем пациентов, даже если они сами лечиться не хотят. А с твоим одиночеством надо что-нибудь придумать. Меня это не меньше твоего здоровья беспокоит.
Лиза вздрогнула, испугавшись, что Молохов и правда может лишить ее самых приятных часов – часов одиночества.
– Вы же знаете, ничего мне не помогает, – сказала Лиза. – Было бы лучше, если бы меня просто оставили в покое.
Молохов покачал головой.
– Так не пойдет. Я же вижу, что у тебя душа не на месте.
– Душа? – удивилась Лиза.
– А что тебя так смутило? – Молохов криво улыбнулся. – Странно слышать такое от врача? Конечно, душа. Тебя что-то беспокоит, и это тревожит твои внутренние воды. А с этим так просто не разделаешься. Тебе нужно понять, что твоя обязанность здесь – лечиться, иначе у нас с тобой ничего не выйдет. Успешное лечение требует совместного труда врача и пациента. А если пациент сам лечиться не хочет, ни один препарат в полную силу не подействует, ни один врач не в силах будет помочь. Так что мы с тобой оба, так сказать, в одной лодке, боремся с твоей болезнью. И сейчас сдаваться ни в коем случае нельзя, нужно продолжать бороться. – Он помолчал. – Кстати, как там наши пилюли?
– Таблетки я пить перестала, – смущенно сказала Лиза, – от них только тяжесть в голове.
Она не решилась признаться Молохову, что давно уже не может уснуть без дозы транквилизатора или без бокала вина. Иногда она употребляла и то и другое. Это были не те лекарства, в которых нуждалось ее тело, но без них ей становилось тяжело и страшно.
– Понятно, – сухо сказал Молохов. – Ну и что мне с тобой делать?
Он встал из-за стола. Подошел к окну, посмотрел на потемневший двор, на тучу, поглотившую уже крест над деревенской церковью, и задернул шторы.
В кабинете сразу стало темно, вернее, неприятно тускло. Лиза поежилась: на секунду ей показалось, что шторы задернулись неспроста, что ее все-таки ждет наказание. Но Молохов все стоял у окна, постукивая костяшками пальцев по подоконнику. Тогда она успокоила себя мыслью, что Молохов в любом случае не сможет настаивать на возобновлении приема лекарств: в его распоряжении, да и, вероятно, во всей деревне все равно нет нужных ей препаратов, а те, что у нее остались, она сама привезла из Москвы.
– Не жалей себя, Лиза, никогда нельзя себя жалеть, – сказал Молохов после молчания. – Стоит только начать, один раз себе уступить, и счастье навсегда тебя покинет.
Лиза подумала: если бы он только мог знать, что она не имеет права даже помечтать о счастье… Она уже собиралась возразить, когда Молохов посмотрел на нее и улыбнулся, качнув головой, словно прочитал застывшую у нее на губах невысказанную мысль.
– Разве ты считаешь, что не заслуживаешь счастья? Конечно, тебе сейчас кажется, что это слишком сильное слово, ведь ты хоть и из другого поколения, но все-таки русский человек, и для тебя слово «счастье», конечно, звучит как нечто недостижимое, даже как нечто запретное, я прав? Тогда я тебе объясню. Под счастьем я подразумеваю общую значимость жизни; если точнее, значимость каждого прожитого дня. День, прожитый хотя бы без капли счастья, прожит напрасно. Значит, за счастье стоит бороться. Надеюсь, с этим ты спорить не станешь?











