Читать онлайн Стена
- Автор: Марлен Хаусхофер
- Жанр: Зарубежная фантастика, Социальная фантастика
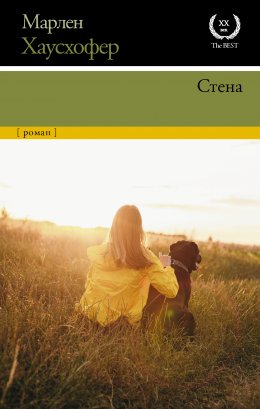
Marlen Haushofer
DIE WAND
First published in 1968 by Claassen Verlag
Published 2016 by Ullstein Taschenbuch Verlag
Перевод с немецкого Е. Крепак
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
© Перевод. Е. Крепак, 2019
© Издание на русском языке AST Publishers, 2021
Сегодня, пятого ноября, я начинаю свои записки. Запишу все как можно точнее. Но не знаю даже, действительно ли сегодня пятое ноября. Минувшей зимой я потеряла счет дням. Указать день недели тоже не могу. Правда, не думаю, что это так уж важно. Записки мои будут отрывочными, поскольку я никогда не предполагала их писать и боюсь, что оставшиеся у меня в памяти события на самом деле были не совсем такими.
Это, должно быть, недостаток любых записок. Я пишу не потому, что мне доставляет удовольствие писать; просто случилось так, что я должна писать, если не хочу лишиться рассудка. Здесь ведь нет никого, кто бы мог подумать и позаботиться обо мне. Я совсем одна и должна как-то пережить долгую темную зиму. Не рассчитываю, что эти записки когда-либо найдут. Не знаю даже, хотелось бы мне этого или нет. Может, пойму, когда допишу до конца.
Я стала писать, чтобы не глядеть в темноту и не бояться. Потому что я боюсь. Со всех сторон ко мне подступает страх, и я не собираюсь ждать, когда он настигнет меня и погубит. Буду писать, пока не стемнеет, и надеюсь, эта новая непривычная работа утомит меня, мысли уйдут и я усну. Утра я не боюсь, боюсь только долгих мрачных сумерек.
Не знаю точно, который час. Должно быть, около трех. Мои часы потерялись; но и прежде особого толку от них не было. Крохотные золотые часики на браслете, собственно говоря, просто-напросто дорогая игрушка, они никогда не шли точно. У меня есть шариковая ручка и три карандаша. Паста в ручке почти высохла, писать же карандашом я очень не люблю. Написанное трудно потом разбирать. Тонкие серые линии плохо видны на желтоватой бумаге. Но выбора-то у меня нет. Пишу на обороте старых календарей и на пожелтевшей почтовой бумаге. Бумага осталась от Гуго Рютлингера, ипохондрика и страстного коллекционера.
Вообще-то говоря, мне следовало начать эти записки с Гуго, ведь не будь его страсти к собирательству и ипохондрии, я бы сегодня тут не сидела, может быть, меня вообще бы уже не было на свете. Гуго был мужем моей кузины Луизы и довольно состоятельным человеком. Источником его благосостояния была котельная фабрика. Котлы, которые делал Гуго, – совсем особенные котлы. К сожалению, я забыла, в чем состояла эта особенность его котлов, хотя мне и объясняли много раз. Впрочем, это совершенно не относится к делу. Во всяком случае, Гуго был так богат, что был вынужден позволить себе нечто особенное. Вот он и позволил себе охоту. С таким же успехом он мог купить скаковую конюшню или яхту. Но лошадей Гуго боялся, и стоило ему ступить на палубу, как у него начиналась морская болезнь.
Охоту он тоже держал исключительно ради престижа. Был никудышным стрелком, да и претило ему убивать безобидных косуль. Он приглашал деловых партнеров, и те вместе с Луизой и егерем осуществляли плановый отстрел, а Гуго тем временем сидел в шезлонге перед охотничьим домиком, сложа руки на животе, и дремал на солнышке. Он был так загнан и задерган, что засыпал, едва опустившись в шезлонг: огромный толстый мужчина, измученный неясными страхами и осаждаемый заботами со всех сторон.
Он мне очень нравился, я тоже любила лес и спокойные дни в охотничьем домике. Ему не мешало, если я была где-нибудь поблизости, пока он спал в шезлонге. Я гуляла, не заходя далеко в лес, и наслаждалась тишиной после городского шума.
Луиза была заядлой охотницей; здоровое рыжеволосое созданье, она заводила роман с каждым встречным мужчиной. Ненавидя хозяйство, она радовалась, что я немного присматриваю за Гуго, варю между делом какао и готовлю ему бесконечные микстуры. Он же панически боялся заболеть, тогда я не могла понять этого как следует; жизнь его была сплошной гонкой, единственное же удовольствие – вздремнуть на солнышке. Он был очень мнительным и – как мне кажется – во всем, что не касалось его фирмы (что само собой разумелось), боязливым, как малый ребенок. Очень любил завершенность и порядок и отправлялся в дорогу не иначе как с двумя зубными щетками. У него всех предметов обихода имелось по нескольку штук; казалось, это прибавляет ему уверенности. Он был весьма образован, тактичен, а в карты играл плохо.
Не припомню, довелось ли мне хоть раз вести с ним серьезный разговор. Иногда он предпринимал слабые попытки такого рода, но очень быстро оставлял их то ли из робости, то ли просто не желая тратить силы. В любом случае меня это устраивало – из такого разговора для нас обоих не вышло бы ничего, кроме конфуза.
Тогда все время говорили об атомной войне и ее последствиях, что подвигло Гуго сделать в охотничьем домике небольшой запасец продуктов и других необходимых вещей. Луиза, считавшая все это бессмыслицей, злилась и боялась, что по округе пойдут разговоры и в дом кто-нибудь залезет. Может, она и была права, но в таких случаях упрямство Гуго было ничем не сломить. У него начинались сердечные приступы и боли в желудке, пока Луиза не сдавалась. А вообще-то ей это было глубоко безразлично.
Тридцатого апреля Рютлингеры пригласили меня поехать с ними. К тому времени я уже два года как овдовела, обе мои дочери были почти взрослыми, и я могла проводить время как мне угодно. Честно говоря, я не очень-то пользовалась предоставившейся свободой. По натуре я домоседка, дома мне лучше всего. Исключения я делала только для приглашений Луизы. Я любила охотничий домик и лес и готова была ехать на машине хоть три часа. Вот и тогда, тридцатого апреля, я приняла приглашение. Мы собирались провести здесь три дня и больше никого не приглашали.
Собственно говоря, охотничий домик – это двухэтажная деревянная вилла, построенная из толстых бревен, она и сегодня в хорошем состоянии. На первом этаже – большая кухня, она же – столовая и гостиная в деревенском стиле, рядом – спальня и маленькая комнатка. На втором этаже, окруженном деревянным балконом, – три небольшие комнаты для гостей. В одной из них я тогда и ночевала. Шагах в пятидесяти, на склоне у ручья, стоит скромный домик егеря, собственно, избушка в одну комнату, а рядом с ней, у самой дороги, Гуго распорядился построить дощатый гараж.
Так вот, после трехчасовой поездки мы остановились в деревне, чтобы забрать у егеря собаку Гуго. Пса, баварскую легавую, звали Лукс, и хотя он принадлежал Гуго, но вырос у егеря, он его и натаскивал. Удивительно, как это егерю удалось внушить псу, что его хозяин – Гуго. Во всяком случае, Луизу он не признавал, не слушался и старался не иметь с ней дела. В отношении меня пес сохранял дружественный нейтралитет и любил держаться поблизости.
Это было красивое животное с темной рыжевато-коричневой шерстью, великолепная охотничья собака. Мы немного поболтали с егерем и договорились, что следующим вечером он отправится с Луизой на охоту. Она собиралась подстрелить косулю: как раз первого мая начинался охотничий сезон. Разговор несколько затянулся, как обычно бывает в деревне, но даже Луиза, которой никогда этого было не понять, сдерживала нетерпение, чтобы не раздражать егеря, поскольку не могла без него обойтись.
До домика мы добрались только к трем. Гуго немедленно взялся перетаскивать новые припасы из багажника в комнату за кухней. Я сварила на спиртовке кофе, и, перекусив, Луиза предложила Гуго, только что пристроившемуся подремать, еще раз прогуляться с ней в деревню. Разумеется, только из вредности. Так или иначе, она очень ловко взялась за дело, объявив, что движение необходимо для здоровья Гуго. К половине пятого она наконец добилась своего и, торжествуя, отбыла вместе с ним. Полагаю, они приземлились в деревенском трактире. Луиза любила общаться с лесорубами и деревенскими парнями, ей и в голову не приходило, что эти простаки могут втихомолку потешаться над ней.
Я убрала со стола посуду и повесила одежду в шкаф; закончив, присела на скамейке перед домом, на солнышке. Стоял чудесный теплый день, и, судя по прогнозу, хорошая погода должна была держаться. Солнце стояло низко над елями и вскоре село. Охотничий домик находился в маленькой котловине в конце ущелья, у подножья крутых гор.
Греясь в последних лучах солнца, я увидела, что Лукс возвращается. Наверное, он отказался слушаться Луизу, и в наказание она отправила его обратно. Видно было, что она его отругала. Подойдя, он огорченно на меня поглядел и положил голову мне на колени.
Так мы просидели некоторое время. Я гладила Лукса и утешала его – я знала, что Луиза совершенно не умеет обращаться с собакой.
Когда солнце скрылось за елями, похолодало и на прогалину легли синие тени. Мы с Луксом пошли домой, я затопила большую печь и стала готовить что-то вроде плова. Конечно, этого можно было и не делать, но я проголодалась и к тому же знала, что Гуго любит настоящий, горячий ужин.
В семь часов моих хозяев еще не было. Да я и не рассчитывала, что они вернутся раньше полдевятого. Я накормила собаку, поужинала своей порцией плова и села читать при свете керосиновой лампы газеты, привезенные Гуго. От тепла и тишины меня разморило. Лукс залез под печку, он тихо и довольно сопел. В девять я решила лечь спать. Заперла дверь, а ключ взяла с собой наверх. Я так устала, что тут же уснула, несмотря на то что постель была холодная и сырая.
Проснулась оттого, что солнце светило мне в лицо, и сразу вспомнила прошлый вечер. Поскольку мы захватили только один ключ от дома, а второй был у егеря, Луиза и Гуго, вернувшись, непременно должны были разбудить меня. Накинув халат, я помчалась вниз и отперла входную дверь. Лукс уже ждал, повизгивая от нетерпения, и пулей вылетел на улицу. Я зашла в спальню, хотя и была уверена, что никого там не обнаружу, ведь окна забраны решетками, да Гуго не смог бы влезть даже в незарешеченное окно. Разумеется, постели были не смяты.
Было восемь утра; судя по всему, они остались в деревне. Я страшно удивилась. Гуго ненавидел чужие короткие кровати, и он ни за что не допустил бы, чтобы я осталась на всю ночь одна. Я ума не могла приложить, что случилось. Вернулась в свою комнату и оделась. Было еще очень свежо, и на черном «мерседесе» Гуго блестела роса. Вскипятив чаю, я немного согрелась, а потом мы с Луксом отправились в деревню.
Я едва замечала холод и сырость в ущелье, ломая голову, что же могло приключиться с Рютлингерами. Может, Гуго стало плохо с сердцем? Привыкнув к тому, что он всегда хандрит, мы перестали принимать его недомогания всерьез. Я ускорила шаг и послала Лукса вперед. Он помчался с радостным лаем. Я не надела горных ботинок и теперь, спотыкаясь, брела за ним по острым камням.
Дойдя до конца ущелья, я услышала, как Лукс взвыл от боли и испуга. Я обошла штабель бревен, из-за которого ничего не было видно, но обнаружила за ним только воющего Лукса. Из пасти у него капала красная слюна. Я наклонилась и погладила его. Он прижался ко мне, дрожа и повизгивая. Должно быть, прикусил язык или сломал зуб. Когда я собралась идти дальше, он поджал хвост, заступил дорогу и стал толкать меня назад.
Я не видела ничего, что могло бы его так напугать. В этом месте дорога выходит из ущелья, и, насколько хватало взгляда, она пустынно и мирно лежала в лучах утреннего солнца. Я недовольно оттолкнула собаку и пошла дальше одна. Хорошо, что Лукс пытался задержать меня – уже через несколько шагов я сильно ударилась обо что-то лбом и отшатнулась.
Лукс снова заскулил и прижался к моим ногам. Я ошеломленно вытянула руку и коснулась чего-то холодного и гладкого: холодное и гладкое препятствие там, где не могло быть ничего, кроме воздуха. Помедлив, я повторила попытку, и рука вновь наткнулась на что-то вроде оконного стекла. Затем я услышала громкий стук и озиралась до тех пор, пока не поняла, что это колотится мое собственное сердце. Мое сердце испугалось раньше меня.
Я присела на бревно возле дороги и попыталась собраться с мыслями. Безуспешно. У меня вдруг не осталось ни единой мысли. Лукс подобрался поближе, его кровавая слюна капала мне на пальто. Я гладила его, пока он не успокоился. Некоторое время мы оба глядели на дорогу, что так тихо и мирно лежала в лучах утреннего солнца.
Я вставала еще трижды и убедилась, что здесь, в трех метрах от меня, на самом деле есть нечто невидимое, гладкое, холодное, не пускающее дальше. Я подумала о галлюцинации, хотя знала, что это не имеет с ней ничего общего. Я скорее примирилась бы с легким помешательством, чем с этой страшной невидимой штукой. Но вот – Лукс с окровавленной мордой, а вот – начавшая болеть шишка у меня на лбу.
Не знаю, сколько я просидела на бревне, но припоминаю, что мысли все время крутились вокруг чего-то несущественного, словно ни за что не желая заняться непостижимым.
Солнце поднялось выше и согрело спину. Лукс все облизывался, кровь наконец перестала идти. Судя по всему, он поранился несильно.
Сообразив, что нужно что-то делать, я велела Луксу сидеть. Потом, осторожно вытянув вперед руки, приблизилась к невидимой преграде и пошла вдоль нее на ощупь, пока не добралась до склона ущелья. Дальше пути не было. Перейдя на другую сторону дороги, я дошла до ручья и только теперь заметила, что его слегка подпрудило и он вышел из берегов. Но воды было мало. Весь апрель было сухо, а таянье снегов уже миновало. По другую сторону стены – я начала называть эту штуку стеной, ведь как-то я должна была ее называть, раз она вдруг появилась, – по другую, стало быть, сторону стены ложе ручья было почти сухим, но на некотором расстоянии вода уже текла тонкой струйкой дальше. По всей видимости, она просочилась сквозь пористый известняк. Следовательно, стена не могла уходить глубоко в землю. Я почувствовала слабое облегчение. Переходить запруженный ручей не хотелось. Нельзя было поверить, что стена вдруг кончится, ведь тогда вернуться Луизе и Гуго было бы проще простого.
Тут я осознала – а подсознательно эта мысль, видимо, давно меня мучила, – что на дороге не видно ни души. Наверняка кто-нибудь давно бы уже поднял тревогу. Естественно было бы, если бы перед стеной собрались любопытные деревенские жители. Даже если никто из них и не набрел на стену, так Гуго и Луиза наверняка на нее наткнулись бы. То, что никого не было видно, казалось мне еще более загадочным, чем стена.
На теплом утреннем солнце меня начал бить озноб. Первая маленькая ферма, собственно, просто лачуга, была за ближайшим поворотом. Перейдя ручей и немного поднявшись по склону, я наверняка ее разгляжу.
Я вернулась к Луксу и поговорила с ним. Он ведь понимал абсолютно все и гораздо больше моего нуждался в утешении. Я вдруг поняла, какое счастье, что Лукс со мной. Сняв чулки и туфли, перешла ручей. На том берегу стена продолжалась вдоль горного луга. Вот наконец-то и ферма. Она тихо стояла, залитая солнцем: мирная знакомая картина. У колодца склонился мужчина, рука его замерла на полпути от воды к лицу. Чистенький старичок. Подтяжки спущены, рукава засучены. Но до лица он руку не донес. Он вообще не шевелился.
Я закрыла глаза, подождала, открыла их снова. Чистенький старичок стоял по-прежнему неподвижно. Теперь я заметила, что левой рукой и коленями он упирался в край колодца, потому, наверное, и не падал. Возле дома – садик, там вместе с пионами и другими цветами росла всякая зелень. Еще там был тощий и растрепанный куст сирени, она уже отцвела. Апрель стоял почти по-летнему теплый, даже здесь, в горах. В городе и пионы уже отцвели. Дыма над трубой не было.
Я ударила по стене кулаком. Стало немного больно, больше ничего не произошло. И неожиданно расхотелось разбивать стену, отделившую меня от того непостижимого, что случилось со стариком у колодца. Я очень осторожно перешла ручей и вернулась к Луксу, который что-то обнюхивал и, казалось, позабыл недавний испуг. Он обнюхивал мертвого поползня. Птица разбила голову, вся грудка была в крови. Этот поползень – первая из множества пичуг, погибших тем сияющим майским утром. Почему-то все время на ум приходит этот поползень. Рассматривая его, я наконец обратила внимание на тревожные крики птиц. Должно быть, слышала их уже давно, не отдавая себе в этом отчета.
Вдруг меня отчаянно потянуло прочь от этого места, назад, в охотничий домик, прочь от горестных криков и крохотных окровавленных трупиков. Лукс тоже забеспокоился и, заскулив, прижался ко мне. На обратном пути он не отходил от меня, я пыталась его утешить. Не помню, что говорила, мне важно было не молчать в мрачном сыром ущелье, где зеленоватый свет сочился сквозь листву буков, а по голым склонам скал слева от дороги струились тоненькие ручейки.
Мы попали в скверную историю, Лукс и я, только тогда мы еще не знали, насколько скверную. Но раз нас двое, еще не все потеряно.
Охотничий домик ярко освещало солнце. Роса на «мерседесе» высохла, черная крыша на солнце отливала красным. Над прогалиной порхали бабочки, терпко пахло хвоей. Я уселась на скамейку перед домом, и все увиденное в ущелье тут же показалось мне совершенно невозможным. Такого просто не бывает, не бывает, и все, а если уж бывает, то не в маленькой горной деревеньке, не в Австрии и не в Европе. Знаю, что очень смешные мысли, но именно это пришло мне в голову, ничего не поделаешь. Я молча сидела на солнце, глядела на бабочек, полагаю, что какое-то время я вообще ни о чем не думала. Лукс, напившись у колодца, прыгнул на скамейку и положил голову мне на колени. Я обрадовалась его вниманию, но потом сообразила: у бедной собаки не было выбора.
Через час я вошла в дом, подогрела нам с Луксом остатки плова, затем, чтобы прояснилось в голове, сварила кофе и выкурила три сигареты. Это были мои последние сигареты. Гуго, заядлый курильщик, по рассеянности прихватил с собой в деревню в кармане пальто четыре пачки, а сделать в охотничьем домике на случай грядущей войны еще и запас сигарет ему пока не приходило в голову. Выкурив эти три сигареты, я поняла, что оставаться в доме больше не могу, и мы с Луксом вновь отправились в ущелье. Пса это явно не обрадовало, но он не отходил от меня ни на шаг. Всю дорогу я почти бежала и, когда показались бревна, совсем запыхалась. Дальше пошла медленно, вытянув вперед руки, пока не коснулась холодной стены. Несмотря на то что ничего другого я и не ожидала, шок оказался гораздо сильнее, чем в первый раз.
Ручей был все еще подпружен, однако струйка по другую сторону стала немного шире. Я сняла туфли и перебралась на другой берег. Теперь Лукс нерешительно и неохотно последовал за мной. Он не боялся воды, но она была ледяная и доставала ему до брюха. Невозможность видеть стену раздражала, я наломала целую охапку веток орешника и стала втыкать их в землю вдоль стены. Казалось, это нужно сделать немедленно, я так увлеклась, что ни о чем не думала. Втыкала ветки страшно старательно. Поднимаясь в гору, я вновь добралась до того места, откуда была видна ферма.
Старик по-прежнему стоял у колодца, не донеся руку до лица. Небольшой участок долины в пределах видимости заливало солнце, золотисто-зеленый прозрачный воздух у опушки леса дрожал и переливался. Теперь Лукс тоже разглядел старика. Он сел, вытянул шею, и из его пасти вырвался протяжный страшный вой. Он понял, что предмет у колодца не был живым человеком.
Его вой рвал сердце, мне тоже хотелось завыть. Казалось, сердце рвется в клочья. Я ухватила Лукса за ошейник и потащила за собой. Он умолк и дрожал. Я медленно пробиралась вдоль стены дальше, втыкая в землю одну ветку за другой.
Оглядываясь, я могла проследить новую границу до ручья. Это выглядело так, словно тут играли дети, играли в безобидную весеннюю игру. Плодовые деревья по ту сторону стены уже отцвели, их светло-зеленая листва блестела на солнце. Стена мало-помалу поднималась в гору, к купе лиственниц посреди луга. Отсюда были видны еще два хутора и часть долины. Сообразив, что нужно было взять бинокль Гуго, я рассердилась на себя. Так или иначе, людей заметно не было, вообще ни единого живого существа. Не поднимался дым над крышами. По моим расчетам, несчастье должно было стрястись вечером и застать Рютлингеров еще в деревне или на обратном пути.
Если человек у колодца мертв, а в этом я больше не сомневалась, то мертвы и все люди в долине, и не только люди, но все живое. В живых осталась только трава на лужайках, трава да деревья. Молодая листва сверкала на солнце.
Я стояла и смотрела туда, упершись обеими руками в холодную стену. Вдруг мне вообще расхотелось видеть что-либо. Я позвала Лукса, который развлекался рытьем земли под лиственницами, и пошла обратно, все вдоль низенькой игрушечной границы. Перейдя ручей, я продолжила границу до скал, и мы медленно повернули к дому. Из зеленого прохладного сумрака ущелья вышли на прогалину, и нас ослепило солнце. Луксу явно все надоело, он помчался в дом и залез под печку. Как всегда, когда что-то превосходило его понимание, он сразу заснул, немного посопев и пару раз зарычав. Я позавидовала этой его способности. Стоило ему уснуть, как мне сразу же стало недоставать легкого беспокойства, всегда им причиняемого. Но все-таки лучше быть в доме со спящей собакой, чем совсем одной.
У Гуго, который сам не пил, был для гостей небольшой запас коньяка, виски и джина. Я налила стакан виски и села к большому дубовому столу. Я не собиралась напиваться, просто в отчаянии искала средство, способное избавить голову от тупого оцепенения. Сообразила, что думаю о виски как о своем, стало быть, не верю больше, что вернется законный хозяин. Это повергло меня в легкий шок. После третьего глотка с отвращением отодвинула стакан. На вкус напиток напоминал вымоченную в лизоле солому. Проясняться в голове было нечему. Я убедилась, что за ночь то ли опустилась, то ли выросла незримая стена, найти этому объяснение было в моем положении совершенно невозможно. Я не испытывала ни горя, ни отчаянья, и было бы бессмысленным заставлять себя испытывать их. Я была достаточно искушена, чтобы знать: ничто меня не минует. Наиболее важным казался ответ на вопрос: постигло ли несчастье только долину или всю страну? Я решила остановиться на первом, ведь это оставляло надежду, что через несколько дней меня освободят из заточения в лесу. Сегодня думается, что в глубине души я уже тогда не верила в подобную возможность. Но не уверена. Во всяком случае, у меня хватило рассудительности не терять надежду сразу. Через некоторое время почувствовала, как болят ноги. Сняла туфли и чулки и увидела, что стерла пятки до пузырей. Боль была очень кстати, она отвлекла от бесплодных раздумий. Вымыв ноги, смазав пятки мазью и заклеив их пластырем, я решила устроиться в доме так, как это казалось наиболее приемлемым. Первым делом перетащила кровать Луизы из спальни в кухню и придвинула к стене, чтобы видеть всю комнату, дверь и окно. Баранью шкуру, принадлежавшую Луизе, я постелила перед кроватью в тайной надежде, что Лукс будет на ней спать. Однако он этого не сделал и продолжал спать под печкой. Тумбочку из спальни я тоже забрала. Платяной шкаф перетащила на кухню позже. Закрыла в спальне ставни и заперла дверь, ведущую туда из кухни. Верхние комнаты тоже заперла и повесила ключи на гвоздь около печки. Не знаю, зачем я все это делала, должно быть, инстинктивно. Нужно было все видеть, чтобы обезопасить себя от нападения. Повесила рядом с кроватью заряженное охотничье ружье Гуго, а фонарик положила на тумбочку. Знала, что все эти меры направлены против людей, и они показались мне смешными. Но, поскольку прежде всякая опасность исходила от людей, мне не удалось быстро перестроиться. Единственным врагом в моей прежней жизни был человек. Потом я завела будильник и часики, принесла дров из поленницы под балконом и сложила их на кухне возле плиты.
Тем временем пришел вечер, подул холодный ветер с гор. Солнце еще не ушло с прогалины, но все цвета стали резче и холоднее. В лесу барабанил дятел. Я обрадовалась, что слышу его стук и плеск воды – лившейся сильной струей в деревянную колоду. Накинув пальто, села на скамейку перед домом. Отсюда мне было видно дорогу до самого ущелья, избушку егеря, гараж и темные ели за ним. Иногда мне казалось, что из ущелья доносятся шаги, но, конечно, всякий раз просто казалось. Некоторое время я абсолютно бездумно наблюдала за огромными лесными муравьями, пробегавшими мимо узенькой торопливой вереницей.
Дятел перестал барабанить, холодало, смеркалось. Клочок неба надо мной стал красно-розовым. Солнце скрылось за елями. Прогноз не обманул. При этой мысли я вспомнила о приемнике в машине. Окно было до половины опущено, и я нажала маленькую черную кнопку. Чуть погодя услышала негромкий бессмысленный шум помех. Вчера, пока мы ехали, Луиза, к моему неудовольствию, слушала танцевальную музыку. Теперь я просто подскочила бы от радости, услышав несколько тактов этой музыки. Я вертела все ручки – только тихий далекий шелест, может, это шумел сам приемник. Уж тут бы мне и понять. Но не хотелось. Я уверила себя, что в приемнике за ночь что-то разладилось. Я крутила и вертела ручки, но из приемника не доносилось ничего, кроме шелеста помех.
Наконец я бросила это дело и вновь уселась на скамейку. Из дома вышел Лукс и положил голову мне на колени. Хотел, чтобы его приласкали. Я заговорила с ним, он внимательно слушал и, поскуливая, прижимался ко мне. Потом лизнул мне руку и нерешительно заколотил хвостом по земле. Нам обоим было страшно, и мы старались приободрить друг друга. Голос мой звучал чуждо и нереально, я зашептала, тогда он слился с журчаньем воды. Колодец еще часто будет пугать меня. С известного расстояния его плеск походит на беседу двух заспанных человеческих голосов. Но тогда я этого еще не знала. Сама того не замечая, перестала шептать. Мерзла в своем пальто и глядела, как сереет небо.
Наконец вернулась в дом и затопила печь. Потом заметила, что Лукс отправился ко входу в ущелье и замер там в ожидании. Через некоторое время повернулся и потрусил к дому, повесив голову. Это повторялось еще три или четыре вечера. Потом он, кажется, сдался; во всяком случае, больше он себя так не вел. Не знаю, то ли просто забыл, то ли на свой собачий лад быстрее, чем я, понял, в чем дело.
Я накормила его пловом и собачьими консервами и налила ему воды в плошку. Знала, что обычно его кормят только по утрам, но не хотелось есть одной. Потом заварила чаю и снова села к большому столу. В доме потеплело, керосиновая лампа бросала на темное дерево желтый свет.
Только теперь я заметила, как устала. Окончив трапезу, Лукс запрыгнул ко мне на лавку и долго внимательно на меня смотрел. Глаза у него красно-коричневые, теплые, чуть темнее шерсти. Белок вокруг радужки поблескивал голубовато и влажно. Я вдруг страшно обрадовалась, что Луиза прогнала собаку.
Отставив чашку в сторону, я налила воды в жестяной таз и вымылась, а потом легла, раз делать больше было нечего.
Ставни я закрыла и дверь заперла. Немного погодя Лукс спрыгнул с лавки, подошел и обнюхал мою руку. Потом пошел к двери, оттуда – к окну и вернулся к кровати. Я ласково заговорила с ним, и наконец, вздохнув почти по-человечьи, он забрался на свое место, под печку.
Лампа еще некоторое время горела, когда же я ее погасила, показалось, что в комнате темно, хоть глаз выколи. На самом же деле было вовсе не так темно. Догорающий огонь в печи бросал слабый мерцающий отсвет на пол, некоторое время спустя я смогла различить очертания лавки и стола. Я подумала, не принять ли одну из снотворных таблеток Гуго, но не решилась, боясь что-нибудь прослушать. Потом мне почудилось, что в тишине и темноте ночи страшная стена, чего доброго, придвигается все ближе и ближе. Но я слишком устала, чтобы бояться. Ноги все болели, я лежала, вытянувшись, на спине и от усталости не могла и головы повернуть. После всего, что случилось, надо быть готовой к скверной ночи. Едва успев об этом подумать, я уснула.
Мне ничего не снилось, и около шести, когда запели птицы, я проснулась отдохнувшей. Тут же обо всем вспомнила и в ужасе закрыла глаза, пытаясь снова нырнуть в сон. Безуспешно, разумеется. Хоть я не шелохнулась, Лукс понял, что я не сплю, и подошел к кровати, чтобы поздороваться радостным повизгиванием. Тут я встала, открыла ставни и выпустила Лукса. Было очень холодно, небо – бледно-голубое, кусты блестят росой. Занимался сияющий день.
Неожиданно я поняла, что пережить такой сияющий майский день совершенно невозможно. Зная одновременно, что пережить придется, все пути отступления мне заказаны. Нужно только сохранять спокойствие и просто перетерпеть. Это был не первый такой день в моей жизни. Чем меньше упираться, тем будет легче. Вчерашнее отупение прошло, я могла ясно мыслить, насколько я вообще в состоянии ясно мыслить, но стоило моим мыслям добраться до стены, как они словно натыкались на холодное, гладкое и совершенно неодолимое препятствие. О стене лучше не думать.
Я надела халат и тапочки, перешла через сырую дорогу к машине и включила радио. Тихий пустой шелест; он звучал так нечеловечески, что я тут же выключила приемник.
В то, что он сломался, я больше не верила. В холодной ясности утра верить в это было абсолютно невозможно.
Не помню, что я делала тем утром. Знаю только, что некоторое время неподвижно стояла возле машины, пока меня не привела в себя роса, насквозь промочившая тонкие тапки.
Вероятно, потом было настолько скверно, что я должна была забыть об этом. А может, я просто впала в прострацию. Не помню. Пришла в себя около двух часов пополудни, когда мы с Луксом шли ущельем.
Впервые ущелье показалось мне не очаровательно-романтичным, а просто сырым и мрачным. Оно и в разгар лета такое, солнечные лучи никогда не достигают его дна. После ливней из убежищ под камнями выползают огненные саламандры. Позже, летом, я их несколько раз видела. Их там целая куча. Иногда мне встречалось по десять-пятнадцать саламандр на день: великолепные создания в черных и красных пятнах, они всегда напоминают мне цветы, тигровые лилии или настурции, а не своих скромных серо-зеленых родственниц-ящериц. Я ни за что не дотронусь до саламандры, а ящериц люблю брать в руки.
Тогда, второго мая, я их не видела. Дождя же не было, да я пока и вообще не знала, что они там водятся. Я торопилась вперед, чтобы выбраться из сырого зеленого сумрака. На этот раз снарядилась лучше: горные ботинки, брюки до колен и теплая куртка. Пальто вчера только мешало: когда я прокладывала границу, полы волочились по земле. Взяла еще бинокль Гуго, рюкзак с бутербродами и какао в термосе.
Кроме маленького ножичка (карандаши точить), при мне был еще острый складной нож Гуго. Он совсем ни к чему, срезать ветки им слишком опасно, порежешься – и все. Но, не признаваясь в том себе самой, я прихватила нож для самозащиты. Это такая вещь, что внушает чувство ложной безопасности. Потом я часто забывала его дома. С тех пор как погиб Лукс, он снова всегда при мне. Уж теперь-то я очень хорошо знаю – зачем, и не внушаю себе, что беру его для срезания ореховых веток. Конечно же, стена была на прежнем месте и вовсе не придвинулась ближе к охотничьему домику, как я навоображала вечером. Отодвинуться она тоже не отодвинулась, да этого я от нее и не ждала. Ручей достиг прежнего уровня, ему явно не составило труда пробиться сквозь мягкую породу. Я перешла его, прыгая с камня на камень, и пошла вдоль игрушечной границы к наблюдательному пункту у лиственниц. Там наломала свежих веток и принялась обозначать стену дальше.
Утомительное же занятие, скоро от ходьбы внаклонку заболела спина. Но меня словно заклинило на том, что нужно продолжать, сколько удастся. Такие мысли успокаивали и вносили в огромный страшный сумбур, обрушившийся на меня, намек на порядок. Такого, как стена, просто не должно быть. То, что я обозначала ее зелеными ветками, стало первой попыткой поставить ее на место, раз уж она тут.
Мой путь вел через две горные лужайки, молодой ельник и густой малинник. Пекло солнце, кровоточили руки, исцарапанные шипами и камнями. Прутики, само собой, годились только на открытых местах, в кустах нужны были настоящие жерди; кое-где я делала также ножом зарубки на деревьях около стены. Все это очень задерживало, вперед я продвигалась крайне медленно.
Со склона, где рос малинник, было видно почти всю долину. В бинокль я разглядела все очень ясно и четко. Перед домиком тележника на солнце неподвижно сидела женщина. Лица видно не было, она опустила голову и как будто спала. Я смотрела так долго, что на глаза навернулись слезы, краски и контуры расплылись. Поперек порога неподвижно лежала овчарка, положив голову на лапы.
Если это смерть, то она наступила очень быстро и ласково, почти любовно. Может, умнее было пойти в деревню с Гуго и Луизой.
Наконец я оторвалась от мирной картины и пошла втыкать ветки дальше. Стена снова шла под уклон, к небольшой лужайке, где стоял одноэтажный дом; собственно, совсем маленький домик, каких много в горах, не сравнить с большущими домами в долинах.
Стена прошла по поляне за домом и срезала два сука со стоящей там яблони. Вообще-то они выглядели не срезанными, а оплавленными, если можно представить оплавленное дерево.
Я к ним не прикоснулась. По ту сторону стены на лугу лежали две коровы. Я долго на них смотрела. Бока неподвижны.
Они тоже казались скорее спящими, чем мертвыми. Розовые ноздри больше не влажные и не блестящие, скорее они напоминали умело раскрашенный мелкозернистый камень.
Лукс отвернулся и стал глядеть на лес. Он не завыл так страшно, как вчера, он туда просто не смотрел, словно решив не обращать внимания на все, что за стеной. Когда-то у моих родителей была собака, которая так же отворачивалась от всех зеркал.
Разглядывая мертвых коров, я услыхала за спиной мычание и взволнованный лай Лукса. Стремительно обернулась, тут кусты раздвинулись и на поляну, в сопровождении возбужденного пса, вышла мычащая живая корова. Тут же подойдя ко мне, она поведала историю своих злоключений. Бедное животное два дня не доили, его мычание стало низким и хриплым. Я немедленно постаралась ей помочь. Молоденькой девушкой я для развлечения научилась доить, но прошло целых двадцать лет, и я растеряла все умение.
Корова терпеливо все снесла, она поняла, что я хочу помочь. Желтоватое молоко лилось на землю, Лукс принялся его лизать. У коровы было очень много молока, и от непривычного занятия у меня заболели руки. Наконец корова совершенно успокоилась, нагнула голову и потянулась большой мордой к коричневому носу Лукса. Обнюхивание завершилось к обоюдному удовольствию, оба были удовлетворены и успокоены.
И вот я стою на абсолютно незнакомой полянке в лесу и у меня – корова! Совершенно ясно: бросить ее я не могу. Только теперь я заметила у нее на морде следы крови. Видимо, она тоже билась о стену, не дающую вернуться в родной хлев, к хозяевам.
Хозяев нигде не видно. Верно, в момент катастрофы они были дома. Задернутые занавески на маленьких окошках укрепили меня в мысли, что все стряслось вечером. Не слишком поздно, если старик как раз умывался, а старуха с кошкой сидели на скамейке. Рано утром, когда еще прохладно, старухи с кошками на скамейках не сидят. К тому же, если бы несчастье разразилось утром, Гуго с Луизой уже давно были бы дома. Я все это прикинула и тотчас сказала себе, что подобные мысли совершенно бесполезны. Так что я их отбросила и, призывно крича, направилась в кусты искать другую корову, но никого не обнаружила. Если бы поблизости был еще кто-нибудь рогатый, Лукс давно бы его нашел.
Мне ничего не оставалось, кроме как гнать корову по горам и долам домой. Так что прокладыванию границы пришел скорый конец. Да и вообще было уже поздно, около пяти, и лишь редкие лучи достигали дна ущелья.
Итак, мы отправились домой втроем. Хорошо, что я натыкала прутьев и мне не надо было идти вдоль стены ощупью. Я медленно шла между коровой и стеной, боясь, что животное переломает ноги. Но, судя по всему, она привыкла ходить по горам. Погонять ее тоже не было нужды, я только следила, чтобы она держалась на достаточном от стены расстоянии. Лукс уже смекнул, что означает моя игрушечная граница, и норовил держаться от нее подальше.
Всю дорогу я и не вспоминала о стене, так занимал меня мой найденыш. Корова то и дело останавливалась и пощипывала траву, тогда Лукс ложился поблизости и не спускал с нее глаз. Когда ему это надоедало, он ласково ее подталкивал, и она послушно отправлялась дальше. Не знаю, так ли это, но потом мне часто казалось, что Лукс здорово умел обращаться с коровами. Вероятно, егерь иногда использовал его как пастушью собаку, когда осенью выгонял своих коров в луга.
Корова казалась спокойной и всем довольной. После двух страшных дней она нашла человека, избавившего ее от тяжкого бремени молока, и вовсе не думала убегать. Найдется где-то и хлев, куда гонит ее этот новый хозяин. Доверчиво сопя, она топала рядом. Когда мы переходили ручей, что оказалось непросто, она даже обогнала меня, и я за ней едва поспевала.
По дороге я сообразила, что корова – дар Божий, но одновременно и большая обуза. О дальней разведке больше не могло быть и речи. Таких животных нужно поить и кормить, им нужен постоянный хозяин. Я стала хозяйкой и пленницей коровы. У меня и в мыслях не было заводить корову, но теперь я не могла ее бросить. Ей не на кого надеяться, кроме меня.
Когда мы дошли до дома, стало уже почти темно. Корова остановилась, повернула голову и замычала тихо и радостно. Я погнала ее к избушке егеря. Там стояли две кровати наподобие коек, стол, лавка и плита. Я вытащила стол наружу, сняла с одной кровати соломенный тюфяк и завела корову в ее новый хлев. Для нее одной там было довольно места. Взяв с плиты жестяной таз, я налила в него воды и поставила на пустую кровать. Больше для моей коровы в тот вечер ничего не могла сделать. Погладила ее, объяснила, как могла, что случилось, и заперла хлев.
Я так устала, что едва дотащилась до дома. Горели ноги в тяжелых ботинках, ломило спину. Я накормила Лукса и допила какао из термоса. От усталости бутерброды не лезли в горло. В тот вечер я умылась у колодца холодной водой и сразу же легла. Лукс, видно, тоже устал, потому что сразу после еды залез под печку.
Следующее утро не было таким невыносимым, как предыдущее, ведь, едва открыв глаза, я вспомнила про корову. Я тут же совершенно проснулась, но чувствовала себя совсем разбитой. К тому же я проспала: желтые солнечные лучи уже пробивались сквозь щели в ставнях.
Встала и взялась за работу. В доме – куча посуды, я решила, что одно из ведер станет подойником, и отправилась с ним в хлев. Корова послушно поднялась на ноги и приветливо поздоровалась, облизав мне все лицо. Я кое-как подоила ее, дело шло хуже, чем вчера. Ломило все кости. Дойка – чрезвычайно тяжелое занятие, сперва нужно втянуться. Но я знала, что и как нужно делать, а это – самое главное. Сена у меня не было, поэтому после дойки я выгнала корову на лесную поляну и оставила там пастись, в твердой уверенности, что никуда она от меня не убежит.
Потом наконец позавтракала: парное молоко и вчерашние черствые бутерброды. Весь день был посвящен корове, точно помню. Я устроила ей настоящий хлев, насколько мне это было по силам: набросала на пол зеленых веток вместо соломы, а ее первые лепешки стали началом навозной кучи возле «хлева».
«Хлев» был построен основательно, из толстых бревен. Чердак под крышей я позже набила сухой травой. Но тогда, в мае, травы еще не было, и до осени мне пришлось обходиться ветками.
Конечно, я задумывалась о корове. Если особенно повезет, у нее будет теленок. Но слишком рассчитывать на это не стоило, оставалось только надеяться, что моя корова долго будет давать молоко.
Я по-прежнему считала свое положение временным или по крайней мере старалась считать его таковым.
О животноводстве представление у меня слабое. Однажды я присутствовала при рождении теленка, но не знала даже, как долго корова его носит. Потом я прочитала об этом в крестьянском календаре, но это не слишком-то прибавило знаний, до сих пор ума не приложу, как научиться еще чему-то.
Маленькую плиту в хлеву я сначала решила сломать, но потом обнаружила, что она очень удобна. Если понадобится, я смогу прямо там кипятить воду. Стол и одно кресло я вынесла в гараж, где хранилась куча инструментов. Гуго ценил хороший инструмент, а егерь, человек порядочный и добросовестный, следил, чтобы он всегда был в рабочем состоянии. Не знаю, почему Гуго придавал такое значение инструментам. Сам он до них никогда не дотрагивался, но при каждом наезде созерцал их с большим удовлетворением. Если это и был бзик, то для меня он оказался спасением. Тем, что я до сих пор жива, я обязана только этим маленьким странностям Гуго. Милый Гуго, да благословит его Господь, наверняка сидит по-прежнему в трактире над стаканом лимонада, не боясь, наконец, ни болезней, ни смерти. И некому больше гонять его по заседаниям.
Пока я возилась в хлеву, корова паслась на полянке. Симпатичная корова, изящная, кругленькая, серо-коричневая. Бог весть почему она производила впечатление веселого молодого животного. Ее манера поворачивать голову, ощипывая с кустов листья, напоминала мне движение грациозной кокетливой молодой женщины, глядящей через плечо влажными карими глазами. Я сразу полюбила корову, таким успокоительным был ее вид.
Лукс болтался неподалеку от меня, глазел на корову, пил из колоды и бегал по кустам. Он успел стать прежней веселой собакой и, казалось, позабыл все ужасы минувшего дня. Он, видно, уже свыкся с тем, что его хозяйкой стала я, хотя бы временно.
На обед сварила суп из гороховой колбасы и открыла тушенку. После еды навалилась усталость. Я велела Луксу покараулить корову и, словно оглушенная, не раздеваясь, повалилась на кровать. После всего, что стряслось, я вообще не должна была спать. Но нужно признаться, что первые недели в охотничьем домике я спала очень крепко, пока тело не привыкло к тяжелой работе. Бессонница начала мучить позже.
Проснулась около четырех. Корова лежала, пережевывая жвачку. Лукс, сидя на скамейке перед домом, сонно на нее взирал. Я освободила его от караульной службы, и он вновь отправился на разведку. В те дни я, едва потеряв его из виду, сразу же начинала беспокоиться. Позже, поняв, что полностью могу положиться на него, я совсем перестала тревожиться.
Когда похолодало, я затопила и поставила воду на плиту. Мне совершенно необходимо было вымыться.
Под вечер загнала корову в хлев, подоила ее, налила свежей воды и оставила ее на всю ночь в одиночестве. После мытья я закуталась в халат, выпила парного молока и села к столу подумать. Удивительно, что я не грущу и не отчаиваюсь. Спать хотелось так, что пришлось подпереть голову руками, я едва не уснула сидя. Раз думать я не могла, то попыталась читать один из детективов Гуго. Но, видно, выбрала неудачно: торговля женщинами интересовала меня в тот момент весьма слабо. Вообще-то Гуго тоже всегда засыпал на третьей или четвертой странице своих крутых детективов. Наверное, они и были у него вместо снотворного.
Я тоже едва вынесла десять минут, потом решительно встала, привернула лампу, заперла дверь и легла.
Следующее утро было холодным и неприветливым и навело меня на мысль позаботиться о сене для коровы.
Я вспомнила, что видела когда-то на лугу у ручья сеновал; может, там еще есть сено. Машина Гуго мне без пользы. Уходя, он унес ключи. Да и будь ключи – тоже было бы мало толку. Всего две недели назад, по настоянию дочек, я с величайшими трудностями получила права и поэтому ни за что не решилась бы въехать в ущелье. Нашла в гараже несколько старых мешков и, окончив уборку хлева, отправилась за сеном.
На сеновале у ручья я действительно нашла немного сена. Набила им мешки, связала их друг с другом и поволокла за собой. Но скоро обнаружила, что в качестве транспортного средства мешки на каменистой тропе непригодны. Тогда я оставила два мешка на обочине, взвалила два других на плечи и потащила к дому. Убрала из гаража инструменты, сложила их в кладовой при кухне, потом принесла оставшиеся мешки и сложила сено в гараже.
После обеда еще дважды ходила за сеном, и на другой день – тоже. Было ведь только начало мая, а в эту пору в горах иногда бывает очень холодно. Пока было просто прохладно, моросило, но корова вполне могла пастись на лужайке. Она казалась вполне довольной новой жизнью и терпеливо сносила неуклюжую дойку. Иногда только поворачивала свою большую голову, словно потешаясь над моими усилиями, но стояла спокойно и никогда не лягалась. Она была дружелюбна и иногда – чуть высокомерна.
Пораскинув умом, как мне звать корову, окрестила ее Беллой. В этих местах коров так никогда не называли, однако – почему нет? – имя короткое и благозвучное. Корова скоро поняла, что теперь ее звать Беллой, и поворачивала голову на мой оклик. Очень бы хотелось знать, как ее звали раньше: Пеструха, Грета или, может, Серка. Собственно, имя ей вообще было не нужно, она была единственной коровой в этом лесу, а скорее всего – и в стране.
У Лукса имя тоже было совершенно неподходящее, оно свидетельствовало о дремучей темноте местных жителей. Но с давних пор всех охотничьих собак в долине звали Луксами[1]. Настоящих рысей истребили так давно, что никто в долине их и в глаза не видел. Может, кто-нибудь из предков Лукса загрыз последнюю настоящую рысь и в награду получил свое имя.
Пасмурная погода сменилась обложным дождем, а потом – настоящей вьюгой. Белла стояла в хлеву и жевала сено, а у меня внезапно появился досуг – поразмыслить. В моей – то есть Гуго – книжке под десятым мая помечено: переучет.
То десятое мая было настоящим зимним днем. Снег, вначале таявший, теперь держался, а с неба все сыпало.
Началось с того, что я проснулась и почувствовала себя полностью беззащитной. Физическая усталость прошла, навалились раздумья. Прошло десять дней, а в моем положении ничего не изменилось. Десять дней я глушила себя работой, но стена никуда не делась, и никто за мной не приехал. Не оставалось ничего другого, кроме как примириться с действительностью. Тогда я еще надеялась, я еще долго надеялась. Даже когда мне пришлось сказать себе, что на помощь больше рассчитывать не приходится, оставалась безумная надежда вопреки разуму и собственной уверенности.
Уже тогда, десятого мая, я была убеждена, что произошла огромная катастрофа. Все говорило за это: отсутствие спасателей, молчание радио и то немногое, что я увидела сквозь стену.
Гораздо позже, лишившись всех надежд, я все не могла поверить, что дочери мои тоже погибли. Они не могли погибнуть, как старик у колодца или женщина на скамейке!
Думая сейчас о дочках, я все вижу их пятилетними, и мне кажется, что уже тогда они ушли из моей жизни. Наверное, в этом возрасте все дети начинают уходить из жизни родителей; мало-помалу они превращаются в посторонних нахлебников. Но происходит это так незаметно, что этого почти не ощущаешь. Хоть и были минуты, когда я подозревала такую чудовищную возможность, да как всякая мать гнала подобные мысли прочь. Нужно ведь было жить дальше, а какая мать сможет жить с такими думами?
Проснувшись десятого мая, я вспомнила дочек пятилетними девочками, семенящими по детской площадке. Два довольно неприятных, неласковых и строптивых подростка, оставшиеся в городе, стали вдруг абсолютно нереальными. По ним я никогда не горюю, только по тем малышкам, какими они были много лет назад. Может, это слишком жестоко, но, право, не знаю, кому мне теперь врать. Могу позволить себе писать правду: все, в угоду кому я всю жизнь врала, умерли.
Дрожа в постели, я раздумывала, что же мне делать. Я могла бы покончить с собой или прорыть ход под стеной, что, очевидно, просто более трудоемкий способ самоубийства. Разумеется, кроме того, я могла остаться тут и попытаться выжить.
Я уже старовата, чтобы всерьез думать о самоубийстве. А главное – меня удерживала мысль о Луксе и Белле, вдобавок еще и любопытство. Стена – загадка, я же ни за что не отступлю перед неразгаданной загадкой. Благодаря предусмотрительности Гуго у меня были некоторые запасы (их хватит на лето), был дом, дрова и корова, которая тоже – неразгаданная загадка и, может, ждет теленка.
Прежде чем решать, что делать дальше, мне хотелось по меньшей мере дождаться, родится теленок или нет. Над стеной я голову особо не ломала. Предположила, что это – новое оружие, создание которого одной из великих держав удалось утаить. Идеальное оружие: оно оставляет ландшафт нетронутым, просто убивает людей и животных. Ясное дело, было бы еще лучше, если бы и животные оставались, но, судя по всему, это невозможно. Ведя свои войны, люди никогда не обращали внимания на животных. Когда же яд – я полагала, что это какой-то яд – перестанет действовать, территорию можно будет оккупировать. Судя по умиротворенному виду жертв, они не страдали; из всех дьявольских выдумок человека эта показалась мне самой гуманной.
Я и предположить не могла, сколько все будет продолжаться, но считала, что, как только действие яда прекратится, стена исчезнет и объявятся победители.
Сейчас я иногда задаюсь вопросом, не превзошел ли эксперимент – если это только эксперимент – вообще все ожидания. Слишком долго заставляют себя ждать победители.
А может, и вообще не осталось никаких победителей. Что толку думать? Может, какой-нибудь ученый, специалист по оружию массового уничтожения, понял бы больше, чем я, да что проку. Со всеми своими знаниями он бы только и смог, что ждать да пытаться избежать смерти.
Хорошенько все обдумав, насколько это было по силам человеку моего опыта и рассудительности, я отбросила одеяло и затопила печь: тем утром было очень холодно. Лукс вылез из-под печки и согрел меня участием, а там пришло время идти в хлев и заняться Беллой. После завтрака я решила перенести в спальню все припасы, которыми располагала, и составить список. Список – передо мной, но переписывать его не буду, ведь по ходу рассказа все мои запасы будут упомянуты. Продукты же перенесла из маленькой кладовой в спальню, потому что там и летом прохладно. Дом стоит у самой горы, и задняя его стена всегда в тени.
Одежды хватало, керосина для лампы и спирта для маленькой спиртовки – тоже. Кроме того, был пакет свечей и два фонарика с запасными батарейками. Богатейшая аптечка: кроме перевязочных материалов и болеутоляющих таблеток, все до сих пор на месте. В аптечку Гуго вложил всю свою любовь; думаю, срок годности большинства лекарств давно истек.
Жизненно необходимыми были большой мешок картошки, целая гора спичек и патроны. А также, конечно, разный инструмент, охотничье ружье и манлихеровская винтовка[2], бинокль, коса, грабли и вилы – раньше они служили при заготовке сена на лесной поляне, где зимой подкармливали дичь, – и мешочек бобов. Без всего этого меня уже не было бы на свете, спасибо странностям Гуго и случаю.
Я обнаружила, что успела израсходовать слишком много продуктов. Прежде всего расточительство – кормить ими Лукса, да они и не шли ему на пользу, ему совершенно необходимо свежее мясо. Муки, если экономить, могло хватить месяца на три, а рассчитывать, что помощь придет раньше, не приходилось. Вообще не имело смысла надеяться, что она когда-нибудь придет.
Главным сокровищем были картошка и бобы. Мне непременно нужно найти место для маленького огорода. А прежде всего – решиться и позаботиться о свежем мясе. Стрелять я умею, часто даже побеждала в состязаниях по стрельбе, но никогда прежде не стреляла дичь.
Позднее там, где подкармливали дичь, я нашла шесть кусков красной каменной соли и спрятала их на кухне в сухом месте. Другой соли у меня сейчас уже нет. Летом смогу ловить форель на Луизину удочку. Прежде мне не доводилось ловить рыбу, но это, наверное, не так уж трудно. Перспектива столь истребительных занятий меня отнюдь не радовала, но выбора не было, если мы с Луксом намеревались остаться в живых.
На обед сварила рисовую кашу на молоке, но без сахара. Несмотря на всю бережливость, уже через два месяца сахару не осталось ни кусочка и мне пришлось навсегда отказаться от сладкого.
Я также твердо решила каждый день заводить часы и зачеркивать клетку в календаре. Тогда это казалось страшно важным. Я прямо-таки цеплялась за скудные остатки человеческих обычаев. Я и до сих пор не отказалась от определенных привычек: каждый день моюсь, чищу зубы, стираю белье и прибираю в доме.
Не знаю, зачем я это делаю, просто какая-то внутренняя потребность. Возможно, меня пугает перспектива – если перестану это делать – постепенно превратиться в зверя, ползать, грязной и вонючей, на четвереньках и издавать нечленораздельные звуки. Не то чтобы я боялась превратиться в зверя, это-то было бы неплохо, но человек не может стать зверем, ему придет конец прежде, чем он им станет. Не хочу, чтобы со мной приключилось такое. В последнее время боюсь этого больше всего, я и пишу от страха. Когда кончу, как следует спрячу записки и забуду о них. Не хочу, чтобы чудище, в которое я могу превратиться, когда-либо их нашло. Сделаю все, чтобы избежать такого превращения, но я не так сильно воображаю о себе, чтобы быть уверенной: со мной не случится того, что до меня случалось со столь многими.
Уже сегодня я не тот человек, что прежде. Как узнать, что будет дальше? Может, я уже сегодня так далека от себя прежней, что даже не замечаю этого?
Думая сейчас о женщине, которой я была до того, как в мою жизнь вошла стена, я не узнаю себя. Но и та, что десятого мая пометила в календаре «переучет», тоже совсем чужая. С ее стороны было весьма разумно оставлять заметки, чтобы я могла вспоминать о ней. Да, я же нигде не назвала своего имени. Я почти забыла его, и да будет так! Никто меня этим именем не зовет, стало быть, его больше нет. Не хочу, чтобы оно когда-нибудь появилось в иллюстрированных журналах победителей. Не могу представить, что где-то еще есть журналы. Но почему бы и нет? Если бы катастрофа разразилась в Белуджистане, мы преспокойно сидели бы в кафе и читали об этом в газетах. Сегодня Белуджистан – это мы, очень далекая чужая страна, вряд ли кто и знает, где она, там живут такие люди, которых, верно, и людьми-то нельзя назвать, недоразвитые и нечувствительные к боли: слова и цифры в чужих газетах. Совсем не повод беспокоиться. Очень хорошо помню, насколько большинство людей лишено фантазии. Может, и к счастью для них. Фантазия делает слишком чувствительным, ранимым и беззащитным. Может быть, она вообще признак вырождения. Никогда не ставила этого им в вину, даже, наоборот, завидовала. Таким живется легче и лучше, чем остальным.
Это к делу не относится. Просто иногда не удается уйти от мыслей о том, что мне кажется важным. Мне так одиноко, что от бесплодных раздумий не увильнуть. С тех пор как погиб Лукс, стало много хуже.
Постараюсь не уклоняться слишком в сторону от заметок в ежедневнике. Шестнадцатого мая нашла наконец место под картошку. Мы с Луксом искали его несколько дней подряд. Хотелось, чтобы оно было поблизости от дома, на солнце, но прежде всего – чтобы земля была хорошая. Последнее – почти невозможно.
Известняк тут покрыт очень тонким слоем гумуса. Я уже едва не отчаялась, пока нашлось подходящее местечко на маленькой солнечной полянке. Почти ровное, сухое, со всех сторон укрытое лесом и с настоящей землей. Чудесной легкой землей, черной и полной мелких кусочков угля. Верно, когда-то, давным-давно, там жгли уголь, хотя теперь в лесу нет, конечно, никаких угольщиков.
Не знала, любит ли картошка такую землю, но решила сажать ее там, ведь больше такой земли мне не найти.
Взяв лопату и мотыгу, я тут же принялась за работу. Не так-то просто: там росли кусты и ужасно жесткая трава с длиннющими корнями. Я копала четыре дня и совершенно вымоталась. Закончив, отдохнула денек и тут же взялась сажать картошку. Смутно припоминая, что для этого клубни полагается разрезать на части, я следила, чтобы на каждой из них был хоть один глазок.
Закончив посадку, вернулась домой. Оставалось только ждать и надеяться.
Израненные руки смазала оленьим салом: я нашла большой кусок в избушке егеря. Немного придя в себя, разбила рядом с хлевом грядки и посеяла бобы. Огородик получился крохотный, и было неясно, взойдут ли бобы вообще. А что, если они слишком старые или обработаны какой-нибудь химией? Все равно, попробовать нужно.
Тем временем распогодилось, но солнечные дни перемежались дождливыми. Однажды была даже небольшая гроза, и лес превратился в зеленый дымящийся котел. После грозы – тогда мне показалось, что это стоит записать, – стало по-летнему тепло, на поляне поднялась густая зеленая трава. Удивительно жесткая трава, чуть ли не осока, я сомневаюсь, что она годилась на корм скоту. Но Белле вроде бы понравилась. Она все дни проводила на поляне и, по-моему, бока у нее округлились. Тем не менее я перетаскала с сеновала последнее сено – на случай внезапного ненастья. Подстилку Белле меняла через день. Хотелось, чтобы моя корова жила в чистоте и холе. Забота о Белле стоила немалых трудов. Молока нам с Луксом хватало теперь с избытком, но даже если бы Белла совсем не давала молока, я не смогла бы отказаться от ухода за ней. Очень скоро она стала для меня не просто полезной скотиной. Это скорее всего безрассудство, но тут ничего не поделаешь. Со мной остались только животные, и я потихоньку начала чувствовать себя главой нашей странноватой семьи.
После грозы, тридцатого мая, весь день лил теплый ливень, и мне пришлось сидеть дома, чтобы не промокнуть за несколько минут до нитки. К вечеру неприятно похолодало, я затопила печку. Окончив дела в хлеву, умылась и надела халат, собираясь немного почитать при свете лампы. Отыскала сельский календарь, он оказался заслуживающим чтения. Там было много чего понаписано о садоводстве и животноводстве, а мне необходимо было узнать обо всем этом побольше. Лукс лежал под печкой и уютно сопел, я пила чай без сахара и слушала монотонный шум дождя. Вдруг мне почудилось, что где-то плачет ребенок. Зная, что это только обман чувств, я вновь взялась за чтение, но тут Лукс поднял голову и насторожил уши, и опять послышался тихий жалобный плач.
В тот вечер в моем доме появилась Кошка. Насквозь промокший серый комочек сидел перед дверью и плакал.
Потом, в доме, она в ужасе вцепилась когтями в мой халат и яростно шипела на лаявшего Лукса.
Я прикрикнула на пса, он оскорбленно и нехотя залез обратно под печку. А я посадила Кошку на стол. Она продолжала шипеть на Лукса, тощая такая, серая, полосатая деревенская кошка, мокрая и голодная, но готовая защищаться зубами и когтями. Успокоилась она, только когда я прогнала Лукса в спальню.
Я дала ей парного молока и немножко мяса, она поспешно все это слопала, непрестанно озираясь. Потом позволила себя погладить, спрыгнула со стола, прошлась по комнате и вскочила на кровать. Улеглась там и принялась умываться. Когда она обсохла, я поняла, что зверек красив, невелик, но изящен. Красивее всего были глаза – большие, круглые, янтарные. Должно быть, она была кошкой того старика у колодца, тоже, наверное, наткнулась на стену, возвращаясь с вечерней охоты. И целый месяц скиталась, а может, давно наблюдала за мной, прежде чем осмелилась приблизиться к дому. Над недоверием взяли верх заманчивые тепло и свет, да еще, пожалуй, молочный дух.
Лукс скулил в заточении, я выпустила его и, придержав за ошейник, показала ему Кошку; погладила сперва его, потом ее, представив как нового домочадца. Лукс вел себя очень разумно, он явно все понял. Кошка же еще несколько дней была настроена враждебно и неприступно. Ей, верно, несладко пришлось в жизни, вот она и шипела яростно, когда любопытный Лукс приближался к ней.
Ночью она спала на кровати, крепко прижавшись к моим ногам. Было не очень удобно, но понемногу я привыкла. Утром Кошка убежала и вернулась только с наступлением сумерек – поесть, попить и выспаться в моей постели. Так продолжалось пять или шесть дней. Потом она перестала убегать и вела себя как порядочная домашняя кошка.
Лукс не оставлял попыток подойти к ней, он вообще был очень любопытным псом. Кошка наконец смирилась, перестала шипеть и даже дала себя обнюхать. При этом ей, по всей видимости, было не по себе. Она была весьма нервным и недоверчивым созданием, сжимавшимся при каждом шорохе и постоянно готовым удрать.
Прошло несколько недель, прежде чем она успокоилась и, кажется, перестала бояться, что я пинком вышвырну ее вон. Странно, но вскоре Кошка доверяла Луксу больше, чем мне. Она определенно не ждала больше от него никаких каверз и стала обращаться с ним, как капризная жена с недотепой-мужем. Иногда фыркала на него и замахивалась лапой, а когда Лукс отскакивал, снова подходила и даже спала рядом с ним.
От людей она явно видела только самое дурное, но меня это не удивляло: всем известно, как худо живется кошкам именно в деревне. Я всегда относилась к ней по-дружески, подходила спокойно, что-нибудь при этом приговаривая. И когда в конце июня она впервые встала со своего места, подошла ко мне по столу и потерлась мордочкой о мою голову – это была победа! Лед сломан. Не то чтобы она приставала ко мне с нежностями, но, по-видимому, согласилась не вспоминать зло, причиненное людьми.
До сих пор она иногда испуганно шарахается или кидается к двери, если я сделаю слишком резкое движение. Обидно, но кто знает, может, Кошка понимает меня лучше, чем я сама, и догадывается, на что я способна. Сейчас, пока я пишу, она лежит на столе и глядит большими желтыми глазами через мое плечо на стену. Я уже трижды оборачивалась, да ничего там нет, кроме старого потемневшего дерева. На меня она тоже иногда подолгу пристально смотрит, но не так долго, как на стену, потому что через некоторое время приходит в беспокойство и отворачивается или закрывает глаза.
Лукс тоже отворачивался, если я долго смотрела на него. Не думаю, что глаза человека обладают гипнотическим воздействием, наверное, они просто слишком большие и яркие и неприятны меньшим созданиям. Мне бы тоже не понравилось, если бы на меня уставились глазищи величиной с доброе блюдце.
С тех пор как погиб Лукс, Кошка больше сблизилась со мной. Видно, понимает, что мы остались совсем одни, а прежде она ревновала к псу и не хотела этого показать. В действительности она больше нужна мне, чем я ей. Я могу разговаривать с ней, гладить, ее тепло поднимается по руке и успокаивает меня. Не верю, что я ей нужна так же.
Лукс со временем проникся к ней определенной симпатией. Она была для него членом семьи – или стаи, – и он встал бы на ее защиту – от любого врага.
Так нас стало четверо: корова, Кошка, Лукс и я. Ближе всех мне был Лукс, вскоре он стал мне не просто собакой, а другом, единственным другом в мире одиночества и усталости. Он понимал все, что ни скажи, знал, весело мне или грустно, и пытался утешить, как мог.
Кошка совсем другая – отважный, закаленный зверь, я ее уважала и восхищалась ею, она же всегда сохраняла независимость. Она ничуть не привязана ко мне. Ясно, у Лукса выбора не было, собаке хозяин необходим. Собака без хозяина – несчастнейшее на свете существо, даже самый скверный человек вызывает у своей собаки восхищение.
Вскоре Кошка начала предъявлять определенные претензии. Она желала приходить и уходить в любое время, даже ночью, когда ей заблагорассудится. Я отнеслась к ней с пониманием и, поскольку в холодную погоду окно было не открыть, проделала в стене за шкафом небольшое отверстие. С трудом, но дело того стоило: с тех пор по ночам меня оставили в покое. Зимой холодный воздух задерживал шкаф. Летом я спала, понятное дело, с открытым окном, однако Кошка всегда пользовалась собственным маленьким лазом. Она вела очень упорядоченную жизнь, днем спала, вечером уходила, возвращалась под утро и забиралась ко мне в постель погреться.
В ее больших глазах отражается мое лицо, маленькое и измученное. Она приучилась отвечать, если я заговариваю с ней. Не уходи сегодня ночью, говорю я, в лесу филин и лиса, а со мной тепло и безопасно. М-р-р, м-р-р мяу, отвечает она, должно быть, это значит: ну, человеческая женщина, посмотрим, не хочу решать заранее. И вскоре встает, выгибает спинку, дважды потягивается, спрыгивает со стола, скользит к выходу и беззвучно растворяется в сумерках. А потом и я усну тихим сном, в котором шумят ели да журчит вода в колодце.
Под утро, когда родное маленькое тельце прижмется к моим ногам, я усну чуть крепче, но не слишком крепко, нет: я всегда должна быть начеку. Ведь к окну может подкрасться кто-нибудь, кто прикидывается человеком, пряча за спиной топор.
Моя заряженная винтовка висит рядом с кроватью. Я все время настороже, прислушиваюсь, не приближаются ли к дому или к хлеву шаги. В последнее время я частенько подумываю вынести все из спальни и устроить там стойло для Беллы. Тут много «но», однако большим успокоением для меня было бы слышать, что она за дверью, совсем близко и в безопасности. Придется, конечно, пробить дверь из спальни наружу, и разобрать пол, и устроить сток. Сток можно вывести в промоину за домом, под маленькую деревянную уборную. Меня останавливает единственно мысль о двери. Конечно, с величайшим трудом, но я проделаю дверной проем, затем же придется подгонять к нему дверь хлева, а с этим мне ни в жизнь не управиться. Каждый вечер в постели я размышляю об этой двери, и почему я такая неумелая и неловкая, просто слезы наворачиваются. Все равно: если как следует пораскинуть умом, можно и с дверью справиться. Зимой Белле рядом с кухней будет хорошо и тепло, и она будет слышать мой голос. Пока снег и холодно, я все равно не могу ни за что приняться, остается только думать.
Тогда, в июне, хлев Беллы тоже задавал мне все новые задачки. Деревянный пол, пропитавшись насквозь мочой, начал гнить и вонять. Так дальше продолжаться не могло. Я оторвала две доски и прокопала сток. Избушка немного покосилась в сторону ручья; видимо, осел грунт. Это оказалось весьма кстати: рыхлый известняк все впитает.
Летом позади хлева слегка пованивало, но туда я вообще не ходила, а уж в хлеву-то теперь было чисто и сухо. Склон за хлевом всегда неприветливый, даже страшный, вечно в тени, сырой и густо заросший елями. Там растут беловатые губчатые лишайники и всегда слегка попахивает прелью. То, что нечистоты могут попасть в ручей, меня мало беспокоило. Колодец питается горными ключами, вода в нем чистая и очень холодная, самая лучшая вода, какую я когда-либо пила.
Пришло в голову: я ни разу не помечала в календаре дней, в которые удавалось подстрелить какую-то дичь. Припоминаю теперь, что мне было просто противно это записывать, довольно уж и того, что приходилось это делать. И сейчас писать об этом не хочется, разве только о том, что вскоре после первых промахов мне вполне удалось обеспечивать нас мясом, не расходуя слишком много патронов. Хоть я и горожанка, мать моя была из деревни, как раз из этих мест. Мать Луизы была ее сестрой, и летние каникулы мы всегда проводили в деревне. Тогда ведь еще не было моды ездить в отпуск на Ривьеру. И хотя все летнее время в деревне проходило словно бы в игре, кое-что из услышанного тогда запало в память и облегчает мою нынешнюю жизнь. По крайней мере, я не так беспомощна. Тогда, детьми, мы с Луизой много стреляли по мишеням. У меня получалось даже лучше, чем у Луизы, но заядлой охотницей стала все-таки она. Тем первым летом здесь, в лесу, я к тому же часто ловила форель. Убивать их мне давалось легче. Не знаю почему стрелять косуль мне до сих пор кажется особенно отвратительным, почти подлым. Никогда мне не привыкнуть.
Припасы таяли чересчур быстро, пришлось во всем себя ограничивать. Особенно не хватало овощей, фруктов, сахара и хлеба. Я пыталась хоть отчасти заменить все это диким шпинатом, латуком и молодыми еловыми лапками. Позже, когда я с нетерпением ждала молодой картошки, настала пора, когда меня страстно на что-нибудь тянуло, прямо как беременную. Мечты о хорошей и обильной еде преследовали даже по ночам. К счастью, это продолжалось не слишком долго. Состояние, памятное по военному времени, хотя я успела уже забыть, как страшно зависеть от неудовлетворенного тела. Но едва только поспела первая картошка, дикие вожделения покинули меня, и я понемногу стала забывать, каковы на вкус свежие фрукты, шоколад и кофе-гляссе. Я перестала вспоминать даже запах свежего хлеба. Но забыть о хлебе совсем мне ни за что не удастся. Даже сейчас иногда ужасно хочется хлеба. Черный хлеб стал для меня сказочным сокровищем.
Когда я вспоминаю то лето, оно представляется полным забот и тяжких трудов. Я едва справлялась с навалившейся работой. Непривычная к тяжелому физическому труду, я постоянно чувствовала себя разбитой. Еще не научилась разумно распределять дела. Работала то слишком быстро, то чересчур медленно, и до всего приходилось доходить своим умом. Я измоталась и похудела, даже работа в хлеву казалась неподъемной. Не представляю, как мне удалось пережить это время. Правда, ума не приложу. Наверное, только потому, что я вбила себе в голову, что должна выжить, да еще приходилось заботиться о троих животных. От постоянного перенапряжения я скоро начала чувствовать себя так же плохо, как бедняга Гуго: засыпала, едва присев. Да к тому же, хоть я и мечтала дни и ночи о вкусной еде, в действительности не могла проглотить ни кусочка. Кажется, я жила исключительно молоком Беллы. Только оно не вызывало отвращения.
Заботы настолько меня поглотили, что некогда было трезво подумать о своем положении. Решив держаться, я держалась, но забыла зачем и жила только сегодняшним днем. Не помню, часто ли я ходила в то время в ущелье, думаю, что нет. Помню только, что однажды, в конце июня, я отправилась на луг у ручья посмотреть траву и взглянула за стену. Человек у колодца упал и лежал теперь на спине, слегка согнув ноги, сложенная ковшиком рука все еще поднесена к лицу. Его, должно быть, повалило бурей. На труп не похож, скорее на одну из находок в Помпеях[3]. Стоя и глядя на этот окаменевший абсурд, я заметила по ту сторону стены в высокой траве под кустами двух птиц. Должно быть, с кустов их тоже сбил ветер. Очень славные, похожие на раскрашенные игрушки. Глазки блестели, как полированный камень, краски оперения еще не выцвели. Они выглядели не мертвыми, а так, словно никогда и не были живыми, совершенно неорганические. Но все-таки некогда они жили, тоненькие шейки трепетали от теплого дыхания. Лукс, как обычно бывший со мной, отвернулся и подтолкнул меня мордой. Он явно хотел, чтобы я шла дальше. Он был разумнее меня, и я позволила ему увести себя от каменных штуковин.
Позднее, бывая на лугу, я старалась не смотреть за стену. В первое же лето она почти полностью заросла. Некоторые из моих ореховых прутьев чудесным образом пустили корни, и вдоль стены протянулась живая изгородь. На лугу цвели горная гвоздика, водосбор и высокие желтые травы. По сравнению с ущельем луг был веселым и приветливым, но, поскольку он примыкал к стене, мне там всякий раз было не по себе.
Хоть Белла и привязала меня к дому, мне все-таки хотелось попытаться еще немного осмотреть окрестности. Я припомнила дорогу, ведущую к другому домику, выше в горах, и дальше вниз, в долину по ту сторону гор. Надумала отправиться туда. Чтобы не оставлять надолго корову одну, решила выйти затемно. Как раз было полнолуние, погода ясная и теплая. Поздно вечером я подоила Беллу, принесла в хлев воды и сена, Кошке поставила у печки молока. Едва взошла луна, около одиннадцати мы с Луксом пустились в путь. Я взяла с собой немного провизии, ружье и бинокль. Тяжеловато, но я не рискнула идти безоружной. Поздняя прогулка взбудоражила и страшно обрадовала Лукса. Сначала я поднялась к домику, который был еще на участке Гуго. Тропа была в хорошем состоянии, света от луны – достаточно. Мне никогда не было страшно ночью в лесу, а вот в городе меня одолевали всякие страхи. Почему так, не знаю, может, потому, что мне никогда не приходило в голову, что ночью в лесу могут быть люди. Мы поднимались почти три часа. Когда я вышла из лесу, в ярком лунном свете открылась небольшая прогалина и домишко посреди нее. Я собиралась осмотреть хибарку на обратном пути и присела на скамейку перед ней передохнуть и попить. Тут было много холоднее, чем внизу, а может, мне так просто показалось из-за холодного белого света.
С меня спало тупое оцепенение последних дней, стало легко и свободно. И если я когда-либо ощущала, что такое покой, так это той июньской ночью на освещенной луной прогалине. Лукс прижимался ко мне, спокойно и внимательно глядя на чернильно-черный лес. Мне не сразу удалось подняться и отправиться дальше. Я перешла росистую лужайку и снова углубилась в лесную тень. Иногда в темноте что-то шуршало, должно быть, вокруг сновало множество мелких зверьков. Лукс бесшумно двигался рядом, наверное, все еще думал, что мы идем на охоту. Полчаса мы шли лесом, я вынуждена была идти медленно – лунный свет едва освещал тропинку. Ухала сова, но ее крик был ничуть не страшнее любого другого звериного голоса. Я поймала себя на том, что стараюсь идти предельно бесшумно и осторожно. Не могла иначе, что-то меня заставляло. Когда наконец мы вышли из лесу, занимался рассвет. Неяркий свет зари сливался с лучами заходящей луны. Тропа вилась меж горных сосен и кустов рододендрона, выглядевших в призрачном свете большими и маленькими серыми глыбами. Время от времени из-под ног срывался камень и с шумом катился по осыпям в долину. Дойдя до вершины, я в ожидании уселась на камень. Примерно в полпятого взошло солнце. Налетевший свежий ветер тронул волосы. Серо-розовое небо стало оранжевым и огненно-красным. Я впервые видела восход в горах. Рядом был только Лукс, казалось, он тоже пристально наблюдал за игрой красок. Ему стоило немалых усилий удержаться от радостного лая, это было заметно по тому, как подрагивали его уши, а шерсть на спине ходила волнами. Вдруг стало светло как днем. Я поднялась и стала спускаться в долину. То была длинная долина, заросшая густым лесом. В бинокль ничего нельзя было разобрать, кроме леса. Поле зрения ограничивал следующий хребет. Это меня разочаровало, я рассчитывала увидеть оттуда хоть одну деревню. Теперь было ясно: если я хочу что-нибудь увидеть, надо идти ельником дальше. Выше начинались альпийские луга, оттуда наверняка больше видно. Но идти вверх и вниз одновременно нельзя, так что я пошла в долину. Это показалось важнее. Очевидно, я по-идиотски надеялась, что там стены нет. Боюсь, что так, иначе зачем бы идти. Я была теперь на соседнем участке, сданном в аренду, насколько мне известно, какому-то богатому иностранцу, приезжавшему только раз в году, к оленьему гону. Видимо, поэтому и дорога была ужасная, повсюду промоины от вешних вод. На участке Гуго дорогу тотчас же приводили в порядок. Кое-где дорога просто походила на речное ложе. Ущелья здесь не было. По обе стороны ручья вздымались лесистые склоны гор. А вообще эта долина была приветливее моей. Я пишу «моей». Если и есть новый владелец, так он еще не объявился. Не была бы так размыта дорога – я сочла бы свой поход прогулкой. По мере спуска в долину вела себя все осторожнее. Старательно помогая себе альпенштоком, следила, чтобы Лукс не отходил ни на шаг. У него, впрочем, словно и не было дурных предчувствий и воспоминаний, он бодро топал рядом. Я еще не дошла до опушки, как альпеншток уперся в стену. Я была совершенно обескуражена. Вокруг лес, да впереди виднеется кусочек дороги. Здесь стена была дальше от ближайших домов, чем с моей стороны. Еще даже не показался большой охотничий дом, построенный всего два года назад и, по слухам, оборудованный со всяческим мыслимым комфортом.
Внезапно навалилась страшная усталость, я почти обессилела. Мысль о долгом обратном пути давила чуть ли не физически. Я медленно вернулась к лачуге дровосеков, на которую сперва совершенно не обратила внимания. Она стояла в маленьком распадке, привалившись к склону, перед дверью пышно разрослась крапива. В лачуге не нашлось ничего, кроме жестяной миски да куска заплесневелого, обгрызенного мышами сала. Я присела к грубо сколоченному столу и вытащила свои припасы. Лукс отправился к ручью напиться. Я видела его через открытую дверь, это несколько успокаивало. Выпила чаю из термоса, съела рисовую лепешку и дала другую Луксу. От тишины и солнца, нагревшего крышу, хотелось спать. Но я боялась блох в тюфяках, да и после короткой дремы только еще больше разморило бы. Лучше перемочься. Поэтому я взяла рюкзак и ушла.
Ночное возбуждение прошло, болели ноги в тяжелых горных ботинках. Солнце пекло голову, даже Лукс выглядел уставшим и не пытался подбодрить меня. Подъем был не крутым, но очень длинным и скучным. А может, только казался скучным в моем подавленном состоянии. Я переставляла ноги, не глядя по сторонам, погрузившись в мрачные мысли.
Теперь, стало быть, известно, докуда я могу добраться, не отлучаясь слишком надолго. Кроме того, можно подняться к альпийским лугам и оттуда осмотреть окрестности, но зайти дальше в горы я не отважусь. Меня бы, ясное дело, нашли, если бы там не было стены, да, следовало признать, что меня давно должны были бы найти. Можно спокойно сидеть дома и ждать. Но я все время ощущала потребность предпринять что-то против неизвестности. И была вынуждена не делать ничего, только ждать – такое положение вещей всегда было мне особенно ненавистно. Мне уже приходилось слишком часто и слишком подолгу ждать разных людей и событий, иногда бесплодно, иногда же настолько долго, что пропадал всякий смысл.
На обратном пути размышляла о своей прежней жизни и нашла ее неудовлетворительной во всех отношениях. Я не добилась почти ничего из того, чего хотела, и не хотела ничего из того, чего добилась. Может, и у других – то же самое. Поэтому-то мы хотя еще и разговаривали, но слова уже ничего не значили. Не думаю, что когда-либо еще представится возможность с кем-нибудь об этом побеседовать. Так что остается только предполагать. Тогда, на обратном пути в мою долину, я еще не отдавала себе отчета, что моя прежняя жизнь внезапно кончилась, то есть я, наверное, уже понимала – но только умом и, стало быть, не верила. Только когда знание постепенно усвоится всем телом, знаешь по-настоящему. Я же ведь знаю, что когда-нибудь, как всякое живое существо, умру, но мои руки, ноги и внутренности этого пока не знают, потому-то смерть и кажется совершенно невероятной. С того июньского дня прошло много времени, и до меня начинает доходить, что пути назад нет вообще.
К часу дня добралась до тропки, вившейся меж горных сосен, и присела на камень отдохнуть. Лес купался в полуденном солнце, аромат сосен волнами наплывал на меня. Только теперь разглядела, что рододендроны уже в цвету. Красной лентой тянулись они по склонам. Было много тише, чем ночью при луне, казалось, яркое солнце сковало лес сном. Высоко в небе кружила какая-то хищная птица, спал, подрагивая ушами, Лукс, тишина накрыла меня как колпаком. Хотелось остаться тут навсегда и сидеть в теплом свете с собакой у ног и кружащей птицей над головой. Я оставила всякие мысли, словно заботы и воспоминания больше не имели со мной ничего общего. В конце концов я с глубоким сожалением пошла дальше, постепенно превращаясь по дороге в то единственное существо, которому здесь не было места, в человека с путаницей в голове, ломающего неуклюжими ботинками ветки, проливающего чужую кровь.
Дойдя до верхнего охотничьего домика, вновь полностью стала собой, мечтающей найти там что-нибудь полезное. Но робкое сожаление долго еще не покидало меня.
Очень хорошо помню тот поход. Наверное, потому, что он был первым и резко отличался от долгих, монотонных, тяжелых будней. Кстати говоря, больше я туда никогда не ходила. Все собиралась, да как-то руки не доходили, ну, а без Лукса я на дальние походы не отваживаюсь. Никогда больше не сидеть мне под полуденным солнцем над рододендронами и не внимать великой тишине.
Ключ от домика висел на гвозде под отошедшей доской, найти его не составило труда. Я тут же принялась обыскивать домик. Он, разумеется, был много меньше, чем наш, всего-то кухня и спаленка. Обнаружила пару одеял, кусок парусины и две жесткие, как камень, подушки. Подушки и одеяла были мне ни к чему, а вот непромокаемую парусину я взяла. Одежды не нашлось. На кухне в шкафчике над плитой были мука, смалец, сухари, чай, соль, яичный порошок и маленький пакетик сушеных слив. Егерь, должно быть, считал их панацеей от всех болезней, помню, он все время их жевал. Кроме того, в столе я нашла захватанную колоду карт. Играть я не умею, но карты мне понравились, и я прихватила их с собой. Потом я сама придумала игру, игру для одинокой женщины. Провела много вечеров, раскладывая старые карты. Лица стали так знакомы, словно я знала их всю жизнь. Я дала им имена, одни были симпатичнее других. Я относилась к ним, как к персонажам диккенсовского романа, который перечитываешь в двадцатый раз. Теперь больше не играю в эту игру. Одну карту съел Тигр, сын Кошки, а другую Лукс смахнул ушами в ведро с водой. Не хочу все время вспоминать о Тигре и Луксе. Но разве есть в этом доме что-нибудь такое, что не напоминало бы о них?
Еще в верхнем домике я нашла старый будильник, он весьма пригодился. У меня, правда, был дорожный будильничек и наручные часики, но будильник я грохнула, а часики никогда не шли верно. Сейчас у меня остался только старый будильник из избушки, но он давно не ходит. Я узнаю время по солнцу, а если его не видно, по тому, когда прилетают и улетают вороны и по всяким другим приметам. Хотелось бы мне знать, что случилось с точным временем теперь, когда нет людей. Порой вспоминается, как когда-то было важно не опоздать и на пять минут. Очень многие из тех, кого я знаю, видели в своих часах маленьких божков, и я находила это вполне разумным. Если уж живешь в рабстве, следует подчиняться правилам и не сердить хозяев. Но я неохотно служила человеческому времени, размеренному тиканьем часов, и из-за этого частенько попадала в затруднительное положение. Никогда я не любила часов, и все мои часы через некоторое время или загадочным образом ломались, или терялись. Методику же систематического истребления часов я – на всякий случай – не выдавала даже себе самой. Теперь-то я знаю, в чем дело было. У меня ведь столько времени для раздумий, что я в конце концов все разгадываю.
Могу себе позволить, это ровно ничего не значит для меня. Даже если бы я вдруг проникла в самые потрясающие тайны, меня бы это не тронуло. Мне-то нужно два раза на дню чистить хлев, колоть дрова и таскать сено из ущелья. Голова свободна, может заниматься чем хочет, только бы не теряла рассудка, он необходим, если мы со зверями хотим выжить.
В верхнем домике на столе лежали две газеты от одиннадцатого апреля, заполненная лотерейная карточка, полпачки дешевых сигарет, зажигалка, катушка ниток, шесть брючных пуговиц и две иголки. Последние следы пребывания егеря в лесу. Собственно, мне следовало бы спалить его имущество на большом костре. Егерь был хорошим, надежным человеком, и до конца времен его больше не будет. Я всегда обращала на него слишком мало внимания. Это был угрюмый с виду безбородый мужчина средних лет, тощий, с неестественно белой для егеря кожей. Наиболее примечательными были его глаза – очень светлые, зеленовато-голубые, очень зоркие глаза, ими этот скромный человек, казалось, особо гордился. Он никогда не брал в руки бинокля иначе, как с презрительной усмешкой. Вот и все, что я знаю о егере; кроме того, он был очень ответственным человеком и любил жевать сухие сливы, да, еще он умел обращаться с собаками. Первое время я иногда думала о нем. Ведь могло бы статься, что Гуго сразу же по приезде взял бы его с собой. Тогда, наверное, мне было бы легче эти годы. Сейчас, правда, я в этом не так уверена. Кто знает, что вышло бы в заточении из этого незаметного мужчины. Так или иначе, физически он был крепче меня, и я попала бы в зависимость. Может, он бы полеживал себе в доме, а меня заставлял работать. Возможность спихнуть работу на чужие плечи – большое искушение для любого мужчины. И вообще, с какой стати работать тому, кому больше нечего бояться. Нет, хорошо, что я одна. Для меня тоже скверное дело – оказаться вместе с кем-то, кто слабее меня: я бы превратила его в свою тень и довела бы заботами до смерти. Уж такая я есть, даже лес ничего не смог со мной поделать. Может, со мной вообще могут ужиться лишь животные. Если бы в лесу остались Луиза с Гуго, со временем начались бы бесконечные ссоры. Не представляю, что могло бы сделать наше совместное существование счастливым.
Думать об этом нет никакого смысла. Луизы, Гуго и егеря больше нет, в сущности, и не хочется, чтобы они были. Я уже не та, что два года назад. Если и хочется, чтобы кто появился, так это рассудительная, острая на язык старушка, с которой я время от времени могла бы посмеяться. Как раз смеха-то мне и не хватает. Но она бы, чего доброго, умерла раньше меня, и я опять осталась бы в одиночестве. Это было бы еще хуже, чем никогда ее не знать. Слишком дорогая цена за смех. Да я бы потом стала вспоминать о ней, а это совсем уж чересчур. Я и сейчас-то – одно сплошное воспоминание. Больше не хочу. Страшно подумать, что будет, если воспоминания окончательно возьмут верх.
Никогда не кончить мне этих записок, если буду записывать все, что приходит в голову. Но расхотелось описывать поход до конца. Да и не помню, как мы спускались к дому. Во всяком случае, я притащила битком набитый рюкзак, обиходила Беллу и сразу легла.
На следующий день, это отмечено в календаре, заболел зуб. Болел так, что я не могла не записать. Никогда прежде и никогда потом у меня так не болел зуб. Я никогда о нем не думала, верно, потому, что знала: с ним не все в порядке. Его высверлили, положили мышьяк, и дантист велел мне приходить через три дня. Три дня превратились в три месяца. Я приняла кучу болеутоляющих таблеток Гуго и на третий день так отупела, что только с величайшим трудом могла делать самое неотложное. Порой казалось, что я схожу с ума: зуб словно пустил тонкие корни, которые теперь сверлили мозг. На четвертый день таблетки вообще перестали действовать, я сидела за столом, подперев голову руками, и прислушивалась к свирепой боли в голове. Лукс грустно лежал рядом со мной на лавке, но я была не в состоянии сказать ему доброе слово. За столом просидела и всю ночь, в постели боль становилась нестерпимой. На пятый день десну нарвало, в ярости и полном отчаянии я вскрыла нарыв бритвой Гуго. Боль от бритвы была почти приятной, она на мгновение заглушила другую боль. Вытекло много гноя, мне было так худо, что я кричала, стонала и чуть было не потеряла сознание. Однако этого не произошло; мне еще ни разу в жизни не было дано потерять сознание. Наконец, все еще не в себе, я, дрожа, поднялась, смыла с лица кровь, гной и слезы и легла. Следующие часы были сплошным счастьем. Я уснула, не заперев двери, и спала, пока меня вечером не разбудил Лукс. Тогда я встала, все еще весьма нетвердо держась на ногах, загнала Беллу в хлев, накормила и подоила ее, очень-очень медленно и осторожно – при быстрых движениях меня шатало. Позже, выпив немного молока и покормив Лукса, я уснула прямо за столом. С тех пор свищ нет-нет да и начинает гноиться, потом прорывается и заживает. Но больше не болит. Не знаю, сколько это протянется. Жизненно необходимо было бы иметь искусственные зубы, но у меня во рту еще двадцать шесть своих, некоторые давно следовало бы удалить, а я из пустого кокетства не сделала даже коронок. Иногда я просыпаюсь в три часа ночи и при мысли об этих двадцати шести погружаюсь в холодную безнадежность. Это – бомбы замедленного действия у меня во рту, не думаю, что когда-либо решусь сама себе вырвать зуб. Если заболят, придется терпеть. Смешно, если после многолетних трудов я помру в лесу от флюса.
Выздоравливала после этой истории с зубом медленно. Думаю, потому, что перебрала таблеток. Охотясь на серну, израсходовала слишком много зарядов – руки дрожали. Я почти ничего не ела, зато пила много молока, думаю, молоко и помогло мне вылечиться от отравления.
Десятого июня отправилась на картофельное поле. Ботва сильно выросла, взошли почти все клубни. Но вытянулись и сорняки. Поскольку накануне прошел дождь, сразу взялась полоть. Ясно было, что поле нужно огородить. Хоть и непохоже было, что дичь станет есть ботву, когда вокруг полно сочнейшей травы, но какой-нибудь зверь мог покуситься на драгоценные клубни. Поэтому следующие дни я провела, огораживая поле толстыми сучьями, которые переплетала бурыми гибкими прутьями. Не особенно трудная, но требующая определенных навыков работа, их-то мне и предстояло приобрести.
После этого мое поле стало походить на маленькое укрепление посреди леса, защищенное со всех сторон, только против мышей я мало что могла предпринять. Конечно, их норы можно залить керосином, но подобной расточительности я себе позволить не могла. К тому же кто знает: вдруг картошка стала бы после этого отдавать керосином? Никакого понятия об этом я не имела, а позволить себе экспериментировать по понятным причинам не могла.
Бобы у хлева взошли только наполовину. Наверное, все-так они были слишком старые. Но при благоприятной погоде можно было надеяться на небольшой урожай. В общем-то, бобы я посадила по счастливой случайности, скорее из каприза, чем по зрелом размышлении. Только потом поняла, как важны именно бобы. Они заменили хлеб. Сегодня у меня уже много бобов.
Бобы тоже огородила, сообразив, что оставшаяся без присмотра Белла не откажется от них. Когда у меня бывало немного свободного времени, к примеру в дождливые дни, я тут же предавалась унынию и тревожным раздумьям. Белла по-прежнему давала много молока и заметно округлилась. Но я все еще не знала, будет ли теленок.
А что, если теленок действительно будет? Часами просиживала я за столом, подперев голову руками, и раздумывала о Белле. Я так мало понимаю в коровах. Вдруг я не смогу помочь теленку родиться, вдруг Белла умрет в родах или умрут и она, и теленок, вдруг Белла съест на лугу ядовитую траву, сломает ногу или ее укусит гадюка? Я смутно припоминала мрачные истории о коровах, слышанные мной в детстве во время каникул. Есть какая-то болезнь, при которой корове нужно воткнуть нож в тело в совершенно определенном месте. Я не знала этого места, а даже если бы и знала, то никогда не смогла бы ткнуть Беллу ножом. Я бы скорее пристрелила ее. А что, если на лугу валяются гвозди или битое стекло? Луиза никогда за этим толком не следила. Гвозди и осколки могут распороть один из бесчисленных желудков Беллы. Я ведь даже не знаю, сколько у коровы желудков: такое учишь к экзамену, а потом сразу забываешь. И не только Белла в опасности, хотя о ней я и беспокоилась больше всего. Лукс мог попасть в старый капкан, его тоже могла укусить гадюка. Не знаю, отчего я тогда так боялась гадюк. За два с половиной года, что я тут, – ни одной не видела. А уж что могло приключиться с Кошкой, так этого и не представить. Ее я вообще не могла уберечь: по ночам она одна бегала по лесу, полностью ускользая из-под моей опеки. Ее могли сожрать лиса или филин, а в капкан она могла угодить еще скорее, чем Лукс.
Как ни стараюсь гнать эти мысли, до конца это ни разу не удавалось. Право, не думаю, что это мания. Было бы гораздо большим безумием ожидать, что мне удастся сохранить животных здесь, в лесу, чем предположить, что они могут погибнуть. Сколько помню, мысли эти все время мучили меня и будут мучить, пока есть хоть одно создание, мне доверившееся. Иногда, еще задолго до стены, я хотела умереть, чтобы сбросить наконец свое бремя. Я всегда молчала об этом: мужчина не понял бы, а женщинам жилось так же. Поэтому мы предпочитали болтать о нарядах, подругах и театре и смеяться, затаив гложущую тоску. Мы все о ней знали, поэтому никогда об этом и не говорили. Потому что это – цена, которую платишь за способность любить.
Позже я рассказала об этом Луксу, просто так, чтобы не разучиться говорить. У него от всех бед одно лекарство: побегать наперегонки по лесу. А Кошка хоть и слушала меня внимательно, но только до тех пор, пока я чем-нибудь не обнаруживала своих чувств. Она презирала даже намек на истерику и просто уходила, если я распускалась. Белла же в ответ на все тирады просто облизывала мне физиономию: утешение, но не выход. Да выхода и нет, это известно даже моей корове, просто я так защищаюсь от бед.
В конце июня Кошка переменилась весьма подозрительным образом. Она заметно округлилась и помрачнела. Иногда она часами не трогалась с места, словно прислушиваясь к себе. Стоило Луксу подойти к ней, как он тут же получал оплеуху, а ко мне она относилась то сугубо неприветливо, то преувеличенно ласково. Поскольку она была здорова и ела как следует, состояние ее не вызывало у меня сомнений. Пока я только и думала, что о теленке, в кошкиной утробе подрастали крохотные котята. Я давала ей побольше молока, и она съедала больше, чем прежде.
Двадцать седьмого июня, в ветреный день, после ужина, из шкафа донесся тихий писк. Уходя в хлев, я оставила шкаф открытым, там лежало несколько старых журналов Луизы. На них Кошка и разродилась, прямо на обложке «Элегантной дамы».
Кошка громко мурлыкала, гордо и счастливо глядя на меня большими влажными глазами. Она даже позволила погладить себя и посмотреть малышей. Один был в мать – серый и полосатый, другой – белоснежный и пушистый. Серый мертв. Я унесла его и похоронила рядом с хлевом. Кошка, казалось, и не заметила, она всецело отдалась уходу за белым пушистым созданьицем.
Когда любопытный Лукс сунул голову в шкаф, Кошка так яростно зашипела, что он в испуге и возмущении бежал на улицу. Кошка осталась в шкафу и не соглашалась никуда переселяться. Так что я оставила дверцу приоткрытой, привязав ее, чтобы не распахивалась настежь и котенок мог лежать в уютном полумраке.
К слову, Кошка оказалась страстной матерью и только ночью отлучалась на короткое время. Охотиться ей не надо было, я давала вдоволь молока и мяса.











