Читать онлайн Последние дни наших отцов
- Автор: Жоэль Диккер
- Жанр: Книги о войне, Современная зарубежная литература
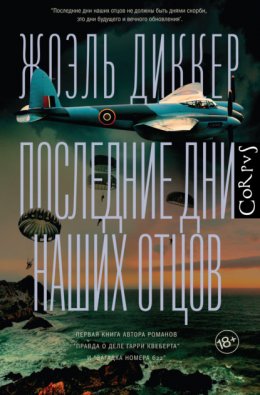
© Editions De Fallois / L’Age d’Homme – Paris 2013
© И. Стаф, перевод на русский язык, 2022
© ООО “Издательство Аст”, 2022
Издательство CORPUS ®
Дорогой бабуле и дорогому Жану
Памяти Владимира Дмитриевича
И не надо думать, будто война, какой бы оправданной она ни была, может быть не преступной. Спросите об этом пехоту, спросите мертвых.
Эрнест Хемингуэй Предисловие к “Сокровищу свободного мира”[1]
Часть первая
1
- Пусть все отцы в мире, готовясь уйти от нас, знают, в какой опасности мы остаемся без них.
- Они научили нас ходить – мы не сможем больше ходить.
- Они научили нас говорить – мы не сможем больше говорить.
- Они научили нас жить – мы больше не сможем жить.
- Они научили нас, как стать людьми, – мы уже не станем людьми. Мы превратимся в ничто.
На заре они сидели курили, глядя в черное небо, что танцевало над Англией. И Пэл читал свои стихи. Под покровом ночи он вспоминал отца.
В темноте на пригорке, где они собрались, мерцали красные точки сигарет. Они привыкли курить здесь перед рассветом. Они курили, чтобы быть вместе, курили, чтобы не ослабеть, курили, чтобы не забывать: они люди.
Толстяк шастал по кустам, будто бродячий пес, тявканьем распугивая мышей в росистой траве. Пэл сердился на мнимого пса:
– Кончай, Толстяк! Сегодня надо грустить!
После третьего окрика Толстяк угомонился; надувшись, как ребенок, он обошел полукруг из десятка фигур и уселся к тем, кто молчал, – между Жабой, вечно унылым, и Сливой, бедным заикой, тайным любителем слов.
– О чем думаешь, Пэл? – спросил Толстяк.
– О разном…
– О плохом не думай, думай о хорошем.
И мясистая, пухлая рука Толстяка нащупала плечо товарища.
Их позвали с крыльца старого дома, стоявшего напротив. Скоро начнется боевая подготовка. Все вскочили. Пэл на миг задержался, вслушиваясь в шепот тумана. Он снова вспоминал свой отъезд из Парижа. Он думал о нем без конца, каждый вечер, каждое утро. Особенно по утрам. Сегодня как раз два месяца с тех пор, как он уехал.
Это случилось в начале сентября, на пороге осени. Пэл не мог бездействовать: надо защищать людей, защищать отцов и своего отца, – а ведь несколько лет назад, в тот день, когда судьба лишила его матери, он поклялся, что никогда не оставит отца одного. Хороший сын и одинокий вдовец. Но война добралась до них, и Пэл выбрал оружие, а значит, принял решение покинуть отца. Он знал об отъезде уже в августе, но сказать ему не было сил. Трус. Набрался храбрости и попрощался лишь накануне отъезда, после ужина.
– Почему ты? – задохнулся отец.
– Потому что если не я, то никто.
Лицо отца светилось любовью и мукой, он обнял сына, чтобы придать ему мужества.
Отец проплакал всю ночь, затаившись в своей комнате: плакал от грусти, но считал, что его двадцатидвухлетний сын – самый храбрый мальчик. Пэл стоял под дверью, слушал его рыдания. И, внезапно возненавидев себя за то, что заставил плакать отца, до крови рассек грудь острием перочинного ножа. Встал перед зеркалом, посмотрел на рану, обругал себя и еще углубил разрез у сердца, чтобы рубец не исчез никогда.
Назавтра, на заре, отец бродил по квартире в халате, с растерзанным сердцем. Он сварил крепкий кофе. Пэл сидел за кухонным столом в ботинках и шапке, пил кофе – медленно, оттягивая разлуку. Это был лучший кофе в его жизни.
– Ты одежду хорошую взял? – спросил отец, указывая на сумку, которую сын собирался взять с собой.
– Да.
– Дай я проверю. Тебе нужны теплые вещи, зима будет холодной.
И отец положил туда еще какую-то одежду, колбасу, сыр и немного денег. Потом вытащил все и трижды укладывал заново: “Сейчас уложу получше”, – твердил он в попытке отвести неумолимую судьбу. А когда тянуть дольше стало невозможно, отдался тоске и отчаянию:
– Что же будет со мной?
– Я скоро вернусь.
– Как же мне страшно за тебя!
– Не надо…
– Мне будет страшно каждый день!
Да, он не станет есть, он не станет спать, пока сын не вернется. Отныне он будет несчастнейшим из людей.
– Ты мне напишешь?
– Конечно, папа.
– А я буду ждать тебя. Всегда.
Он прижал сына к груди.
– Тебе нельзя бросать учебу, – добавил он. – Образование важная вещь. Не будь люди так глупы, не было бы войны.
Пэл кивнул.
– Не будь люди так глупы, мы бы до этого не докатились.
– Да, папа.
– Я тебе положил книги…
– Знаю.
– Книги – это важно.
И тогда отец схватил сына за плечи – яростно, в порыве бурного отчаяния.
– Обещай мне, что не умрешь!
– Обещаю.
Пэл взял сумку и поцеловал отца. В последний раз. На лестнице отец задержал его снова:
– Подожди! Ты забыл ключ! Как же ты вернешься без ключа!
Пэл не хотел брать ключ: те, кто не вернется, ключей с собой не берут. Чтобы не расстраивать отца, он лишь пробормотал:
– Не стоит, вдруг я его потеряю.
Отец дрожал.
– Конечно! Это будет глупо… Как же тебе вернуться… Так, смотри, я кладу его под коврик. Смотри, как хорошо я его положил тут, под коврик, видишь? Я всегда буду тут оставлять ключ на тот случай, если ты вернешься.
Он на секунду задумался.
– А если его кто-нибудь возьмет? Гм… Я предупрежу консьержку, у нее есть запасной. Скажу, что ты уехал и чтобы она не уходила из своей каморки, когда меня нет дома. А я никуда не уйду, если ее не будет на месте. Да, скажу ей, чтобы смотрела в оба, а я ей на Рождество заплачу вдвое.
– Не говори ничего консьержке.
– Конечно, ничего не надо говорить. Тогда я не буду запирать дверь ни днем ни ночью, никогда. Тогда ты точно не останешься за дверью, когда вернешься.
Повисло долгое молчание.
– До свидания, сынок, – сказал отец.
– До свидания, папа, – сказал сын.
Еще Пэл прошептал: “Я люблю тебя, папа”, но отец его не слышал.
2
По ночам, когда не спалось, Пэл уходил из общей спальни, где видели десятый сон измученные учениями товарищи. Бродил по заледенелому дому, пронизанному ветром так, словно в нем не было ни дверей, ни окон. Он, вечный бродячий француз, казался себе шотландским привидением: заходил в кухни, в столовую, в большую библиотеку; смотрел на свои часы, потом на стенные, считал, сколько времени осталось до того, как пойти покурить со всеми. Иногда, разгоняя унылые мысли, отвлекал себя, вспоминал какую-нибудь смешную историю и, если она была хороша, записывал, чтобы назавтра рассказать другим курсантам. А когда совсем не знал, чем заняться, шел подставить под воду свои изломы и раны, повторяя в слив душевой свое имя: Поль-Эмиль. Теперь его называли Пэл[2], потому что здесь почти у всех было прозвище. Новой жизни – новое имя.
Все началось в Париже несколько месяцев назад: они с другом, Маршо, дважды нарисовали на стене лотарингский крест. Первый раз все прошло гладко. И они нарисовали крест снова. Вторая вылазка состоялась под вечер. На маленькой улочке Маршо стоял на стреме, Пэл рисовал, старательно выводя линии, и вдруг чья-то рука схватила его за плечо, и он услышал: “Гестапо!” Сердце его замерло, он обернулся: какой-то высокий мужчина крепко держал одной рукой его, а другой Маршо. “Шайка мелких недоумков, – ругался мужчина, – вы что, хотите сдохнуть за картинки? От картинок никакой пользы!” Он был не из гестапо. Наоборот. Маршо и Пэл встречались с ним еще дважды. Третья встреча состоялась в задней комнате одного кафе в Батиньоле, на ней был еще какой-то незнакомец, судя по всему, англичанин. Мужчина объяснил, что ищет храбрых французов, готовых участвовать в военных действиях.
Вот так они и уехали – Пэл и Маршо. Их переправили по секретному каналу через Южную зону и Пиренеи в Испанию. Там Маршо решил свернуть в Алжир. Пэл хотел ехать дальше, в Лондон. Говорили, что все решается там. Он добрался до Португалии, потом, самолетом, до Англии. Прибыв в Лондон, он прошел через центр допросов в Уондсуэрте – обязательная процедура для всех французов, приезжающих в Великобританию, – и в пестрой толпе трусов, храбрецов, патриотов, коммунистов, скотов, ветеранов, идеалистов и отчаявшихся предстал перед Службой комплектования британской армии. Братская Европа текла изо всех щелей, словно построенный в спешке корабль. Война шла уже два года на улицах и в сердцах, и каждый требовал свою долю.
В Уондсуэрте его продержали недолго и скоро перевели в “Нортумберленд-хаус” – старинный отель возле Трафальгарской площади, отданный под нужды министерства обороны. Там, в пустом холодном номере, он подолгу беседовал с еще одним французом, Роже Калланом. Встречи проходили несколько дней, поэтапно: Каллан, по профессии психиатр, служил вербовщиком Управления специальных операций (УСО), одной из ветвей британских спецслужб, занимавшейся подпольной деятельностью. Пэл заинтересовал его. Молодой человек, не подозревая об уготованной ему судьбе, лишь прилежно отвечал на вопросы и заполнял анкеты, радуясь, что может внести свой маленький вклад в военные действия. Если сочтут, что он принесет пользу как пулеметчик, он будет пулеметчиком – о, как здорово он станет палить очередями с турели; если как механик, он будет механиком и будет затягивать болты лучше всех; если же английские аналитики отведут ему роль мелкого клерка в одной из пропагандистских типографий, с энтузиазмом станет подносить палеты с краской.
Но Каллан вскоре счел, что Пэл по всем критериям отлично подходит на роль полевого агента УСО. Спокойный, сдержанный парень, крепкого сложения, с мягкими чертами лица – пожалуй, красивый. Горячий патриот, но не из тех сумасбродов, что способны погубить целую роту, и не из отвергнутых влюбленных, что идут на войну от отчаяния, из желания умереть. У него прекрасная речь, сильная, осмысленная. Врач не без любопытства выслушивал его объяснения: да, он будет очень стараться в типографии, но его должны немного подучить, ведь в типографском деле он разбирается слабо, зато любит писать стихи и будет работать как одержимый, сочинять прекрасные листовки, великолепные листовки, их станут разбрасывать с бомбардировщиков, а взволнованные пилоты станут декламировать их в кабинах… Ведь в конечном счете сочинять листовки – тоже значит воевать.
И Каллан написал в своих заметках, что юный Пэл из тех ценных людей, что нередко сами себя не знают: тем самым ко всем их достоинствам добавляется скромность.
УСО была придумана лично премьер-министром Черчиллем сразу после бегства англичан из Дюнкерка. Понимая, что атаковать немцев в лоб силами регулярной армии не получится, он решил использовать опыт герилий – вести войну внутри позиций противника. Замысел был гениален: Управление под британским командованием вербовало иностранцев в оккупированной Европе, проводило их подготовку и обучение, затем точечно засылало обратно на родину, где они, слившись с местным населением, осуществляли секретные операции в тылу врага – собирали сведения, занимались саботажем, готовили диверсии, вели пропаганду, создавали подпольные ячейки и сети.
Когда все проверки безопасности остались позади, Каллан наконец заговорил с Пэлом об УСО. Случилось это под конец третьего дня в “Нортумберленд-хаусе”.
– Согласился бы ты выполнять секретные задания во Франции? – спросил врач.
Сердце у молодого человека заколотилось.
– Какого рода задания?
– Боевые.
– Опасные?
– Очень.
Затем Каллан отеческим, доверительным тоном объяснил ему в самых общих чертах, что такое УСО, – во всяком случае то, что позволяла ему открыть завеса тайны, окутывавшая Управление: парень должен был уяснить всю серьезность подобного предложения. Пэл понимал не все, но понимал.
– Не знаю, справлюсь ли, – ответил он, побледнев. Он-то представлял себя посвистывающим механиком, напевающим печатником, а ему намекают на спецслужбы.
– Я дам тебе время подумать, – сказал Каллан.
– Конечно. Подумать…
Ничто не мешало Пэлу ответить “нет”, вернуться во Францию, к безмятежной парижской жизни, снова обнять отца и больше не покидать его никогда. Но в глубине своей израненной души он уже знал, что не откажется. Ставки слишком высоки. Он проделал весь этот путь, чтобы попасть на войну, и теперь не мог отступиться. Пэл вернулся в номер, куда его поселили, с комком в горле и дрожащими руками. У него было два дня на размышление.
Через день он снова встретился с Калланом в “Нортумберленд-хаусе”. В последний раз. Теперь его отвели не в прежний жуткий зал для допросов, но в приятную, хорошо натопленную комнату с окнами, выходящими на улицу. На столе стоял чай и печенье, и когда Каллан на минутку отлучился, Пэл набросился на еду. Он был голоден, два дня почти ничего не ел от страха. И теперь глотал, глотал не жуя. Внезапно раздавшийся голос Каллана заставил его подскочить:
– Ты когда последний раз ел, мой мальчик?
Пэл промолчал. Каллан окинул его пристальным взглядом: привлекательный молодой человек, вежливый, умный – наверно, гордость родителей. Но он обладает всеми качествами хорошего агента, это его и погубит. Он не мог понять, какого черта этот несчастный мальчик добрался сюда, почему не остался в Париже. И словно затем, чтобы отвратить судьбу, повел его в кафе неподалеку и угостил сэндвичем.
Они ели у стойки молча. А потом не вернулись сразу в “Нортумберленд-хаус”, а прогулялись по центру Лондона. Пэл прочел свои стихи об отце, просто так, опьяненный ритмом собственных шагов: Лондон был красив, англичане – отважны и честолюбивы.
Тут Каллан остановился посреди бульвара и схватил его за плечи:
– Уезжай, сынок. Бегом возвращайся к отцу. Ни один человек не заслуживает того, что с тобой будет.
– Люди не удирают.
– Уезжай, черт тебя дери! Уезжай и больше не возвращайся!
– Не могу… я принимаю ваше предложение!
– Подумай еще!
– Я все решил. Но я никогда не воевал, вы должны это знать.
– Мы тебя научим… – доктор вздохнул. – Ты хоть понимаешь, что собираешься делать?
– По-моему, да, месье.
– Да ничего не ты не понимаешь!
Пэл пристально посмотрел на Каллана. В его глазах светилось мужество – мужество сыновей, что приводят в отчаяние отцов.
И теперь по ночам, в загородном доме, Пэл часто вспоминал, как по рекомендации доктора Каллана вступил в Секцию F УСО. Во главе Управления стоял генерал-англичанин, оно состояло из нескольких секций, отвечавших за операции в различных оккупированных странах. Во Франции их было несколько из-за политических разногласий, и Пэл вступил в Секцию F – там были независимые французы, не связанные ни с Де Голлем (Секция DF), ни с коммунистами (Секция RF), ни с Богом, ни с кем. В качестве прикрытия он получил воинское звание и личный номер британского военнослужащего; если кто-то спросит, он должен был просто отвечать, что работает на министерство обороны – обычное дело, особенно в такие времена.
Несколько недель Пэл провел в Лондоне, в одиночестве; ждал, когда начнется его обучение. Сидя в своей комнатушке, снова и снова обдумывал недавнее решение: он бросил отца, предпочел ему войну. “Кого ты больше всего любишь?” – вопрошала совесть. Войну. И он невольно спрашивал себя, увидит ли когда-нибудь отца, к которому был так привязан.
По-настоящему все началось в первых числах ноября, под Гилфордом, в Суррее. В усадьбе. Почти две недели назад. Поместье Уонборо и пригорок курильщиков на заре. Первый этап обучения курсантов УСО.
3
Уонборо – деревушка в нескольких километрах от Гилфорда, к югу от Лондона. Туда ведет одна-единственная дорога, что, петляя меж холмов, упирается в группку отдельно стоящих домов – каменных построек, насчитывающих порой несколько веков. В свое время это были службы Уонборо – древнего манора, который возник в Х веке, побывал в разные периоды феодом, аббатством, поместьем, а теперь превратился в глубоко засекреченный учебный центр УСО.
За несколько месяцев курсанты должны были побывать в четырех уголках Великобритании, в четырех школах, призванных обучить будущих агентов военному искусству. В первой, подготовительной – preliminary school, они провели около месяца, одна из главных ее задач заключалась в отсеве наименее пригодных для Управления. Подготовительные школы располагались в усадьбах, рассеянных по югу страны и в Мидлендсе. В Уонборо находились главным образом подготовительные школы Секции F. Официально – и для любопытных из Гилфорда – здесь был всего лишь учебный плац британских десантников. Место было красивое: особняк, зеленый участок с рассыпанными там и сям рощицами и пригорками, совсем рядом лес. Главное здание высилось среди больших тополей, а поодаль – несколько служебных построек: большой амбар и даже каменная часовня. Пэл и остальные курсанты начинали здесь обживаться.
Отсев был безжалостный. Холодным ноябрьским днем их прибыл двадцать один человек, а теперь оставалось уже шестнадцать, считая Пэла.
Там был Станислас, сорока пяти лет, староста группы, английский адвокат, франкофон и франкофил, бывший военный летчик.
И был Эме, тридцати семи лет, неизменно приветливый марселец с певучим акцентом.
И был Дантист, тридцати шести лет, зубной врач из Руана, на бегу невольно пыхтевший, как пес.
И был Франк, тридцати трех лет, спортсмен из Лиона, бывший учитель физкультуры.
И был Жаба, двадцати восьми лет, завербованный несмотря на приступы депрессии. Большие, навыкате, глаза на изможденном лице придавали ему сходство с земноводным.
И был Толстяк, двадцати семи лет; на самом деле его звали Ален, но все называли его Толстяком, потому что он был толстый. Он говорил, что это из-за болезни, но болезнь его заключалась только в обжорстве.
И был Кей, двадцати шести лет, высокий крепыш из Бордо, рыжий и обаятельный, с двойным гражданством, французским и британским.
И был Фарон, двадцати шести лет, устрашающий колосс, гигантская масса мускулов, словно созданная для рукопашной; к тому же он раньше служил во французской армии.
И был Ломтик-сала, двадцати четырех лет, француз польского происхождения с севера страны, коренастый и подвижный, с лукавыми глазами, странно смуглым лицом и носом, похожим на большой пятачок.
И был Слива, заика двадцати четырех лет, вечно молчащий, потому что язык у него совсем заплетался.
И был Цветная Капуста, двадцати трех лет, получивший свое прозвище за огромные оттопыренные уши и слишком широкий лоб.
И была Лора, двадцати двух лет, очаровательная блондинка с сияющими глазами, уроженка шикарной части Лондона.
И были Большой Дидье и Макс, прибывшие вместе из Экс-ан-Прованса; обоим двадцать один год, оба едва ли способны воевать.
И был Клод-кюре, девятнадцати лет, самый юный из них, нежный как девушка; он бросил семинарию и пошел на войну.
Тяжелее всего было в первые дни: никто из кандидатов в агенты не представлял, насколько трудна подготовка. Слишком много напряжения, слишком много одиночества. Курсантов будили на рассвете; корчась от страха, они поспешно одевались в ледяных спальнях и тут же отправлялись на утреннее занятие по ближнему бою. Позже им полагался завтрак – обильный, еду не нормировали. Затем немного теории, азбука Морзе или радиосвязь, потом снова начинались изнурительные физические упражнения: бег, разная гимнастика и снова ближний бой, яростные драки с единственным правилом – не прикончить противника. Кандидаты бросались друг на друга с ревом, били без пощады, иногда кусались, чтобы освободиться от захвата. Ран было не счесть, но все несерьезные. Так, с несколькими перерывами, проходил весь день. В конце, под вечер, шли специальные курсы, на которых инструкторы учили новобранцев простым, но страшным приемам: как, к примеру, голыми руками разоружить противника с ножом или пистолетом. И наконец изможденные курсанты могли отправиться в душ и на ранний ужин.
В столовой усадьбы они поначалу жрали в голодном молчании: жрать значило есть без разговоров, сидеть за столом, не обращая внимания друг на друга, словно животные; то же значит немецкое fressen. После чего поодиночке, измотанные вконец, падали на кровати в спальнях, боясь, что не выдержат. Там они понемногу перезнакомились, появились первые симпатии. В час отбоя можно было пошутить, рассказать пару анекдотов, вспомнить прошедший день, чтобы разрядить обстановку. Иногда они делились своими тревогами, страхом перед завтрашними боями, но не слишком – стыдились. Пэл быстро подружился с соседями по спальне: Кеем, Толстяком и Клодом. Толстяк раздавал товарищам горы печенья и английской колбасы, которые притащил с собой, и они, грызя печенье и нарезая колбасу, болтали, пока их не одолевал сон.
После ужина, в общей столовой, все долго резались в карты; на заре стали вместе курить на пригорке, для храбрости. И вскоре все курсанты перезнакомились между собой.
Кей, крепкий, с сильным характером, стал одним из первых настоящих друзей Пэла в Секции F. От него исходил безмятежный, умиротворяющий покой: он был человек рассудительный.
Эме-марселец, изобретатель некоего подобия игры в петанк круглыми камушками, часто подсаживался к Сыну. И без конца повторял, что тот похож на его мальчика. Говорил это чуть ли не каждое утро, на пригорке, словно в беспамятстве.
– Ты хоть откуда, малец?
– Из Парижа.
– Точно… Париж… Красивый город Париж. А Марсель знаешь?
– Нет. Как-то не было случая съездить, не успел вчера.
Эме смеялся.
– Я повторяюсь, да? Просто когда тебя вижу, вспоминаю сына.
Кей говорил, что сын Эме умер, но спросить никто не решался.
Жаба и Станислас часто уединялись и играли в шахматы на резной деревянной доске, которую привез с собой бывший летчик. Жаба играл потрясающе и обычно выигрывал, а неудачник Станислас злился.
– Говно, а не шахматы! – орал он, расшвыривая пешки по комнате.
Ответом ему всегда был смех: нахальный Ломтик кричал, что Станислас уже старик и выжил из ума, а тот, как старший, угрожал надавать всем оплеух, но обещание свое не держал. В такие минуты Толстяк бегал за спиной Станисласа, собирал разбросанные по полу фигуры и повторял:
– Не ломай свои красивые шахматы, Стан.
Он всегда заботился о товарищах.
Толстяк, несомненно, был самым симпатичным из курсантов: его переполняли добрые намерения, нередко оборачивавшиеся назойливостью. Например, чтобы подбодрить товарищей во время утренней индивидуальной разминки перед усадьбой, в ледяной туманной сырости, он во все горло распевал кошмарную детскую песенку “Регульи ты регулья”. Подпрыгивал, потел и пыхтел, хлопал по плечу полусонных курсантов и, распираемый дружеской нежностью, орал им в ухо: “Регульи ты регулья, шуби-шуби-шуби-шуби-ду-да”. В ответ он часто получал тычок, но под конец дня, в душевой, все курсанты вдруг обнаруживали, что напевают его мелодию.
А исполин Фарон доказывал всем, что никогда не устает от тренировок. Случалось, он даже уходил в одиночку на пробежку дать мышцам еще нагрузки, и каждый вечер подтягивался на балках амбара и отжимался в спальне. Однажды бессонной ночью Пэл застал его в столовой – тот опять упражнялся, как одержимый.
Юный Клод, который собирался стать священником, а потом опомнился и чуть ли не случайно попал в британские спецслужбы, источал какую-то болезненную вежливость, наводившую на мысль, что он не создан для войны. Каждый вечер он молился, преклонив колени у своей кровати и не обращая внимания на бесконечные насмешки. Говорил, что молится за себя, но молился прежде всего за них, за своих товарищей. Иногда предлагал помолиться вместе, но никто не соглашался, и он исчезал, укрывался в каменной часовенке, объяснял Богу, что его приятели – не дурные люди, у них наверняка есть куча уважительных причин, почему они не хотят больше молиться. Клод был очень юн, а из-за внешности казался еще моложе: среднего роста, худенький, безбородый, с коротко стриженными каштановыми волосами, курносый, смотрел искоса – взглядом страшно застенчивого человека. Иногда, пытаясь в столовой присоединиться к какой-нибудь группе спорщиков, он горбился – неуклюже, неловко, словно пытаясь стать незаметнее. Пэл часто жалел беднягу и однажды вечером пошел с ним в часовню. Толстяк, верный пес, двинулся за ними; на ходу он распевал, созерцал звезды и грыз деревяшку, чтобы не так хотелось есть.
– Почему ты никогда не молишься? – спросил Клод.
– Я плохо молюсь, – отвечал он.
– Нельзя плохо молиться, если набожен.
– Я не набожен.
– Почему?
– Я не верю в Бога.
Клод всем телом изобразил изумление, а главное, смущение пред лицом Господа.
– В кого же ты веришь?
– Я верю в нас, тех, что здесь. Верю в людей.
– Да людей больше нет, их не существует. Потому-то я и здесь.
Повисло напряженное молчание, каждый осудил чужую веру, потом негодование Клода вырвалось наружу:
– Ты не можешь не верить в Бога!
– А ты не можешь не верить в людей!
И Пэл из сочувствия к Клоду преклонил колени рядом с ним. Из сочувствия, но прежде всего потому, что в глубине души опасался – Клод прав. В тот вечер он молился за отца, которого ему так не хватало, молился, чтобы тот не изведал ужасов войны и тех ужасов, что они готовились совершать сами: ведь они учились убивать. Но убивать не так-то просто. Люди не убивают людей.
К каждой группе кандидатов в агенты УСО был приставлен отозванный от оперативной работы офицер британских спецслужб: он руководил их обучением, следил за успехами и должен был сориентировать в дальнейшем. За группу Пэла отвечал лейтенант Мерфи Питер, бывший связной Секретной разведывательной службы в Бомбее. Это был высокий сухопарый англичанин лет пятидесяти, умный, жесткий, но тонкий психолог, очень внимательный к курсантам. Именно он будил их, занимался с ними и заботился как мог. Его угловатая фигура, едва различимая в пелене тумана, следила за будущими бойцами на тренировках: он записывал их результаты, отмечал сильные и слабые стороны, а когда становилось понятно, что кто-то больше не продержится, вынужден был его отсеивать к великому своему огорчению. Лейтенант Питер не говорил по-французски, курсанты по большей части плохо владели английским, а потому группе был придан еще и переводчик – маленький полиглот-шотландец, о котором никто ничего не знал и который просил называть его просто Дэвид. Троим же англоговорящим – Кею, Лоре и Станисласу – было строго запрещено общаться по-английски, чтобы их французский оставался безупречным и не выдал их на задании. Так что Дэвида буквально рвали на части: ему с рассвета до заката приходилось переводить инструкции, вопросы и разговоры. Обычно его переводы на заре бывали вялыми и сонными, днем – блестящими, а вечером – усталыми и обрывочными.
Лейтенант Питер давал по вечерам указания на завтра, звонил к началу учения и поднимал с кровати отстающих. Занятия начинались на рассвете. Курсанты должны были закалять тело тяжелыми физическими упражнениями: бегать в одиночку, в группе, в затылок, строем; ползать по земле, по грязи, по кустам ежевики; бросаться в ледяные ручьи; лазить по канату, обдирая руки. Еще их учили боксу, уличному бою и схватке с безоружным и с вооруженным противником. Тела их покрывались синяками, ноги и руки – глубокими царапинами. Все причиняло боль.
После тренировок наступало время идти в душ. Голые дрожащие тела в порезах и кровоподтеках набивались в слишком тесные душевые: стоя под теплыми струями в плотном облаке белого пара, курсанты глухо постанывали от усталости. Для Пэла это был особый момент: он подставлял утомленное тело под ласковую воду, смывал с него пот, грязь, кровь, ссадины. Неспешно намыливался, разминая натруженные плечи, а когда вытирался, чувствовал себя новым человеком, более потрепанным, конечно, но и более сильным, более выносливым, сменившим кожу, как змея. Он становился другим. Затем заходил под воду еще ненадолго, подставлял под нее голову и думал о старом отце, надеялся, что тот им гордится. В душе́ царил мир и то пьянящее чувство свершенного подвига, что продлится до ужина, когда в гудящую разговорами столовую придет Питер и задаст программу и расписание на следующий день. И всех снова охватит тревога перед завтрашними тяжкими тренировками. Всех, разве что кроме Фарона.
В душевой каждый из них наблюдал за раздетыми товарищами, оценивал, кто самый сильный и кого стоит избегать на занятиях по рукопашному бою. Самым страшным был, конечно, Фарон – высокий, с выпирающими мускулами. Он внушал ужас, от его скульптурного торса исходила дикая сила, которую усиливало редкостное уродство: лицо квадратное и отталкивающее, череп бритый с проплешинами, словно от чесотки, а длинные руки болтались вдоль туловища, как у большой обезьяны. Но все они, хоть и старались выделить самых сильных, отмечали прежде всего тех, кто послабее, тех, кто, видимо, не продержится долго – самых уязвимых, тощих, с глубокими ранами. Пэл считал, что следующими будут Жаба и, наверное, Клод. Бедняга Клод – он не вполне осознал свою новую судьбу и порой спрашивал Пэла:
– А потом-то мы что будем делать?
– Потом поедем во Францию.
– И что мы там будем делать, во Франции?
Сын ни разу не нашелся, что ответить. Во-первых, он сам не знал, что они станут делать во Франции, а во-вторых, Каллан его предупредил: оттуда вернутся не все. И как сказать Клоду с его истовой верой в Бога, что они, возможно, скоро умрут?
Под конец второй недели занятий был отчислен Дантист. Накануне его отъезда, вечером, Кей предложил Пэлу пойти покурить на пригорке, хотя время было неурочное. Сын спросил его, что бывает с теми, кто не прошел отбор.
– Они уже не возвращаются, – ответил Кей.
Пэл не сразу понял, и Кей пояснил:
– Их сажают в тюрьму.
– В тюрьму?
– Тех, кто провалился, сажают. Чтобы ничего не разболтали, что им известно.
– Но нам ничего не известно.
Прагматик Кей пожал плечами. Бесполезно выяснять, что справедливо, а что нет.
– Откуда ты знаешь?
– Знаю.
Кей велел Сыну никому ничего не говорить: у них обоих могут быть неприятности. Пэл обещал. Но в душе у него поднялось глубочайшее чувство протеста – их посадят, Дантиста и прочих, потому что они непригодны? Но к чему непригодны? К войне? Они же еще не знают, что такое война! И Пэлу даже пришло в голову, что англичане не лучше немцев.
4
Впоместье Уонборо зарядил дождь – по-британски педантичный, холодный, тяжелый, нескончаемый. Все небо сочилось влагой. Земля набухла водой, кожа промокших до костей курсантов приобрела белесый оттенок, а их одежда не успевала просохнуть и начинала гнить.
Помимо физических тренировок и боевых упражнений, обучение в подготовительных школах УСО включало все, что могло пригодиться на задании. Физическая подготовка чередовалась с различными теоретическими и практическими курсами. Со временем курсанты овладели основами связи – шифрованием, азбукой Морзе, чтением карт, использованием радиопередатчика. Еще они учились передвигаться по открытой местности, часами лежать неподвижно в лесу, водить машину и даже грузовик, но все без особого успеха.
В начале третьей недели кандидатов в агенты под проливным дождем тренировали стрелять из пистолета – кольта 38-го калибра и браунинга 45-го. Большинство первый раз взяли в руки оружие и, стоя в ряд лицом к пригорку, сосредоточенно палили: кто лучше, кто хуже. Слива оказался сущим несчастьем: несколько раз едва не прострелил себе ногу, потом чуть не попал в инструктора. Зато Фарон целился очень точно и посылал пули прямо в центр деревянных мишеней. Цветная Капуста подскакивал при каждом выстреле, а Жаба, перед тем как стрелять, зажмуривался. Под конец первого дня стрельб все сплевывали густую черную слюну, пропитанную порохом. Лейтенант Питер заверил, что это вполне нормально.
Ноябрь подходил к концу, но Пэл чувствовал, что его не отпускает призрак одиночества. Он все время думал об отце. Так хотелось ему написать, сказать, что с ним все в порядке и он скучает. Но в Уонборо это было запрещено. Пэл знал, что не он один подыхает от одиночества, что мучатся все, что они – всего лишь жалкие наемники! Конечно, тела их постепенно закалялись: туман казался не таким туманным, грязь не такой грязной, холод не таким холодным, но морально они страдали. И для поднятия духа глумились над другими, чтобы не глумиться над собой. Смеялись над благочестивым Клодом, пиная его в зад, когда он молился стоя на коленях. Пинки не причиняли боли телу, но от них болела душа. Смеялись над Станисласом, который в минуты отдыха разгуливал в широченном женском халате, пытаясь просушить одежду. Смеялись над Сливой, заикой и неумехой, который стрелял невесть как и попадал куда угодно, только не в мишени. Смеялись над Жабой с его экзистенциальными проблемами, который всегда ел отдельно от других. Смеялись над Цветной Капустой и его торчащими ушами, которые под хлесткими порывами ветра становились багровыми. “Ты наш слон!” – говорили они Цветной Капусте, награждая его болезненными оплеухами. Смеялись над грузным Толстяком. Все поневоле насмехались над всеми хоть немного, чтобы чувствовать себя лучше: даже Пэл, верный сын, и Кей, человек чести – все, кроме по-матерински ласковой Лоры. Она никогда не смеялась над другими.
Лора никого не оставляла равнодушным. В первые дни в Уонборо все сомневались в ее способностях – единственная женщина среди всех этих мужчин. Но теперь курсанты втайне обмирали от счастья, если в столовой она присаживалась к ним за стол. Пэл часто любовался ею – такой красавицы он не встречал никогда. Она была восхитительна: головокружительная походка, великолепная улыбка, а главное, от нее исходило какое-то обаяние, она выделялась из всех манерой держаться, нежным взглядом. Уроженка Челси, дочь англичанина и француженки, она хорошо знала Францию и говорила по-французски без малейшего акцента. Три года изучала англосаксонскую литературу в Лондоне, а потом и ее захлестнула война: УСО завербовало ее в университете. На английских факультетах вербовали многих кандидатов, прежде всего полукровок: будучи англичанами, они соответствовали правилам безопасности и в то же время были не совсем чужими в странах, куда их намеревались послать.
Когда кто-то из осмеянных курсантов уходил к себе, чаще всего его утешала именно Лора. Садилась рядом, говорила товарищу, что все это пустяки, остальные – всего лишь люди и завтра уже забудут и неудачную стрельбу, и уязвимую душу, и складки жира, и заикание – все, над чем так потешались. Потом улыбалась, и улыбка эта лечила любые раны. Когда Лора улыбалась, всем становилось легче.
Она говорила Толстяку, самому некрасивому мужчине во всей Англии: “По-моему, ты совсем не толстый. Ты просто коренастый и, на мой взгляд, очень обаятельный”. И на миг Толстяк вдруг чувствовал себя желанным. А позже, массируя в душе свои гигантские жировые бугры, клялся себе, что после войны прекратит ходить к шлюхам.
Она говорила Сливе-заике: “По-моему, ты говоришь прекрасные слова, неважно, как ты их произносишь, ведь они прекрасны”. И Слива на миг чувствовал себя оратором. И произносил под душем длинные безупречные речи.
Она говорила Клоду-кюре, опозоренному боголюбцу: “Какое счастье, что ты веришь в Бога. Молись, молись за всех нас”. И Клод поскорей выскакивал из душа, чтобы прочесть лишний раз молитву Богоматери.
А Жабе, которого изводили за то, что ему хотелось в одиночестве растравлять свою грусть, она говорила, что часто тоже грустит из-за всего, что происходит в Европе. Они сидели вместе, недолго, плечом к плечу, и обоим становилось легче.
Однажды утром, на третьей неделе, когда Пэл, Слива, Толстяк, Фарон, Фрэнк, Клод и Кей курили, как обычно, на своем сухом взгорке, они заметили в тумане длинный облезлый силуэт лисы. Лиса приветствовала их жутким хриплым криком. Клод, сложив руки рупором, чтобы вышло похоже, попытался ей по-дружески ответить, но лиса удрала.
– Мерзкая тварь! – заорал Фрэнк.
– Не волнуйся так, – отозвался Толстяк.
– Может, она бешеная.
– Немцев ты не боишься, а лисы боишься?
Фрэнк, прищурившись, состроил злую гримасу, чтобы его не сочли трусом.
– Ну и что… Может, это бешеный лис.
– Нет, он нет, – успокоил его Толстяк. – Жорж не бешеный.
Все в изумлении повернулись к Толстяку.
– Кто? – переспросил Пэл.
– Жорж.
– Ты дал лису имя?
– Да, я его часто встречаю.
Толстяк как ни в чем не бывало затянулся сигаретой, радуясь, что на него обратили внимание.
– Нельзя звать лиса Жоржем, – заметил Кей. – Это человеческое имя.
– Назови его Лис, – предложил Клод.
– Что это за имя такое – Лис? – надулся Толстяк. – Хочу звать его Жоржем.
– У меня кузена зовут Жорж! – негодующе заявил Ломтик-сала.
И все расхохотались.
Оказалось, что Жорж в самом деле часто бродит возле усадьбы в поисках еды, его замечали на рассвете и в вечерних сумерках под высоким дуплистым тополем. В тот день в Уонборо было много разговоров о лисе. Лоре непременно хотелось знать, как гигант приручил животное, и тот раздувался от гордости. “На самом деле я его не приручил, просто назвал”, – скромно ответил он.
На следующее утро вся группа пошла курить не на привычный взгорок, а к пресловутому тополю в надежде увидеть Жоржа. Толстяк, сделавшись по такому случаю “гидом-масаи на сафари”, комментировал: “Не знаю, придет ли он… Слишком много народу… Испугается небось…”. Он вдруг показался себе важной персоной и решил, что ощущать себя важным – потрясающе, ведь это чувство предельного счастья, чувство министров и президентов.
Жорж показывался курильщикам два утра кряду, под тем самым высоким тополем. Ломтик-сала, приглядевшись, увидел, что лис сидит и усердно жует, и понял, что тот добывает себе пищу в дупле.
– Жрет! – завопил он шепотом.
Толстяк велел говорить тихо, чтобы не напугать Жоржа.
– А что он жрет? – спросил кто-то.
– Понятия не имею, не видно.
– Может, червяков? – предположил Клод.
– Лисы червяков не едят! – вставил Станислас, хорошо знавший лис: ему доводилось охотиться на них с собаками. – Они что угодно едят, только не червяков.
– Думаю, у него здесь заначка, – заявил Толстяк тоном знатока. – Потому он сюда и ходит.
Все согласились, и Толстяк опять почувствовал себя неотразимым.
Но Жорж-лис не случайно приходил под тополь: последние десять дней Толстяк, чтобы его приманить, оставлял там еду, припрятанную в карманах за завтраком и ужином. Сперва хотел просто посмотреть на лиса, ждал его в засаде, чтобы порадовать глаз. Но в последние два дня он был счастлив своей выдумке, ведь она привлекла к его лису и к нему самому всеобщее внимание. И на заре, когда все сгрудились вокруг, чтобы взглянуть на животное, Толстяк любовно благословлял своего благородного бродячего лиса, а на самом деле хилого, больного зверька, о чем он, конечно, никому не сказал.
В воскресенье на третьей неделе лейтенант Питер позволил измученным курсантам отдохнуть после обеда. Большинство пошли спать. Пэл с Толстяком затеяли партию в шахматы в столовой, возле печки; Клод отправился в часовню. А Фарон, которому осточертела суета вокруг Толстяка с его лисом, воспользовался передышкой, чтобы уничтожить зверя прямо в его логове, под амбаром.
Исполин дважды видел, как лис уходит за доску у самого пола. Без труда оторвав ее, он обнаружил неглубокую нору. Лис был на месте. Фарон самодовольно улыбнулся – не всякому дано выследить лису. Взяв длинную палку, он стал изо всей силы тыкать ею вглубь лежки. Совал свое орудие в нору, дотягиваясь до визжащего зверя, и бил нещадно: раненому Жоржу ничего не оставалось, как попытаться выскочить и удрать, и великан ловко и без труда забил его сапогами и доской. Он вскрикнул от радости – убивать оказалось так легко! Подняв трупик, он оглядел его с некоторым разочарованием: вблизи лис был гораздо меньше, чем он думал. Все равно довольный, он поволок трофей в столовую, где Пэл с Толстяком склонились над шахматной доской Станисласа. Фарон, гроза побежденных, триумфально ввалился в комнату и швырнул истерзанное тельце лиса к ногам Толстяка.
– Жорж! – завопил Толстяк. – Ты… ты убил Жоржа?!
И Фарон не без удовольствия заметил в вытаращенных глазах Толстяка отсвет ужаса и отчаяния.
Пэла трясло, он не стал сдерживать ярость. Запустив шахматной доской в лицо гоготавшему колоссу, он кинулся на него и сбил с ног с криком “Сукин ты сын!”
На лице Фарона вспыхнул гнев, он одним прыжком вскочил на ноги, неуловимым движением – из тех, каким их научили здесь, – схватил Пэла, заломил ему руку и, используя ее как рычаг, с силой ударил головой об стену. Затем с желтыми от ярости глазами вцепился ему в горло, приподнял одной рукой и стал избивать свободным кулаком. Пэл задыхался – он, конечно, пытался отбиваться, но тщетно. Он не мог справиться с этой чудовищной силой, разве что старался хоть немного прикрыть руками тело и лицо.
Сцена продолжалась лишь несколько секунд – на шум драки примчался их разнимать лейтенант Питер, за ним Дэвид и вся остальная группа из спален. Пэлу досталось крепко, собственная кровь жгла ему горло, а сердце колотилось так, словно вот-вот остановится.
– Это что за бардак! – заорал лейтенант, хватая Фарона за плечо.
Он велел ему немедленно убираться, потом разогнал курсантов, пригрозив возобновить занятия, если все не успокоятся в ту же минуту.
Наконец Пэл остался с Питером наедине, и на миг ему почудилось, что тот тоже станет его бить или отправит в тюрьму за то, что так легко сдался. Сын задрожал, ему захотелось назад, в Париж, к отцу, не покидать больше улицу Бак никогда, мало ли что там происходит снаружи, плевать на немцев, плевать на войну, лишь бы отец был рядом. Он был безотцовщиной, сиротой в изгнании, он хотел, чтобы все это кончилось. Но лейтенант Питер не поднял на него руку.
– У тебя кровь, – просто сказал он.
Пэл вытер губы тыльной стороной ладони и провел языком по зубам, проверяя, все ли целы. Ему было грустно, он чувствовал себя униженным, чуть-чуть намочил штаны.
– Он убил лиса, – сказал Пэл на своем скверном английском, показав на окровавленную шкурку.
– Знаю.
– Я ему сказал, что он сукин сын.
Лейтенант засмеялся.
– Меня накажут?
– Нет.
– Лейтенант, нельзя убивать зверей. Убивать зверей – это как убивать детей.
– Ты прав. Ты ранен?
– Нет.
Лейтенант положил ему руку на плечо, и Сын почувствовал, что его отпустило.
– Я по отцу скучаю! – выдохнул юноша с горькими слезами на глазах.
Питер сочувственно кивнул.
– Я поэтому слабак? – спросил Сын.
– Нет.
Офицер задержал руку на плече сироты, потом протянул ему свой носовой платок.
– Иди умойся, ты весь мокрый от пота.
Он был мокрый не от пота, а от слез.
За ужином Пэл не проглотил ни куска. Кей, Эме, Фрэнк напрасно пытались его утешать. Клод хотел пересказать ему несколько важных эпизодов из Библии, чтобы отвлечь, Слива невнятно пошутил, а Станислас предложил сыграть в шахматы. Но никто из них не мог помочь Пэлу.
Сын ушел от всех и спрятался за часовней: только он знал это местечко – тайник меж двух невысоких каменных стен, где можно было укрыться от дождя. Но едва он туда залез, как появилась Лора. Она ничего не сказала, просто села рядом и посмотрела на него в упор – ее красивые зеленые глаза молча смеялись. В них была такая нежность, что Пэл не сразу понял, знает ли она о взбучке, какую ему задал Фарон.
– Не слабо он меня отделал, да? – смущенно пробормотал Сын.
– Это пустяки.
Она приложила палец к губам, веля ему молчать. И это было прекрасно. Пэл закрыл глаза и несколько раз глубоко вдохнул – от Лоры так хорошо пахло: ее тщательно промытые волосы благоухали абрикосом, макушка – тонкими духами. Да, она пользовалась духами; они учились воевать, а она душилась! В темноте он потянулся к ней лицом и подышал еще, она не заметила. Он давно не чувствовал такого приятного запаха.
Лора в утешение дружески похлопала Пэла по плечу, но тот невольно дернулся от боли. Засучив рукава, он при свете зажигалки обнаружил на обоих предплечьях гигантские фиолетовые кровоподтеки, следы кулаков Фарона. Она легонько дотронулась прохладной ладонью до его синяков.
– Больно?
– Немножко.
Больно было ужасно.
– Зайди попозже ко мне в комнату. Я тебя полечу.
Она сказала это, уже уходя, оставляя по себе в гигантском парке Уонборо шлейф тонких духов.
Пэл не знал, сколько это времени – “попозже”. Пользуясь тем, что все еще сидели в столовой, он зашел в спальню и переоделся. Взглянул на себя в осколок зеркала, натянул свежайшую рубашку, порылся в сумках товарищей в поисках парфюма, но остался ни с чем. Потом пробрался к комнате Лоры осторожно, чтобы никто не заметил. К Лоре не заходил никто, и это право заставило его на миг забыть о том, как его унизил Фарон.
Он постучал дважды. Подумал, не слишком ли это назойливо – стучать два раза. И не слишком ли безлично. Надо было постучать трижды, но потише. Да, три легких стука, три шассе, тайных, изящных: пам-пим-пом, а не тот жуткий пам-пам, что он выбил! Ах, какая досада! Она открыла, и он вступил в святая святых.
Комната у Лоры была такая же, как у всех: те же четыре кровати, тот же большой шкаф. Но здесь пользовались только одной кроватью, и комната, в отличие от прочих спален с их грязью и полнейшим беспорядком, была чистая и прибранная.
– Сядь сюда, – она показала на одну из кроватей.
Он сел.
– Закатай рукава.
Он закатал.
Она взяла с этажерки прозрачную баночку со светлым кремом, села рядом с Сыном и кончиками пальцев нанесла крем на его предплечья. Когда она поворачивала голову, ее распущенные волосы ласкали щеки Пэла. Она этого не замечала.
– Скоро боль утихнет, – шепнула она.
Но Пэл не слушал, он любовался ее руками: какие они у нее красивые, ухоженные, несмотря на их грязный быт. И ему захотелось ее любить, захотелось в тот самый миг, когда она коснулась его предплечий. А еще захотелось позвать Клода, пусть придет и посмотрит – вовсе они не пропащие, если в этом мрачном здании, где учат воевать, есть Лора. Но потом вспомнил, что Клод хотел стать кюре, и промолчал.
5
Настала последняя, четвертая неделя в поместье Уонборо. Предзимье мало-помалу окутывало Англию. Станислас, знавший родные края, предсказывал скорые морозы. В последние ночи курсанты тренировались в беге по пересеченной местности, отрабатывая одновременно физические и теоретические навыки. Хотя учеба в Суррее подходила к концу, они, несмотря на все упражнения, по-прежнему ничего не знали ни об УСО, ни о его методах борьбы. Зато они довольно сильно изменились: тела стали мускулистее и выносливее, они научились рукопашному бою, боксу, основам стрельбы, азбуке Морзе, некоторым простым операциям, а главное – в них зародилась и росла огромная вера в себя, ведь они делали поразительные успехи, притом что, попав сюда, по большей части не имели никакого понятия о секретных боевых действиях. Они чувствовали, что способны на многое.
В эти последние дни некоторые дошли до предела и сломались: отсеяли Большого Дидье, который уже не держался на ногах; Пэл замечал в душевой, что Жаба почти сдался. Однажды под вечер инструктор повел группу на пробежку в лес – в жутком темпе, к тому же им пришлось несколько раз пересечь вброд какую-то речку. Группа постепенно растянулась, и когда Пэл, бежавший ближе к хвосту, в третий раз вступил в ледяную воду, до него донесся детский крик, разорвавший тишину. Обернувшись, он увидел, что Жаба лежит на берегу и бессильно стонет.
Остальные были уже далеко за деревьями. Пэл заметил только Ломтика и Фарона, окликнул их. Но Фарон, бежавший с двумя тяжелыми камнями в руках для дополнительной нагрузки, рявкнул: “Из-за мудаков не тормозят, их боши поймают!” И оба скрылись на грязной тропе. Тогда Пэл, бултыхаясь в воде чуть ли не по пояс, повернул назад. В обратную сторону поток показался ему еще холоднее, а течение сильнее.
– Не останавливайся! – крикнул Жаба, увидев, что храбрец идет к нему. – Не задерживайся из-за меня!
Пэл не стал его слушать и выбрался на берег.
– Жаба, надо идти.
– Меня зовут Андре.
– Андре, надо идти.
– Я больше не могу.
– Андре, надо идти. Если ты сдашься, тебя отчислят.
– Значит, сдаюсь! – Он застонал. – Хочу домой, хочу к семье.
Жаба скрючился, схватившись обеими руками за живот.
– Мне больно! Мне так больно!
– Где тебе больно?
– Везде!
Ему не хотелось жить.
– Хочу сдохнуть, – выдохнул он.
– Не говори так.
– Хочу сдохнуть!
Растерянный Пэл неловко обхватил товарища руками и стал что-то нашептывать, чтобы подбодрить.
– Я сдаюсь, – повторил Жаба. – Сдаюсь и возвращаюсь во Францию.
– Если ты сдашься, они не дадут тебе вернуться.
И Пэл, решив, что случай из ряда вон выходящий, нарушил обещание, данное Кею, и выдал невыносимую тайну:
– Тебя посадят. Если ты сдашься, тебя посадят в тюрьму.
Жаба заплакал. Пэл чувствовал, как по его рукам текут слезы, слезы страха, ярости и стыда. И Сын поволок Жабу за собой догонять остальных.
Вместе с ноябрем закончилась и учеба в подготовительной школе. Последней была на редкость напряженная тренировка в морозную ночь. Макс, слабевший день ото дня, был отсеян во время бега. Когда оставшиеся курсанты, вернувшись с заключительного испытания, собрались в столовой перекусить, лейтенант Питер объявил, что их пребывание в Суррее окончено. Они поздравили друг друга. Столовая теперь казалась опустевшей – три недели назад их было вдвое больше, отсеивали безжалостно. И все пошли покурить на пригорке в последний раз.
В ту ночь Пэл решил не возвращаться к себе в спальню, к уснувшим товарищам. Он двинулся по коридору и постучал в дверь Лоры. Она открыла, улыбнулась, приложила палец к его губам, чтобы не шумел, и знаком пригласила войти. С минуту они посидели на одной из кроватей, глядя друг на друга, гордые всем, что совершили, но измотанные физически и морально. Потом легли вместе. Пэл обнял ее, а она положила ладони на сжимающие ее руки.
6
В Париже угасал отец, одинокий, без сына.
Ноябрь подходил к концу, Поль-Эмиль уехал уже два с половиной месяца назад. Удачно ли он добрался? Наверняка… Но что, черт возьми, он теперь делает?
Он нередко заходил в комнату мальчика, смотрел на его вещи. Спрашивал себя, почему не положил ему в сумку вон ту куртку, ту книгу или красивую фотографию. И часто себя ругал.
Однажды в воскресенье он спустил с чердака детские игрушки Пэла. Поставил в гостиной большую электрическую железную дорогу, вытащил туннели из папье-маше и оловянные фигурки. А позже даже докупил новые детали.
Он думал о сыне и давал свисток старому железному поезду. Либо так, либо умереть от тоски.
7
Дело было в Инвернессшире, дикой области к северу от центра Шотландии, омываемой с запада бурным морем. Земля, устланная ковром ослепительной зелени, задыхалась под плотным колпаком серых туч. Пейзаж был ошеломительный: с округлыми холмами, резкими линиями скал и прибрежных утесов – великолепный, несмотря на яростные мрачные вихри начала декабря. Они сидели в купе поезда Глазго – Локейлорт, ехали во второй учебный центр. Как простые пассажиры.
Путешествие длилось уже вторые сутки. Все вокруг выглядело таким нормальным! Лейтенант Питер, беседуя с Дэвидом-переводчиком, рассеянно поглядывал на курсантов. Большинство мирно спали, привалившись друг к другу. Занималась заря. Толстяк, Цветная Капуста и Слива дрыхли шумно, теснясь втроем на сиденье третьего класса. Громадный Толстяк совсем задавил Сливу, и тот храпел во всю глотку на радость тем, кто уже проснулся.
Пэл, прижавшись носом к окну вагона, не мог оторваться от зрелища невероятного покоя, разлитого в здешних местах. В густые, растрепанные травы местами вторгались ряды старых яблонь, стволы их были любовно обвиты сероватым лишайником. На тучных лугах паслись под моросящим дождем странные овцы с густой шерстью, бараны гордо несли на головах громадные витые рога.
Поезд медленно двигался по Шотландии, направляясь из Глазго в город Инвернесс на самом севере страны и останавливаясь на каждом полустанке. Рельсы после полей шли вдоль побережья, и Пэл снова пришел в восторг: зеленые свитки волн разбивались об отвесные скалы в буйную пену, вокруг летали белые и серые чайки.
Наутро они сошли с поезда в Локейлорте, крошечной деревеньке, что угнездилась среди холмов и гигантских приморских утесов, на берегу длинного, узкого озера. Вокзал был ей под стать: хлипкая платформа с деревянным забором и вывеской с названием станции. Ледяной воздух пробирался под пальто. Никто из курсантов, сидя в теплом поезде, не представлял, какой на улице мороз, – неистовый, жестокий холод, многократно усиленный пронизывающим ветром.
Они не совсем понимали, где находятся, – путь из Лондона был долгим. На обочине ухабистой дороги, пересекавшей деревню, их поджидали два грузовика без номеров. Они быстро погрузились в них и вскоре исчезли за холмами, куда вела узкая земляная тропа, – положа руку на сердце, ее вряд ли можно было назвать дорогой, – уходившая, казалось, в никуда. За все время им не встретилось ни одной живой души, ни одной постройки. В пустыне никто из них не бывал, но место было похожее.
В тот день группа курсантов наконец увидела, что такое УСО и каков его размах. По сосновому бору они подъехали к громадной усадьбе, высившейся на берегу беснующегося моря посреди пустоты. Они прибыли в Арисейг-хаус, главный штаб школ специальной подготовки резервистов УСО – roughing schools[3], как их называли англичане. Здесь царила суматоха, народу была тьма. Шагали взад-вперед разные секции, кто в ногу, кто забавной толпой. Говорили на всех языках: английском, венгерском, польском, голландском, немецком. Курсанты в форме коммандос направлялись к стрельбищам и полосам препятствий. Генеральный штаб УСО находился в Лондоне, но Шотландия, уединенная, надежно укрытая самой природой, стала одним из узловых центров подготовки будущих агентов.
Все секции размещались в маленьких усадьбах вокруг Арисейг-хауса. В радиусе нескольких километров не было ни единого жилища. Правительство объявило это место зоной ограниченного доступа для гражданского населения, сославшись на соседство одной из баз Королевского военно-морского флота: тем самым мера получала объяснение, не вызывая всеобщего любопытства. Поэтому никто из местных жителей не мог и вообразить, что в лесу, у самого моря, находится настоящий секретный городок, где обучают подрывным действиям добровольцев со всей Европы. И тут Пэл, Кей, Толстяк, Лора и все остальные обнаружили, что подготовительный центр Уонборо, несмотря на усиленные занятия, был пустяком – липой, папье-маше, театральной декорацией, целью которой было отсеять непригодных и сохранить потенциально успешных. Пройдя этот фильтр, курсанты из всех стран стекались в Арисейг-хаус, единственное место, где обучали методам работы Управления. Только теперь они по-настоящему стали проникать в тайну УСО – они, еще недавно и не помышлявшие вступать в британские спецслужбы.
Дом, где поселились тринадцать курсантов Секции F, был небольшой мрачной постройкой из камня; он находился у подножия утесов на клочке земли, окруженном морем и скалами, почти полуострове, усеянном высокими стройными деревьями с опасно наклоненными отсыревшими стволами.
Вдали виднелись очертания усадьбы норвежской секции – Секции SN, а в окрестном лесу расположилась польская группа – Секция MP.
Они разошлись по спальням и затопили печи. Кей и Пэл курили у окна, наблюдая за тренировкой поляков. Оба испытывали некоторую гордость за то, что добрались сюда, до самой сердцевины Сопротивления, – им казалось, что они уже почти стали английскими агентами, людьми особой судьбы. Они существовали.
– Потрясающе, – произнес Пэл.
– Просто невероятно, – добавил Кей.
На улице они заметили раскрасневшегося Капусту – тот словно возвращался из дальнего похода.
– Тут девушки! – крикнул он. – Тут девушки есть!
Во всех спальнях бросились к окнам послушать запыхавшегося глашатая.
– Капуста хочет научиться трахаться! – захохотал Ломтик, вызвав общее веселье.
Цветная Капуста, не обращая на него внимания, кричал, сложив руки рупором, чтобы лучше было слышно:
– Тут в соседней усадьбе группа норвежек, работают в Шифре и в Разведданных.
“Шифр” означал шифрованные сообщения.
Мужчины заулыбались: присутствие женщин было им как бальзам на сердце. Но подумать об этом они не успели – лейтенант Питер уже звонил к общему сбору в маленькой столовой на первом этаже. С ним были двое новых курсантов, новых членов группы: Жос, бельгиец лет двадцати пяти из подготовительного центра голландской секции, и Дени, тридцатилетний канадец из Лагеря Х, начального лагеря американских добровольцев, расположенного в Онтарио. Обоих включили в Секцию F.
8
Обучение в школе спецподготовки продолжалось весь декабрь. Начало ему, как во всех секциях, было положено изнурительным маршем по хаотичной шотландской местности. Марш состоялся в первое же утро. Курсанты отправились в путь в предрассветной тьме под ледяным проливным дождем. Их вели инструкторы. Они шли весь день прямо к горизонту, ползли по кустам и зарослям ежевики словно змеи среди змей, карабкались по обрывистым холмам, переходили реки, если было нужно. Искаженные напряжением лица покрылись потом, кровью, гримасами боли и, конечно, слезами; кожа, не успевшая восстановиться после первого курса подготовки, рвалась как мокрая бумага.
Этот марш был отборочным испытанием, группа справилась с ним в полном составе. Но он оказался лишь слабым прообразом того, что ожидало их в Локейлорте. Только в Инвернессе Пэл и его товарищи по-настоящему научились методам боевых действий УСО – пропаганде, саботажу, диверсиям и созданию агентурных сетей. Помимо отличной физической формы, приобретенной в Уонборо, где многие потерпели неудачу, успех принес будущим агентам более стойкий моральный дух – теперь они верили в себя. И это было важно: занятия шли в адском темпе с рассвета до позднего вечера, а иногда затягивались на всю ночь, так что все они вскоре потеряли счет времени, спали и ели когда придется. Шотландский пейзаж, показавшийся Пэлу сказочным, быстро превратился в туманный ад – ледяной, дождливый и грязный. Курсанты постоянно мерзли, пальцы рук и ног коченели, а поскольку обсохнуть не удавалось никогда, им приходилось спать нагишом, чтобы не сгнить в своей форме.
Под командованием остервеневшего лейтенанта Питера дни пролетали как один миг. Все начиналось с рассветом. Некоторые курсанты спешно приводили себя в порядок, чтобы успеть покурить вместе и подбодрить друг друга, пока не началась физическая подготовка – борьба, бег, гимнастика. Они тренировались убивать голыми руками или страшным коротким ножом коммандос, учились приемам ближнего боя у двух англичан, бывших офицеров муниципальной полиции Шанхая.
Затем шли теоретические занятия: связь, азбука Морзе, радио – все на свете, что могло им пригодиться во Франции, всего, что могло спасти им жизнь. А Дени, Жоса, Станисласа и Лауру даже отправили на курс французской культуры, чтобы, оказавшись во Франции, они не вызвали никаких подозрений.
Обычно после обеда они практиковались в стрельбе. Научились обращаться с ручными пулеметами немецкого и английского производства, особенно с пистолетом-пулеметом “Стэн” – маленьким, практичным и легким; главным его недостатком было то, что его часто заедало. Натренировались стрелять из пистолета навскидку для скорости, не целясь в мишень по-настоящему. Выстрелить нужно было по крайней мере дважды, чтобы точно поразить противника. В Арисейг-хаусе было стрельбище, здесь они могли отрабатывать навык на подвижных мишенях в человеческий рост, закрепленных на рельсе.
Однажды под вечер какой-то старый опытный браконьер, привлеченный в помощь правительству, учил курсантов выживанию в опасных и безлюдных местах: искусству целыми днями прятаться в лесу, приемам охоты и рыбной ловли. Разбившись на пары, они несколько часов лежали, закопавшись в листья и обмотавшись камуфляжной сетью, – пытались сделаться призраками. Кто-то сразу уснул; Толстяк и Клод, прячась вместе, шептались, коротая время.
– Мы лис увидим, как думаешь? – спросил Толстяк.
– Понятия не имею…
– Если увидим лиса, я буду звать его Жорж. Я на всякий случай хлеба прихватил.
– Очень жалко того Жоржа.
– Ты тут ни при чем, Попик.
Толстяк по-братски называл Клода Попиком, и тот был не против.
– А Фарон – жирная шлюха, – сказал Толстяк.
Приятели рассмеялись, забыв, что должны быть невидимками. Толстяк, довольный, что нашел себе слушателя в лице Клода, продолжал:
– Он по ночам напяливает на свою жирную жопу женские штанишки и шатается по коридорам. “Лю-лю-лю, я шлюха и это дело люблю”, – пропел он смешным женским голосом.
Клод засмеялся еще громче. Толстяк, заметив, что тот дрожит от холода, достал из кармана хлеб для лис и перекусов:
– Лопай, Попик, лопай. Согреешься.
Клод уплел хлеб за обе щеки, потом прижался к пухлому телу Толстяка, греясь об него.
– Зачем мы здесь, Толстяк?
– Учимся выживать.
– Нет, зачем мы вляпались в это дерьмо? Здесь, в Англии.
– Иногда и сам не знаю, Попик. А иногда кой-чего знаю.
– А когда знаешь, то зачем?
– Чтобы люди оставались людьми.
– А-а.
Клод задумчиво помолчал, потом добавил:
– А они что ли никого, кроме нас, не нашли?
Они опять засмеялись. Потом задремали, притулившись друг к другу.
В перерывах между лекциями, упражнениями и тренировками каждый жил своей маленькой жизнью. Если у будущих агентов оставалась капля энергии, они развлекались, чем могли: Толстяк обходил домики других секций в надежде поживиться их съестными припасами, Кей расточал свое обаяние у норвежек, Эме учил Клода и Жоса своей игре в петанк, а Пэл с Лорой незаметно пробирались в одну из спален на втором этаже, и Пэл шепотом, чтобы их не застукали, читал вслух роман, который дал ему с собой отец – какую-то парижскую историю, имевшую в свое время успех.
Иногда свободное время давало повод к шуткам, не всегда удачным. Жос и Фрэнк отвинтили ножки у кроватей, и вечером, когда их хозяева ложились спать, те рухнули. Фарон развесил подштанники Цветной Капусты на нижних ветках засохшего дерева перед домом. Однажды Ломтик посреди ночи разбудил соседей по комнате: якобы лейтенант Питер поручил ему объявить внеплановую тренировку. Все вскочили, спешно оделись и добрых полчаса проторчали на улице в ожидании офицера, не заметив, что хихикающий Ломтик снова улегся спать. А когда Клод в конце концов постучался к крепко спавшему и, естественно, ничего не подозревающему лейтенанту, тот, взбесившись из-за нарушения режима, повел всю группу бегать ночью по берегу моря. Лейтенант еще не утратил физической формы и порой наказывал курсантов коллективными спортивными занятиями, которые вел сам подавая пример. Одно из самых тяжелых последствий имел ветреный день, когда он, полагая, что курсанты после обеда отправились на общий для всех секций урок радиосвязи, обнаружил в спальне усадьбы Кея с норвежкой на коленях.
Вечером, когда курсанты отдыхали, в домике царила спокойная, умиротворяющая атмосфера: кто читал книгу, взятую наугад в библиотеке, кто дремал в старых креслах в столовой, кто играл в карты или курил у окна, болтая о норвежках. Лейтенант Питер почти каждый день неведомо как разживался местной газетой, и курсантам разрешалось читать ее после того, как он ее изучил. Так они узнавали о новостях с фронта, о наступлении немцев в России. Нередко Дени читал вслух, подражая дикторам с Би-би-си, и все слушали – равнодушно, словно сидя у радиоприемника, в котором не было ничего человеческого, разве что веселая невозмутимость, с какой он повиновался замечаниям публики: “Громче!”, “Повтори!”, “Не части, помедленней!” А если кто-то не понимал – чаще всего Толстяк, не знавший ни слова по-английски, – терпеливый диктор щедро переводил то, что считал в статье главным. Перед началом Дени всегда сзывал товарищей одними и теми же словами: “Идите сюда, я вам сейчас расскажу о горестях войны”. И курсанты окружали его кресло, слушали, часто с тревогой, ведь немцы по-прежнему наступали, конфликт расползался по всему миру: седьмого декабря японцы бомбили базу Перл-Харбор на острове Оаху, на Гавайях; назавтра они вступили в войну против Великобритании; десятого императорская армия потопила у Сингапура два линкора Королевских военно-морских сил – “Рипалс” и “Принц Уэльский”. Японцы были новым противником, и после статьи все задавались вопросом, создаст ли УСО японскую секцию.
Шли дни. У курсантов было всего пять недель, чтобы научиться методам боевых действий, овладеть всеми приемами и оружием. Они освоили удивительные военные приборы, которыми располагало УСО и которые разрабатывались в его экспериментальных лабораториях, разбросанных по английским городам и деревням. Тут был целый набор более или менее хитроумных изобретений: радиоприемники, оружие, машины, ловушки – все было предусмотрено. Им показывали компасы, неотличимые с виду от пуговиц пальто; ручки, снабженные острым лезвием, стреляющие пулями или сигнальными ракетами, словно пистолет; крошечные пилки по металлу, иногда помещающиеся в наручных часах и способные перепилить решетку в камере; маленькие, но страшные шипы для засад или чтобы вывести из строя автомобиль возможных преследователей; обманки, искусно раскрашенные под ящики для фруктов, с гранатами внутри, или гипсовые бревна, в которых скрывались пистолеты-пулеметы “Стэн”.
Еще их обучили началам морской навигации: теперь они умели управлять судном, вязать крепкие узлы, быстро спускать на воду шлюпки и поднимать их на борт – это позволяло им добраться до суши с канонерок, которые использовало УСО. А вскоре они стали учиться ночным рейдам и операциям: их нужно было подготовить и провести самим, ни на секунду не смыкая глаз, из последних сил. После нескольких дней в таком ритме появились первые отказники. Первым сломался Цветная Капуста – заболел от усталости. Вслед за ним настал черед Сливы – заику отсеяли. Перед отъездом он в сопровождении лейтенанта Питера обошел всех товарищей и расцеловался с ними, пробурчав, что никогда их не забудет. Все знали, что отсев неизбежен, даже спасителен: тот, кто не выдержит здесь, во Франции погибнет. Но отъезд обоих глубоко взволновал их. В первый раз. Ибо они начали привязываться друг к другу.
Главным их врагом в Шотландии был, без сомнения, мороз: шел декабрь и становилось все холоднее. Холодно вставать, холодно драться, холодно стрелять. Холодно снаружи и холодно внутри. Холодно есть, смеяться, спать, ходить среди ночи на тренировочные рейды. Холодно, когда хилые печки в комнатах начинали чихать густым дымом, донимая их головной болью. Чтобы не вылезать из постели прямо в ночной мороз, курсанты поочередно дежурили по комнате: на рассвете кто-то должен был проснуться до подъема и разжечь огонь. И когда ответственному за топку случалось проспать, на него изливался целый поток ругани, не иссякавшей до вечера.
Однажды, в середине декабря, под вечер, они внезапно получили передышку. После занятия в тире все курсанты в свободное время отправились к устью ближней реки ловить лососей. Солнце за холмами на западе окрашивало небо розовым светом. Они вошли в ледяную воду, намочив форму выше колен, и, опершись о скалы, с шутками и веселой толкотней неловко пытались хватать круживших в водоворотах рыб. Им удалось поймать четырех огромных лососей – чешуйчатых горбоносых чудищ. Фрэнк оглушил их ударом о сук, а вечером они испекли их на очаге. Эме, строивший из себя повара, закопал в угли большие картофелины. Ломтик с Фароном и Фрэнком устроили набег на столовую поляков – тех не было в доме – и разжились спиртным. Лора предложила пригласить норвежек, страшно переполошив Толстяка.
В тот вечер курсантам, сидящим в столовой за громадным дубовым столом, на миг удалось превратить войну в удовольствие: надежно защищенные от мира, затерянные в дикой Шотландии, они ели, смеялись, шутили, громко болтали, разглядывали норвежек. Все были слегка навеселе. Дэвид-переводчик и лейтенант Питер присоединились к застолью. Питер до поздней ночи рассказывал об Индии, а Дэвида оккупировал Толстяк, сидевший между двумя норвежками, – переводить его серенады.
Назавтра, когда снова начались занятия, а пьянящее чувство возвращения к нормальной жизни угасло, Пэл, совсем приуныв от одиночества, погрузился в свои мысли: в воспоминания об отце, в тяжелые думы о забвении и печали. Вечером он не пошел ужинать с товарищами; сидел один в своей комнате, прижимая к себе сумку, – ту, которую сложил ему отец. Вдыхал аромат книжных страниц и одежды, весь пропитался запахами, гладил шрам у сердца и сжимал в объятиях сумку: ему так хотелось, чтобы его обнял отец. Заплакав, Пэл схватил клочок бумаги и стал писать ему письмо – письмо, которое тот никогда не получит. И, унесенный потоком собственных слов, не услышал, как в комнату вошел Кей.
– Кому пишешь?
Пэл подскочил:
– Никому.
– Ты письмо пишешь, я же вижу. Писать письма запрещено.
– Письма запрещено посылать, а не писать.
– Тогда кому ты не пишешь?
Сын на миг помедлил с ответом, но в голосе Кея было подозрение, а Пэл не хотел, чтобы его подозревали в измене.
– Отцу.
Кей, побледнев, застыл на месте.
– Скучаешь по нему?
– Да.
– Мне тоже отца не хватает, – прошептал Кей. – Я у него очки стянул перед отъездом. Иногда надеваю их и думаю о нем.
– У меня с собой его книги, – признался Пэл.
Кей со вздохом сел рядом с Сыном на кровать:
– Уезжал я как будто в путешествие. Но ведь я его больше никогда не увижу, да?
Ох, сколько в нем было тяжкой скорби – в человеке, укравшем отцовские очки, чтобы заглушить отчаяние.
– Как нам жить вдали от отцов? – спросил Пэл.
– Я каждый день себя об этом спрашиваю.
Кей потушил свет. Теперь в комнату проникал лишь призрачный свет туманной мороси за окном.
– Только не включай, – велел Кей.
– Почему?
– Чтобы можно было поплакать в темноте.
– Тогда поплачем.
– Оплачем наших отцов.
Молчание.
– По-моему, Жаба – сирота, давай оплачем и за него тоже.
– За него особенно.
Долго-долго в спальне слышалось лишь тихое бормотание, приглушенная жалоба: Пэл, Кей и они все, даже Жаба-сирота, были проклятыми сыновьями, самыми одинокими людьми на свете. Они ушли на войну, не поцеловав отцов, и с тех пор в глубине их душ жила пустота. Темной английской ночью, в пропахшей сыростью солдатской спальне Пэл и Кей скорбели. Вместе. Горько. Быть может, они уже пережили последние дни своих отцов.
9
Еще они научились готовить диверсии.
Обучение саботажу с применением взрывчатых веществ занимало важное место в шотландской программе. Они часами изучали чрезвычайно мощную взрывчатку на основе гексогена, связующих веществ и пластификаторов, которая была создана в Королевском Арсенале в Вулидже. Американцы, получив от УСО партию, изначально предназначавшуюся Франции, с французской надписью на упаковке “пластичное взрывчатое вещество”, окрестили его пластитом. Пластит УСО использовало чаще всего, потому что он отличался высокой стойкостью: не боялся сильных ударов и чрезвычайно высоких температур, его даже можно было жечь. Тем самым он идеально отвечал условиям перевозок, порой весьма небезопасных, агентов на задании. На вид это было вещество, похожее на масло – настолько податливое, что могло принимать любую форму, – и пахнувшее миндалем. Когда курсанты в первый раз размяли несколько кусочков, Толстяк, поднеся его к носу и жадно принюхиваясь, заявил: “Ну я бы им нажрался! Как бы я им нажрался!”
Усвоив необходимые основы теории, они стали взрывать поваленные стволы деревьев, скалы и даже небольшие постройки собственноручно собранными минами с часовым механизмом или с ручным взрывателем, который приводился в действие дистанционно с помощью кабеля. И тут выяснилось, что лучшим подрывником в группе, быстрым и ловким, оказалась Лора – лейтенант Питер не раз хвалил ее способности. Товарищи смотрели, как она, наморщив лоб и закусив губу, тщательно готовила заряд. Закладывала взрывчатку под обломок скалы, тянула шнур, приводивший в действие детонатор, споро разматывая его, а остальные члены группы завороженно следили за ней с приличного расстояния в бинокль, любуясь ее жестами: ее диверсии были изящны. Последние метры она пробегала еще быстрее и скатывалась к ним, лежащим за пригорком; примостившись обычно у крепкой спины Толстяка – тот до конца дня пребывал на седьмом небе, – она бросала взгляд на довольного инструктора, коротко кивавшего в знак одобрения. Затем она поджигала шнур и устраивала великолепный взрыв, взметавший в небо ветви деревьев и разноголосую тучу перепуганных крикливых птиц. Только в этот миг ее лицо наконец расслаблялось.
Потом их учили диверсиям на железной дороге, позволявшим замедлить перемещение немецких войск по Франции. По просьбе британского правительства железнодорожная компания “Вест Хайленд Лайн” построила в Арисейг-хаусе рельсы и целый поезд, чтобы агенты УСО могли учиться в реальных условиях. Теперь курсанты умели разбирать пути, пускать под откос вагоны, размещать заряды на рельсах, под мостом, на поезде, днем, ночью; выбирать, взрывать ли заряд вручную при прохождении конвоя, находясь близко к месту диверсии, или использовать для подрыва путей или складов одно из лучших изобретений экспериментальных лабораторий – “Моллюска”, (The Clam), готовую мину с таймерным взрывателем, которая с помощью магнита крепилась на рельсы или транспорт. Существовало множество видов мин-ловушек вроде велосипедных насосов, срабатывавших в момент использования, или сигарет, начиненных взрывчаткой. Их разработкой занималась главным образом Экспериментальная станция XV “Соломенная хижина” (The Thatched Barn), расположенная в Хартфордшире; правда, КПД этих штук порой оставлял желать лучшего. На учебном поезде курсантам даже преподали основы управления локомотивом.
Шли цепочкой декабрьские дни, мучительные и бурные. Становилось все темнее; ночь, казалось, скоро станет беспросветной. Курсанты по-прежнему занимались и делали ошеломительные успехи: надо было видеть, как они управляются с гранатами и взрывчаткой, как преодолевают полосу препятствий, как чинят пистолет-пулемет “Стэн”. Как Клод, меняя обоймы, просит прощения у Господа; как Жаба для храбрости извергает поток ругательств, кидаясь в ледяное грязное болото; каков исполин Фарон, способный одолеть любого голыми руками, если не сочтет, что лучше всадить ему пулю между глаз; каков Фрэнк – живой, поджарый, быстрый как ураган. Стоило взглянуть на этих иностранцев – Станисласа, Лору, Жоса, Дени, Эме, Толстяка и Кея, всегда готовых юморить, даже в разгар тренировки коммандос. Кто из них, уезжая из Франции, мог вообразить, что так быстро приспособится к войне? Теперь они чувствовали себя до ужаса сильными и способными побеждать целые полки врагов; им даже казалось, что они могли бы разбить немцев. Сущее безумие. Еще вчера они были детьми Франции, проигравшими, сломленными, а сегодня – уже новым народом, народом воинов; будущее было в их руках. Конечно, они покинули все чем дорожили, но это были уже не страдальцы, они сами могли причинять страдания.
А война шла совсем рядом, разрасталась до неимоверных масштабов, разнузданная, безжалостная: в Европе вермахт стоял под стенами Москвы, в Тихом океане японцы вели жаркие бои против Гонконга. Двадцатого декабря Дени прочел приятелям статью о том, как англичане при поддержке канадцев, индийцев и добровольческих сил Гонконга несколько дней героически отражали наступление японских сил.
Настало двадцать пятое декабря. Они находились в Шотландии уже больше трех недель. Ломтик-сала, истощенный и больной, был отсеян: теперь в группе оставалось лишь двенадцать курсантов. Мало-помалу усталость брала верх над моральным духом, выглядели они скверно – изможденные, тревожные. С каждым днем занятий война неумолимо приближалась. Теперь Пэл, вспоминая Францию, ощущал огромную уверенность в себе и в то же время страх. Он знал, что может группа: они научились убивать голыми руками, душить без единого звука, стрелять из пулемета и ружья, закладывать мины и взрывать здания, поезда, конвои. Но, вглядываясь в лица товарищей, он терялся: они были мягкие, слишком мягкие, несмотря на ссадины от схваток. Он невольно думал, что многие скоро погибнут на задании и доктор Каллан окажется прав. Пэл не мог себе представить, что будущее женолюбивого Толстяка, милого благочестивого Клода, слабосильного Жабы, Станисласа с его шахматами, великого сердцееда Кея, чудесной англичанки Лоры и всех остальных, быть может, ограничено пределами этой войны. Одна эта мысль убивала его: они готовы были отдать свою жизнь под пулями или пытками, чтобы люди оставались людьми, и он не понимал, что это, – акт альтруизма и любви или величайшая глупость, какая только могла взбрести в голову? Да понимают ли они, во что ввязались?
Рождество лишь усилило общее смятение.
В столовой Толстяк оглашал воображаемые меню: “Жаркое из кабанчика со смородиновой подливой, фаршированные куропатки, а на десерт сыры и огромные торты”. Но его никто не желал слушать.
– Да пошел ты со своими меню, – обругал его Фрэнк.
– Можно опять пойти ловить рыбу, – предложил Толстяк. – Тогда будут лососевые стейки в винном соусе.
– На улице темень и холод. Заткнись уже, мать твою!
Толстяк ушел к себе объявлять меню в одиночестве. Если никто не хочет жрать, он будет жрать про себя, и жрать с толком. Он украдкой проскользнул в спальню и, порывшись в своей кровати, достал украденный кусочек пластита. Понюхал – ему нравился запах миндаля, – подумал о своем жарком из кабанчика, понюхал еще раз и, закрыв глаза, пуская слюни, стал лизать взрывчатку.
Курсанты сделались раздражительными. Эме, Дени, Жос и Лора играли в карты.
– Бля и бля, – твердил Эме, выкладывая тузы.
– Чего ты ругаешься, если тузы у тебя? – спросил Жос.
– Хочу и ругаюсь. Или тут вообще ничего нельзя? Ни Рождество отмечать, ни ругаться, вообще ничего!
Одиночки, сидя по углам и уставившись в пустоту, передавали друг другу последнюю бутылку спиртного, похищенную у поляков. Жаба и Станислас играли в шахматы, и Жаба давал Станисласу выигрывать.
Кей, засев в какой-то нише, тайком следил за столовой и разговорами, опасаясь, как бы горячие головы не затеяли ссоры. Он был хоть и не старше всех, но самый обаятельный и негласно считался главным в группе. Если он велел заткнуться, курсанты затыкались.
– Плохо с ними дело, – шепнул Кей Пэлу, который, как обычно, устроился рядом.
Кей с Пэлом очень ценили друг друга.
– Можно сходить к норвежкам, – предложил Сын.
Кей поморщился.
– Ну, не знаю. Не думаю, что поможет. Они решат, что надо еще больше дурить, шокировать галерку. Ты же их знаешь…
Пэл слабо улыбнулся:
– Особенно Толстяк…
Теперь улыбнулся Кей.
– А кстати, где он есть?
– Наверху, – ответил Пэл, – дуется. Из-за своих рождественских меню. Он пластит жрет, знаешь? Говорит, что он как шоколад.
Кей закатил глаза, и оба товарища прыснули.
В полночь Клод в одиночку обошел усадьбу крестным ходом, держа большое распятие, которое привез с собой. Шествовал среди несчастных, распевая песнь надежды. “Счастливого Рождества!” – крикнул он всем и никому. Когда он поравнялся с Фароном, тот выхватил у него из рук распятие и с криком “Смерть Богу! Смерть Богу!” разломал его пополам. Клод бесстрастно подобрал священные обломки. Кей чуть было не набросился на Фарона.
– Прощаю тебе, Фарон, – произнес Клод. – Я знаю, ты человек сердечный и добрый христианин. Иначе тебя бы здесь не было.
Фарон вскипел яростью:
– Ты жалкий слабак, Клод! Вы все слабаки! На задании вы и двух дней не продержитесь! Двух дней!
Все сделали вид, что ничего не слышали; в столовой снова воцарился покой, а вскоре курсанты отправились спать. Они надеялись, что Фарон не прав. Чуть позже Станислас зашел в спальню Кея, Пэла, Толстяка и Клода и попросил кюре, таскавшего в чемодане кучу лекарств, дать ему снотворного.
– Хочу сегодня уснуть как дитя, – сказал старый Станислас.
Клод бросил взгляд на Кея, который сдержанно кивнул в знак согласия. Он дал летчику таблетку, и тот, рассыпавшись в благодарностях, удалился.
– Бедняга Станислас, – сказал Клод, размахивая над кроватью половинками распятия, словно хотел заклясть судьбу.
– Все мы бедняги, – отозвался Пэл, лежавший рядом.
В тот самый рождественский день Гонконг после жесточайших боев перешел в руки японцев. Английские солдаты и канадское подкрепление – на фронт послали две тысячи человек – были зверски перебиты.
К двадцать девятому декабря рождественский приступ тоски был забыт. Днем двенадцать курсантов валялись в столовой в креслах и на толстых коврах вокруг печки: здесь было удобнее, чем в холодных отсыревших кроватях. Лейтенант Питер отослал кандидатов в агенты отдыхать, их ждали ночные занятия. Во сне они возились, шумели; не спал только Пэл: Лора задремала, привалившись к нему, и он боялся пошевелиться. Вдруг в тишине послышались приглушенные шаги. Это был Жаба: облачившись в гимнастерку, он явно направлялся к выходу. Сапоги он снял, чтобы не скрипели половицы.
– Ты куда? – вполголоса спросил Пэл.
– Я цветы видел.
Сын в недоумении уставился на него.
– Там подо льдом цветы проклюнулись, – повторил Жаба. – Цветы!
Ответом ему был общий храп: всем было плевать на его цветы, хоть они и выросли в снегу.
– Пошли. Хочешь? – предложил Жаба.
– Нет, спасибо, – усмехнулся Пэл.
Ему не хотелось уходить от Лоры.
– Тогда до скорого.
– До скорого, Жаба… Не слишком задерживайся, вечером тренировка.
– Не буду. Я ненадолго.
И Жаба в одиночестве отправился мечтать в окрестный лес, к своим цветам. Он шел по тропке вдоль прибрежных скал в сторону Арисейга: ему нравился вид, открывающийся со скал. С легкой душой свернул в лес. До цветов оставалось совсем недалеко. Но, огибая груду поваленных деревьев, он натолкнулся на пятерых перепивших поляков из Секции МР. Поляки уже прослышали о набеге французов на их усадьбу, о краже спиртного и затаили на них обиду. Жаба подвернулся им под руку: они надавали ему по морде, повалили в грязь, а потом насильно влили в него несколько изрядных глотков водки, опаливших ему живот. Перепуганный и униженный Жаба выпил, надеясь, что его оставят в покое. Ему вспомнился Фарон: он им задаст, когда узнает.
Но полякам хотелось влить в него еще:
– Na zdrowie![4] – орали они хором, приставив ему горлышко к губам.
– Да что я вам сделал? – стенал Жаба по-французски, выплевывая половину водки, попавшей в рот.
Поляки не понимали ни слова и отвечали бранью. И вдобавок принялись скопом избивать его ногами и палками, распевая песню. Жаба под градом ударов орал так громко, что его крики встревожили военных Арисейг-хауса и те стали прочесывать лес с ружьями наперевес. Бедолагу нашли – он был без сознания и весь в крови, его доставили в лазарет Арисейга.
Товарищи сидели у его изголовья до самого вечера и потом, после ночных занятий. Последними, кто оставался с ним, были Пэл, Лора, Кей и Эме. Жаба пришел в себя, но лежал с закрытыми глазами.
– Больно, – твердил он.
– Знаю, – отозвалась Лора.
– Нет… Тут больно.
Он показывал на сердце; у него болело не тело, а душа.
– Скажите лейтенанту, что я больше не могу.
– Нет, ты сможешь. Ты уже столько смог, – подбодрил его Кей.
– А дальше – нет. Не могу больше. Я никогда не смогу воевать.
Жаба перестал верить в себя, его война была проиграна. Около двух часов ночи он наконец задремал, и товарищи ушли к себе немного поспать.
Жаба проснулся с первыми лучами зари. Вокруг никого не было, он встал с кровати и выскользнул из лазарета. Пробрался тайком в тир Арисейга, взломал один из сейфов и стащил кольт 38-го калибра. Потом, сквозь слоистый морозный туман, добрел до своих драгоценных цветов и сорвал их. Вернулся к усадьбе Секции F. И приставил пистолет к груди.
Звук выстрела разбудил всех – лейтенанта Питера, Дэвида, курсантов. Они соскочили с постелей и полураздетыми высыпали на улицу. Жаба лежал у дома, в грязи, среди своих цветов, раздавленный собственной жизнью. Потрясенные, лейтенант Питер и Дэвид присели на корточки рядом с ним. Жаба направил ствол прямо в сердце, в свое невыносимо болевшее сердце, и даровал себе смерть.
Пэл с дикими глазами тоже кинулся к телу и положил ладонь на глаза Жабы, чтобы закрыть их. Ему показалось, что он уловил слабый хрип.
– Он еще живой! – заорал он лейтенанту. – Позовите врача!
Но Питер удрученно покачал головой: Жаба был не живой, просто еще не умер. Больше никто не мог ничего для него сделать. Пэл обнял его, чтобы ему было не так одиноко в последние минуты, и Жабе даже хватило сил чуть-чуть поплакать; горячие, едва заметные слезы скатились по его измазанным грязью и кровью щекам. Пэл утешал его, а потом Андре Жаба умер. И над лесом вознеслась песнь смерти.
Курсанты застыли, дрожащие, пришибленные, с разбитым сердцем, обезумевшие от горя.
Лора, рухнув в объятия Пэла, всхлипнула:
– Обними меня.
Он прижал ее к себе.
– Крепче обними, по-моему, я сейчас тоже умру.
Он сжал ее еще сильнее.
Рассветный ветер, хлестнув с удвоенной силой, пригладил давно не стриженные волосы Жабы. Теперь его лицо было совсем спокойным. Позже офицеры военной полиции с соседней базы военно-морского флота унесли тело, и больше никто ничего не слышал о Жабе – печальном герое войны.
На закате товарищи в жизни и в бою почтили его память на вершинах Арисейг-хауса, там, где скалы отвесно падали в море. Они шли туда длинной процессией. Лора несла подобранные цветы, Эме – рубашку Жабы, а Фарон – какие-то вещи из его шкафчика в спальне. Клод держал половинки своего распятия, Станислас – шахматную доску. На гребне скалы, на вершине мира, они стояли молча, озаренные оранжевым закатом и парализованные горем.
– Помолчим, хорошенько помолчим, – велел обстоятельный Фрэнк.
Потом, под тихую проповедь прибоя, они по очереди бросили в волны вещи, оставшиеся от Жабы.
Эме бросил его рубашку.
Лора бросила цветы.
Кей бросил часы, которые тот никогда не носил, боясь сломать.
Пэл бросил очки.
Фрэнк бросил сигареты.
Фарон бросил старую книгу с загнутыми страницами.
Толстяк бросил мятые фотографии.
Дени бросил вышитый носовой платок.
Клод бросил его бумаги.
Жос бросил зеркальце.
Станислас бросил шахматную доску.
Лейтенант Питер и Дэвид-переводчик стояли поодаль и плакали. Они все плакали. Плакала вся Шотландия.
Снова заморосил дождь, снова завозились морские птицы. Вещи Жабы постепенно исчезли в воде. Виднелась лишь сиреневая волна его цветов. Наконец последний вал поглотил и их.
10
Лондон, утро 9 января. Они вернулись в столицу. Теперь в группе осталось лишь одиннадцать курсантов: Станислас, Эме, Фрэнк, Кей, Фарон, Толстяк, Клод, Лора, Дени, Жос и Пэл. Пять недель в Локейлорте истекли, с учебным центром было покончено. Но из-за скорби по Жабе их успех обернулся лишь горечью.
Было совсем темно, Англия еще спала. Безлюдный вокзал Виктория застыл на морозе. Редкие пассажиры шли быстро, подняв воротники и пряча лица от ветра. Тротуары обледенели, машины осторожно пробирались по бульварам. Чистое, могучее дыхание вымело город. На небе не было ни облачка.
Учиться курсантам оставалось примерно столько же: три недели занятий по прыжкам с парашютом, потом еще месяц обучения технике безопасности во время операций. Сейчас им полагалась увольнительная на неделю, и каждый хотел порадоваться тому, чего больше всего не хватало в первых двух центрах, – кабаре, хорошим ресторанам, чистым гостиничным номерам. Толстяк звал всех к проституткам, Клод хотел пойти в церковь.
Когда группа после дежурных объятий и напутствий лейтенанта Питера разошлась, Пэл остался вдвоем с Лорой – они ждали друг друга.
– Ты что собираешься делать? – спросила Лора.
– Пока не знаю…
Родных у него здесь не было, особых желаний тоже. Они немного прошлись по Оксфорд-стрит: магазины оживали, зажигались витрины. Дойдя до Бромптон-роуд, возле Пикадилли, зашли позавтракать в какое-то кафе рядом с большим магазином. Сидя в необъятных креслах, в тепле, любовались Лондоном за громадным окном: город, еще укрытый утренними сумерками, мерцал тысячью огней. Пэл подумал, что он великолепен.
Лора собиралась провести каникулы в Челси, у родителей; те считали, что она записалась в Службу первой помощи йоменов (The First Aid Nursing Yeomanry) на базе в Саутгемптоне. Служба йоменов была частью, состоящей только из женщин-волонтерок: они работали медсестрами, служащими тыла либо водителями на вспомогательных перевозках. Некоторые роты служили даже на континенте, в частности в Польше.
– Хочешь, поедем со мной, – предложила она Пэлу.
– Не хочется вас стеснять.
– Дом большой, и у нас есть прислуга.
Он улыбнулся уголками губ: у них есть прислуга. Его позабавило это уточнение после всего, что они вынесли!
– Тогда где мы с тобой познакомились?
– Можешь просто сказать, что мы работаем на одной базе. В Саутгемптоне. Ты французский волонтер.
Он кивнул, почти согласный.
– И чем мы там занимаемся?
– Общими вопросами, вполне сойдет для ответа. Или нет, скажем, что работаем в конторе. Да, мы оба конторские служащие, так проще.
– А наши шрамы?
Лора провела руками по щекам. У них обоих, как, впрочем, у всех одиннадцати курсантов, за время занятий появилось множество синяков, ссадин, мелких шрамов на руках, на плечах, на лице, по всему телу. Она лукаво прищурилась:
– Будем пудриться, как приличные старые дамы. А если спросят, скажем, попали в аварию.
Лора считала, что придумала отличную легенду. Пэл, улыбнувшись, украдкой взял ее за руку. Да, он любил ее, это точно. И знал, что она к нему неравнодушна: это он понял после гибели Жабы, когда она захотела, чтобы он покрепче обнял ее. Никогда он не чувствовал себя настолько мужчиной, как прижимая ее к себе.
Они зашли в отдел косметики супермаркета, купили грим и нанесли тонким слоем на ссадины на лице. А потом отправились на автобусе в Челси.
Громадный частный особняк был слишком велик для ее родителей. Красивое квадратное здание красного кирпича, фасады украшены металлическими фонарями и виноградом, облетевшим на зиму; три этажа плюс мансарды, парадная и черная лестницы.
Пэл понял так, что отец Лоры вроде бы финансист, только непонятно, какой доход можно получать с чьих-либо финансов в подобные времена. Может, он был связан с вооружением?
– Нормально тут у тебя, – произнес он, разглядывая дом.
Лора расхохоталась, поднялась на крыльцо и позвонила в дверь, как сделал бы гость, – хотела сделать сюрприз.
Ричард и Франс Дойл, родители Лоры, как раз заканчивали завтракать. Было девять часов утра. Они удивленно переглянулись: кто может звонить в такую рань, да еще в парадную дверь? Наверно, доставка, но все всегда доставляется к черному ходу. Любопытство погнало их к двери быстрее горничной, у которой одна нога была короче другой. Отец, перед тем как открыть, пригладил усы и подтянул узел галстука.
– Лора! – вскрикнула мать, увидев на пороге дочь.
И родители надолго заключили ее в объятия.
– Нам дали увольнительную, – объяснила Лора.
– Увольнительную! – обрадовался отец. – Надолго?
– На неделю.
Франс постаралась не выдать своего разочарования:
– Всего на неделю? И ты совсем не давала о себе знать!
– Прости, мама.
– Ты хотя бы звони.
– Я буду звонить.
Дойлы не видели Лору два месяца. Мать сочла, что та похудела.
– Вас совсем не кормят!
– Что поделаешь, война.
Мать вздохнула.
– Надо мне наконец решиться и выкопать розы. Разобью грядки, посажу картошку.
Лора улыбнулась, еще раз расцеловалась с родителями и представила им Пэла, который вежливо стоял поодаль со всеми вещами.
– Это Пэл, мой друг. Он француз, волонтер. Ему некуда съездить в увольнение.
– Француз! – воскликнула по-французски Франс и заявила, что французы для нее всегда желанные гости, а храбрые особенно.
– Откуда вы? – спросила она Пэла.
– Из Парижа, мадам.
Та пришла в восторг.
– Ах, Париж!.. И что слышно из Парижа?
– В Париже все хорошо, мадам.
Она закусила губу, охваченная сожалением и ностальгией, и оба подумали, что будь в Париже все хорошо, Пэла бы наверняка здесь не было.
Франс Дойл пригляделась к молодому человеку. Примерно ровесник дочери, красивый, слегка исхудалый, но видно, что мускулистый. Лора и Пэл беседовали с Ричардом, но она не слушала, только смотрела и думала о своем. Уловив обрывки фраз гостя на плохом английском, оценила его вежливую, интеллигентную манеру говорить. Дочь влюблена в этого парня, в этом нет ни малейших сомнений – она прекрасно знала Лору. Снова взглянула на Пэла, заметила царапины у него на руках и на шее. Ссадины, отметины войны. Ни его, ни дочери в Саутгемптоне не было. Франс это поняла материнским чутьем. Но где же тогда они служили? И почему она солгала? Чтобы отогнать тревогу, Франс позвала горничную и велела приготовить комнаты.
Это был прекрасный день. Лора показала Пэлу Челси, а поскольку солнце сияло по-прежнему, они доехали на метро до центра. Погуляли в Гайд-парке в толпе таких же отдыхающих, мечтателей и детей. Видели несколько белок, не боящихся зимы, и водяных курочек на озере. На обед съели киш в пивной на берегу Темзы, дошли до Трафальгарской площади, а потом, не сговариваясь, до гостиницы “Нортумберленд-хаус”, откуда все и началось.
К Дойлам они вернулись под вечер. Пэла поселили в прелестной комнате на третьем этаже – у него так давно не было своей комнаты, где можно уединиться. Он повалялся на мягкой кровати, потом принял обжигающую ванну, смывая с себя грязь Суррея и Шотландии; в ванной долго рассматривал в зеркало свое тело, покрытое ранами и шишками. Потом вытерся, побрился, причесался и, не надевая рубашки, прошелся по теплой комнате, утопая ногами в толстом ковре. Остановился у окна посмотреть на мир. Уже спускалась ночь, сумерки были совсем такие же, как рассвет сегодняшнего утра, – улицы и милые тихие дома окутаны яркой синевой. Он смотрел на садики, по которым гулял поднявшийся ветер, на высокие голые деревья на проспекте, чьи ветви дружно шевелились при каждом порыве. Подул на холодное стекло и в запотевшем круге написал имя отца. Сейчас январь, месяц его рождения. Как отец там справляется без него, как ему, наверно, грустно и одиноко! Они были настоящей маленькой семьей, а Пэл разбил ее.
В комнату беззвучно вошла Лора. Несчастный Сын заметил ее, только когда ладони девушки легли на его разрисованный синяками торс.
– Что делаешь? – удивилась она, увидев его, полуголого, у окна.
– Задумался.
Она улыбнулась:
– Ты ведь знаешь, что сказал бы Толстяк, да?
Он весело кивнул, они произнесли хором, подражая отрывистому, унылому голосу приятеля: “ Не думай о плохом…”. И засмеялись.
Лора принесла баночку грима и, упорствуя в своих бесполезных уловках, нанесла несколько мазков на лицо Пэла. Он не спорил: какое счастье, что она касается его лица! И как изящно она одета, с легким макияжем, в светло-зеленой юбке, с перламутровыми жемчужинами в ушах. Такая красивая!
Когда Пэл повернулся, она заметила длинный шрам у него на груди, у самого сердца.
– Что это у тебя?
– Ничего.
Лора тронула шрам ладонью. Решительно она любила этого парня, но никогда не осмелится ему признаться. Они, конечно, много времени провели вместе в Шотландии, но, озабоченный мировыми проблемами, он всегда выглядел таким серьезным… Наверно, и не заметил, как она на него смотрит. Лора провела пальцем по шраму.
– Ты не мог получить такой рубец на занятиях.
– Это случилось раньше.
Лора не стала настаивать:
– Надевай рубашку, пора ужинать.
И вышла из комнаты, одарив своего француза улыбкой.
Пэл провел в Лондоне чудесную неделю. Лора водила его по городу. Он совсем не знал Лондона, хотя и провел здесь несколько недель, когда его вербовали. Лора показала ему все раны от Blitz[5], все испепеленные кварталы: бомбежки нанесли Лондону огромный ущерб, пострадал даже Букингемский дворец. Во время налетов люфтваффе англичанам приходилось укрываться в метро. Поэтому Лора и решила вступить в УСО. Чтобы отвлечься от войны и ее стигматов, они ходили в кино, в театр, в музеи. В королевском зоопарке бросали черствый хлеб большим жирафам, здоровались со старыми львами – жалкими царями в клетках. Однажды под вечер случайно столкнулись на улице с двумя австрийскими агентами, которых видели в Арисейг-хаусе, но не подали вида. Иногда Пэл спрашивал себя, что сталось с его парижскими друзьями. Они наверняка продолжали учиться, готовились стать учителями, врачами, инженерами, брокерами, адвокатами. Мог ли кто-то из них вообразить, что он сейчас делает?
Накануне отъезда Пэл отдыхал у себя в комнате, растянувшись на кровати. Постучавшись, вошла Франс Дойл с подносом, на котором стоял чайник и две чашки. Пэл вежливо встал.
– Значит, завтра уезжаете, да? – вздохнула Франс.
Голос и интонации у нее были в точности как у Лоры. Она села на кровать рядом с Пэлом. Держа поднос на коленях, молча разлила чай и протянула ему чашку.
– А если честно, что происходит?
– Простите?
– Вы прекрасно знаете, о чем я.
Она пристально посмотрела на юношу.
– Ваша база не в Саутгемптоне.
– Нет там, мадам.
– И что это за база?
Вопрос застал Пэла врасплох, он ответил не сразу – не ожидал, что его станут расспрашивать без Лоры; будь она здесь, она бы нашла что сказать. Он попытался придумать какое-нибудь название, но его растерянность была слишком явной. Теперь уже поздно.
– Неважно, мадам. Военные не любят, когда разглашают сведения об этой базе.
– Я знаю, что вы не в Саутгемптоне.
В комнате повисло долгое молчание, но не неловкое – доверительное.
– Что конкретно вы знаете?
– Ничего. Но я видела ваши ссадины. Я чувствую, что Лора изменилась. Не к худшему, наоборот… Знаю, что она не возит ящики с капустой для Службы йоменов. Если два месяца возить овощи, так не изменишься.
Снова молчание.
– Мне так страшно, Пэл. За нее, за вас. Мне надо знать.
– Вряд ли вас это успокоит.
– Догадываюсь. Но я по крайней мере буду знать, почему волнуюсь.
Пэл посмотрел на нее – и увидел в ней своего отца. Будь она его отцом, а он Лорой, ему бы хотелось, чтобы она сказала. Невыносимо, что отец ничего о нем не знает. Будто его больше не существует.
– Поклянитесь, что никому не скажете.
– Клянусь.
– Клянитесь лучше. Поклянитесь своей душой.
– Клянусь, сынок.
Она назвала его “сынок”. Ему вдруг стало не так одиноко. Он встал, проверил, плотно ли закрыта дверь, сел рядом с Франс и прошептал:
– Нас завербовали в спецслужбы.
Мать прикрыла рот рукой.
– Но вы такие юные!
– Это война, мадам. Вы не сможете ничего сделать. И не сможете помешать Лоре. Не говорите ей ничего, не подавайте вида. Если верите в Бога, молитесь. Если не верите, все равно молитесь. И успокойтесь, с нами ничего не случится.
– Позаботьтесь о ней.
– Позабочусь.
– Поклянитесь тоже.
– Клянусь!
– Она такая хрупкая…
– Не настолько, как вы думаете.
Он ободряюще улыбнулся ей. И они долго сидели молча.
Назавтра после обеда Пэл и Лора покинули дом в Челси. Мать ничем не выдала себя. Перед отъездом, подойдя к Пэлу попрощаться, она незаметно сунула ему в карман пальто несколько фунтов стерлингов и шепнула:
– Купите ей шоколада, она так любит шоколад.
Он кивнул, слегка улыбнулся на прощание. И они уехали.
11
Отец внимательно следил за ходом войны. Ему было так страшно. Всякий раз, как заходила речь об убитых, он думал о сыне. Вздрагивал, слушая по радио сводки новостей. Потом стал изучать карту Европы, спрашивая себя, где сейчас его сын и с кем. Во имя чего он сражается? Почему дети должны воевать? Он часто сожалел, что сам не пошел вместо него. Им надо было поменяться местами: пусть бы Поль-Эмиль остался в Париже, в безопасности, а он бы отправился на фронт. Он не знал, куда и как, но сделал бы это, если бы смог удержать своего мальчика.
На все вопросы он просто говорил, ничего не уточняя: “Поль-Эмиль отлучился”. Друзьям сына, звонившим в дверь; консьержке, удивлявшейся, что Поля-Эмиля совсем не видно, он повторял одно и то же: “Его нет, он отлучился”. И захлопывал дверь или шел своей дорогой, чтобы раз и навсегда прекратить эти разговоры.
Он часто сожалел, что не закрыл парня в комнате. Запереть бы его, пока война не кончится. На ключ, чтобы никуда не вышел. Но раз уж он позволил ему уйти, то теперь не станет запирать дверь квартиры, чтобы тот обязательно мог вернуться. Каждое утро, уходя на работу, он тщательно проверял, не закрыл ли ее на ключ. Иногда возвращался, чтобы еще раз проверить. “Лишняя предосторожность никогда не помешает”, – думал он.
Отец был мелким служащим – составлял документы, штемпелевал бумаги. Он надеялся, что сын станет большим человеком, ведь сам он совсем неинтересный. Когда начальник возвращал отцу документы на исправление с нелестными замечаниями на полях, тот бранился: “Ничтожество! Ничтожество!”, толком не зная к кому обращается – к начальнику или к самому себе. Да, его сын станет важной персоной – главой канцелярии или министром. Чем дальше, тем больше отец им гордился.
В обеденный перерыв он бежал в метро, возвращался домой и хватался за почту: сын обещал писать. В отчаянии ждал писем, но их все не было. Почему же Поль-Эмиль не пишет? Отец тревожился, не получая вестей, молился, чтобы с сыном ничего не случилось, совсем исхудал. Еще раз заглядывал в почтовый ящик убедиться, что не пропустил письмо, потом печально воздевал глаза к январскому небу. Скоро его день рождения, сын наверняка даст о себе знать. Он никогда не забывал этот день, поэтому найдет способ с ним связаться.
12
По пустынной дороге в Чешире, в беспросветном мраке светомаскировки, торжественно шагал Толстяк с расческой в руке. Запыхавшись, на миг остановился и пригладил свою жуткую шевелюру. Несмотря на пронизывающий январский холод, он вспотел в слишком тесной форме. Не надо было так бежать. Вытер рукавом лицо, глубоко вдохнул для храбрости и преодолел последние метры, отделявшие его от паба. Взглянул на часы – половина двенадцатого ночи. Два часа изысканного счастья. Ночью, пока все спали, он убегал.
Вернувшись из увольнения, одиннадцать курсантов Секции F отправились на базу военно-воздушных сил в Рингвэе, недалеко от Манчестера, где проходил третий этап обучения УСО, который должен был завершиться в начале февраля. Через Рингвэй проходили все кандидаты в агенты Управления, здесь располагался один из главных центров подготовки парашютистов королевских ВВС. Воздушный десант был самым эффективным средством переброски британских агентов в оккупированные страны.
Они прибыли туда дней десять назад. Их обучение, сокращенное из-за обстановки в Европе, – несколько месяцев ускоренных занятий, нечто среднее между военным делом и театральной импровизацией, – вообще-то не внушало доверия. Первый же день в Рингвэе только усилил сомнения: их удостоили демонстрации способа парашютирования, который применялся в УСО, и это оказалось катастрофой. Благодаря хитроумной системе парашютист попросту вываливался в дыру в полу самолета: трос, закрепленный на парашюте и в кабине пилота, должен был на нужной высоте автоматически раскрыть купол, агенту оставалось лишь приземлиться так, как его учили на занятиях. Курсантов построили на плацу базы, где они внимательно следили, как бомбардировщик на бреющем полете сбрасывает мешки с землей, оснащенные этим оборудованием. У первого мешка парашют через несколько десятков метров действительно раскрылся, но второй, а за ним и третий просто глухо рухнули на землю. Четвертый парил под красивым белым куполом, но пятый разбился. Курсанты, стоя полукругом, в ужасе созерцали это зрелище, представляя собственные тела, падающие с небес.
– Господи! – простонал Клод с вытаращенными глазами.
– Вашу мать! – ругнулся Эме рядом с ним.
– Ну и мерзость! – проронил Кей.
– Это что, шутка такая? – спросил Фарон лейтенанта Питера.
Но лейтенант, не позволяя сбить себя с толку, только тряхнул головой. Бледный как мел Дэвид перевел: “Сейчас сработает, сейчас сработает, вот увидите”. Экипаж самолета тоже не унывал и продолжал швырять мешки. Раскрылся один парашют, потом второй, появилась надежда – лейтенант ликовал. Но радость была недолгой: следующий мешок самым жалким образом шлепнулся в мокрую траву, у курсантов подвело животы от страха.
Несмотря на этот эпизод, они, как всегда, тренировались изо всех сил, не вылезая со взлетной полосы и из ангаров. Конечно, в Рингвэе не готовили настоящих парашютистов – отсюда и система автоматического раскрытия. Но им предстояло прыгать в сложных условиях: ночью, на низкой высоте. Важнее всего было удачно приземлиться: подогнуть сжатые ноги, вытянуть руки по швам и сделать простой кувырок – обязательный, иначе можно переломать все кости. Сперва они учились на земле, потом прыгали с небольшой высоты, со стула или скамейки, а на последнем этапе – с лестницы. Клод, бросаясь с лестницы, каждый раз вскрикивал. Прыжки перемежались физическими упражнениями, чтобы не утратить полученные в Шотландии навыки, а также изучением авиационной техники, прежде всего бомбардировщиков “Уитли”, с которых их будут сбрасывать во Франции, и маленьких четырехместных самолетов Уэстленд “Лайсендер”, не имевших вооружения, но способных приземляться и взлетать на кратчайшей полосе. Они должны были забирать их после выполнения задания прямо из-под носа немцев. Осматривая стоящие на земле летательные аппараты, курсанты, радуясь как дети, набились в кабины пилотов и стали играть с бортовым оборудованием. Станислас безуспешно пытался научить товарищей обращаться с рычагами управления, но те лихорадочно нажимали первые попавшиеся кнопки, а Толстяк с Фрэнком нацепили наушники и орали во все горло. Беспомощный и раздосадованный инструктор мог лишь констатировать разгром. Сам он оставался на площадке. А Клод, стоя рядом, беспокойно спрашивал, есть ли опасность, что кто-то из товарищей сгоряча сбросит многотонную бомбу прямо на взлетную полосу.
УСО отказывалось селить новобранцев в Рингвэе: здесь одновременно проходили подготовку солдаты британской армии, коммандос военно-воздушных сил и десантники, а слишком близкое соседство с кем-либо, даже с военными, считалось опасным для будущих секретных агентов. Поэтому различные секции размещались в Данэм-лодже, в Чешире, и курсантов каждый день возили на базу в грузовике. Из него они приметили паб по дороге в Рингвэй и, получив после первой недели увольнительную на несколько часов, все вместе отправились туда. Не успев войти в заведение, они с шумом ринулись к мишеням для дартса и бильярдным столам. Один Толстяк зачарованно застыл на липком полу: за стойкой он увидел женщину, показавшуюся ему самой невероятной на свете, и несколько минут созерцал ее. Вдруг его пронзило необъяснимое чувство счастья – он влюбился. Увидел ее лишь пару мгновений назад, но уже любил. Толстяк робко присел у стойки и снова стал любоваться худенькой брюнеткой, с бесконечной грацией раздававшей пивные кружки, угадывая под ее узкой блузкой осиную талию и изящное тело. Ему так хотелось ее обнять, что он, сам того не заметив, обхватил себя и сидел на табурете, затаив дыхание. Потом пустился заказывать пиво в огромных количествах, бормоча что-то невнятное на своем жалком английском, лишь бы она обернулась к нему, и глотая залпом кружки одну за другой, чтобы побыстрей заказать следующую. При таком ритме Толстяк вскоре напился в дым, а его мочевой пузырь готов был лопнуть. Он позвал Кея, Пэла и Эме на экстренное совещание в туалете.
– Черт тебя дери, Толстяк, на кого ты похож! – возмутился было Кей. – Попадись ты сейчас лейтенанту, с увольнениями будет покончено!
Но уже в следующую минуту Кей невольно расхохотался, глядя на пьяного Толстяка. Сощурив глаза, как близорукий без очков, тот мерил взглядом товарищей и, пошатываясь, хватался за грязные ручки кабинок, пытаясь удержаться на ногах. Голова у него кружилась, язык заплетался, он махал руками, чтобы было понятнее, и все его необъятное тело колыхалось, голова качалась взад-вперед, огромный подбородок растягивался, отросшие волосы мотались. Говорил он чересчур громко, с забавными ужимками, серьезно и монотонно.
– Мне плохо, друзья, – в конце концов объявил он.
– Заметно, – отозвался Эме.
– Нет… Это от любви. Из-за девушки из бара.
Затем повторил по слогам:
– Де-вуш-ка-из-ба-ра.
– Что девушка из бара?
– Я ее люблю.
– Как это – любишь?
– Люблю, и все.
Они засмеялись. Даже Пэл, а ведь он знал, что такое любовь с первого взгляда. Они смеялись, потому что Толстяк не умел любить: он болтал о девицах, о шлюхах, о том, что знал. Но любви он не знал.
– Ты перебрал лишнего, Толстяк, – сказал Эме, похлопав его по плечу. – Нельзя любить того, кого не знаешь. Даже тех, кого отлично знаешь, любить порой трудновато.
Они посмеялись и отвели Толстяка в Данэм-Лодж – пусть проспится. Но назавтра Толстяк, протрезвев, вовсе не забыл про свою любовь; и когда курсанты, скрючившись от страха, готовились к первому прыжку с “Уитли”, он думал только о ней. Укутанный в зеленый комбинезон, в шлеме и в очках, гигант плыл над Англией в полном помрачении рассудка.
С того первого прыжка Толстяк решил сам распоряжаться своей жизнью. И уже третью ночь в величайшей тайне, нарушая устав, сбегал из Данэм-Лоджа, чтобы повидаться с любимой. Он на цыпочках выходил из спальни; если кто-то из товарищей видел, как он встает, то ссылался на боли в животе, говорил, что газы лучше выпускать в коридоре, и сонный благодарный товарищ немедленно засыпал. А Толстяк выбирался на улицу и во мгле затемнения мчался узкой безлюдной дорогой к пабу, бежал с колотящимся сердцем навстречу своей судьбе. Бежал как полоумный, потом переходил на шаг, вытирая лоб, ведь она не должна видеть его потным, потом снова бежал – не хотел терять ни единой секунды, пока не увидит ее.
На пороге паба сердце его разрывалось от страха и любви. Напустив на себя развязный вид, он искал глазами любимую в безликой толпе. И когда наконец находил, был вне себя от счастья, садился у стойки и ждал, когда она подойдет его обслужить.
У него были готовы слова для нее, но он не осмеливался заговорить – из робости и потому, что никто не понимал его английского. И он спрашивал пива еще и еще, спускал все свои деньги просто так, ради иллюзии общения. Он не хотел ничего о ней знать, ведь пока он ничего не знает, она остается самой необыкновенной женщиной на свете. Он мог придумать ее всю – ее нежность, ее приветливость, ее чувства. Она была изящна, прелестна, забавна, восхитительна, без единого изъяна, само совершенство. Вдобавок у них были общие вкусы, общие желания; она была женщиной его мечты. Да, пока они не узнали друг друга, он мог вообразить что угодно: что она считает его красивым, умным, храбрым, одаренным. Что она ждет его каждый вечер, а если он чуть задерживается, боится, что он не придет.
Одинокий Толстяк считал, что самые прекрасные истории любви – те, что он создает сам: в его воображении влюбленные никогда не обманывались друг в друге. И мечтал, что кто-то его любит.
По вечерам, когда у курсантов оставалось свободное время, Пэл и Лора встречались тайком в крошечной гостиной, примыкавшей к столовой. Пэл приносил роман, который они начали читать в Локейлорте и так и не закончили; читал медленно, в охотку. В комнате стояло лишь одно большое кресло, он усаживался в него, а Лора устраивалась рядом. Распускала свои светлые волосы, и он, закрыв глаза, вдыхал их запах. Поймав его за этим занятием, она целовала его в щеку – не мимолетно, крепко. Пэл пьянел, а она, забавляясь произведенным эффектом, говорила с напускным нетерпением: “Ладно, давай читай”. И Пэл покорно читал. Иногда приносил ей немного шоколада, покупая его втридорога у одного курсанта-голландца на деньги Франс Дойл. Они думали, что одни в гостиной, и ни разу не заметили пары глаз, что подглядывали за ними в приотворенную дверь. Толстяк растроганно смотрел на них, восхищался, думал о своей любимой, представлял, что она прижимается к нему, обнимает. Да, однажды они обнимутся – обнимутся и будут обниматься всегда.
Толстяк теперь думал только о любви. Он считал, что любовь может спасти людей. Однажды вечером, налюбовавшись Пэлом и Лорой в их убежище, он вернулся в спальню к товарищам, которые, как всегда, вели бесконечные разговоры. И действительно, там были Станислас, Дени, Эме, Фарон, Кей, Клод, Фрэнк и Жос. Они лежали, закинув руки за голову, и о чем-то спорили.
– О чем разговор? – спросил Толстяк с порога.
– О девушках, – ответил Фрэнк.
Толстяк улыбнулся. Сами того не зная, его товарищи говорили о любви, и любовь их спасет.
– Увидим ли мы еще норвежек, хотел бы я знать, – произнес Жос. – Очень они мне нравились.
– Норвежки… – весело вздохнул Кей. – Хотел бы я знать, что бы мы без них делали в Локейлорте.
– То же самое, – отозвался деловитый Дени. – Бегали бы и бегали без конца.
Молодежь – Толстяк, Кей, Фарон и Клод – знала, что это неправда: они иногда прихорашивались просто потому, что могли с ними столкнуться и не хотели иметь жалкий вид.
– Ах вы, мальчишки! – воскликнул Эме. – Вы же как есть мальчишки. Однажды женитесь и прекратите бегать за юбками. Надеюсь, меня на свадьбу пригласите…
– Приглашу, – сказал Кей. – Всех вас приглашу.
Дени радостно улыбнулся.
– А ты женат? – спросил его Эме.
– Меня жена мирно ждет в Канаде. И двое мальчуганов.
– Скучаешь по ним, да?
– Конечно скучаю. Черт, это как-никак моя семья… Это не мир, а сплошное горе, скажу я вам.
– А лет им сколько, твоим мальчуганам?
– Двенадцать и пятнадцать. Вы мне их немножко напоминаете, – сказал он, обратившись к молодежи. – Скоро они тоже станут маленькими мужчинами.
– А ты, Стан, холостяк? – спросил Кей.
– Холостяк.
Все погрустнели и замолчали.
– Как бы то ни было, тут жену особо не найдешь, – снова заговорил Кей.
– Лора-то есть, – возразил Фарон.
– Лора, она с Пэлом, – отозвался Эме.
– А кстати, где они? – спросил Станислас.
Ответом ему был дружный хохот. Толстяк никому не сказал про их убежище: они были такие красивые вместе, он не хотел, чтобы им мешали. Остальные ничего не смыслили в настоящей любви.
– Трахаются небось, – хохотнул Фарон. – Везунчик Пэл! Давненько я не трахался.
– Трахаться – это главное, – провозгласил Кей под приветственные крики.
– Трахаться – это пустяк, – воскликнул Толстяк. – Нужно что-то еще…
– И что же? – насмешливо спросил Фарон.
– В отпуске я бывал у шлюх в Сохо. Утром одна, днем другая, вечером третья. Весь день сплошные шлюхи. А потом приглянулась мне одна девица из Ливерпуля, работала на Уитфилд-стрит. И представляете, мы с ней больше не расставались, несколько дней из постели не вылезали, прямо как влюбленные, а когда я ей сказал, что ухожу насовсем, она меня крепко-крепко обняла. Забесплатно. Это что, не любовь?
Он сел на кровати, обвел взглядом товарищей и повторил:
– Это что, скажете, не любовь? Не любовь, мать вашу?
Все дружно кивнули.
– Да, Толстяк, – ответил Кей. – Она тебя любит, это точно.
– Вот видите, трахаться – это пустяк, если потом тебя крепко не обнимут. Трахаться надо с любовью!
Повисла пауза, и все вдруг заметили, что Клод с какого-то времени не произнес ни слова.
– Ты в порядке, Клод? – спросил Эме.
– В порядке.
И тут Толстяк задал вопрос, который мучил их всех:
– Попик, если ты станешь кюре, ты больше не будешь трахаться?
– Нет.
– Никогда?
– Никогда.
– Даже с проститутками?
– Ни с проститутками, ни с кем.
Толстяк покачал головой.
– А почему нельзя трахаться, если ты кюре?
– Потому что Господь не хочет.
– Ха, ясно, что ему-то никогда не припирало!
Клод побледнел, а остальные расхохотались.
– Мудак ты, Толстяк, – сказал Кей. – Мудак, но мне смешно.
– С чего это я мудак, спрашивается, а? Имею я право спросить, почему кюре не трахаются, вашу мать? Все трахаются, вообще все. Так почему попики не водят шашни с попками? Это что значит, никто не хочет перетрахнуться с Клодом? Клод совсем не дурен, имеет право трахаться, как все. Да будь он хоть уродом из уродов, царем уродов, у него было бы право пойти заплатить шлюхам, милым славным шлюшкам, и они бы прекрасно им занялись. Если хочешь, Попик, я свожу тебя к шлюхам.
– Нет уж, Толстяк, спасибо.
Они снова засмеялись. Кто-то подремывал, было уже поздно, и все стали готовиться ко сну. Пэл с Лорой незаметно присоединились к товарищам. Толстяк обошел спальни и пожелал всем спокойной ночи. Он делал это каждый вечер, проверяя, все ли на месте и не застукают ли его в момент побега. Когда он вернулся, Кей дремал, Пэл, казалось, уснул, а у Клода едва хватило сил нажать на выключатель у своей кровати и погасить свет. Толстяк улыбнулся в темноте. Скоро все будут крепко спать. И тогда он встанет.
В конце второй недели курсанты должны были выполнить серию прыжков, от которых их заранее тошнило. Третий этап обучения в УСО был самым страшным и опасным. Парашютисты учились рискованным прыжкам на малой высоте: чтобы летать над оккупированными странами и ускользать от вражеских радаров, бомбардировщики королевских ВВС шли на высоте примерно двухсот метров. Сам прыжок длился несколько секунд, от силы двадцать. Процедура была отлажена до мельчайших деталей: пилот и штурман в кабине определяли момент прыжка, исходя из высоты и местоположения, передавали приказ в салон, и диспетчер, отвечавший за выброску парашютистов и груза, устанавливал очередность. Когда самолет оказывался над зоной выброски, загоралась красная лампочка; диспетчер ставил будущих агентов одного за другим над люком в полу самолета и хлопал по плечу, подавая сигнал к прыжку. Нужно было упасть в пустоту, потом натягивался металлический трос, и парашют сам собой открывался, удерживая тело в воздухе несколько лишних секунд. Толчок открывшегося парашюта напоминал, что надо приготовиться, до земли осталось всего ничего. Они быстро поджимали ноги и приземлялись, как их учили. В лучшем случае это было как упасть с высоты трех-четырех метров.
Конец второй недели занятий в Рингвэе пришелся на конец января. Это был день рождения отца. Пэл думал о нем весь день, жалел, что не может подать ему знак: ни письмо послать, ни позвонить – ничего. Отец подумает, что он его забыл. Было грустно. Вечером он так мучился, что, несмотря на усталость, никак не мог уснуть. Все уже добрый час как храпели, а он все размышлял, лежа на узкой кровати и уставившись в потолок. Как же ему хотелось крепко обнять отца. “С праздником, самый лучший папа, – сказал бы он ему. – Смотри, какой я стал, как хорошо ты воспитал меня”. И вручил бы ему прекрасные подарки – редкую книжку, которую откопал у букиниста на набережной Сены, или небольшую акварель, которую нарисовал сам, или фотографию в красивой рамке, украсить его пустоватый стол. Со своей зарплаты британского военного он мог бы даже подарить ему красивый пиджак из английского твида, ему бы очень пошло. Идей у него было с избытком. С завтрашнего дня он начнет экономить, чтобы отец ни в чем не знал недостатка, когда они снова будут вместе. Он мечтал, как они поедут в Нью-Йорк на теплоходе, естественно, первым классом, денег ему хватит. Или, еще того лучше, полетят самолетом и уже через несколько часов увидят новые горизонты. В дождливые дни в Париже поедут на юг осматривать Грецию или Турцию, станут купаться в море. Отец будет считать его самым замечательным сыном на свете, скажет: “Сынок, как мне с тобой повезло”. Сын ответит: “Всем, что во мне есть, я обязан тебе”. А еще он познакомит его с Лорой. Может, она переедет жить в Париж. В любом случае по воскресеньям они будут ходить в лучшие рестораны, отец наденет новый элегантный английский пиджак, Лора свои жемчужные серьги. И все – официант, старший официант, сомелье, клиенты, шоферы – увидят, насколько они великолепны. Под конец ужина отец, покоренный Лорой, сложит под столом руки и станет украдкой молиться о свадьбе и внуках. И жизнь их будет такой прекрасной, какую только можно представить. Да, Пэл собирался жениться на Лоре: чем дольше он был рядом с ней, тем больше убеждался, что она единственная женщина, которую он сможет по-настоящему любить всю жизнь.
Лежа неподвижно в кровати, он прислушивался к храпу, к тому еще совсем недавно неведомому сопению, что теперь настраивало на такой мирный лад. Думал, какая отличная у них будет семья – он, отец и Лора. И тут увидел в темноте громадный силуэт Толстяка: тот встал с кровати и на цыпочках направился к двери.
13
Пэл незаметно, тенью среди теней, следовал за Толстяком по длинным коридорам Данэм-Лоджа. Когда Толстяк выходил из комнаты, ошеломленный Пэл заметил, что на том надето пальто. Он не осмеливался показаться, его терзали вопросы и страх. Неужто Толстяк – предатель? Нет, только не Толстяк, он такой добрый. Может, тот идет наверх, к югославам, стащить провизии? Но тогда почему он в пальто? Когда Толстяк, пригнувшись, прячась, перешагнул порог дома и скрылся в темноте, Пэл уже не знал, что и думать. Может, поднять тревогу? Но решил идти за ним и тоже выскользнул на улицу. Он был раздет, но от возбуждения не чувствовал ночного холода. Толстяк шагал по темной безлюдной дороге быстро, словно знал, куда идти, – широким шагом, потом даже побежал, потом застыл на месте. Пэл бросился за куст, думая, что его заметили. Однако Толстяк не обернулся, пошарил в карманах и вытащил оттуда какой-то продолговатый предмет. Радиопередатчик? Пэл затаил дыхание: если предатель-Толстяк его обнаружит, то наверняка убьет. Но в руках у Толстяка был не передатчик. Расческа. Пэл в изумлении смотрел, как Толстяк причесывается, стоя посреди ночи на тропе. Он перестал что-либо понимать.
Толстяк по-женски взвизгнул и уронил расческу в грязную лужу, боясь даже обернуться и посмотреть, кто его зовет. Не лейтенант Питер, он бы его узнал по акценту; лейтенант тоже называл его Толстяком, но в его устах это звучало скорее как “Тоулстьюк”. Наверно, это Дэвид-переводчик. Да, точно Дэвид. Толстяк приготовился к военной тюрьме, полевому суду, возможно, к смертной казни. Как объяснить офицерам УСО, что он каждый вечер дезертирует из Данэм-Лоджа, чтобы встретиться с женщиной? Его расстреляют, наверно публично, в назидание всем. Он задрожал всем телом, сердце у него остановилось, на глаза навернулись слезы.
– Толстяк, мать твою, ты что творишь?
Сердце Толстяка забилось снова. Это Пэл. Его славный Пэл. Ах, Пэл, как он любит его! Да, в этот вечер любит больше, чем когда-либо. Ах, Пэл, храбрый вояка, верный друг, да и из себя видный, обаятельный, все дела. Какой потрясающий парень!
Голос Пэла раздался снова:
– Ну, Толстяк! Что происходит, черт тебя дери?
Толстяк глубоко вздохнул.
– Пэл, это ты, Пэл? Ох, Пэл.
– Я конечно, кто же еще!
Великан подбежал к Пэлу и обнял его изо всех сил. Он был так счастлив поделиться своей тайной!
– Э, Толстяк, да ты вспотел!
– Потому что я бегу.
– Да куда бежишь-то? Знаешь, что с тобой будет, если тебя сцапают?
– Не волнуйся, я все время так делаю.
Пэл не мог опомниться.
– Я хожу к ней, – объяснил Толстяк.
– К кому?
– К той, на ком я женюсь после войны.
– И кто она?
– Официантка из паба.
– Из паба, где мы были?
– Да.
Пэл был потрясен: Толстяк в самом деле ее любит. Тот, конечно, уже говорил это в туалете, но никто ему не поверил, да и сам Пэл посчитал эти слова пьяными откровениями.
– И ты ходишь к ней? – недоверчиво спросил он.
– Да. Каждый вечер. Когда не приходится прыгать по ночам. Черт бы подрал эти ночные прыжки! И так весь день только этим и занимаемся, а вечером – здрасьте, снова-здорово. Как ты меня заметил?
– Толстяк, в тебе по меньшей мере сто десять кило. И ты хочешь, чтобы тебя не заметили?
– Елы-палы. Надо в следующий раз не облажаться.
– Через неделю учеба кончается.
– Знаю. Потому и хочу выяснить хотя бы, как ее зовут… Чтобы найти ее после войны, понимаешь?
Конечно, Пэл понимал. Лучше, чем кто-либо.
Заморосил привычный мелкий дождик, и Пэл вдруг ощутил ужасный холод. Толстяк это заметил.
– Возьми мое пальто, у тебя зуб на зуб не попадает.
– Спасибо.
Пэл надел пальто и понюхал воротник – от него пахло духами.
– Ты душишься?
Толстяк смущенно улыбнулся.
– Духи ворованные, ты ведь не выдашь, а?
– Нет, конечно. Но у кого это из наших нашлись духи?
– Ни в жисть не поверишь.
– У кого?
– У Фарона.
– Фарон пользуется духами?
– Чисто девка! Девка! Не удивлюсь, если он кончит в тех лондонских кабаре, ну ты понимаешь.
Пэл расхохотался. А Толстяк убедился, что его байки про Фарона-шлюху веселят решительно всех. И пожалел, что его официантка незнакома с Фароном, хороший был бы повод завязать разговор.
В ту ночь Пэл с Толстяком отправились в паб вместе. Сели за один столик, и Пэл смотрел на любовь Толстяка. Смотрел на его ужимки, глаза, вспыхнувшие, когда она подошла принять заказ, слушал его лепет, а потом увидел его улыбку – ведь она обратила на него внимание.
– Вы хоть немножко общаетесь?
– Нет, приятель, никогда. Только не это.
– Почему?
– Так я могу верить, что она меня любит.
– А может, и любит.
– Я еще не совсем спятил, Пэл. Посмотри на нее хорошенько и посмотри на меня. Такие, как я, всегда будут одиноки.
– Что за околесину ты несешь, мать твою.
– Ты за меня не беспокойся. Но как раз поэтому я хочу жить в иллюзии.
– Иллюзии?
– Ну да, в иллюзии мечты. Мечта кого угодно в жизни удержит. Кто мечтает, тот не умрет, потому что не разочаруется. Мечтать – это надеяться. Жаба умер, потому что у него не осталось ни капли мечты.
– Не говори так, мир его праху.
– Мир праху – ради бога, но это правда. В тот день, когда ты перестанешь мечтать, ты либо будешь счастливейшим из людей, либо залепишь себе пулю в лоб. Ты что думаешь, мне по приколу сдохнуть как пес, отправившись воевать вместе с ростбифами[6]?
– Мы воюем за свободу.
– Опа! Пиф-паф! Свобода! Но свобода – это мечта, дружок! Опять мечта! На самом деле никто никогда не свободен!
– Тогда почему ты здесь?
– Если честно, сам не знаю. Но знаю, что живу, потому что каждый день мечтаю о своей официантке и о том, как нам хорошо будет вдвоем. Как я приезжаю к ней в увольнение, как мы пишем друг другу любовные письма. А когда война кончится, мы поженимся. Я буду таким счастливым!
Пэл растроганно смотрел на беглеца. Он не знал, что будет с ними со всеми, с группкой храбрецов, но знал, точно знал, что грузный Толстяк выживет. Потому что ни разу не видел человека, способного так любить.
Пэл пообещал сохранить секрет Толстяка и в следующие ночи притворялся, будто не замечает побегов товарища. Но занятия в Рингвэе близились к концу: это был самый короткий этап обучения, сопряженный с большим риском статистически неизбежных несчастных случаев. Когда им оставалось всего два дня и две ночи, Пэл спросил Толстяка, поговорил ли тот со своей официанткой.
– Не-а, пока нет, – отвечал гигант.
– Тебе два дня осталось.
– Знаю, сегодня вечером поговорю. Сегодня будет великий вечер…
Но в тот вечер курсантам пришлось остаться на базе, их учили обращаться с контейнерами, которые будут сбрасывать на парашютах вместе с ними. В Данэм-Лодж вернулись слишком поздно и сбежать Толстяку не удалось.
Назавтра, к отчаянию Толстяка, курсантов снова оставили в Рингвэе – последний прыжок в ночных условиях. Курсанты выполняли упражнение с колотящимся сердцем: они знали, что скоро придется прыгать по-настоящему, уже над Францией. Один Толстяк плевать хотел на прыжки – они снова вернутся слишком поздно, он не сможет вечером уйти, больше не увидит ее. Летя в комбинезоне с небес, он орал: “Сраный прыжок! Сраная школа! Вы все ублюдки!” Вернувшись в Данэм-Лодж, несчастный Толстяк в досаде ушел в спальню и лег. Все было кончено. Он не заметил, что Пэл созвал остальных курсантов, рассказал им о любовных побегах Толстяка, и все согласились, что если тот до отъезда не поговорит с официанткой хотя бы раз, это будет трагедией. Все решили, что как только лейтенант Питер ляжет спать, вся группа отправится в паб.
14
Одиннадцать силуэтов ползли в ночи. В кроватях вместо них лежали подушки. Теперь они были прямо напротив Данэм-Лоджа.
– Берем драндулет, – шепнул Фарон.
Кей кивнул, Эме хихикнул про себя, а побледневший Клод перекрестился: какого дьявола он ввязался в эту авантюру?
Они беззвучно, хотя и возбужденные своим мелким дезертирством, набились в кузов военного грузовика. Фарон сел за руль, ключи, как обычно, лежали за козырьком от солнца. Он поскорей тронулся с места, пока их не заметили. Машина скрылась на узкой пустынной дороге, которую Толстяк знал как свои пять пальцев.
Когда они отъехали подальше от Данэм-Лоджа, в кузове поднялся веселый гам.
– Потрясающе, как вы все это провернули, ребята! – орал Толстяк, преисполненный любви к товарищам.
– Потрясающе, что ты нашел себе эту малышку, – отозвался Жос.
– Потрясающе будет, если нас не сцапают! – простонал Клод, у которого от ужаса сводило живот.
Толстяк показывал Фарону дорогу, и скоро они приехали. Затормозили перед пабом. Сердце у Толстяка колотилось. Остальные, в полном восторге от этой вылазки, жалели, что не додумались до этого раньше. Они вошли цепочкой, словно веселый духовой оркестр, и уселись за одним столом, а Толстяк устроился за барной стойкой, ощущая спиной два десятка устремленных на него глаз. Когда он оборачивался, они жестами подбадривали его.
Толстяк обвел взглядом зал, но не увидел своей любимой. Он постарался ничем не выдать сразу охватившей его тревоги: а если она сегодня не пришла?
Курсанты за столом внимательно смотрели.
– И где она? – нетерпеливо спросил Фрэнк.
– Не вижу, – отозвался Пэл.
– И что, он так каждый вечер сбегает? – спросил Эме, все еще не оправившийся от изумления.
– Каждый вечер.
– Надо же, и никто не заметил…
Толстяк, облокотившись на стойку, спросил себе для храбрости пива, потом еще кружку, и третью. По-прежнему ничего. Ее не было. В конце концов Эме, посланец сгоравшей от нетерпения делегации, подошел к нему.
– Ну и где твоя девочка?
Толстяк пожал плечами – откуда ему знать. Он вертел головой во все стороны в надежде высмотреть ее в клубах табачного дыма. Напрасно. Он почувствовал, что на лбу выступили капли пота, быстро стер их рукавом и сжал кулаки. Только не отчаиваться.
Спустя четверть часа рядом уселись Кей и Станислас помогать ему ждать. Потом они предложили поискать ее в толпе посетителей:
– Скажи, какая она из себя, мы ее тебе найдем.
– Ее нет, вообще нет, – всхлипнул Толстяк с окаменевшим лицом.
Спустя полчаса настал черед Клода подойти с поддержкой:
– Шевелись, Толстяк, ищи ее, если мы тут засидимся, нас сцапают.
Спустя час усталые товарищи, раз ничего не происходило, рассеялись по залу: кто остался за столом и играл в карты, кто направился к бильярду и дартсу. Пэл тревожился за Толстяка.
– Ничего не понимаю, Пэл. Ее нет. Она всегда была здесь!
Прошел еще час, потом другой. Приходилось признать очевидное: она уже не появится. Толстяк цеплялся за барную стойку, цеплялся за надежду, но увидев, что к нему приближаются Кей, Фрэнк, Станислас и Эме, он глубоко опечалился – пора было возвращаться в Лодж.
– Не надо, не сейчас, – взмолился он.
– Пора ехать, Толстяк, – сказал Кей. – Мне очень жаль.
– Если мы уедем, я ее никогда не увижу.
– Ты вернешься. Получишь увольнительную. Мы все этим займемся, если надо. Но сегодня она не придет. Сегодня – нет.
Толстяк чувствовал, как его сердце вянет, ссыхается, сжимается в комочек.
– Надо ехать, Толстяк. Если лейтенант нас засечет…
– Знаю. Спасибо за все, что вы для меня сделали.
Лора, стоя поодаль, наблюдала эту душераздирающую сцену. Она подошла к гиганту, села рядом и попыталась его утешить. Он уронил огромную голову на ее худенькое плечо, она провела рукой по его влажным от пота волосам.
– И все зря… – вздохнул Толстяк. – Я даже не знаю, как ее зовут, я никогда ее не найду.
Глаза Лоры вспыхнули:
– А что нам мешает узнать ее имя?
Она вскочила. Ей пришлось пробиваться сквозь толпу пьяных мужчин, а потом чуть ли не лезть на стойку, чтобы докричаться до официанта, протиравшего стаканы.
– Я ищу Бекки! – она назвала первое попавшееся имя.
– Кого?
Официанту пришлось приложить ладонь к уху, чтобы расслышать ее в общем гомоне.
– Девушку, которая здесь работает, – громко и отчетливо произнесла Лора.
– Тут только одна девушка работает – Мелинда. Вы Мелинду ищете?
– Да, Мелинду! Она здесь?
– Нет. Заболела. А что вы хотели?











