Читать онлайн Русское самовластие. Власть и её границы. 1462–1917 гг.
- Автор: С. М. Сергеев
- Жанр: Публицистика
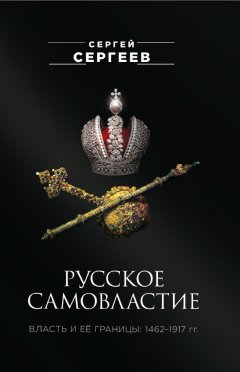
© Сергеев С.М., 2023
© ООО «Яуза-каталог», 2023
От автора
Эта книга – своеобразное продолжение моей предыдущей работы «Русская нация, или Рассказ об истории её отсутствия» (М.: Центрполиграф, 2017), точнее, углублённое развитие одной из её основных тем. Поэтому в обеих книгах есть общие тезисы или даже отдельные фрагменты текста, но в целом «Русское самовластие» – совершенно самостоятельный труд, который можно читать без всякого знакомства с «Русской нацией». В каких-то отношениях «РС» уже «PH», в каких-то – шире, выводы книг несколько разнятся.
Читателей, которые интересуются исключительно концепцией автора, я должен сразу предупредить, что их, возможно, ждёт разочарование. Большой новизны моя концепция не представляет – мысль об особом типе русской власти высказывалась многократно уже с XVI столетия. Тем, кому нужна только концепция, достаточно ознакомиться с введением. Автор ставил перед собой иную задачу: нарисовать картину воздействия русской власти на русское общество, основываясь на данных источников и изысканиях авторитетных историков. Ценность этой книги, на мой взгляд, именно в её фактической насыщенности – смею надеяться, что такого специализированного обширного собрания сведений об истории русской власти ещё не было. Но это вовсе не значит, что «РС» «закрыло тему», – её непосильно одолеть одному автору. Я прекрасно осознаю, сколь много важного упущено в моей работе, и могу только предполагать, как много мной допущено (хотя и не злонамеренно!) ошибок.
Автор старался говорить от своего имени как можно меньше, давая возможность высказаться насколько возможно большему числу современников описываемых событий. Источников использовано много (есть и архивные – дневник А.А. Киреева до 1905 г.), поэтому, чтобы не перегружать книгу, в сносках даются ссылки только на историографию.
Кто-то может, конечно, сказать, что мой подбор фактов тенденциозен. Смешно было бы заранее оправдываться и просить поверить в мою объективность. Не доверяете – проверьте меня по тем источникам, которые я цитирую, найдите другие, которыми я пренебрёг. Я буду только рад, если печальные выводы этой книги окажутся опровергнуты, но не шумом патриотической риторики, а достоверным историческим материалом. К сожалению, думаю, такого опровержения написать невозможно.
Я обрываю свой рассказ на 1917 годе. Идея написать главу о советском периоде меня неоднократно искушала, но всё же я от неё отказался – чтобы нарисовать картину этой эпохи, нужна не глава, а отдельная книга.
Ну и напоследок – благодарности:
– Светлане Волошиной, неизменно дарившей мне вдохновение и указавшей некоторые полезные цитаты;
– Александру Ефремову, прочитавшему рукопись книги и сделавшему ряд ценных замечаний;
– Игорю Макурину, Александру и Наталье Ивановым, живо и содержательно обсуждавшим со мной сюжеты этой книги;
– участникам научного семинара по социальной теории «Logica Socialis» Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ, на котором обсуждалась концепция PC и на котором только что законченная книга получила своё «боевое крещение», – и прежде всего руководителю семинара Александру Филиппову и координатору семинара Олегу Кильдюшову.
Сергей Сергеев,
1 марта 2021 г.
Введение
Предположения о природе русской власти
Власть и её границы
Известное определение Макса Вебера гласит: «Власть означает любой шанс осуществить свою волю в рамках некоторого социального отношения, даже вопреки сопротивлению, на чём бы такой шанс ни был основан»[1].
Формы власти многообразны: работодателей над работниками, родителей над детьми, кумиров над поклонниками, любимых над любящими. Она разлита по всему обществу, пронизывает все его клетки: власть «производит себя в каждое мгновение в любой точке или, скорее, в любом отношении от одной точки к другой. Власть повсюду не потому, что она всё охватывает, но потому, что она отовсюду исходит»[2]. «Воля к власти» (Ф. Ницше), видимо, есть базовый человеческий инстинкт. Но, конечно же, первая ассоциация, рождающаяся у русского человека при слове «власть», – это государство. Вебер относит государственную власть к такой разновидности власти, как господство, понимая последнее как «шанс встретить повиновение у определённых лиц приказу известного содержания»[3]. Специфика государственного господства в том, что оно «с успехом пользуется монополией легитимного физического принуждения для осуществления порядка»[4]. Знаменитый социолог Пьер Бурдье уточняет: государство имеет монополию и на «легитимное символическое насилие»[5], т. е. оно диктует легитимные представления о социальном мире. Виднейший современный политический теоретик Майкл Манн добавляет ещё одну монополию – на «постоянное право издания и приведение в исполнение законов»[6].
Государственная власть (как, впрочем, и любая другая), по словам французского политического мыслителя Бертрана де Жувенеля, постоянно стремится к экспансии: «…для Власти неестественно быть слабой… всякая Власть рассматривает целое, которым она управляет, как источник ресурсов, необходимых для воплощения в жизнь её собственных замыслов, как материал, обрабатываемый согласно её собственным взглядам… Подвластный народ становится как бы распространением Я, доставляющим наслаждение сначала через “двигательные” ощущения, а затем и через ощущения “рефлексивные” – когда не только испытывают удовольствие от того, что приводят в движение множество частей огромного тела, но и глубоко чувствуют всё, что затрагивает какую-то из них в отдельности»[7]. С этим свойством власти связана проблема её границ. Как писал в середине XVIII в. Шарль Луи Монтескье, «известно уже по опыту веков, что всякий человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, и он идёт в этом направлении, пока не достигнет положенного ему предела. А в пределе – кто бы это мог подумать! – нуждается и сама добродетель»[8]. Зыбкость пределов государственного господства чревата трагическими последствиями, ибо, как уже говорилось выше, оно основано на монополии применения физического насилия. (Впрочем, трагические последствия возможны и при обратной ситуации – когда государство становится слишком слабым и де-факто утрачивает указанную монополию; это путь к кошмару «войны всех против всех».) Ясно, что злоупотребления властью были, есть и будут, от них невозможно избавиться раз и навсегда, как невозможно избавиться вовсе от преступности или болезней. Но можно ограничить возможности для властного произвола. В разных цивилизациях и обществах это делалось по-разному. Радикальнее всего – в Западной Европе и наследующих ей США. Борьба с тиранией – красная нить истории и политической мысли Запада. Последняя в своём магистральном направлении вслед за Аристотелем утверждала, что тирания – наихудший тип правления, ибо это «безответственная власть… к выгоде её самой, а не подданных»[9]. В XIII в. величайший католический богослов Фома Аквинский писал: «…если тиран, презрев общее благо, взыскует блага частного, то из этого следует, что он будет притеснять подданных различными способами, вредя тем или иным благам в соответствии с тем, каким страстям он подвержен. Так, тот, кто одержим алчностью, грабит блага подданных… Если же он будет одержим гневливостью, то будет лить кровь попусту… Ни в чём, следовательно, нельзя здесь быть уверенным, но всё ненадёжно, так как отходит от права; ни о чём нельзя утверждать, каково оно, так как находится оно в воле, не сказать в похоти, другого… И это неудивительно, так как человек, правящий безрассудно, повинуясь похоти своей души, ничем не отличается от животного… И потому люди укрываются от тиранов, словно от жестоких зверей, так как представляется одно и то же: подчиниться тирану и склониться перед свирепым зверем». Фома подчёркивает, что в исключительных случаях подданные имеют полное право свергнуть правителя-тирана: «…если к праву какой-либо совокупности относится заботиться об установлении себе короля, то не будет несправедливым, если король, установленный ею, сможет быть ею же низложен, либо его власть – ограничена, если он будет тиранически злоупотреблять королевской властью. И не следует полагать, что такая совокупность будет поступать несправедливо, низлагая тирана, даже если ранее она подчинила себя ему навечно. Ведь он, ведя себя в правлении совокупностью не с верностью, как этого требует служение короля, сам заслужил, чтобы соглашение, заключённое с ним, не соблюдалось бы подданными»[10][11].
В конце XVII столетия англичанин Джон Локк, продолжая многовековую традицию европейского тирано-борчества, поставил принципиальный вопрос: «Целью правления является благо человечества; а что лучше для человечества — это чтобы народ всегда был предоставлен ничем не ограниченной воле тирании или чтобы можно было иногда оказывать сопротивление правителям, когда они переходят всякую меру в использовании своей власти и направляют её на уничтожение, а не на сохранение собственности своего народа?» И однозначно ответил на него: не восставший народ, а правители, нарушающие законы, «являются истинными и подлинными мятежниками»[10]. Но совсем не обязательно доходить до такой крайности – достаточно, чтобы власть исполнительная подчинялась власти законодательной, последняя же «представляет собой лишь доверенную власть»[12], полученную законодательным органом от народа-суверена. Позднее идеи Локка развил Монтескье. Он выделил в качестве наихудшего образа правления деспотический, где «всё вне всяких законов и правил движется волей и произволом одного человека»[13]. И он же предложил противоядие от деспотии: «Чтобы не было возможности злоупотреблять властью, необходим такой порядок вещей, при котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга»[14]. Законодательная, исполнительная и судебная власти должны быть отделены друг от друга: «Всё погибло бы, если бы в одном и том же лице или учреждении… были соединены эти власти»[15].
Сегодня всё это – азбука политической демократии, которая после множества революций и войн установилась в западном мире и стала образцом для всего человечества. При всех несовершенствах и даже пороках этой системы, ничего лучшего для обуздания экспансии власти пока придумано не было.
Как в «западном» контексте выглядит российская власть? Не нужно уходить в глубь веков – достаточно посмотреть свежие (написано в феврале 2021 г.) новости, чтобы почувствовать её специфику. Мы живём при политическом режиме, который всё более и более напоминает монархию с внешними, сугубо формальными атрибутами демократии, где нет и речи о реальном разделении властей или о реальной легализованной политической оппозиции.
Нередко можно услышать, что политическая система путинской РФ – прямое наследие тоталитарного СССР. В этом, разумеется, много правды, учитывая советский генезис не только президента и его ближайшего окружения, но и нескольких поколений россиян, пока ещё доминирующих во всех сферах жизни нашего Отечества. Советский период русской истории отмечен беспрецедентным уровнем государственного насилия, высшими пиками которого стали «раскулачивание» конца 1920-х – начала 1930-х гг. (около 2,5 млн отправленных в лагеря и ссылку; миллионы умерших от во многом искусственного голода) и Большой террор 1937–1938 гг. (около 700 тыс. расстрелянных). Конечно, этот уровень после 1953 г. существенно снизился, но, за исключением последних, «перестроечных» лет своего существования, СССР всегда оставался страной без политических и гражданских свобод.
Были ли эти свободы в России до прихода большевиков к власти? Были, но очень недолго – каких-то неполных 12 лет, отсчитывая от Манифеста 17 октября 1905 г. до переворота 25 октября 1917 г. И как ни углубляйся в прошлое, там не найти исконно русских институтов, ограждавших подданных петербургских императоров и московских царей / великих князей от произвола правителей (лишь только в домонгольской Руси мы обнаруживаем нечто подобное). Если такие институты и возникали, то под прямым европейским влиянием. Характерно, что Монтескье приводил Российскую империю, наряду с Османской Турцией, в качестве примера деспотического управления. Практически все иностранные путешественники того же мнения и о Московском государстве. В следующих за этим введением главах читатель найдёт достаточно материала, подтверждающего этот взгляд. Опричный террор Ивана Грозного, уступая по масштабу сталинскому, типологически с ним весьма сходен. Понятно, что и Европа старого порядка была далека от современной демократии, но нам не нужны археологические изыскания, дабы найти корни последней, – довольно вспомнить английский парламент, родившийся ещё в XIII столетии.
Начиная с середины XV в. и вплоть до наших дней русскую власть отличает «особенная стать». Талантливый современный историк А.И. Фурсов (к сожалению, в последнее время переквалифицировавшийся в сомнительного конспиролога) в своё время выделил две её основополагающие черты: 1) «надзаконность» (воля верховного правителя – «единственный источник власти и закона, внутренней и внешней политики»), 2) «автосубъектность» («эта власть… была исходно сконструирована как автосубъект, т. е. субъект-сам-для-себя… Такой субъект… не только не нуждается в другом субъекте, но и стремится не допустить его появления/существования, это… негативный субъект, стремящийся к единственности, к моносубъектности»). По мнению Фурсова, «[у] русской власти… нет аналогов ни на Западе, ни на Востоке, это исключительно русский феномен»[16].
Я не готов – в силу недостаточной компетентности – ни соглашаться, ни спорить с Фурсовым (востоковедом по специальности) насчёт отсутствия аналогов русской власти на Востоке. В первом приближении она кажется одной из форм «восточной деспотии» с её формулой «власть-собственность», описанной Л.С. Васильевым: «Высшая власть рождает верховную собственность носителя этой власти с его аппаратом администрации… Феномен власти-собственности можно считать имманентной специфической сущностью, квинтэссенцией всех неевропейских (незападных по происхождению) обществ в истории. Несмотря на то, что со временем в развивавшихся государственных образованиях Востока, вплоть до великих его империй, в результате процесса приватизации появлялась и порой играла даже важную роль частная собственность, она всегда была ограничена в своих возможностях и строго контролировалась государством. Система власти-собственности там всегда доминировала. Она имела различные формы, включая советско-социалистическую. Но суть её неизменно была одной и той же: частная собственность подчинена власти и бессильна перед произволом администрации»[17]. Но, повторяю, рассмотрение русской власти в «восточном» контексте потребовало бы слишком глубокого погружения в него. Поэтому ограничимся выявлением отечественного своеобразия на европейском фоне.
Если следовать Максу Веберу, то наше самодержавие является разновидностью патримониализма, т. е. формы традиционного господства, выросшей из патриархального подчинения домашних – главе дома, «детей» – «отцу». Патримониализм – «это господство одного над массами»[18], реализующееся посредством «личного управленческого (и военного) штаба господина»[19], причём «служебная верность патримониального чиновника – это не лояльность по отношению к делу, определяемая правилами, объёмом и содержанием решаемых задач, а верность слуги, направленная исключительно лично на господина»[20]. Патримониализм был свойственен и Западу, однако там он носил сословный характер, т. е. господин в силу тех или иных причин передавал часть своих полномочий «союзам сословие привилегированных лиц»[21], имевшим набор фиксированных прав. Права эти, конечно же, нарушались, но само их наличие никем не подвергалось сомнению. Таким образом, власть на Западе изначально формировалась как полицентричная структура (не забудем также и автономность Католической Церкви).
Российский же вариант патримониализма, сложившийся в Московский период, более всего похож на то, что Вебер определил как султанизм — господство, «по способу управления движущееся в сфере свободного, не связанного традицией произвола»; господство, при котором «до крайности развита сфера свободного произвола и личной милости»[22]. Слабость или даже отсутствие других властных субъектов, а также зависимость Православной Церкви от государства действительно делали русское самодержавие близким к «моносубъектности». О таком понятии, как «права подданных», ни московские государи, ни сами их подданные и слыхом не слыхивали. Характерно, что само слово «государство» в России образовалось от титула «государь», обозначающего хозяина, имеющего власть над несвободными людьми, в отличие от деперсонализированных европейских аналогов – stato, state, etat, Staat и т. д. (Даже последний русский монарх в анкете переписи населения 1897 г. в графе род занятий написал: «Хозяин земли русской».)
Как видим, Россия и Запад по типу власти различались уже в Средневековье. А в конце XVI в. между ними произошёл ещё более радикальный разрыв – в Европе государство стало восприниматься как структура, автономная от личности правителя (впрочем, истоки этого понимания восходят едва ли не к XI–XII, а то и к V–VI вв.[23]), т. е. начался переход от патримониального к бюрократическому государству. С конца XVIII в. вместо прав привилегированных сословий утверждаются, постепенно распространяясь на всё более и более широкие слои, «права человека и гражданина». В России профессиональная бюрократия формируется не ранее середины XIX в. (и то с оговорками). Практики политической демократии появились только в начале прошлого столетия, вскоре, впрочем, подавленные и выхолощенные коммунистической диктатурой.
Предметное рассмотрение свойств русской власти составляет основное содержание этой книги. Но всё же дадим их краткие предварительные характеристики.
Итак, надзаконность. Самодержавие вообще никак не описывалось в отечественном законодательстве вплоть до конца XVIII в., с этого времени оно лапидарно определяется формулой Павла I: «Император Всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной Его власти не токмо за страх, но и за совесть Сам Бог повелевает». Т. е. никаких границ власти самодержца не указывалось. И лишь в Основных законах 1906 г., принятых под давлением революции 1905 г., из этой формулы выпадает эпитет «неограниченный», ибо теперь император «осуществляет законодательную власть в единении с Государственным Советом и Государственною Думою» (статья 7). Таким образом, юридические ограничения русской монархии существовали менее 11 лет. Само понятие «закон» в царской России всегда оставалось проблематичным, ибо законом могло стать любое административное распоряжение верховной власти (только с 1885 г. оно должно было быть обязательно подписано «именем государя императора»). Характерно, что российские монархи, в отличие от большинства европейских, при восшествии на престол не произносили клятв своим подданным. Исключение – крестоцеловальная запись Василия Шуйского и гипотетическая крестоцеловальная запись Михаила Фёдоровича, но традицией это не стало. Надзаконность определяла отношения русских монархов даже в отношениях с собственным аппаратом. Самодержцы всё время стремились выйти за рамки уже закреплённых бюрократических процедур и реализовать свою волю посредством каких-то чрезвычайных учреждений – опричнины, Тайного приказа, Кабинета Его Императорского Величества, III отделения и т. д.
Надзаконность русского самодержавия выражалась в многочисленных актах властного произвола. Можно вспомнить удивительную для Европы свободу в распоряжении престолом, особенно ярко сказавшуюся при Иване III и в XVIII в. Или выводы — насильственные многотысячные переселения людей с места на место. Или опричнину — совершенно беспрецедентный случай государственного террора в Европе даже для XVI в. Или многовековое преследование старообрядцев. Или павловскую хаотическую тиранию. Или военные поселения, охватившие около 15 % русской армии и просуществовавшие более четырёх десятилетий, будучи юридически абсолютно незаконными. Или гонения на русский образованный класс за «мыслепреступления» с конца XVIII до начала XX в., от Новикова и Радищева до Льва Толстого. Или режим усиленной охраны, существовавший в ряде губерний (в т. ч. в Петербургской и Московской) с 1881 по 1917 г., приближавшийся к чрезвычайному положению, когда во внесудебном порядке любого подозрительного человека могли подвергнуть высылке.
В общем, подданные российских монархов всегда могли ждать от них неприятных сюрпризов. Крупный чиновник Министерства иностранных дел В.Н. Ламздорф (позднее – глава российского МИДа) в дневнике от 14 мая 1894 г. сочувственно процитировал слова своего знакомого: «…не может быть и речи о каких-то гарантиях существования в стране, где вас неожиданно отбрасывают на полвека назад, даже не крикнув “берегись”!»
Наряду с этими всё-таки экстраординарными практиками существовали и хронические – из века в век – чудовищный произвол и коррупция агентов самодержавия на местах, мало чем отличающиеся от стиля глуповских градоначальников, – уровень гротеска фантазии Салтыкова-Щедрина несильно превышает уровень гротеска в подлинных исторических документах.
Понятно, что верховная власть вовсе не требовала от администрации именно такого поведения. Но сама система во многом эти злоупотребления провоцировала. Во-первых, бесконтрольностью провинциальной администрации, которая была на местном уровне своего рода микросамодержавием. Во-вторых, негласной уверенностью, что для благосклонности высшего начальства «лучше перебдеть, чем недобдеть», а сигналы об усилении строгости оно посылало неоднократно. В-третьих, нередко монархи закрывали глаза на злоупотребления чиновников, если видели в них преданных, благонадёжных слуг (патримониализм, как и было сказано!).
Что же касается «автосубъектности» русской власти, то упорная борьба последней с любыми формами общественной субъектности проходит через всю историю второй половины XV – начала XX в. Уничтожение всяких следов самобытности всех русских земель, постепенно входящих в Московское государство. Полное подчинение городского самоуправления власти воевод и губернаторов. Запрещение любых видов общественной самоорганизации, даже благотворительных обществ. Жёсткое ограничение деятельности земства. В итоге в момент колоссального государственного кризиса после падения самодержавия русское общество не имело в руках никаких рычагов управления.
Ещё одна важная особенность русского самодержавия – высокий уровень его сакрализации, приближающийся к обожествлению. Сакрализация власти была присуща и Европе, но уже с XIII в. императоры и короли «заимствовали свой отблеск вечности не столько у Церкви, сколько у Правосудия и Публичного права в толковании учёных-юристов… Древняя идея литургической сущности власти постепенно исчезала, уступая место новой модели королевской власти, центрированной на сфере права»[24]. В отличие от других европейских монархий, к XVIII в. всё более и более секуляризировавшихся, русская, напротив, в это время усилила свою самосакрализацию, ибо начиная с Петра I, упразднившего патриаршество, российские венценосцы фактически соединили в своих руках и светскую, и духовную власть. «Сакрализация захватывает самые разнообразные сферы – государственное управление, национальное историческое самосознание, богослужение, церковное учительство (проповедь, преподавание Закона Божиего и т. п.) и, наконец, самоё духовность. Более того, царское самодержавие начинает приобретать статус вероисповедного догмата. Почитание царя становится рядом с почитанием святых, и таким образом культ царя делается как бы необходимым условием религиозности. Красноречивое свидетельство этого находим в монархической брошюре “Власть самодержавная…” [1906], где подчёркивается именно догматический статус царского культа: “Истина самодержавия царей православных, то есть поставление и утверждение их на престолах царств от Самого Бога, так священна, что по духу учения и законоположений церковных она возводится некоторым образом на степень догмата веры, нарушение и отрицание которого сопровождается отлучением от церкви” <…>. В чине анафематствования, совершаемом в Неделю Православия, среди перечисления главных догматических ересей в императорский период было вставлено (под № 11): “Помышляющим, яко православные государи возводятся на престол не по особливому о них Божиему благоволению и при помазании дарования Св. Духа к прохождению сего великаго звания в них не изливаются: и тако дерзающим против них на бунт и измену – анафема”»[25]. Напомним, первая статья Свода законов Российской империи вплоть до самого крушения оной гласила, что повиноваться самодержцу «не токмо за страх, но и за совесть Сам Бог повелевает».
В начале прошлого века королева Румынии Елизавета с удивлением говорила обер-гофмейстерине последней русской императрицы Е.А. Нарышкиной: «У нас дела не так обстоят, как у вас. В вашей стране властители являются полубогами и могут делать всё, что им угодно. Мы же должны действовать, чтобы заслужить признание нашего народа». Как показывает последнее двадцатилетие, патримониальное сознание у нас вполне не изжито до сих пор. «Если человек – президент, ему всё можно. В России живём!» – сказал в 2021 г. пожелавший остаться анонимным один из инженеров таинственного дворца в Геленджике[26].
Важно отметить, что мощный размах государственного насилия, свойственный всем инкарнациям русской власти, не компенсировался её эффективностью в других областях (за исключением – но далеко не всегда! – военной). Россия во всех своих обличиях была одной из самых недоуправляемых европейских стран с плохо организованной инфраструктурой, с запутанностью и нерешённостью множества жизненно важных проблем, с высочайшим уровнем коррупции и преступности. Но выше уже приводились слова Вебера о том, что для патримониального чиновника важнее преданность не делу, а господину, – последнего, видимо, такой подход тоже устраивает. В терминологии Майкла Манна государство в России обладало высокой степенью «деспотической» власти, т. е. властная элита могла править, «не вступая в какие-либо переговоры с группами гражданского общества»: «Деспотическая власть может быть наглядно измерена способностью правителей “рубить головы с плеч” и без хлопот удовлетворять свои прихоти с помощью подручных»[27]. Но зато степень «инфраструктурной» власти (т. е. «способности государства проникать в гражданское общество и централизованно координировать его деятельность посредством своей инфраструктуры»[28]) у самодержавия была довольно низкой (в СССР «инфраструктурная» власть стала значительно сильнее).
Но как случилось, что у европейского, христианского народа утвердилась неевропейская и, в сущности, антихристианская, тираническая власть?
Истоки. География? Войны? Климат?
Споры о генеалогии русского самовластия идут уже не первое столетие. Само обилие противоречащих друг другу версий показывает, насколько этот вопрос неясен, главным образом из-за ничтожно малого количества источников по русскому Средневековью.
С лёгкой руки В.О. Ключевского, например, утвердилось мнение, что порядки, установившиеся во второй половине XV в. в Великом княжестве Московском, – лишь завершение социально-политических процессов, протекавших ещё до монгольского нашествия в XII–XIII вв. в Северо-Восточной Руси, прежде всего во Владимиро-Суздальской земле. Дескать, в отличие от южнорусских князей, вынужденных договариваться с общинами больших торговых городов, суздальские Рюриковичи были колонизаторами и землеустроителями малозаселённого, преимущественно сельского края. Поэтому новые северо-восточные города оказались от них в совершенной зависимости и не имели возможности ограничить власть правителя-хозяина. «В лице московского князя получает полное выражение новый владетельный тип, созданный усилиями многочисленных удельных князей Северной Руси: это князь-вотчинник, наследственный оседлый землевладелец»[29].
Между тем ещё в 1924 г. была опубликована статья А.Н. Насонова, самым убедительным образом опровергающая эту концепцию: нет никаких данных о специфически земледельческой колонизации Северо-Востока; Ростов и Владимир жили широкой торговой жизнью, и именно «торговый элемент» составлял большинство их населения; в северо-восточных городах активно действовало городское народное собрание – вече, так же, как и в южных (и в Новгороде), которое призывало князей править и заключало с ними договоры (ряды). «Та литературная традиция… согласно которой в Ростово-Суздальском крае XII в. благодаря устроительской деятельности князей создаётся “особый мир”, где князь попадает в положение хозяина и собственника, не оправдывается показаниями источников. На севере в XII и в начале XIII в. начинают проявляться бытовые черты старой вечевой Киевской Руси, в основе своей общие укладу жизни всех волостей того времени, получавшие в различных волостях лишь различную степень и форму выражения в зависимости от местных индивидуальных условий волостной жизни», – резюмировал свои выводы учёный[30].
О том, что политическая система Северо-Востока мало чем отличалась от той, что была на Юго-Западе, писали позднее и другие крупные историки[31]. Новейшие исследования (например, работы П.В. Лукина[32]) подтверждают эту точку зрения. А главное, об этом недвусмысленно свидетельствуют источники. Вот владимирцы принимают к себе в 1175 г. князем Ярополка Мстиславича: «А Ярополка князя посадили володимерци с радостью в городе Володимери на столе, в святей Богородице, весь поряд положивши». Совершенно очевидно, что речь идёт о заключении договора между князем и горожанами. Позднее, разочаровавшись в Ярополке, владимирцы призвали на княжение Михаила (Михалку) Юрьевича и его брата Всеволода. Победив соперника, Михалко заключил договоры и с другими городами: «…ехал в Суждаль и из Суждаля в Ростов, и створи людям весь наряд, утвердився крестным целованьем с ними». Подобная практика касается не только крупнейших городов Суздальской земли. Вот как начал княжить в Переяславле-Залесском Ярослав Всеволодович (отец Александра Невского) в 1213 г.: «…еха в Переяславль… и созвав вси переяславци к святому Спасу, и рече им: “Братия переяславцы, се отец мои иде к богови, а вас удал мне, а меня вдал вам на руце. Да рците ми братия, аще хощете мя имети собе, яко же вместо отца моего, и головы своя за мя сложити?” Они же вси тогда рекоша: “Велми, господине, тако буди. Ты наш господин, ты Всеволод”. И целоваша к нему вси крест». Перед нами опять-таки несомненный – хотя и устный – договор между князем и вечем, ничего общего не имеющий со стилистикой московской власти.
Даже могущественный и грозный для врагов Всеволод Большое Гнездо вынужден был в некоторых случаях уступать воле владимирцев – например, когда те в 1177 г. потребовали расправы над пленными рязанцами. Передавая в 1211 г. владимирский стол сыну Юрию вместо закапризничавшего первенца Константина, Всеволод счёл необходимым созвать некое представительное собрание от разных социальных групп населения: «…созва всех бояр своих с городов и с волостей, епископа Иоана, и игумены, и попы, и купце, и дворяны и вси люди, и да сыну своему Юрью Володимерь по собе и води всех к кресту, и целоваша вси людие на Юрьи». Московским великим князьям и российским императорам для изменения порядка престолонаследия подобных «соборов» уже не понадобится.
После поражения в битве на реке Липице (1216) князь Юрий Всеволодович бежал во Владимир, и там произошёл следующий эпизод: «И заутра, съзвавь людий, Юрьи рече: “Братья володимерци, затворимся в городе, негли отбьемся их”. Молвять людие: “Княже Юрьи, с кимь ся затворим? Братья нашя избита, а инии изымани, а прок нашь прибегло без оружиа. То с чимь станем?”. Юрьи же рече: “То яз все ведаю, а не выдайтя мя ни брату Констянтину, ни Володимеру, ни Мстиславу [т. е. противникам Юрия], да бых вышол по свое воли из града”. Они же тако обещашася ему». Т. е. «владимирцы, понёсшие большие потери на липицком поле, не находят возможным продолжение борьбы. Князь уступает им и просит только, чтобы они не выдали его противникам, а дали ему самому выйти из города. На это владимирцы согласились»[33]. Как совершенно справедливо отмечает П.В. Лукин, «в совещании участвуют именно горожане, выступающие по отношению к князю практически как равноправные партнёры; Юрий Всеволодович даже называет их “братьями”. Необходимо, конечно, учитывать экстраординарный характер ситуации, но всё равно представленная… сцена весьма выразительна. В конце её князь оказывается вынужденным подчиниться воле владимирских “людей” – горожан»[34].
А как же «самовластец» Андрей Боголюбский, якобы предтеча московского самодержавия? Во-первых, как показал В.И. Сергеевич, слово «самовластец» в летописи обозначает просто князя, правящего без соправителей, – оно употребляется по отношению к Андрею Юрьевичу только раз, когда он изгоняет своих младших братьев из Суздаля[35]. Во-вторых, сам приход к власти Андрея и изгнание братьев были «демократической» инициативой ростовцев, суздальцев и переяславцев, которые, «преступивше хрестное целованье, посадиша Андрея, а меньшая [т. е. его младших братьев, которым они раньше целовали крест] выгнаша». В-третьих, в летописи зафиксированы факты неповиновения войска князю в походе 1172 г. на волжских булгар, что как-то мало вяжется с его неограниченной властью, но зато имеет аналогии в истории южных земель. При этом несомненно, что Андрей Юрьевич к неограниченной власти стремился, но в этом не было какой-то особой владимиро-суздальской специфики: достаточно вспомнить галицко-волынских князей Романа Мстиславича и Даниила Романовича. А главное, стремление это привело его к печальному финалу: Андрей Юрьевич – кажется, единственный русский князь, убитый собственными слугами.
После смерти Всеволода Большое Гнездо Суздальская земля вступила в период усобиц между его сыновьями и явно тяготела к политической раздробленности. Так что накануне монгольского нашествия как будто ничто не предвещало, что именно в этой части Руси родится московское самодержавие.
Другое распространённое объяснение специфики русской власти, также идущее от Ключевского, – экстремальный уровень внешней опасности, превративший Россию в обширный воинский лагерь. «Военное по происхождению», такое государство, естественно, «и устроилось по-военному»[36] – а на войне о правах и свободах думают меньше всего. В самом деле, войны, как правило, способствуют централизации государств и усилению власти правителей, но совершенно не обязательно в форме ничем не ограниченной автократии.
Во Франции Столетняя война привела к созданию постоянной королевской армии, но это не отменило ни сословно-представительное собрание (Генеральные штаты), ни провинциальные штаты (органы местного самоуправления), ни парламенты, следящие за соблюдением законности. Королевства Пиренейского полуострова вели Реконкисту против арабов с XVII по XV в., но именно в её ходе появились сословно-представительные органы – кортесы, были законодательно закреплены городские свободы – фуэрос; резкий же рост королевской власти начался как раз после окончания этой многовековой борьбы. Монгольское нашествие в 1241–1242 гг. буквально испепелило Венгрию, возрождающееся королевство лихорадочно готовилось к отражению нового удара. Однако Золотая булла, обещавшая сословиям широкие права, была не аннулирована, а, напротив, подтверждена. В XIV–XVII столетиях важнейшим политическим фактором жизни Венгрии стали непрекращающиеся войны с османами (которые оккупировали часть королевства и даже его столицу – Буду), но политические вольности мадьярского дворянства никуда не исчезли. Ситуация вроде бы схожая с московской – а последствия совершенно другие. Чуть ли не всю свою историю воевали с разными врагами православные Сербия и Грузия, но тамошние монархии никогда не могли надолго стать всевластными.
А разве меньше, чем Московское государство, вела войн Византия? Больше, гораздо больше! Однако политические порядки Второго Рима, вопреки устоявшемуся ошибочному представлению, мало чем напоминали государственное устройство Рима Третьего (об этом мы подробнее поговорим ниже). А если вспомнить Первый Рим, то там императорское правление установилось не в Ганнибалову войну, когда враг стоял у ворот (тогда римляне лишь временно использовали диктатуру), а в эпоху относительно благополучную с внешнеполитической точки зрения. Жестокая борьба с Персией не заставила афинян «устроиться по-военному». Голландская республика родилась в огне тяжелейших войн с Испанией.
Нередко военные вызовы имели эффект, обратный ожидаемому, т. е. они не укрепляли, а ослабляли центральную власть. Западная Европа в XVII–X вв. под ударами арабов, венгров и скандинавов «представляла собой… осаждаемую, а точнее, уже наполовину завоёванную крепость»[37], но эволюционировала не к укреплению единовластия, а к феодальной раздробленности. В Англии решение Генриха XVII начать в 1543 г. войну с Францией привело к массовой продаже конфискованных королём монастырских земель для финансирования этой операции: «…вместе с этим был потерян единственный великий шанс английского абсолютизма создать твёрдую экономическую базу, независимую от парламентского налогообложения. Такая передача собственности не только ослабила государство в долгосрочной перспективе, но и чрезвычайно усилила джентри [мелкопоместное дворянство], которое представляло основных покупателей этих земель, и их число, а также богатство отныне постоянно росли»[38]. В Польше Нешавские статуты 1454 г., серьёзно ограничивавшие королевскую власть, были приняты по требованию шляхты во время похода поляков против Тевтонского ордена. Окончательное закрепление основ шляхетской республики Генриховыми артикулами 1573 г. произошло в разгар Ливонской войны против России, и даже такой несомненно сильный правитель, как Стефан Баторий, не смог переломить ситуацию. Так что сам по себе военный фактор ещё ничего не объясняет.
Едва ли не самая популярная разгадка происхождения особенностей российской государственности – климатически-географическая, с претензией на академичность изложенная в монографии Л.В. Милова «Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса». Поскольку суровые природные и погодные условия Русской равнины сформировали сельское хозяйство с крайне ограниченным объёмом совокупного прибавочного продукта, роль государства в России была исключительно велика, «ведь чем меньше объём прибавочного продукта… тем сильнее проявляется роль насилия в процессе изъятия и концентрации этого продукта»[39]. Таким образом, уже в Древней Руси возникла система «государственного феодализма», где господствующий класс получал доходы от эксплуатации крестьянства не через развитие частного землевладения, а через распределение государственных налогов. Эта система в дальнейшем стала социально-экономической основой как Московского государства, так и Российской империи.
Концепция Милова, хоть и увенчанная Государственной премией РФ 2000 г., вызывает массу вопросов. Но в рамках данной темы достаточно и одного: почему в домонгольской Руси «государственный феодализм» не породил политический строй, аналогичный или хотя бы близкий московскому самодержавию? Напротив, в первой трети XIII в. мы видим торжество политической раздробленности и активную роль веча. При этом, несмотря на разницу в климате с восточно-русскими землями, «государственный феодализм» до XIII в. господствовал и во многих странах Восточной и Центральной Европы; чешские историки даже в этой связи говорят о «среднеевропейской модели государства периода раннего Средневековья»[40], отличающейся от Каролингской Европы слабым развитием частного землевладения и высоким уровнем централизации власти.
Но позднее пути Венгрии, Чехии, Польши – с одной стороны и России – с другой радикально расходятся. Что же, на Русском Северо-Востоке настолько резко похолодало? Таких данных в нашем распоряжении нет. Зато мы точно знаем, что в XIII столетии с Русью произошла вовсе не климатическая, а политическая катастрофа.
Истоки. Орда? Византия? Турция?
Разумеется, речь идёт об установлении монгольского ига. Именно в нём видели главный исток московского самодержавия такие корифеи русской историографии и правоведения, как Н.М. Карамзин, Н.И. Костомаров, Б.Н. Чичерин, А.Д. Градовский, В.И. Сергеевич и др. В сжатом виде эту точку зрения хорошо представил В.Н. Латкин: «Россия была объединена под властью ордынского царя, воля которого была безусловна для покорённых. Князья играли роль его наместников и сборщиков податей. Назначение их уж более не зависело от народа, а исключительно от хана. В прежнее время, когда согласие народа было необходимым условием вступления на княжеский престол, князья не могли рассматривать свои княжения как предмет собственности; иначе стало теперь, когда княжения жаловались ханам и народ превратился в пассивную массу. В руки князей досталось сильное орудие для порабощения народа и для усиления своей власти на счёт власти последнего. Это – сбор податей, установленных татарами. Князья не замедлили воспользоваться подобным выгодным положением и с помощью татар нанести смертельный удар вечевому строю. Таким образом, вече в качестве политического органа должно было пасть, хотя официальной его отмены, конечно, не было, но ввиду отсутствия поводов к собранию вече собиралось всё реже и реже, пока, наконец, совершенно не вышло из употребления»[41].
Итак, дело вовсе не в том, что московская политическая система копировала ордынскую. Напротив, системы эти заметно разнились: ханов, в отличие от великих князей, избирали на съезде знати – курултае; «при возведении на [ханский] престол с претендента брали обещание править справедливо под угрозой свержения»[42]; несправедливые поступки хана могли быть поводом для прекращения службы его вассалов; в Орде так и не утвердился обычай передачи власти от отца к сыну и продолжал господствовать родовой принцип наследования. Поэтому говорить можно только о деформации, которой подверглись русские политические порядки под воздействием монгольского гнёта.
Рюриковичи стали ханскими вассалами и вошли в состав ордынской политической элиты на достаточно скромных правах улусных владетелей «среднего звена» (темников и тысячников). Верховным собственником русских земель стал хан, жаловавший их князьям за службу; последние «не имели права самостоятельно собирать налоги, принимать решения как административные… так и военные»; «высшая судебная власть также принадлежала кагану (хану)»; хотя князья «и являлись участниками курултая», они «не имели права голоса при решении важнейших политических вопросов в Орде»[43]. Как и любые другие представители ордынской служилой знати, русские князья за нарушение условий службы могли быть казнены по ханскому указу – всего за период ордынского ига такая смерть постигла четырнадцать Рюриковичей[44]. В русской письменности этой эпохи «ханы неизменно титулуются… “царями”»[45]. Характерна запись в одной из летописей: «Тогда бо бяху вси князи в воли в тотарьской». Говоря языком более поздних времён, княжеская власть на Руси приобрела функции колониальной администрации.
Ясно, что в таких условиях вече не могло не потерять своего прежнего значения. С конца XIII в. летописи больше не упоминают о заключении ряда между князем и вечем, хотя последнее в экстренных случаях ещё собирается (например, в 1382 г., во время «Тохтамышева нахождения», в отсутствие князя Дмитрия Ивановича организатором обороны Москвы выступает именно оно). Несомненно, меняются и отношения князей с боярами – невозможно себе представить, чтобы первые предоставляли вторым права большие, чем те, которые сами они получили от ханов. По элементарным законам социальной психологии нижестоящие переносят на следующих нижестоящих в общих чертах ту структуру власти-подчинения, которая у них сложилась с вышестоящими. Ещё знаменитый обличитель Ивана Грозного Андрей Курбский писал, что русские князья, «будучи в холопех» у «бусурманских псов», «навыкли той презлости»[46].
Осуществить этот перенос, видимо, было не слишком трудно, ибо состав русской социально-политической элиты в монгольский период радикально сменился. Во время ордынского погрома Северо-Востока погибла большая часть дружинников, по косвенным данным – не менее двух третей. Как отметил В.Б. Кобрин, «среди основных родов московского боярства, за исключением Рюриковичей, Гедиминовичей и выходцев из Новгорода, нет ни одной фамилии, предки которых были бы известны до Батыева нашествия»[47]. Место наследственных аристократов заняли выходцы из менее привилегированных слоёв, а иногда и вовсе бывшие княжеские рабы-холопы, для коих нарождающийся порядок казался естественным. Разумеется, вышеизложенное – отчасти умозрительная реконструкция, скудость источников не даёт нам возможности обстоятельно продокументировать её. Но, во всяком случае, «ордынская» версия выглядит более убедительно и непротиворечиво, чем куда более умозрительные «военная» или «климатическая».
Некоторые разрозненные факты, однако, рисуют властные практики московских князей второй половины XIV – первой половины XV в. весьма близкими к их зрелым формам, о которых мы будем говорить в следующих главах. Вот как описывает Житие преп. Сергия Радонежского методы сборов налогов в Ростовской земле при Иване Калите: «В то время по повелению Великого князя из Москвы в Ростов был послан воеводой один из вельмож, по имени Василий, по прозвищу Кочева, и с ним Мина. Когда они приехали в Ростов, там начались жестокие насилия над жителями и умножились гонения. Многие из ростовцев поневоле отдавали своё имущество москвичам, а сами получали взамен побои и оскорбления и уходили с пустыми руками, являя собой образ крайнего бедствия, так как не только лишались имущества, но и получали раны и увечья, печально ходили со следами побоев и всё сносили безропотно. Да и к чему много говорить? Москвичи настолько осмелели в Ростове, что подняли руку даже на самого градоначальника, старейшего ростовского боярина по имени Аверкий, которого повесили вниз головой и так оставили, надругавшись. Сильный страх охватил всех, кто видел и слышал это, – не только в Ростове, но и во всех его окрестностях» (пер. М.Ф. Антоновой и Д.М. Буланина).
Известно, что Симеон Гордый, подвергнув опале боярина Алексея Хвоста, конфисковал у него село Хвостово и так и не вернул после примирения. В 1368 г. Дмитрий Донской и митрополит Алексей пригласили тверского князя Михаила Александровича в Москву на митрополичий суд о спорных волостях Тверской земли. Неожиданно Михаила вместе с его боярами схватили и какое-то время «дръжаша… в истоме» под стражей, и только приезд ордынского сановника их освободил. В 1392 г. Василий I, купив ярлык в Орде на Нижегородско-Суздальское княжество, захватил его без боя «и посади в нем свои наместники», а князя Бориса Константиновича «и с женою его и з детми его, и елико ещё быша доброхотов его, всех повеле по градам розвести и в вериги железные связати, и в великой крепости держати их». Через два года Борис Константинович умер в заточении. В 1420 г. тот же Василий I отнял вотчину и арестовал бояр своего младшего брата Константина за отказ признать старшинство в наследовании великого княжения за племянником Василием Васильевичем (правда, потом братья помирились).
В конце 1448 – начале 1449 г. Василий Тёмный подписал «докончание» (соглашение) с суздальским князем Иваном Васильевичем, в котором последний называет первого «оспадарем» (государем), а свою вотчину – пожалованием великого князя («чем мя еси пожаловал»). Пожалование это может быть отнято: «…а отступлю от тобе Великого Князя и от твоих детей к которому вашему недругу, кто ни буди, ино мой удел, моя вотчина тобе Великому Князю и твоим детем…» Суздальский князь обещает верно служить московскому: «А где Господине Князь Великий мене Князя Ивана пошлешь, или твой сын Князь Великий Иван Васильевич, на свою службу, и мне пойти без ослушанья со всеми своими людьми; а где Господине всядешь на конь ты Князь Великий, или сын твой Князь Великий Иван Васильевич, и мне пойти без ослушанья со всеми своими людьми на твою службу». Это пока ещё договор, крестоцелованье здесь двустороннее, за суздальским князем остаются важные права, в частности, суд и сбор налогов в своей вотчине. Как замечает В.Б. Кобрин, «любой из Шуйских – потомков суздальского князя Ивана – даже в пору их политического могущества, всего век спустя, не мог бы без зависти читать этот документ»[48]. Уже со второй половины XV века неизвестно ни одной жалованной грамоты суздальских князей.
Полное торжество московского самодержавия в конце XV – начале XVI в. совпадает с окончательным падением ордынского гнёта. Иго исчезло, но властная «колониальная» структура, им сформированная, осталась – и даже усилилась. Свергший господство монгольского «царя» великий князь занял его место. Московские летописцы не стеснялись ордынского преемства своих государей: «…от царей той Золотой Орды начало нашея Русския земли: великое княжение принимали… все княжения великих князей, которые ныне во области Московского государства. И те все великие князи… ездили в тое Золотую Орду для всякие справы и начальства, и те ордынские цари давали им свои ярлыки за своими печатями и руками своими подписывали». Иван III уже использует царский титул в некоторых дипломатических документах. Косвенно авторитетность ордынского наследия для Москвы подтверждает обилие татарских имён, «бывших в обиходе боярского и дворянского сословий»: «…изучая мирские имена XVI в. (хотя бы на первую букву азбуки), мы в исконно русских семьях находим Айдаров, Адашев, Азанчеев, Амиров, Амуратов, Асманов, Атаев, Аталыков, Ахматов, Ахмылов…»[49]
Наряду с монгольским определяющим зарубежным влиянием на процесс московского политогенеза традиционно считается византийское. Но сегодня приверженцев этой версии среди серьёзных историков практически нет – она стала уделом ангажированных публицистов «охранительного» толка, продолжающих заученно твердить о преемственности Второго и Третьего Рима. На самом деле общее между ними только православие, в политической же сфере различия явно превалируют. Не имея возможности подробно разбирать эту тему, воспроизведу некоторые тезисы достаточно свежей монографии американского историка Энтони Калделлиса с провокационным названием «Византийская республика: народ и власть в Новом Риме», не так давно переведённой на русский язык.
Византия никакая не восточная деспотия, а «прямой потомок» Римской республики «по непрерывной линии политической и идеологической преемственности. Византийская politeia [ключевое понятие византийского политического дискурса, обычно на русский неточно переводится как “государство”; курсив здесь и далее Калделлиса. – С.С.] была лишь переводом латинской res publico[50]. В сознании как римлян, так и византийцев (которые, вообще-то, тоже именовали себя римлянами – ромеями) не существовало противоречия между монархией и республикой, режим императорской власти был лишь политической формой, которую приняла politeia с определённого этапа истории. Поэтому Византию можно называть «республиканской монархией, монархической республикой или просто “Римской республикой в монархической фазе”» [51].
Императорская власть имела не только теократическое обоснование (которое использовалось по большей части «дворцовой пропагандой»), но и вполне светское, республиканское. Басилевсы считались не собственниками politeia. а её хранителями. Скажем, известный историк и философ Михаил Пселл понимал царскую власть как «форму служения ради блага подданных», множество других текстов «отражают ту же посылку, что императоры были, по существу, служащими, обладавшими властью, делегированной им республикой»[52]. Характерно, что в Византии не сложилась система наследования престола по наследству: «то, чем не обладают частным образом, не может быть завещано»[53]. Восточная Римская империя управлялась на основе законов, в ней существовала развитая система государственного и частного
права. Император имел право действовать за пределами закона, но только при условии, что это было необходимо для пользы римского народа. «Другими словами, приоритетным критерием был не писаный закон, а благо республики»[54]. Нарушение законов по личному произволу монарха воспринималось как тирания (общее место византийского политического дискурса: «Законный царь делает закон своей волей, в то время как тиран делает свою волю законом»).
Суверенитет в Византии принадлежал римскому народу. Восстания против императоров-«тиранов» воспринимались как осуществление вполне легитимного права свергать недостойного правителя. «В тот момент, когда весь народ единодушно обращался против императора, этот последний больше не был легитимным»[55]. При этом «Ника [при Юстиниане I] была единственным народным восстанием в Византии, потерпевшим поражение»[56]. Из 107 монархов Второго Рима 65 были свергнуты в результате государственных переворотов, в большинстве из которых народные массы приняли активное участие.
В Византии не было официальных механизмов ограничения императорской власти, но, с другой стороны, «не существовало также и формальных соглашений, которые могли бы защитить императора от гнева… народа или иных элементов республики, когда те прибегали к неправовым мерам. Революция была постоянным, но нерегулярным механизмом, с помощью которого республика действовала против отдельных императоров… Династический принцип никогда не мог упрочиться надолго, потому что всегда мог быть уничтожен следующим утверждением республиканского выбора»[57].
Всё это безмерно далеко от московской политической идеологии и практики. Что же касается византийского влияния на Русь, то, как показал В.М. Живов, оно ограничивалось переносом монашеской аскетической традиции; античное же наследие, игравшее важнейшую роль в культуре ромеев, русскими освоено не было[58]. Не подлежит сомнению, что самодержцы XVI–XVII вв. (особенно Алексей Михайлович) стремились реставрировать на русской почве некоторые элементы византийской цивилизации, но это привело их «к принципиально новым формам (неизвестным ранее ни Руси, ни Византии): как это часто бывает, субъективная установка на реставрацию фактически приводит к новаторству»[59].
В последнее время благодаря стараниям С.А. Нефёдова много говорят о турецком влиянии на становление Московского государства (о сходстве двух держав нередко писали и их современники). Дескать, именно у Стамбула Москва заимствовала и поместную систему, и неограниченный характер верховной власти, и выводы, которые являются аналогией сюргунов – переселений народов в империи османов[60].
Не отрицая в принципе самой возможности указанных заимствований, всё же замечу, что разница институтов обоих государств бросается в глаза. Хаотическая турецкая система наследования престола с её формальным равенством прав на власть всех законных сыновей монарха далека от русской, где сложился, пусть иногда и нарушаемый, обычай передачи трона старшему сыну. Султаны были жёстко связаны нормами всеобъемлющего исламского законодательства – шариата, которые разрабатывались, комментировались и блюлись особой группой «профессиональных людей религии с чётким обозначением функций и должностей»[61]. «Фетва – заключение экспертов о соответствии того или иного акта принципам ислама – должна была санкционировать любое действие власти, вплоть до решений самого падишаха… султан не имел права изменять или отменять какую-либо часть шариата, являвшегося… “конституцией” Османской империи. Султан выступал лишь как хранитель, толкователь и исполнитель священного закона. Все указы (фирманы), регламенты (канун-наме)… устные повеления падишаха и другие распорядительные акты правительства должны были вытекать из принципов шариата и полностью ему соответствовать»[62]. В XVI–XVII вв. из 15 султанов 6 были низложены по обвинению в нарушении шариата, двоих из них даже казнили[63]. Подобное просто невообразимо в России.
С другой стороны, несмотря на приниженное положение знати в Московском государстве, наследственная аристократия там всё же существовала и играла главную роль в управлении страной. У турок же наследственная знать практически отсутствовала: «Османская правящая элита не передавала и не могла передавать по наследству свои титулы, богатства и положение… Пути наверх были открыты для всех независимо от их социального происхождения… Любой правоверный – даже раб, евнух или ренегат-иностранец – мог стать пашой и великим везиром»[64]. В период с 1453 по 1566 г. из 24 великих везиров 20 происходили из низов общества – христианских реайя (податное сословие крестьян и горожан)[65]. Такого уровня социальной мобильности Россия не достигла даже накануне 1917 г.
При всём очевидном сходстве поместья и тимара (и в том и в другом случае земля давалась при условии военной службы) права помещика и тимариота существенно отличались: первый, в отличие от второго, мог заводить собственное хозяйство, производить обмены земли с соседями, обладал судебной властью над крестьянами, исключая лишь суд по важным уголовным преступлениям, и т. д. Причём с течением времени права помещиков всё более расширялись. В итоге: «Если русский помещик в конце XVI в. вступил на путь, который привёл к его превращению в хозяина земли и сидящих на ней подданных, то османский тимариот тогда же ступил на путь, который вёл к его удалению с исторической арены»[66].
Что же касается сюргунов и выводов, то их сопоставление нуждается в дополнительном исследовании. Судя по всему, в ходе первых выселялись не отдельные элитные группы, а целиком население тех или иных мест.
Истоки. Правовая культура? Религия?
Можно ли, однако, сказать, что власть московских государей сформировалась исключительно благодаря ордынскому воздействию? Нет, разумеется, были в Древней Руси и внутренние факторы, способствовавшие этой судьбоносной деформации. Видимо, к ним можно причислить т. н. «служебную организацию», т. е. совокупность групп людей, наследственно и специализированно занятых на государственной службе и освобождённых от каких-либо других обязанностей (ремесленники, поставщики каких-либо продуктов, обслуживающий персонал двора и т. д.). «Служилые» были полностью зависимы от княжеской власти, «которая могла отобрать у них землю, перевести их в другое место и передать вместе с землёй светскому или церковному феодалу», при этом «слой служилых пополнялся не только из среды холопов, но и из числа лично свободных людей»[67].
Характерно, что «служебная организация» отсутствовала не только в каролингской Европе, но и в Скандинавии. Зато она была присуща всему региону т. н. «государственного феодализма» (Польше, Чехии, Венгрии), однако к началу XIV в. её следы там исчезают. До середины XVI столетия её реликты сохраняются в русских землях Великого княжества Литовского, но после унии последнего с Польшей ликвидируются и там. В Московском же государстве эта система находит благодатную почву. По мнению Б.Н. Флори, древнерусская «практика принудительного пополнения персонала княжеского хозяйства за счёт членов городской общины» послужила Москве «исходной моделью, образцом для выработки других мер, связанных с принудительным перемещением городского населения, но преследовавших своей целью уже не укрепление княжеского хозяйства, а решение более общих экономических или политических задач, стоявших перед государством»[68].
Но это всё же частность. Гораздо более важный внутренний фактор – слабость юридической культуры домонгольской Руси сравнительно с ареалом распространения римского права, от Византии до Западной Европы. Даже ранние варварские королевства в этом смысле смотрятся гораздо более развитыми. Например, в вестготской Испании уже в VI в. «право и правовая мысль различали короля, королевство и подданных как составляющие части государства. Король… должен был осуществлять политическую власть ради общего блага… Он же представлял государство; владения короны как института не совпадали ни с королевством, ни с владениями короля как частного лица… Королевство обладало собственной казной, не тождественной королевской, и его интересы ставились выше интересов короля… Изначально источником политической власти считалось собрание всех свободных вестготов, которые делегировали её вождю или королю. Позже его место занял съезд знати»[69].
В «Русской Правде», главном своде законов Древней Руси, созданном пятью-шестью столетиями позже, мы не найдём не только подобной постановки вопроса, но даже самих понятий, которыми оперируют вестготские юристы, – это главным образом далеко не всеобъемлющий уголовный кодекс с небольшими вкраплениями наследственных, торговых и процессуальных норм.
И уж совсем капитальным становится разрыв между правовой культурой Руси и Западной Европы после т. н. «Папской революции» XI–XII вв., одной из важнейших составляющих которой стало формирование правовых систем как церковного, так и светского права. «Впервые на Западе право рассматривалось отдельно от теологии и экономики и политики; впервые появилось нечто определённое, заслуживающее название “право”… Первое систематическое законодательство появилось в [Католической] Церкви. Потом и короли тоже стали регулярно издавать законы. Когда начали создаваться книги по праву, право стали изучать в университетах и появилась профессия юриста. Именно юристы должны были охранять и развивать право, то есть правовые институты и науку права, на протяжении веков и поколений. Возобладало представление о праве как едином целом»[70]. Права и привилегии знати и городов стали оформляться юридически; возникает понятие о естественном праве, о том, что правитель должен править в согласии с законами, а тот, кто им не следует, – тиран и т. д.
Право на Западе стало одним из важнейших общественных институтов, во многом определяющим политическое, социальное, экономическое развитие. Без него были бы немыслимы те самые «союзы сословно привилегированных лиц», с которыми верховная власть вынуждена была выстраивать договорные, а не приказные отношения. Русь, не принадлежавшая латинскому миру, осталась от этого процесса в стороне, отношения власти, элиты и горожан продолжали основываться на нормах обычного права и потому специально не фиксировались. На Руси были известны сборники византийского церковного права в церковнославянском переводе, но, как показал В.М. Живов, «византийско-церковнославянское право… не находит себе прямого практического применения»[71], выполняя лишь сугубо культурно-идеологическую функцию. Не выработав «легального» дискурса, древнерусское общество не могло породить и сословную организацию с набором неотъемлемых прав и привилегий, аналогичную западноевропейской.
Можно предположить также, что слабость легализма на Руси обусловливалась и особенностями русской религиозности. В отличие от западного христианства с его строгой покаянной дисциплиной и регулярной калькуляцией грехов и добрых дел, упором на личную ответственность каждого отдельного человека, «русское [религиозное] спасение от индивидуальной морали… не зависело. Спасение относилось ко всему православному сообществу и приходило само собой. Оно состояло в постепенном преображении этого мира в Царство Небесное и осуществлялось не через нравственное совершенствование, но как распространение литургического космоса во внешний для него мир… Распространение этого обоженного состояния мира, то есть его спасение, не требует человеческих усилий, но осуществляется самодеятельно, так что община верующих должна лишь поддерживать богослужебное действие в его преемственности и чистоте. Всё прочее, как, в частности, аскетические подвиги, богословское познание, институциализированное покаяние или дела милосердия, было факультативным»[72]. Особенно это отличие усилилось после «дисциплинарной революции» XVI в., связанной как с появлением протестантизма, так и с Контрреформацией.
Русское православие, как свидетельствует бесчисленное количество источников (и как можно наблюдать и сегодня), сосредоточившись на пышной внешней обрядности, ничтожно мало сделало для нравственного воспитания русского народа. Один из крупнейших наших церковных историков, сын сельского священника, глубоко верующий человек, профессор Московской духовной академии Е.Е. Голубинский писал в 1881 г.: «Мы, русские, очень долгое время остававшиеся без света просвещения, впали в ту крайность, чтобы всё христианство и всё христианское благочестие полагать в наружном богопочтении или внешней набожности… Нет особенной нужды в нарочитых стараниях об укреплении в нашем народе привязанности к внешней молитве и вообще наружной набожности, ибо он и без того привержен к ней и нисколько не сомневается в её необходимости, а и крайне преувеличивает её значение; но настоит самая неотложная нужда в самых нарочитых стараниях о насаждении и возращении в нём христианской нравственности. Простой народ наш во внешнем поведении омерзительно сквернословен, затем безобразно пьян, не сознаёт обязанности быть трудолюбивым, совсем не знает, что такое христианская совесть (припомните наших ремесленников и их возмутительную склонность к обманам), в своей семье и со своими несчастными рабочими-животными – безобразный варвар. Наши купцы, столько усердные к внешней молитве, столько приверженные к храмам и теплящие в своих лавках неугасимые лампадки, до такой степени мало наблюдают честности в торговле, что можно подумать, будто они лампадки теплят затем, чтобы Бог помогал им обманывать людей. Наши чиновники, от верху до низу, давно ли перестали, и перестали ли совсем, – представлять собой олицетворение тех пороков, которые свойственны их званию?» (в рукописи профессор сбоку приписал карандашом: «Головлёв, Иудушка – олицетворение нашего благочестия»)[73]. После девяти веков христианства на Руси Голубинский призывает русское духовенство «осознать непременную и существенную обязанность священника как пастыря, то, чтобы он всех своих пасомых научил должным образом истинам веры и правилам нравственности христианской», оговариваясь при этом: «Читая предъявляемое к русским священникам подобное требование, одни из наших читателей, конечно, весело рассмеются, а другие горько улыбнутся, и те и другие скажут: очень наивно и легкомысленно воображать, чтобы требуемое вами могло когда-нибудь статься от русских священников»[74].
Ранее, в 1840-х гг., о печальном состоянии русских нравов сокрушался известный «охранитель» Н.И. Греч: «Государство, обширностью своею не уступающее Древней Римской монархии… представляет с духовной стороны зрелище грустное и даже отвратительное. Честь, правда, совесть у него почти неизвестны и составляют в душах людей исключение, как в иных странах к исключениям принадлежат пороки… У нас злоупотребления срослись с общественным нашим бытом, сделались необходимыми его элементами. Может ли существовать порядок и благоденствие в стране, где из шестидесяти миллионов нельзя набрать осьми умных министров и пятидесяти честных губернаторов, где воровство, грабёж и взятки являются на каждом шагу, где нет правды в судах, порядка в управлении, где честные и добродетельные люди страждут и гибнут от корыстолюбия и бесчеловечия злодеев, где никто не стыдится сообщества и дружбы с негодяями и подлецами, только бы у них были деньги; где ложь, обман, взятки считались делом обыкновенным и нимало не предосудительным;… где духовенство не знает и не понимает своих обязанностей, ограничиваясь механическим исполнением обряда и поддерживанием суеверия в народе для обогащения своего; где народ коснеет в невежестве и разврате!» В 1904 г. отставной военный министр Российской империи Д.А. Милютин сильно сомневался: «Возможно ли, чтобы когда-либо преобладающий в ней [Русской Православной Церкви] формализм уступил место этической сущности учения Христа». Как тут не вспомнить и лесковского отца Савелия Туберозова из «Соборян» с его: «…христианство ещё на Руси не проповедано»!
Горькие жалобы этих людей, далёких и от тени намёка на «русофобию», да и страшное крушение православной России в 1917 году заставляют без патриотического предубеждения задуматься над формулой умного католика Жозефа де Местра: «…род человеческий в целостности своей пригоден для гражданских свобод лишь в той мере, насколько проникся он христианством… а если христианство ослабевает, нация в точной сему пропорции делается менее пригодной для свободы»[75]. (Могут возразить: а разве на Западе параллельно с ростом демократизации христианство не ослабевало? В узко-церковном смысле – да, но сама эта демократизация и есть секуляризованное христианство.)
На минуту сменив эмпирический дискурс на метафизический, сделаем предположение, что в обществе, лишённом прочной христианской правовой и моральной культуры, единственной подлинной легитимностью будет обладать сила как таковая, ибо ни законы, ни заповеди как механизмы социальной саморегуляции, здесь не работают. Россия, говорит поэт и мемуарист XIX в. консервативных взглядов М.А. Дмитриев, – это земля «безурядицы и своевластия, где всякой, у кого в руках власть, делается безотчётной силою». Славянофил А.И. Кошелёв признавал, что «в русских имеется страшное и грустное пристрастие к разгулу произвола и как будто отвращение от законности – свойство, конечно, нам не прирождённое, но сильно развитое нашим… бытом».
«…Мерзкие личные пороки наши очень полезны в культурном смысле, ибо они вызывают потребность деспотизма, неравноправности и разной дисциплины, духовной и физической; эти пороки делают нас малоспособными к той буржуазно-либеральной цивилизации, которая до сих пор ещё так крепко держится в Европе», – радовался в одном из писем 1890 г. ультраконсерватор К.Н. Леонтьев.
Несть числа источникам, красноречиво рассказывающим, как в самые разные эпохи русский человек, получив в свои руки любую мало-мальскую власть, перестаёт сдерживать свои страсти, а их жертвой становятся те, кто от него так или иначе зависит. Возможность над кем-то властвовать – едва ли не верхушка русской пирамиды социальных ценностей. Естественно, что в таком обществе возрастает роль государственного принуждения, которое является плодом той же примитивной «силовой» культуры и потому не слишком способно к внутреннему самоограничению. Поразительно, однако, что при этом тотальном «властецентризме» столь слабы попытки нижестоящих ограничить властные возможности верховного правителя – как правило, его первенство беспрекословно признаётся, но с тем, чтобы и у бесправных подчинённых были свои бесправные подчинённые, а у тех – свои, и т. д. Понятно, что такая «лестница доминирования» вообще присуща человечеству как виду, но всё же западная цивилизация создала некоторые важные механизмы для её ограничения, в русском же случае эти механизмы работают ниже всякой критики.
Не так просто ответить на знаменитый вопрос барона Сигизмунда Герберштейна, возникший у него при наблюдении московских порядков XVI столетия: «…то ли народ по своей грубости нуждается в государе-тиране, то ли от тирании государя сам народ становится таким грубым, бесчувственным и жестоким». С одной стороны, «варварская» культура порождает соответствующий тип власти, с другой – такая власть обязательно будет вытаптывать любые, самые слабые ростки её институциональных ограничений, любые формы общественной самоорганизации. И этот замкнутый круг очень сложно (если вообще возможно) разорвать. Западное влияние накладывалось на московскую «матрицу», но внутрь неё проникало слабо и к моменту крушения Российской империи определяло ментальность слишком тонкого слоя населения. В связи с этим утверждение одного из ведущих современных российских историков, что путь России «от традиции к модерну» был «успешным» и «нормальным»[76], мне представляется более чем спорным.
Есть все основания думать, что невыработанность русского «легалистского сознания» изрядно помогла ордынской деформации. Когда фактический ограничитель княжеской власти – вече – перестал действовать, московский государь стал неограниченным правителем по праву сильного, аргументов против которого в «нормативном словаре» (К. Скиннер) русской культуры было явно недостаточно. Отсутствие юридического фундамента не могло не сказаться и на складывании отношений между великокняжеской властью и боярством в процессе развития вотчинного землевладения. Последнее на Северо-Востоке до монгольского нашествия, видимо, не успело сложиться, во всяком случае – как массовое явление. Боярские свободы основывались на связях с городскими общинами и исчезли вместе с вечевыми вольностями. Система боярских вотчин возникает лишь в XIV в., изначально находясь в сильнейшей зависимости от княжеской власти, и не получает «легального» оформления, подобного феодальным договорам сеньоров и вассалов в Западной Европе, когда оговариваются не только обязанности, но и права последних.
Замечательно, что в других странах «государственного феодализма», например, в Польше, под влиянием западноевропейского права с XII–XIII вв. происходит противоположный процесс: потомки королевских дружинников, получивших в условное держание государственные земли, становятся «полноценными» феодалами, всё более и более независимыми от короны. С немецкой колонизацией в польские города приходит Магдебургское право, закрепившее их вольности. В польскую общественную мысль проникает учение о праве на сопротивление королю-«тирану». Неудивительно, что к концу XV столетия политический строй Польши и России был принципиально различен. Неудивительно и то, что в первой исчезает «служебная организация», а во второй расцветает.
Таким образом, сочетание внешнего (монгольское иго) и внутреннего (упадок вечевой жизни, слабость «легального» дискурса) факторов выработало у московских государей уникальную (по крайней мере, для христианского мира) политическую культуру, основанную на представлении о неограниченности их власти. Постулаты этой культуры к середине XVI в. ещё не были сформулированы на уровне теории, но они ярко отражаются в московских политических практиках. Да, внутренняя политика России во многом определялась внешнеполитическими вызовами, но это свойственно практически всем государствам Древнего мира, Средневековья и раннего Нового времени. Ответ Москвы на эти вызовы уникален именно в силу уникальности её политической культуры – русский самодержец мог себе позволить то, о чём любой другой европейский монарх разрешал себе только мечтать.
Глава 1
1462–1546 годы
Государь-хозяин
Русская власть как особая, ни на что (по крайней мере – в Европе) не похожая политическая система обретает своё неповторимое лицо во второй половине XV в., вскоре после окончания династической войны 30—40-х гг. между потомками Дмитрия Донского. Первым её аналитическим характеристикам мы обязаны западным путешественникам первой трети следующего столетия. Они чутко зафиксировали бьющие в глаза особенности цивилизации, чуждой их привычкам.
«Властью, которую он имеет над своими подданными, он далеко превосходит всех монархов целого мира… Всех одинаково гнетёт он жестоким рабством… Свою власть он применяет к духовным так же, как и к мирянам, распоряжаясь беспрепятственно по своей воле жизнью и имуществом каждого из советников, которые есть у него; ни один не является столь значительным, чтобы осмелиться разногласить с ним или дать ему отпор в каком-нибудь деле. Они прямо заявляют, что воля государя есть воля Божья и что бы ни сделал государь, он делает это по воле Божьей… Все они называют себя холопами… т. е. рабами государя», – так описал стиль управления великого князя Московского Василия III барон Сигизмунд Герберштейн, посол Священной Римской империи, побывавший в России дважды – в 1517 и 1526 гг. Его знаменитые «Записки о Московии» впервые были изданы в 1549 г.
Весьма похоже на Герберштейна, с добавлением важных и колоритных деталей о русских властных отношениях при том же монархе рассказывает итальянец Франческо да Коло, ещё один имперский посланник, посетивший Москву в 1518–1519 гг. (его «Доношение о Московии», правда, увидело свет только в 1603 г.): «Нет здесь никакого писаного закона, но Князь старательно следует собственным обычаям. Его воля, однако, единственно почитается за закон, и настолько ему все подчинены, что если он прикажет кому пойти и повеситься, бедняга не усомнится немедленно подвергнуть себя таковому наказанию. Не видно ни у кого и такой смелости, чтобы кто-то решился сказать: “это имущество моё”; но говорит: “по милости великого Государя приобрёл я сие имущество”. И, если сказать правду, всё имущество, не только общественное, но и частное, каково бы оно ни было, – принадлежит сему Князю, и он сегодня даёт одному и отнимает от другого завтра, и крайне часто в одно мгновение возвышает одного до самых высших степеней и положения и опускает другого до самого низа и нищенских условий».
Но можно ли верить иноземцам? Не клеветали ли они злонамеренно на наше Отечество? Разумеется, слепо принимать на веру эти свидетельства, как и любые другие, не стоит. Всякий источник нуждается в проверке. Замечательный русский историк права В.Е. Вальденберг призывал изучать характер верховной власти, разводя три различных вопроса: 1) какой она была де-юре, 2) как она себя фактически проявляла? 3) как изображала её политическая литература?[77] Будем и мы использовать эту удобную схему, добавив к ней ещё один пункт, существенно важный для средневекового общества: как отношения власти-подчинения отражались в титула-туре и этикете?
Итак, власть московского государя де-юре. Надо признать, что в известном смысле да Коло совершенно прав.
В тогдашней России действительно не было никакого писаного закона, в котором бы говорилось о существе и границах полномочий великого князя и даже о порядке престолонаследия. Наиболее известный юридический документ той эпохи – принятый ещё в 1497 г. Иваном III Судебник – практически полностью посвящён процессуальному праву и не содержит ни малейшего намёка на интересующую нас тему. (Следует также отметить, что этот Судебник дошёл до нас в единственном списке, обнаруженном только в 1817 г. – для сравнения: Судебник 1550 г. сохранился более чем в сорока списках, – что, конечно, вызывает вопрос о степени его распространённости.)
Кое-что о специфике московской монархии можно понять по крестоцеловальным записям, которые с XV в. великие князья брали с некоторых своих бояр, дабы удержать их у себя на службе. Например, один из самых выдающихся русских полководцев своего времени князь Даниил Холмский в 1474 г. не просто клянётся Ивану III «и его детем» верно служить «до своего живота», отказываясь от права отъезда к другому сюзерену («не отъехати ми… иному ни х кому»). Он обещает доносить до ведома своих повелителей любую информацию, касающуюся их интересов: «А где от кого услышу о добре или о лихе государя своего великого князя и о его детех, о добре или о лихе, и мне то сказати государю своему великому князю и его детем вправду, по сей моей укрепленои грамоте безхитростно». Более того, Холмский признаёт, что «осподарь мой князь велики и его дети надо мною по моей вине в казни волен». Гарантами исполнения воеводских клятв выступают как высшие церковные иерархи во главе с митрополитом, так и шестеро бояр. В случае нарушения крестоцелованья первые должны лишить князя Даниила пастырского благословения, вторые – заплатить солидный денежный штраф, по 250 руб. каждый, что создаёт для них личную заинтересованность в этом деле. Сама же верховная власть от каких-либо обязательств по отношению к Холмскому воздержалась. «Всё это сильно напоминает договор о пожизненном холопстве», – замечает современный историк Н.С. Борисов[78].
Вообще, договариваться со своими подданными московские самодержцы не любили, а если всё-таки договаривались, то старались не утруждать себя формальностями. На переговорах Ивана III с Новгородом зимой 1477/78 гг. новгородские представители, соглашаясь признать великого князя своим «государем», просили, чтобы он взамен дал обязательство соблюдать выдвинутые ими условия («дал крепость своей отчине Великому Новугороду, крест бы целовал»). Но Иван Васильевич не только сам отказался целовать крест новгородцам, но и не позволил этого сделать ни своим боярам, ни будущему новгородскому наместнику.
Косвенным образом мы можем судить об объёме власти московских великих князей по появлению у них титула «государь». Уже Василий Тёмный с конца 1440-х гг. начал чеканить монеты с надписями «осподарь всея Руси» и «осподарь всея земли Руския» (а ещё раньше это делал его соперник в борьбе за трон Дмитрий Шемяка), а с 70-х гг. Иван III величается государем/господарем в официальных документах. Авторитетный историк русского права М.Ф. Владимирский-Буданов пишет, что с XIV в. это слово обозначает хозяина, имеющего власть над несвободными людьми, в отличие от «господина», властвующего над людьми свободными, поэтому «усвоение термина “государь” или “господарь” в публичном праве означает развитие неограниченной власти»[79]. Сходно трактует вопрос видный современный медиевист Ю.Г. Алексеев: «’’Господин” – это титул сюзерена по отношению к вассалу. Он – глава политической власти, но и вассал пользуется известными политическими правами. Главное же – их отношения основаны на договоре (хотя и не равноправном), носят характер взаимных обязательств, обусловленных определённым соглашением… “Государь”… имеет дело не с вассалами, а с подданными. Власть его над ними основана не на договоре, не на учёте взаимных прав и обязанностей, а на признании его безусловного авторитета и безусловном ему подчинении»[80].
Этот тезис хорошо иллюстрирует следующий эпизод. По сообщению московского летописца, в 1477 г. из Новгорода, находившегося в процессе подчинения Москве, ко двору великого князя прибыла группа бояр «бити челом и называти себе их [Ивана III и его старшего сына Ивана Ивановича] государи. А напред того, как и земля их стала, того не бывало. Никоторого великого князя государем не зывали, но господином». Ещё совсем недавно в московско-новгородском договоре 1471 г. Иван Васильевич именовался «господином». Как позднее выяснилось, это посольство не было согласовано ни с большинством новгородской элиты, ни с вечем, и возмущённые новгородцы дезавуировали челобитье: «А что государи вас, а то не зовем… А вам, своим господином, челом бием, чтобы есте нас держали в старине». Именно отказ от титулования великого князя «государем» стал первой из трёх «вин», явившихся декларированной причиной похода московской рати зимой 1477/78 гг., который поставил точку в истории новгородской вольности. Теперь Иван Васильевич «отчину свою, Великыи Новгарод… привел в свою волю и учинился на нем государем, как и на Москве».
Другой важный титул – «самодержец» – вошёл в официальный обиход гораздо позднее, в конце XVI в., хотя «кулуарно» использовался и раньше (так, в 1459 г. русское духовенство в одном из своих «приговоров» назвало Василия Тёмного «всея Русскиа земли самодръжцем»). Строго говоря, если исходить из этимологии слов, специфику русского политического строя наиболее точно характеризует понятие «государство», а не «самодержавие». Ведь последнее обозначает вовсе не безграничность пределов власти внутри страны, а внешнеполитический суверенитет, независимость от других владык. Но сегодня было бы бессмысленно пересматривать закрепившееся в русском языке с XVIII в. словоупотребление: государство – безличная структура управления, самодержавие – личная, авторитарная, ничем не ограниченная власть монарха. Впрочем, как мы увидим в следующей главе, уже Иван Грозный понимал самодержавие именно в последнем смысле.
В полном соответствии с Герберштейном московские аристократы в письмах к великим князьям называют себя холопами, подписываясь уменьшительно-уничижительными именами. «Государю великому князю Ивану Васильевичи) всеа Русии холоп твой, государь, Феодорец Хованский челом бьет», – так начинает своё послание 1489 г. муромский наместник Фёдор Хованский, князь из Гедиминовичей. «Государю великому князю Ивану Васильевичю всея Русии холоп твой, государь, Васюк Ромодановской челом бьет», – это из грамоты 1491 г. другого князя-Рюриковича Василия Ромодановского, московского посла в Крыму. При Василии III идиома «холоп твой» стала обязательной в придворном этикете. «Ты б, государь, смиловался, пожаловал, велел мне, своему холопу, у себя быть, бить челом о том, чтобы стать мне перед тобою, государем, очи на очи с теми, кого брат мой… к тебе, господарю, на меня прислал с нелепицами», – в таком тоне в 1517 г. оправдывается перед Василием Ивановичем другой Василий Иванович – князь Новгород-Северский. В 1537 г. даже дядя малолетнего Ивана IV удельный князь Андрей Иванович Старицкий величает себя холопом великого князя и его матери Елены Глинской (правда, всё же называя себя по имени-отчеству): «…и вы б, государи, пожаловали, показали милость, огрели сердце и живот холопу своему».
Как полагает Н.И. Костомаров, в русской правовой традиции всякий не имеющий права оставить службу у господина считался холопом, а бояре такое право фактически потеряли[81]. Понятное дело, что «холопами» русские бояре были не юридически, а лишь символически, но такая символика, конечно, показательна. «Звание тогда значило больше, чем значит теперь, оказывало ещё более сильное влияние на образ мыслей и действие людей, на их настроение и общественную постановку. Термин придавал неопределённым отношениям ярко выраженный, всем понятный юридический и нравственный тип, не вполне соответствовавший действительности, но устанавливавший определённый, отчётливый взгляд на значение боярской службы. Холопы в условном смысле, люди боярских фамилий, однако, несли на себе некоторые нравственные следствия настоящего холопства»[82]. Князь Андрей Курбский уже во второй половине XVI в. сетовал: «Наши прелютые и прегордые руские цари… советников своих холопами нарицают на свою им срамоту. О беда! Хто слыхал от века царей християньских над холопами царюющих, кроме безбожных измаильтян, бусурманских псов… Ахристиянские царие нарицаются, которые под собою имеют в по-слушенстве великих княжат и других чиновников светлых и свободных, а не холопеи, сиречь невольников»[83].
Опалы и казни
Говоря о фактических полномочиях и возможностях московской власти, нужно начать с удивительной свободы самодержцев в распоряжении своим троном. Как уже говорилось выше, закона о престолонаследии в Московском государстве не существовало. Был устоявшийся обычай – власть передавалась от отца к старшему сыну. Но при этом «[п]раво наследника установлялось… усмотрением царствующего государя. Последний нисколько не считал себя связанным правами своих наследников. Наоборот, он признавал за собою право делать между ними выбор. По воззрению московских князей, если престол и переходит от отца к сыну, то не в силу самостоятельного права сына на престол, а в силу воли отца»[84].
В конце правления Ивана III возникла экстраординарная ситуация: его старший сын и наследник Иван Иванович Молодой в 1490 г. после долгой болезни скончался. Права на престол имел как сын покойного Дмитрий, так и сын Ивана III от второго брака с Софьей Палеолог – Василий. Последний восемь лет считался наследником, но затем «Державный» переменил свой выбор, и 4 февраля 1498 г. 14-летний Дмитрий Иванович был торжественно венчан на царство в Успенском соборе и назначен официальным соправителем деда. Но проходит ещё четыре года, и Иван Васильевич снова круто меняет своё решение. В апреле 1502 г. он, по словам летописца, «положил опалу на внука своего великого князя Дмитрея и на его матерь на великую княиню Елену, и от того дни не велел их поминати в ектеньях и литиах, ни нарицати великым князем, и посади их за приставы», а буквально через три дня «пожаловал сына своего Василия, благословил и посадил на великое княженье Володимерьское и Московское и всеа Руси самодеръжцем». Судьба Дмитрия печальна: закованного в цепи, его посадили в каменную темницу, где он и умрёт в возрасте 25 лет, уже в правление дяди-соперника: «По одним данным, его убьют, задымив помещение, где он содержался; по другим – уморят голодом и холодом»[85]. В узилище окончила свои дни и его мать. Таким образом, великий князь не просто переиграл своё завещание, он «отменил» венчание на царство и сверг с престола законного монарха без всяких на то основательных причин – по крайней мере, они не были официально объявлены. Просто такова была его воля. И никаких преград этой воле мы не видим. Единственное полуофициальное объяснение случившемуся заготовили в ожидании щекотливых вопросов за рубежом. Вот как должны были на них отвечать московские послы в Крыму и Литве: «Внука своего государь наш было пожаловал, а он стал государю нашему грубить; но ведь жалует всякий того, кто служит и норовит, а кто грубит, того за что жаловать… Который сын отцу служит и норовит, того отец больше и жалует»[86].
Не церемонился Иван III и со своими братьями. Дабы не опасаться возможных претензий на власть со стороны их потомства, он фактически запретил им это потомство иметь. Из четырёх великокняжеских братьев двое никогда не были женаты и умерли бездетными: Юрий – в возрасте 31 года, Андрей Меньшой – 29 лет. С учётом того, что женились тогда очень рано (сам Иван в 12 лет!), это выглядело явной аномалией. Ещё двое Васильевичей – Андрей Большой Углицкий и Борис Волоцкий – всё же вступили в брак и обзавелись детьми. Они пытались перечить старшему брату и даже поднялись против него с оружием в руках. В сентябре 1491 г. Иван позвал Андрея Большого в Москву для переговоров, где тот был схвачен и посажен в темницу вместе со своими приближёнными. «Приехал на Москву князь Андрей Углецкии. И князь великий его почте [почтил] велми, а назавтрее его поймал. А великому князю брат родной», – осуждал Ивана независимый летописец. Через два года Андрей скончался в тюрьме (великий князь позднее каялся в грехе братоубийства). Два его сына – одному было 14, другому не более семи – также оказались в заточении, лишь младший вышел из него незадолго до смерти. Углицкий удел был присоединён к великому княжению. Бориса Волоцкого великий князь не тронул – видимо, в силу его простоватости: «Брата же своего князя Бориса Василиевичя Волотцскаго и детей его неухыщреннаго их ради нрава не вреди ничим же». Умер в заключении и серпуховской удельный князь Василий Ярославич, шурин Василия Тёмного и дядя Ивана III, внук героя Куликовской битвы Владимира Андреевича Храброго, праправнук Ивана Калиты. Зять отправил его в ссылку, а «в железях» он оказался по воле племянника.
Василий III, у которого долгое время не рождался наследник, также запрещал своим братьям жениться, поэтому трое из них не оставили потомства. Тем не менее старшего – Юрия Дмитровского – сразу после смерти Василия на всякий случай посадили в ту же темницу, которую ранее занимал несостоявшийся государь всея Руси Дмитрий Иванович Внук, там он и преставился через три года «страдальческою смертью, гладною нужею». Самому младшему – Андрею Старицкому – было позволено вступить в брак лишь в возрасте 43 лет. В правление Елены Глинской он, видимо, напуганный участью Юрия, в 1537 г. попытался бежать в Литву, но, увидев, что путь перекрыт, решился на открытый мятеж. Однако до большой битвы дело не дошло – начались переговоры. Великокняжеские воеводы целовали крест князю Андрею на том, что, если он сложит оружие, его отпустят «на его вотчину и сь его бояры и з детми з боярскими совсем невредимо». Поверивший этому обещанию (вероятно, заверенному митрополитом Даниилом) Андрей Иванович, однако, вскоре был взят под стражу и через несколько месяцев «преставися… в нуже страдальческою смертью», под загадочной «шляпою железною». Его жена и сын также подверглись заключению. Старицких бояр прилюдно били кнутом и посадили в одну из кремлёвских башен, где они находились «до великие княгини смерти [в 1538 г.]. А князя Федора Пронского тут в тюрьме не стало».
Эта расправа была обусловлена в том числе и тем, что Елена, фактически правившая от имени своего малолетнего сына Ивана Васильевича, чувствовала себя крайне неуверенно, ибо широко распространённый в Европе уже с XIV в. институт регентства русской традицией не предусматривался. «…Сама идея регентства подразумевала признание недееспособности юного монарха, что не соответствовало представлениям о государственном суверенитете, как его понимали в Москве того времени… государь считался дееспособным независимо от возраста… Очевидно, формирующееся самодержавие было несовместимо даже с временным ограничением полномочий государя, независимо от его возраста и состояния здоровья», – отмечает современный исследователь М.М. Кром[87]. Елена именовалась «государыней», считалась соправительницей Ивана, но источником всех легитимных решений оставался маленький мальчик трёх – восьми лет, от имени которого издавались практически все официальные акты. Такова в России была харизма обладателя верховной власти – её невозможно было на время передать другому. После смерти Елены это стало причиной долгой нестабильности в верхах, вызванной борьбой боярских клик, длившейся до тех пор, пока её сын не «пришёл в возраст».
Замечательна опала князя Василия Михайловича Верейского, прозванного Удалым, троюродного брата Ивана III. «Державный» разгневался на него из-за того, что его же собственная супруга Софья подарила своей племяннице, жене Удалого, драгоценности первой жены государя. Реакция последнего на это явно не выглядит адекватной: «Посла же князь великый, взя у него [Удалого] всё приданое, ещё и со княгинею его хоте поимати». Василий Михайлович с семейством еле ноги унёс в Литву. «Понятно, что здесь трудно найти явную логику, – комментирует это странное событие Н.С. Борисов. – Но тайная логика этой опалы вполне понятна. Обвинив Василия и его жену в “хищении” ценностей из великокняжеской казны, Иван нашёл убедительный повод для того, чтобы избавиться… от младшего поколения верейско-белозерского дома»[88].
Василий Иванович Шемячич, праправнук Дмитрия Донского, удельный князь Новгород-Северский и Рыльский, перешёл из Литвы на службу к Василию III и честно сражался на его стороне во многих войнах. Недоброжелатели доносили великому князю о его тайных сношениях с Литвой, но Шемячичу дважды удавалось оправдаться. В 1523 г. его снова потребовали на суд в Москву с гарантией безопасности от самого митрополита Даниила. Но уже через несколько дней после приезда Шемячича «поймали», шесть лет он провёл в заключении, где и скончался. Княжество его, конечно, перешло в великокняжеские руки.
Уж если московские самодержцы столь непринуждённо обращались с роднёй, то какой деликатности могли ожидать от них обычные «государевы холопы»? «Опала и чрезвычайный суд по изветам вместе с правом конфискации были не злоупотреблениями, а признанными прерогативами верховной власти»[89]. Казни и аресты знати в доопричное время – дело не то чтобы очень частое, но вполне обыденное. Причины этих репрессий мы не всегда знаем. Например, неизвестно, за какую провинность Иван III в 1463 г. приказал ослепить знаменитого и неизменно преданного его отцу воеводу Фёдора Басёнка. Загадочной остаётся опала ближайших советников «Державного» – князя С.И. Ряполовского (казнён) и князей И.Ю. и В.И. Патрикеевых (по заступничеству митрополита пострижены в монахи) в 1499 г. В подавляющем большинстве случаев, о которых у нас есть данные, наказание определяется не степенью вины пострадавших, а полностью монаршим произволом. Ибо суда как такового не производилось. Можно только гадать, сличая противоречивые сведения, насколько заслуженной была жестокая казнь шестерых сторонников князя Василия Ивановича (одному прежде головы отрубили руки, другому – руки и ноги), вроде бы составивших в 1497 г. заговор против Дмитрия Внука и готовивших побег Василия.
Братьев А.М. и И.М. Шуйских в 1528 г. заковали в кандалы и разослали «по городам» за то, что они хотели перейти на службу от великого князя к его брату Юрию (при том, что право отъезда формально действовало, «последний удельный князь Владимир Андреевич Старицкий… дал обязательство не принимать к себе на службу людей великого князя» лишь в 1541 г.[90]). В случае побега Шуйских 28 боярам и детям боярским, поручившимся за них, пришлось бы заплатить штраф в 2000 рублей. Позднее А.М. Шуйский будет без всякого суда убит псарями по приказу тринадцатилетнего великого князя Ивана Васильевича (будущего Грозного). В 1530 г. не за поражение, а за недостаточно результативный поход на Казань воевода И.Д. Бельский чуть не взошёл на плаху, в итоге отделавшись тюремным заключением. В 1525 г. сын боярский И.Н. Берсень-Беклемишев потерял голову лишь за разговоры, в которых он критиковал стиль правления Василия III и о которых донёс следствию обвиняемый в турецком шпионаже преподобный Максим Грек. Кстати, Берсень, видимо, вообще неосторожный на язык, вызывал великокняжеский гнев и раньше, когда пытался спорить с государем на политические темы, – дискуссия тогда закончилась грубым окриком: «Поди прочь, смерд, ненадобен ми еси». В 1546 г. молодой Иван IV по не вполне понятным причинам повелел обезглавить трёх бояр, даже не позволив им исповедаться перед смертью.
Курбский называл род московских Рюриковичей «кровопийственным». Конечно, Андрей Михайлович – автор, мягко говоря, небеспристрастный, но согласимся, что основания для такого эпитета у него имелись.
Служилое государство
Фактами подтверждаются слова Герберштейна о том, что великокняжеская власть применялась «к духовным так же, как и к мирянам» (хотя, конечно, в гораздо более мягкой форме). Об этом, например, свидетельствует судьба новгородского архиепископа Геннадия, смещённого Иваном III в 1504 г. и умершего в опале, или митрополита Варлаама, которого в 1521 г. Василий III «прогнал с кафедры совершенно так, как он прогонял от себя неугодных ему бояр»[91]. Причиной этого был, скорее всего, отказ святителя дать ложную охранную грамоту упомянутому выше Василию Шемячичу. Как мы знаем, преемник Варлаама, Даниил, оказался сговорчивее. Впрочем, при малолетнем Иване IV та же участь постигла и его, а затем и следующего главу Церкви – Иоасафа. Митрополит не избирался, а назначался великим князем «из лиц ему желательных и им указанных и, став митрополитом, по-прежнему оставался его подданным, вполне зависимым от князя»[92]. Только с согласия великого князя утверждались епископы и настоятели монастырей. Нет оснований не верить Герберштейну и в том, что духовенство «повинуется не только распоряжениям государя, но и любому боярину, посылаемому от государя». Барон «был свидетелем, как… пристав требовал что-то от одного игумена, тот не дал немедленно, и пристав пригрозил ему побоями. Услышав такое, игумен тотчас же принёс требуемое». Правда, митрополиты имели право «печалования» за опальных, но, как видим, нужно было иметь большое мужество, чтобы им пользоваться.
(Впрочем, необходимо отметить, что в своих епархиях архиереи выступали, по сути, самовластными владыками. «Управление вместо соборного стало единоличным таким образом, что у архиереев Московской половины Руси [в отличие от западнорусских епархий] исчезли соборы священников-клирошан и что по прекращению существования этих соборов они остались управлять епархиями одним своим собственным лицом…можно полагать временем окончательного исчезновения соборов у всех епископов вторую половину – конец XV века»[93]. Епископы в Московском государстве были «не только духовными архипастырями, заботившимися о спасении душ своих пасомых, но и очень важными, с обширными правами и полномочиями, государственными чиновниками, управлявшими целыми обширными областями, владевшими с соподчинёнными им монастырями очень значительными землями, множеством крестьян, всевозможными хозяйственными и промышленными заведениями, причём им, на основании царских жалованных грамот, принадлежала в их земельных владениях власть административная, судебная и финансовая, и царские чиновники не имели даже права въезжать в архиерейские владения»[94]. Епархиальная администрация состояла из светских чиновников, разряды которых дублировали разряды великокняжеского двора: бояре, дворяне, дети боярские, слуги. Эти светские лица вершили даже суд над церковниками. Рядовое духовенство, «свободное относительно государства, относительно своего епархиального архиерея было податным сословием, обязанным архиерею взносом известных податей, почему оно, в этом отношении, и приравнивалось к тяглому сословию, так что выражение “тяглые попы” сделалось официальным»[95]. За невыплату податей следовали наказания, например, запрещение служить, а то и плети. «В основе финансового управления епархией лежала частная воля святителя… Епархия была как бы его уделом, где он распоряжался, как ему было угодно: по произволу накладывал на духовенство сборы и освобождал от них»[96]. Неудивительно, что «дух чрезмерного властительства составлял решительную болезнь архиереев Московской половины Руси начала XVI века»[97].)
Знаток русских юридических древностей В.И. Сергеевич писал, что великие князья карали своих подданных не по закону, а «по усмотрению». Так, в 1471 г. после присоединения Новгорода были казнены четверо новгородских бояр, в вину им вменялось желание увести свой город под власть Литвы. Между тем с юридической точки зрения этот приговор – нонсенс. Ведь указанное стремление осуждённые имели до присоединения к Москве, а тогда новгородцы обладали полным правом призывать к себе на княжение властителей из какой угодно земли. Более того, даже в договоре с Москвой 1471 г., делавшем московских князей государями Новгорода, смертная казнь за намерение отступить от них не была прописана. «Почему же наказаны были четыре новгородца… и именно смертною казнью? – задаётся вопросом Сергеевич. – Так нравилось великому князю, это дело его усмотрения»[98]. По той же самой логике Иван III в 1499 г. заключил в тюрьму двух псковских посадников, посмевших возражать ему в вопросе о назначении псковского князя. «Послы просили не назначать Пскову особого от Москвы князя. В чём тут московский государь усмотрел преступление? Единственно в смелости говорить против его распоряжения. Было ли каким-либо уставом запрещено возражать князю? Никаким. Наоборот, мы знаем, что тот же Иван Васильевич даже любил “встречу” [возражение]. А здесь возражение псковичей не понравилось ему, и он опалился. Это опять дело его усмотрения»[99].
Ярчайшим примером произвола московских самодержцев в отношении своих подданных являются знаменитые выводы — многотысячные переселения людей с места на место. Иван III, присоединяя Новгород, в январе 1478 г. дал ему жалованную грамоту о соблюдении ряда новгородских вольностей, где в первую очередь обещал не переселять новгородцев в другие земли и не покушаться на их собственность. Но менее чем через десять лет великий князь своё обещание нарушил. В 1487 г. из Новгорода было выведено более семи тысяч «житьих людей» (слой новгородской элиты между боярами и средними купцами). В 1489 г. произошёл новый вывод – на сей раз более тысячи бояр, «житьих людей» и «гостей» (верхушка купечества). Итого – более восьми тысяч, учитывая, что население Новгорода вряд ли превышало 30 тысяч, это огромная цифра, почти треть жителей. Обширные земли, конфискованные у новгородских бояр, были розданы в поместное владение двум тысячам человек из различных уездов Московского государства. В 1489 г. та же участь постигла Вятку: «воиводы великаго князя Вятку всю розвели», – сообщает летописец.
Василий III верно следовал по стопам отца. Из Пскова в 1510 г. он вывел более тысячи человек. Высший слой псковского купечества обновился полностью – в дома трёхсот псковских семей въехали триста московских. Из Смоленска, которому, как и Новгороду, была дана жалованная грамота с гарантией «розводу… никак не учинити», зимой 1514/1515 гг. вывели большую группу бояр, а через десять лет – немалое количество купцов (при этом примерно половина смоленской боярской верхушки эмигрировала в Литву[100]). Практиковались переселения и в других западнорусских землях (Вязьма, Торопец) – вяземским «князем и панам», кстати, тоже обещали «вывода» не делать. Уже к середине XVI в. там доминировали пришлые служилые роды. Как видим, московский суверен действительно распоряжается своими подданными и их имуществом как ему заблагорассудится, не связывая себя какими-либо устойчивыми правилами. Он не просто верховный правитель, он – верховный собственник.
Московские самодержцы целенаправленно обменивали родовые вотчины бывших удельных князей на вотчины в других уездах. Так, в 1463 г. «простились со всеми своими отчинами на век» ярославские князья и «подавали их великому князю… а князь велики против их отчины подавал им волости и сел». К середине XVI в. «почти полностью лишились своих родовых вотчин» ростовские князья, «большинство здешних [ростовских] землевладельцев принадлежали к пришлым родам… Зато за пределами родового гнезда ростовские князья имели многочисленные владения в самых разных уездах»[101]. Таким образом, провинциальная элита сознательно и систематически отрывалась властью от своих земель, стягивалась к центру и затем перебрасывалась с места на место. В этом-то и состоял основной смысл выводов: вырывалась с корнем именно местная верхушка, заменяемая московскими выходцами, напрямую зависящими от самодержца и не имеющими никаких связей с новым для него сообществом. А новгородцы, переселённые во Владимир, Муром, Нижний Новгород, Ростов; вятчане, направленные в Боровск, Алексин, Кременец, Дмитров; смоляне, выведенные в Ярославль, Можайск, Владимир, Медынь, Юрьев, тоже были там чужими.
При присоединении Твери (1485) обошлось без выводов; более того, само княжество со своим отдельным двором продолжало некоторое время существовать. Но уже в 1504 г. по завещанию Ивана III территория княжества оказалась разбита на четыре части, вошедшие в состав уделов великокняжеских сыновей, причём сама Тверь отошла во владение нового наследника – будущего Василия III. Тверской двор сохранялся, но тверские бояре, оказавшиеся в других уделах, туда уже не входили. «В результате была не только перекроена политическая карта Тверской “земли”, но и разрушена та основа, на которой зиждилось её историческое единство, – общая корпоративная организация тверских феодалов»[102]. В итоге подобная «политика Московского государства повела к уничтожению всех крупных областных делений. Прежние земли и области сохранили значение географического термина, но на практике потеряли всякое значение»[103].
Характерно, что места службы русской знати, как правило, находились вдалеке от её «малой родины». Те же тверские бояре сидят наместниками во Владимире, Пскове, Смоленске, Рязани, Костроме, Вологде… И вотчины они получают там же. Среди рязанских наместников первой половины XVI в. нет ни одного представителя местной знати. Судя по списку административных назначений членов Боярской думы 1547 г., ни один из них не был назначен в те земли, где у него были родовые владения. Из ста пожалований на «кормление» в середине XVI в. только в 9 случаях «дети боярские» (дворяне) получили их на территории своего уезда. Той же цели служили частые перемещения провинциальных администраторов с места на место. В Новгороде в 1500–1532 гг. сменилось 32 наместника, в Пскове в 1510–1540 гг. – 21, в Смоленске в 1540–1544 гг. – П[104]. «Постоянная смена лиц на гражданских должностях имела для центральной власти и плюсы, и минусы. Она означала, что очень немногие приобретали существенный опыт в выполнении конкретных функций, но также немногие приобретали чувство хоть какой-нибудь безопасности на каком-либо посту. Служилый человек всегда был орудием, лицом без собственных управленческих, политических или экономических оснований. Кроме того, любого человека можно было использовать как угодно и обращаться с ним как угодно, поскольку всегда существовало множество других людей такой же квалификации, желающих и готовых занять его пост… Это… было превосходным основанием для развития автократии, что заметно отличало ситуацию в России от ситуации в Западной Европе в то же самое время»[105].
Искусственно созданная слабость провинциальных элит облегчила верховной власти введение постоянных государственных налогов и повинностей на территории подавляющего большинства русских земель в конце XV – первых десятилетиях XVI в. «…На рубеже XV–XVI вв. податные привилегии феодалов в их традиционной форме были ликвидированы и государственная власть окончательно обеспечила себе поступление постоянных значительных доходов с частновладельческих земель, а также возможность их произвольного изменения в будущем»[106].
Русская аристократия (боярство) не имела по отношению к великим князьям никаких зафиксированных прав. Даже право отъезда к другому сюзерену, как мы видели, со второй половины XV в. фактически не действовало. Упомянутые выше крестоцеловальные записи бояр ликвидировали «последние проблески идеи свободного отъезда… Записи эти только и понятны на фоне представления об общем закреплении боярства на великокняжеской службе, с которым в противоречии стояли попытки новых пришлых магнатов [Холмский был тверским князем, другие бояре, с которых брали записи, также недавно перешли на московскую службу] считать себя, по старине, вольными слугами»[107]. Сама по себе родовитость ещё не обеспечивала боярам высокого социального статуса, который повышался только благодаря государевой службе: «…Родословный человек мог “захудать” при личнослужебных и материальных неудачах, и неродословный мог пробиться наверх… “Породой государь не жалует”, но мимо государева пожалования “породе” грозит захудание, а сила его может создать новую “породу”»[108].
Боярская дума при великом князе не ограничивала его власть. Во всяком случае, мы не имеем никаких свидетельств об этом (да, собственно говоря, никаких документов о работе Думы вообще не сохранилось). Судя по всему, была она до второй трети XVI в. весьма немногочисленна (10–12 человек), и лишь в годы малолетства Ивана IV значение её возросло, до того же она скорее была «кружком советников с неопределёнными полномочиями»[109]











