Читать онлайн Наследие прародины. Традиционалистские очерки
- Автор: Александр Иванов
- Жанр: Православие, Религиоведение, История религий
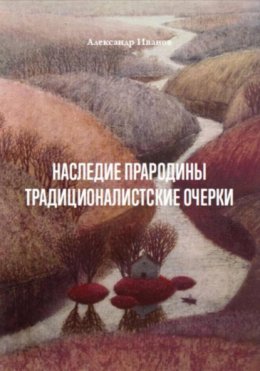
Кружной путь к Традиции
Спустя три года после выхода нашумевшей программной книги Александра Иванова «От язычества к христианству. Путями последней Австразии» полюбившийся целевой аудитории читателей вятский автор представляет на суд публики сборник очерков «Наследие прародины». Речь на сей раз идёт о серии заметок в стиле легендарного журнала Études Traditionelles – может быть, в чуть более вольном стиле. Этим сборником завершается определённый этап не просто в духовной эволюции автора, но и – не побоимся этого выражения – в истории современного русского традиционализма. Ведь с тех пор интеллектуальный климат в нашей стране заметно изменился. И причиной тому не только бурные политические события во внешнем мире, но и внутренние сдвиги в «битве ума» – ноомахии. За эти годы были изданы и получили заслуженное признание несколько томов Александра Дугина из серии «Ноомахия»; увидели свет первые «Чёрные тетради» Мартина Хайдеггера, внимательно проштудированные Александром Ивановым; вышли два новых номера симферопольского журнала «Палантир», публикующего всё более и более интересные исследования Традиции; увидели свет ещё ряд интересных книг, имеющих отношение к данной тематике; наконец, в роковом, по его собственному признанию, семнадцатом году ушёл из жизни Владимир Карпец, чья тень незримо витает над статьями данного сборника. Поэтому даже тогда, когда на его страницах мы снова встречаемся с темами из книги «Путями последней Австразии» (три сына Ноя, Троя, Последний Бог, 45-й меридиан…), то они звучат по-новому в свете пережитого всеми нами за эти три-четыре года.
Есть, однако, в публикуемых очерках и нечто новое. Новое как в тематике исследований (философские проблемы времени, науки, искусства, София, Рагнарёк, святая Бригитта…), так и в том тоне, в который они окрашены. Ключевым моментом здесь, несомненно, выступает новая теория символизма гриба, предложенная Александром Ивановым. С наступлением космической Ночи, с приближением к Концу само Мировое Древо превращается в Мировой Гриб – фактически в растение, которому не нужен свет для роста. Под этим углом зрения находят объяснение и тенденция к распространению символизма гриба в культуре XX века, и сделанные в наши дни открытия сразу нескольких забытых «грибных» культур в обеих Америках и на Дальнем Востоке, и многие энигматические высказывания Сергея Курёхина и Владимира Карпца. Даже Один у Александра Иванова распинает себя фактически уже не на мировом ясене, а на мировом мухоморе… А цитирование гениальных – и до обидного малоизвестных – стихотворений великого Юрия Стефанова лишь придаёт уверенность в правильности интерпретаций автора.
Данный сборник – знаковая веха на пути традиционалистских исследований в России, знаменующая завершение определённого круга их развития. Полагаю, для вдумчивого читателя аллюзии на «Кружной путь» окажутся весьма прозрачными, и направление дальнейшего хода мысли будет им уловлено с полуслова.
Максим Медоваров,к. и.н., г. Нижний Новгород
Заметки об этноментальности (вместо предисловия)
Обычно мы не замечаем самых простых вещей. Увлечённые доказательством какой-либо «интересной» теоремы, перестаём замечать аксиомы, нечто явленное для нас наглядно и не требующее каких-то дополнительных разъяснений.
Но иногда приключается и так, что эти очень простые вещи вдруг предстают перед нами во всей полноте своей очевидности. И мы вдруг начинаем понимать их иначе, понимать по-настоящему. Что вообще значит «понимать»? Вмещать, ощущать сродство, принимать в сердце. Принимать как нечто глубоко личное, а не воспринимать как некий отвлечённый концепт разума. Правильнее будет сказать – «начинаем переживать». В эти моменты человек произносит: «И вдруг меня осенило!» Стало вдруг внятным то, о чём мы вроде и до этого знали. Но не внимали, не открывались душой. Как выражался Е. В. Головин, «плохо понимали, не понимали „кровью“».
Говорят, что небо (обычное видимое небо), вернее, его синь в ясный день – это ризы Божьей Матери. Поэтому и священство в Богородичные праздники облачается в одеяния того же цвета. Поэтому и крыши освящённых в Её честь храмов того же цвета. А ещё говорят: «Христос – Солнце Правды». А в главном русском духовном стихе («Г[о]лубинная книга») облака зовутся «думы Господни». Думы, умы… ангелы. Облака можно условно обозначить как сгущённый воздух. Сам же он невидим, не имеет формы, стремителен. Всем этим он напоминает мысль или ум. Правильнее даже сказать так: будучи невидимым, сам воздух несёт в себе видимые глазу облака так же, как ум несёт в себе мысли. Мысли бывают разные, облака тоже…
Вспомним вот ещё о чём. Св. Григорий Палама говорит, что «Богородица – единственное место Невместимого», «Твердь, отделяющая тварное от Нетварного». А св. Серафим Саровский в «Беседах с Мотовиловым» утверждает, что всякое наше прошение иначе как через Богородицу не достаёт до Господа. Это очень легко понять. Нужно только взглянуть на небо в ясный день. Никак не увидим мы солнца, если только не через синь неба. Оно несёт в себе солнце – это если смотреть с земли. Если с точки зрения самого неба, то именно солнце выхватывает небо из тьмы, делая его видимым, чувственно воспринимаемым, явным, иными словами, существующим.
Так, обычное небо, солнце, облака, свет и его отражения в земных водах – лучшая и самая первая нерукотворная икона, которая была дана Христом человеку в напоминание о своём грядущем ещё Воплощении.
Далее. Мотив встречи. Он настолько важен для славянской (и, шире, индоевропейской) ментальности, что на уровне фольклора обретает своё олицетворение. Такова, например, Среча из сербской сказки. Её противоположность – Несреча, которая «тонко нить судьбы прядёт». Если опустить некоторые рефлексии славянского сознания (которые нашли воплощение, к примеру, в среде богумилов) в сторону дуализма, то надо сказать, что нить судьбы всё-таки прядётся и в отсутствие Встречи. Невстреча – это не полное отсутствие Встречи, это, скорее, Недо-встреча. Это во-первых, а во-вторых, Встреча понимается как благая Доля (судьба), по-индийски – Бхага (у славян *Bogъ). Итак, «благая доля» в индоевропейском языковом контексте обозначается неким Событием, соединением разрозненных частей, вне которого мы наблюдаем ситуацию «недобытия» или, говоря иначе, ситуацию отчуждённого Бытия или отчуждения от Бытия. Здесь есть над чем поразмыслить. Для начала отметим самый, наверное, простой аспект – то, как Встреча раскрывает себя в символе. Символ – двойная вещь (на греческом – σύμ-βολον, «выброшенный вместе»), первоначально обозначение синергии Божественного и человеческого, позднее жребия – вместе выброшенных вещей, вместе закинутых в мир. Символ – это окно от человека к Первообразу. Это также Toπος, сакральное место их Встречи. Ключ, который подходит к замку. Так, Символ ещё и то, что открывает дверь в мир Принципов. Но чтобы дверь раскрылась, должен прийти Вопрошающий. Без него символы умирают, превращаясь сначала в аллегорию, а затем в бессмысленное украшение – безделушку, и нить судьбы становится тонка. Всё так…Но! Небесная половина Символа никогда никуда не исчезает и всегда ждёт нашего Возвращения.
Ф. М. Достоевский в одном из своих романов («Бесы») влагает в уста некой старицы слова: «Богородица – великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость». Это довольно известный пассаж, и упомянутую бабушку обвиняют то в вульгарном материализме, то в причастности к традиции индийской Веданты. И это совсем не безосновательно, ведь не прошло и полвека после публикации романа, а русская неоязыческая реакция, «обогатившись» царствующим на Западе «культом Кибелы», вылилась в кровавый пожар Революции, которая увенчала Кремль красными пентаграммами – Drudenfuss, «Лапами Ведьмы».
Мы ещё подробно поговорим об этом. Здесь просто вкратце отметим, что же, собственно, произошло. Е. В. Головин определил данную проблематику следующим образом: «Есть серьёзные основания считать современную науку очень точным продолжением чёрной магии, только если убрать из чёрной магии её спиритуальный аспект. […] Если убрать всё это у Роджера Бэкона, Альберта Великого и Парацельса, то мы получим весь инструментарий современной науки»[1].
С этим не поспоришь. И вот сейчас зададим себе вопрос: а что если вернуть современной науке (для которой, по словам Мартина Хайдеггера, «есть только сущее, а кроме него Ничто») её спиритуальный аспект? Попросту говоря, превратить набор прикладных знаний во всепронизывающее Мировоззрение. То самое и получим – чёрную магию, «культ Кибелы», безраздельное царство именно её логоса. «Мать-Природу» – безначальную, всё-решающую, над всем довлеющую, вечную, нерождённую, все-порождающую. Так, творению мы припишем качества Абсолюта и материю превратим в Творца.
Ведьмы, Кибелы, Революции… Всё это было приведено для того лишь, чтобы показать, как могут протекать события, когда из окошка европейской ратуши начинают смотреть сверху вниз на высокогорные пики континента «Русь» и объяснять интенции Севера умозрительными концептами Запада. Поговорим лучше о хорошем. О собственно Севере.
«…Нордическая тема отождествлялась в Элладе с темой Туле, таинственной северной страны, называемой иногда „Островом Героев“, „Страной Бессмертных“, где правит белокурый Радамантис, и „Солнечным Островом“ – thule ultima а sole nomen habens (лат.), воспоминания о котором долгое время оставались настолько живыми, что в преданиях говорится, что Констанций Хлор выступил со своими легионами в Британию не столько ради воинской славы, сколько для того, чтобы в своём апофеозе власти приблизиться к месту, являющемуся „более святым и более близким к небу“, чем любое другое», – так говорит о таинственной Северной Земле Юлиус Эвола в своём «Языческом империализме». И продолжает далее: «Сила Традиции из видимой превратилась в невидимую, стала тайным наследием, передаваемым по тайной цепи от немногих к немногим. И сегодня о ней догадываются только единицы, сквозь неясные предчувствия, ещё слишком человеческие и слишком материальные»[2].
Валерий Брюсов в своём замечательном стихе, написанном накануне «русского пожара», в 1915 году, ещё более усиливает это ощущение Тайны:
- Где океан, век за веком стучась о граниты,
- Тайны свои разглашает в задумчивом гуле,
- Высится остров, давно моряками забытый, —
- Ultima Thule.[…]
- Остров, где нет ничего и где всё только было,
- Краем желанным ты кажешься мне потому ли?
- Властно к тебе я влеком неизведанной силой,
- Ultima Thule.
«Далёкая Тула» знает о поэте всё, он и есть – океан, влекомый Leide Stern, «Путеводной Звездой» (так называли Полярную звезду в Нижненемецких землях) к её берегам. Но свою Тайну она хранит за твердью гранита. Это и есть тот самый «открытый вход в закрытый дворец короля», о котором сообщает алхимик Ириней Филалет. Врата, которые всегда открыты для тех, кто их видит. Почему же не видим мы? Всё, как всегда, просто – мы сильно привыкли к темноте, где глаза вообще ни к чему, да так, что позабыли о том, что они вообще у нас есть. И случилось это уже давненько. Около 500 лет, спустя тысячелетия методичного и планомерного обучения мы наконец стали всматриваться исключительно в линию горизонта, думать о том, «а что же будет там», ждать, пока Солнце коснётся Земли прощальным вечерним лучом. Говоря иными словами – замечать лишь историю вещей этого дольнего мира, не задумываясь о них самих. И вот сейчас, вслед за Хайдеггером, мы ставим иной вопрос: «А почему они есть?» Не о том, откуда взялись, и не о том, куда уйдут, и не о том, из чего состоят, а о том, как они есть, а вместе с ними и мы сами. И мысль замирает в Тайне вопрошания, разум склоняет свою голову, слова умолкают в предчувствии чего-то очень важного. Мы роемся в своей памяти и вспоминаем только одно греческое слово – исихия…
Заглянем сначала в словарь древнегреческого языка: ἡσυχία – «спокойствие, тишина, уединение», а после посмотрим на героя русской сказки «По щучьему велению» – Емелю. Ничего не делает, молчит да на печи лежит… И вдруг раз – получает всё, включая дочь царя. У добропорядочных граждан – «добытчиков», разумеется, никаких положительных эмоций такой герой не вызовет. Иное дело – дети. Им гораздо полнее открыты смыслы, «замыленные» для глаз потребителей общественных благ.
Попробуем разобраться, что к чему. И, во-первых, заметим, что, вообще говоря, поведение Емели напоминает поведение Атоса из романа «Три мушкетёра». Когда капитан королевских мушкетёров г-н де Тревиль оповестил о начале военных действий в Бретани, то к этому известию, согласно предписанию, прилагалась и необходимость приобретения всех принадлежностей экипировки. И поскольку у графа де Ла Фер денег не было совершенно, то «он решил, что шагу не сделает для того, чтобы раздобыть снаряжение». Более того, он заверил друзей (а в его словах ни у кого никогда не было повода сомневаться): «Нам остаётся две недели. Что ж, если к концу этих двух недель я ничего не найду или, вернее, если ничто не найдёт меня, то я, как добрый католик, не желающий пустить себе пулю в лоб, затею ссору с четырьмя гвардейцами его высокопреосвященства или с восемью англичанами и буду драться до тех пор, пока один из них не убьёт меня, что, принимая во внимание их численность, совершенно неизбежно. Тогда люди скажут, что я умер за короля, и, следовательно, я исполню свой долг и без надобности в экипировке». И здесь нужно заметить, что ниже в книге имеется целая глава с названием (приводим дословно): «VIII. Каким образом Атос без всяких хлопот нашёл своё снаряжение».
Аристократичность Атоса, что называется, налицо. Выходит, что и Емеля близок к его архетипу. Но это не всё, и это не главное. По-настоящему важное скрыто в той магической формуле, которую наш герой произносит, чтобы исполнить свои «прихоти», и которая, собственно, и вынесена в заглавие сказки: «По щучьему веленью, по моему́ хотенью». Та же самая фраза повторяется в духовном стихе о Егории Храбром, но в более архаичной форме: «По Божьему веленью, Егорьеву моленью». Да и сам стих сюжетно повторяет намного более ранние мотивы, связанные с Волх[в]ом – прародителем воинско-жреческого сословия славян. Поэтому и леность Емели существует не сама по себе, а только как внешнее проявление его презрения к материальному благу, свойственное высшей касте. Именно поэтому и именно эти блага просто «ложатся в руку» Емеле по причине того, что он обладает иерархически более значимыми и вышестоящими качествами. Это обладание и обеспечивает, подобно цепной реакции или принципу фракталов, обладание благом низлежащего уровня.
Взгляд обывателя всегда цепляется за «внешнее», ему недоступна изнанка процесса и внутренняя трансмутация индивида. Ведь, согласитесь, есть, к примеру, очень значимое различие между тем, что можно совершать добрые дела, а можно просто быть добрым. Добрые дела могут быть мотивированы чем угодно, даже самым злейшим злом. К тому же к добрым делам можно принудить, ввести их в правило и даже вывести на уровень автоматизма. Иными словами, им можно обучить с помощью социально-психологических методик и усвоить их как некий навык. Совсем иначе дело обстоит с внутренней добротой, которая есть самый глубокий self человеческого существа и которая врождённа или достижима только с помощью мистической трансмутации.
Чтобы ещё лучше понять тайную изнанку событий, вспомним вот такую историю. 1087 год от Рождества Христова, Миры Ликийские. Сорок семь вооружённых людей, еретиков и иноземцев вторгаются в православный храм. Связав монахов, разбивают церковный помост, извлекают мощи Святителя Николы и, завернув в верхнюю одежду одного из нападавших, скрываются в темноте… Как расценить их поступок по обычному человеческому разумению? Думаю, это очень понятно и не требует пояснений. Понятно, почему этот день не любят вспоминать в Греции…
Однако, вспомним, чем был отмечен XI век для Восточной Римской Империи. Эта была эпоха войн с турками сельджуками, которые неоднократно опустошали города Малой Азии. И город Миры не был исключением. Поэтому в итальянской Апулии купцы на свои деньги собираются в опасную морскую экспедицию. Они знают о явлении Старца с предсказанием об опасности уничтожения мощей. Знают они и то, как греки воспримут их «инициативу». И, тем не менее, эти самые «безбожники» спасают мощи Святителя, увозя их к себе в Бари.
Так нам приоткрывается величайшая тайна Промысла Божьего, и мы начинаем понемногу осознавать, что воистину короток ум человеческий, и смысл многих событий мы начинаем понимать только спустя столетия… И, в принципе, раз начинаем, то уже это одно очень хорошо.
Часть 1. Прообраз империи
К вопросу индоевропейского монотеизма
Считая вопрос об изначальном индоевропейском монотеизме одним из наиболее актуальных исторических вопросов, думаю, что необходимо представить ряд разъяснений, касающихся проблем исторической конкретики, а именно вопроса о монотеизме древних троянцев накануне великой войны. Сразу следует отметить, что речь идёт не о чём-то таком, только-только открытом, но об очевиднейших фактах, до сих пор известных, к сожалению, довольно узкому кругу интересующихся этим вопросом исследователей Традиции. «Некоторые вещи скрывают сами себя», – так говорил основатель традиционализма Рене Генон, и «троянский монотеизм» – как раз одна из таких вещей.
Мы уже упомянули о французском мыслителе Рене Геноне. Именно ему принадлежит честь связного и последовательного изложения теории изначального монотеизма. Робко и фрагментарно она высказывалась и ранее, но в качестве цельного и проработанного концепта была сформулирована именно в рамках философии традиционализма.
Собственно, всё это направление первоначально западной мысли основывается на двух парадигмах. Во-первых, на беспощадном отрицании современного мира и его ценностей. Один из фундаментальных трудов Генона так и называется – «Кризис современного мира». Нелишне будет напомнить, что само греческое слово κρίσις, понимаемое сегодня обычно как «сложный, переломный момент», в древнегреческом значило «судебное решение», и название упомянутой книги, на наш взгляд, было бы правильнее переводить на русский именно как «Суд современному миру». Это осуждение вынесено Геноном в первую очередь в отношении «эволюционизма» и «прогресса», лживо приписываемых Священной Традиции. На самом деле традиционное знание никогда не развивалось от худшего к лучшему, от примитивных форм к более «развитым». Оно может лишь деградировать (чаще), либо уточняться (подобно «преспеянию» Православной Традиции).
Во-вторых, традиционализм утверждает тезис о едином Полюсе Традиции. Этот Полюс одновременно понимается и как место (циркумполярная северная прародина), и как ноуменальная реальность. Там, по словам Юлиуса Эволы, «навсегда достигнута высшая точка, и… „солнечная“ духовность вечно властвует над низшими силами»[3].
Другими и более простыми словами, полюс – это и вполне реальная территория, а также и вполне реальная Изначальная Традиция человечества. При этом принцип единого земного полюса выступает как образ Единого Неотмирного Абсолюта. Так происходит потому, что земное и чувственно воспринимаемое в оптике Традиции всегда вторично по отношению к реальности метафизической, которая, собственно, и является незримым основанием всего сущего.
Теперь поговорим о собственно троянской традиции. Дело в том, что все исторические (и при этом очень немногочисленные) факты из тех, что дошли до нас, были донесены не носителями самой Традиции, а позднейшими информаторами, относящимися к иным формам Богопочитания и, как следствие, несущими иные формы мировоззрения. Например, то, что мы по преимуществу встречаем в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера, – это всё уже подпадает под определение «эллинского многобожия». И поскольку иного восприятия сакрального Гомер не знал (вернее говоря, не сам Гомер – он-то как раз знал, не знали те, кто позднее передавал его священные песни), то и не мог описать эту Традицию, описать адекватно её собственному содержанию.
В целом ситуация в историографии типологически напоминает ту, с которой современная астрофизика сталкивается в вопросе о «тёмной материи»: мы видим действие некой огромной массы, заставляющей галактики вращаться быстрее, но мы совсем ничего не знаем о частицах, из которых она сложена. Иначе говоря, мы почти ничего не можем сказать о том, что или Кого чтили троянцы, но можем утверждать на основании косвенных данных, кого они не признавали богами. Именно так следует понимать слова Геродота о родственном троянцам племени пеласгов, которые «не призывали по именам отдельных богов» («История» II, 52). Греческий историк, разумеется, ставит это им в укор, но так происходит только потому, что для него единственной известной формой Богопочитания являлось «эллинское многобожие». Иного он попросту не знал.
Учитывая характерный в культовой практике индоевропейцев генотеизм (в отличие от литературной мифологической традиции), а именно фактическое поклонение одному божеству с одновременным игнорированием остальных, и памятуя о том, что, согласно греческому преданию, троянцам особо благоволил Аполлон, мы можем рассмотреть некоторые характерные черты его культа, известные из исторических источников, которые, быть может, позволят за фигурой исторического Аполлона увидеть Его изначальный прообраз. Среди огромного фонда имеющейся на этот счёт литературы можно выделить доклад Клаудио Мутти, зачитанный им на конференции Against Post-Modern World в 2011 году[4].
В частности, итальянский исследователь говорит следующее: «Плутарх использует фигуру […] Аполлона для обозначения божественного единства и уникальности. В диалоге „О дельфийском „Е“ предлагается интерпретация буквы Е (эпсилон), которая была начертана над входом в дельфийский храм Аполлона; согласно объяснению учителя Плутарха – Аммония, E, читаемая как ei, совпадает со вторым лицом единственного числа настоящего времени глагола eimi (быть), что означает, таким образом, высказывание: „ты еси“. Сказанная Богу, который убеждает человека познать самого себя (фраза «познай себя» – gnothi sauton – была начертана на входе в святилище), формула „Ты еси“ является признанием Аполлона синонимом единого Бытия. „Вот почему [как говорит Плутарх. – А. И.] следует почитающим бога обращаться к нему с приветствием: „Ты еси“ или даже, клянусь Зевсом, как обращались некоторые древние: „Ты един“. Ведь Божественное не есть множественность, как каждый из нас, представляющий разнообразную совокупность из тысячи различных частиц, находящихся в изменении и искусственно смешанных. Нет, необходимо, чтобы Бытие было единым, так как Единое должно быть Бытием. Отсюда первое, второе и третье имя бога. Он – Аполлон, он – Йей, что означает он – один и единственный, Фебом же древние назвали его из-за полной чистоты и непорочности, как ещё теперь фессалийцы, я полагаю, говорят о жрецах, когда в запретные дни те живут изолированно, что они „одержимы благодатью Феба“. Единое – непорочно и чисто; а при смеси одного с другим образуется миазма, как где-то и Гомер говорит, что „слоновая кость, будучи выкрашена в красный цвет, грязнится“, и красильщики называют „смешивать краски“ – „быть погубленным“, а смесь – „гибелью“. Итак, вечно неизменному и чистому присуще быть единым и несмешанным». Следующий метод толкования основан на символическом значении элементов, составляющих мир. Плутарх считает, что имя Аполлона может быть истолковано как соединение приватива «а» и корня polys, polle, poly (многое, множество); следовательно, «Аполлон» означает «без множества». Подобно этому эпитет Аполлона «Йэй» (Ieios) соотносится со словом heis – «один», в то время как эпитет «Фэб» (Foibos) этимологически связан с faios – «светлый», «изливающий свет, чистый», то есть «несмешанный». Следовательно, божественная сущность Аполлона является символом единого и уникального принципа вселенской манифестации, а именно «высшим Я» всего существующего. Следуя Плутарху, Нумений из Апамеи (II век) интерпретирует эпитет Аполлона «Дельфийский» как древнегреческое слово, означающее «один и единственный» (unuset solus).
В данном случае интерес вызывает именно трактовка образа Аполлона как Единого принципа Бытия. Что касается этимологии, то на самом деле имя позднегреческого Аполлона связано с индоевропейским обозначением «яблока» (ср. индийское jambu, английское apple, валийское afal) и находит свои параллели в образе Белена или Белиса континентальных кельтов, кельт-иберийского божества Абелиона, этрусского Апулу или Аплу, скандинавского Фора и божества континентальных германцев Фоля (эпитеты Бальдра). Для праиндоевропейского времени вполне надёжно реконструируется образ «Яблоневого [Бога]», что находит полное соответствие в Православии в именовании Христа «Яблоневым Спасом [Спасителем]». Но что действительно важно в мысли итальянского автора, так это то, что уже изначально заложенная в культе «Яблоневого [Бога]» интенция к толкованию его образа как единого Принципа единого Бытия, в эпоху поздней античности легла в основание распространения многочисленных синкретических культов солярного божества по всей Римской империи[5].
В связи с этим Клаудио Мутти в упомянутом докладе отмечает следующее: «В „солярном монотеизме“, который при Аврелиане (274 г.) становится официальной религией Римской империи, Аполлон отождествляется с Гелиосом, чье латинское имя Sol напоминает прилагательное solus „единственный“). В эпоху Константина фигуры солнечных Богов – Аполлона и Sol Invictus („Непобедимое Солнце“) – появляются на монетах и рельефах триумфальной арки. […] С исторической точки зрения солярная теология […] находит своё место в зрелой стадии неоплатонизма, в фазе, когда доктринальные идеи этой духовной школы уже объединены. Основатель школы Плотин (204–270) определяет Единое как принцип бытия и центр вселенской возможности, в то время как его последователь Порфирий из Тира (233–305) внёс вклад в солярную теологию своим трактатом „К Солнцу“. Этот текст потерян, однако цитируется в „Сатурналии“, где Макробиус, соотносящий Аполлона, Либера, Марса, Меркурия, Сатурна и Юпитера с солнечным принципом, говорит, что, по словам Порфирия, „Минерва есть Сила Солнца, придающая направление человеческим мыслям“. В трактате „О философии из оракулов“ Порфирий цитирует ответ Аполлона, в соответствии с которым существует лишь один Бог – Эон („Вечность“), в то время как другие боги не что иное, как его ангелы».
Теперь, когда мы представили основные черты культа Аполлона – Гелиоса – Феба, мы можем констатировать, что в рамках системы религиозного генотеизма именно этот культ закономерно тяготеет к монотеистическому толкованию, претендуя на воплощение принципа Единства для всей возможной нуминозной множественности. Именно эта характерная черта в эпоху поздней античности послужила основанием к распространению многочисленных синкретических культов солярного божества по всей Римской империи. Но именно это «тяготение к монотеистическому толкованию» одновременно указывает на характер Его культа во времена, предшествующие торжеству принципа множественности в народах и племенах, во времена существования Изначального народа и бытования его Изначальной прародины.
Теперь обратимся к собственно русской православной Традиции. Митрополит Климент Смолятич (с 1147 по 1154 год) в своём «Послании к Фоме», отвечая на упреки «ревнителей благочестия», признаёт, что «…писах от Омира, и от Аристотеля, и от Платона, иже во елиньскых нырех славнее беша», показывая тем самым незазорность обращения к индоевропейской мудрости при правильном методологическом подходе. Прошла уже почти тысяча лет, а упрёки всё те же, впрочем, и обращение к мудрости предков тоже. И раз уж тогда, в XII в. по Р. Х., это было возможно, то и сегодня обращение к тексту Гомера («Омира») не будет бесполезным, а, на наш взгляд, должно стать необходимым.
Речь пойдёт о ещё одном косвенном доказательстве праиндоевропейского монотеизма, основанном на толковании очень известного, но совершенно непонятного исторического эпизода, о котором сообщает Гомер. А именно – об истории о «троянском коне». Мы не будем здесь пересказывать её целиком – она известна практически всем. Начнём сразу с того, что невероятность описанного Гомером события ставила в затруднение самих греческих авторов. Об этом говорит, в частности, восемнадцатая речь вифинца Диона Хрисостома, посвящённая Троянской войне (II в. по Р. Х.): «…ахейцы, принёсшие посвятительный дар Афине с подобающей надписью, как обычай велит побеждённым, – эти ахейцы тем не менее будто бы взяли Трою, а в деревянном коне смогла спрятаться целая рать! Трояне же, заподозрив неладное и порешив сжечь коня или разрубить его на куски и всё-таки ничего этого не сделав, пируют себе и засыпают, хотя Кассандра всё это им предрекала. Разве не напоминает это, по правде сказать, сны и вымыслы несусветные?»[6]
Выше в той же речи Дион приводит собственную реконструкцию событий: «После того как дали о том клятвы [как он же говорит в другом месте, „что ни эллины никогда не вторгнутся в Азию, покуда в ней правит род Приама, ни Приамиды не пойдут войной против Пелопоннеса“. – А. И.] и конь – громадное обетное сооружение – воздвигнут был ахейцами, трояне подвели его к городу, а поскольку в ворота он не проходил, снесли часть стены. Вот откуда смехотворный рассказ о взятии города конём. А войско ахеян, заключив договор на этих условиях, покинуло страну».
Мы, разумеется, представим свою версию эпизода этого «кровавого индоевропейского спора». И сначала вспомним, какие ассоциации в контексте дохристианской индоевропейской сакральной Традиции несёт сам образ коня с заключёнными внутрь людьми.
В своих «Записках о галльской войне» Гай Юлий Цезарь сообщает среди прочего о практике человеческих жертвоприношений в среде кельтов: «Именно галлы думают, что бессмертных богов можно умилостивить не иначе как принесением в жертву за человеческую жизнь также человеческой жизни. У них заведены даже общественные жертвоприношения этого рода. Некоторые племена употребляют для этой цели огромные чучела, сделанные из прутьев, члены которых они наполняют живыми людьми; они поджигают их снизу, и люди сгорают в пламени. Но, по их мнению, ещё угоднее бессмертным богам принесение в жертву попавшихся в воровстве, грабеже или другом тяжёлом преступлении; а когда таких людей не хватает, тогда они прибегают к принесению в жертву даже невиновных» (VI,16)[7].
Подобные известия сохранились и о славянах. Для примера можно вспомнить сообщения «Повести временных лет», касающиеся попыток реанимации язычества Владимиром Святославичем накануне принятия Русью христианства; также и сообщения греческих авторов о принесении в жертву военнопленных его отцом Святославом. Не будем перегружать текст цитатами. Каждый, кто в состоянии хотя бы с малой степенью беспристрастной критики относиться к истории, не станет «обелять» славянское язычество. В данном случае важно другое. А именно – что все эти свидетельства единогласуют с сообщением Цезаря о кельтах, конкретно о том, что в жертву богам, как правило, приносились преступники и военнопленные. Ещё раз подчеркнём: отрывок из «Записок…» Цезаря особо важен для нас тем, что рассказывает об одной конкретной форме жертвоприношения, связанной с изготовлением чучела из деревянных прутьев, в которое помещали нескольких людей. Это культовая практика кельтов по форме очень напоминает троянского коня, внутри которого, согласно античному мифу, находились греческие воины.
В ведической традиции известен ритуал ашвамедха (asvamedha), который практиковался исключительно царями. О назначении ритуала рассказывается в Ригведе (I, 162, 22):
- Пусть боевой конь [принесёт] нам прекрасных коров,
- прекрасных коней,
- Детей мужского пола, а также богатство, кормящее всех!
- Пусть Адити создаст нам безгрешность!
- Пусть конь, сопровождаемый жертвенным возлиянием,
- добудет нам власть!
При этом ритуал ашвамедхи повторяет пурушамедха как по форме, так и по исполнению. Пурушамедха названа так в честь первочеловека Пуруши. Также и всадники – Ашвины, божественные близнецы – повторяют образ Пуруши. В перспективе изначальной традиции они синонимичны, поскольку в реконструируемом индоевропейском мифе о божественных близнецах (Διοσχουροι – Диоскуры, «Сыновья Бога-Дия-Зевса» в греческой традиции; Divonapata – «Сыновья Бога неба» в древнеиндийской традиции; Dievosuneliai – «Сыновья Бога» в литовской традиции) один из них обладает божественной, а другой – человеческой природой. Это равносильно соединению Божества и творения – образу, который являет со-бытие Бога и мира и полноту всего. Этот же образ являет индоарийский Вишведева (букв. «Все боги»), которого иначе ещё называли Вишвакарман (букв. «Отец всего»). Чтобы сотворить мир, он приносит в жертву сам себя. Ближайшую типологическую параллель данному образу являет славянский Родъ. Вишведева и Вишвакарман неоднократно упоминаются в Ригведе, которая, как известно, донесла до нас наиболее архаичные пласты древнеиндийской традиции. В своей функции творца Вселенной Вишвакарман идентичен первочеловеку Пуруше, из частей тела которого богами создаются основные объекты мироздания и сословия древнеарийского общества. Теперь становится понятным свойство Пуруши «быть отцом своим родителям» – Небу (Дьяусу) и Земле (Притхиви), от которых, в свою очередь, происходят все другие божества – собственно Вишведева.
Существенной частью ведического ритуала являлось то, что коня или человека в течение года водили по разным землям, которые должны были после этого стать частью владений царя, совершающего жертвоприношение. Троянский конь, согласно греческим и римским источникам, попадает в город во время военного противостояния. И это имеет прямое отношение к поражению Приамидов и торжеству Атридов. Учитывая параллели с ведической культовой практикой, ввоз коня в город является частью ритуала, утверждающего падение Троянского царства и укрепление властных полномочий греков. Так об этом говорится в «Одиссее» (VIII, 492–520):
- Ну-ка, к другому теперь перейди, расскажи, как Епеем
- С помощью девы Афины построен был конь деревянный,
- Как его хитростью ввёл Одиссей богоравный в акрополь,
- Внутрь поместивши мужей, Илион разоривших священный.
- Если так же об этом ты всё нам расскажешь, как было,
- Тотчас всем людям скажу я тогда, что бог благосклонный
- Даром тебя наградил и боги внушают те песни.
- Так он сказал. И запел Демодок, преисполненный бога.
- Начал с того он, как все в кораблях прочнопалубных в море
- Вышли данайцев сыны, как огонь они бросили в стан свой,
- А уж первейшие мужи сидели вокруг Одиссея
- Средь прибежавших троянцев, сокрывшись в коне деревянном.
- Сами троянцы коня напоследок в акрополь втащили.
- Он там стоял, а они без конца и без толку кричали,
- Сидя вокруг. Между трёх они всё колебались решений:
- Либо полое зданье погибельной медью разрушить,
- Либо, на край притащив, со скалы его сбросить высокой,
- Либо оставить на месте как вечным богам приношенье.
- Это последнее было как раз и должно совершиться,
- Ибо решила судьба, что падёт Илион, если в стены
- Примет большого коня деревянного, где аргивяне
- Были запрятаны, смерть и убийство готовя троянцам.
- Пел он о том, как ахейцы разрушили город высокий,
- Чрево коня отворивши и выйдя из полой засады;
- Как по различным местам высокой рассыпались Трои,
- Как Одиссей, словно грозный Арес, к Деифобову дому
- Вместе с царем Менелаем, подобным богам, устремился,
- Как на ужаснейший бой он решился с врагами, разбивши
- Всех их при помощи духом высокой Паллады Афины.
Троянцев предостерегают собственные пророки и жрецы «Яблоневого Бога» (Аполлона) – Лаокоон и Кассандра, но их не слышат. Об этом пространно рассказывает Вергилий в своей «Энеиде» (II, 40–56, 246–247):
- Тут, нетерпеньем горя, несётся с холма крепостного
- Лаокоонт впереди толпы многолюдной сограждан,
- Издали громко кричит: «Несчастные! Все вы безумны!
- Верите вы, что отплыли враги? Что быть без обмана
- Могут данайцев дары? Вы Улисса не знаете, что ли?
- Либо ахейцы внутри за досками этими скрылись,
- Либо враги возвели громаду эту, чтоб нашим
- Стенам грозить, дома наблюдать и в город проникнуть.
- Тевкры, не верьте коню: обман в нём некий таится!
- Чем бы он ни был, страшусь и дары приносящих данайцев».
- Молвил он так и с силой копьё тяжёлое бросил
- В бок огромный коня, в одетое деревом чрево.
- Пика впилась, задрожав, и в утробе коня потрясённой
- Гулом отдался удар, загудели полости глухо.
- Если б не воля богов и не разум наш ослеплённый,
- Он убедил бы взломать тайник аргосский железом, —
- Троя не пала б досель и стояла твердыня Приама.
- […]
- Нам предрекая судьбу, уста отверзала Кассандра, —
- Тевкры не верили ей, по велению бога, как раньше.
Почему троянцы не слышат жрецов Аполлона? На этот, наверное, самый важный вопрос, мы никогда не сможем найти ответа в источниках историографии. И не потому, что они очень скудны или отсутствуют вовсе, а в силу их собственного характера. События истории – это лишь отражения глубинных, бытийных событий. Перефразируя Ф. Ницше, мы можем сказать, что троянский Бог умер, так же, как позже это произойдёт на Западе с Богом христианским. На самом деле, разумеется, Бог не может умереть или уйти; но Он может умереть для человека, если человек уйдёт от Него. То же самое касается народов и рас. Троянцы ушли от своего Бога. Неотмирный Свет Феба стал более недоступен для человека. А Троя – столица «царей-волхвов» – превратилась в место запустения. Вскоре после падения Илиона потомки его народа начнут исповедовать божественность творения не в аспекте нераздельной связи мира и Абсолюта, не в акте свободы и любви, а как обязательное, ничем не обусловленное качество самой множественности мира. Затем на место Лучезарного Феба придут сонмы титанов, и молитва народов Севера окончательно умолкнет. Умолкнет более чем на тысячу лет. Но ранее это уже случилось с греками. На момент начала войны им уже известно то, что ведические арии именовали пурушамедхой. Изначальное Предание о заклании Богочеловека, которое, согласно Откровению Иоанна Богослова, произошло «от создания мира», было искажено и нашло своё непосредственное выражение в ужасной культовой практике. Поэтому и крестная жертва Христа – это одновременно и восстановление изначальных пропорций, и замещение демонических практик. Точно так же древнейшее пророчество о рождении царицей сына Спасителя без участия земнородного отца в самой извращённой форме засвидетельствовано у пунийских язычников; а именно в том, что, согласно собственной традиции, они приносили в жертву «богам» первенцев и тем самым, с одной стороны, как бы подчёркивали их возможную божественность, а с другой – как бы предотвращали саму возможность явления Спасителя. Ещё раз подчеркнём, что в данном случае важность для нас представляет не моральный контекст, в котором зародилось известное выражение Катона Старшего: «Carthago delenda est, Ceterum censeo Carthaginem delendam esse»; думаю, да – непременно должен! Но именно глубинная подоплёка, касающаяся не Рима и Карфагена только, а всей истории этого мира.
Так же, как в случае Пунических войн, за ширмой военного конфликта скрывается война мировоззрений. И если во II–III вв. до Р. Х. римляне сохраняли лишь жалкую тень изначальных сакральных представлений и осуждали своих врагов главным образом на уровне геополитики и человеческой морали, то во времена противостояния ахейско-данайского союза вождей с Троянским царством, в XIII в. до Р. Х., метафизическая подоплёка брани была ещё достаточно очевидна.
Нам сейчас вряд ли удастся реконструировать события падения Троянского царства во всей их полноте и ясности. Но тот факт, что грекам уже в то время не были чужды человеческие жертвоприношения, типологически и генетически связанные с ведической ашва- и пурушамедхой, сомнений уже не вызывает. Явное противопоставление языческого греческого культа троянскому говорит о содержании последнего лишь косвенно. Культ троянского коня отрицает саму Трою, в конечном счёте разрушает её. Тем самым он очерчивает некое неизвестное пространство скрытой исторической тайны, которая, как цитадель, возвышалась некогда посреди хаоса смешения языческого мира. И имя ей – троянский монотеизм.
Теодинастические параллели
Ещё одно доказательство троянского монотеизма мы можем обозначить как «теодинастическое». Дело в том, что общим местом практически всех родословных древнейших индоевропейских династий является как раз факт происхождения от царей Трои. Принадлежность к потомкам Приама выступает в дальнейшем как подтверждение права на царство. Если мы сопоставим этот генеалогический материал с библейской традицией, то придём к выводу о принадлежности самого Приама к старшей линии потомков Йафета, а через него – Ноя, прародителя послепотопного человечества. Это право «старшинства» потомки Йафета утратили тогда, когда право царской власти перешло к потомку Сима – Давиду, а сама эта утрата непосредственно связана с отступлением потомков Йафета от веры в Единого Бога. Мы можем заключить это уже из того, что пеласги-филистимляне (которые, несомненно, являлись частью единого культурного круга, центром которого выступала Троя) во времена святого царя Давида, согласно Священному Писанию, уже отступили от собственной веры и, утратив свой язык, поклонялись местным западносемитским божествам: Дагону в Газе и Азоте, Ваал-Зебубу, Астарте и Деркето в Аккароне. У пророка Неемии азотское наречие – это уже один из семитских диалектов. Исторические и археологические данные указывают также на совпадение во времени двух событий – падения Трои (1300–1200 гг. до Р. Х.) и Откровения, которое было дано Моисею, и оба этих события примерно на 200 лет предшествуют воцарению Давида.
В «Путях Австразии» говорилось: «Если мы проследим потомков Урана и Геи, прилагая к их родословному древу принципы престолонаследия, а именно первородство и передачу права наследования по мужской линии, то через Океана и Тефиду придём к Инаху (греч. Ιναχος) и его потомкам; поскольку среди 38 их детей было 22 сына и только от одного из них происходят потомки, имена которых мы можем связать с исторически засвидетельствованными этносами. […] Согласно Павсанию („Коринфика“ 15,6), первым человеком […] был Фороней, а Инах не был человеком, а рекой, и был отцом Форонея… Фороней, сын Инаха, был тем, кто впервые соединил людей в общество…»
Павсаний также называет сыном Форонея – Кара, прародителя карийцев и их царей, с которыми в других преданиях тесно связаны Лид, Мис, Лелег, Пеласг и соответствующие им народы: лидийцы, мисийцы, лелеги и пеласги. Таким образом, Инахиды полагают начало всем династиям культурного круга Древней Эгеиды и не только её[8].
Непосредственно троянские цари относятся к потомкам изначальной супружеской пары – Урана и Геи – через титана Иапета, второго по старшинству сына Урана. В библейской традиции ему соответствует Йафет. Сия же суть бытия сыновъ Ноевыхъ Сима Хама и Йафета, и родишася имъ сынове по потопе. Сынове Йафетовы: Гемеръ, и Могогъ, и Мадай, Иованъ, и Елиса, и Фовалъ, и Мосохъ, и Фирасъ. Сынове же Гемеровы: Асханазъ, и Ривафъ, и Формагъ. Сынове же Иовани: Елиса и Фарсисъ, Критьстьи и Родъстьи. Отъ сихъ разделишася острови странъ всехъ въ земли ихъ, кождо по языкомъ и рожденияхъ и въ странахъ ихъ (Быт. 10: 1–5).
Находясь в тесных связях с вышеупомянутым культурным кругом, в частности с народом «палустья» – филистимлянами-пеласгами, автор книги Бытия, разумеется, отмечает наиболее актуальные для него родословия, которые, как думается, «были на слуху» именно на территориях Передней Азии и Ближнего Востока. Иначе говоря, священное индоевропейское предание упоминало потомков Йафета в ещё не испорченной забвением многобожия форме, и это было отражено в западносемитском Священном Писании вполне адекватно.
Собственно, к нашему вопросу имеют отношение ещё три цитаты из книги Бытия. Приведём их в вариантах наиболее авторитетных изводов Библии, а именно Острожского (1581 г.) и Елизаветинского (1751 г.). Итак, первая цитата: И бе Ное летъ 500, и роди сыны три, Сима, Хама, Иафета /И бе Ное летъ пяти сотъ, и роди сыны три, Сима, Хама, Иафета (по Острожской Библии 6:1, по Елизаветинской Библии 5:32 соответственно). Вторая: Симу бе 100 летъ, егда роди Арфаксада, въ второе лето по потопе /И бяше Симъ сынъ ста летъ, егда роди Арфаксада, во второе лето по потопе (Быт. 11:10). И, наконец, третья: Въ 600 лето жития Ноева, втораго месяца в 27 день, въ сий день разъверзошася вси источницы бе земныя, и хляби небесныя отверзошася /Въ шестьсотное лето въ житии Ноеве, втораго месяца, въ двадесять седмый день месяца, въ день той разверзошася вси источницы бездны, и хляби небесныя отверзошася (Быт 7:11). Из приведённых цитат следует, что Ной начал порождать сыновей, когда ему было пятьсот лет. В шестисотый год его жизни произошёл потоп. Причём дата потопа указана очень точно и включает даже месяц и день. Поэтому логично предположить, что и остальные даты предполагают точное, а не примерное прочтение. Значит, его старшему сыну в момент потопа было ровно сто лет. В то время как Симу сто лет исполнилось только через два года после потопа. Другими словами, в момент потопа ему было девяносто восемь лет, и он на два года младше своего старшего брата. И далее для окончательного прояснения вопроса о возрастных отношениях сыновей Ноя мы прибегнем ещё к одной цитате по Острожскому и Елизаветинскому спискам: Симу бывшу тому отцу всех сынов Еверовых, брату Афетову старейшему /И Симу родися и тому, отцу всехъ сыновъ Еверовыхъ, брату Иафета старейшаго (Быт. 10:21). Если в первых трёх цитатах разночтения незначительны и не вносят совершенно никакого семантического отличия, то здесь оно налицо. Острожский текст позволяет отнести определение «старейший» как к Симу, так и к Йафету. Тогда как Елизаветинский текст недвусмысленно сообщает о том, что старшим сыном Ноя являлся именно Йафет. Памятуя о том, что сообщают нам первые три цитаты, мы можем констатировать, что в целом текст книги Бытия читается как цельный и внутренне логичный именно в свете утверждения старшинства Йафета. Так мы приходим к окончательному заключению, что старшим сыном Ноя являлся Йафет, средним Сим и самым младшим Хам.
В лингвистической реконструкции имя Ноя воспроизводится как праиндоевропейское *Nahwo – «лодочник», «корабел», «кормчий». По мнению И. К. Гаршина, библейское имя Ной происходит от индоевропейского *nahw – «лодка», «судно» (отсюда латинское na: uis – «судно», древнеиндийское na: u – «судно», «лодка», древнеирландское nau – «судно», «корабль», древнеисландское nor – «судно», древнеанглийское no: wend – «мореход». Мы можем связать его с Ιναχος’ом, имя которого известно из греческой традиции как имя прародителя и одноименной реки. Йафета можно отождествить с титаном Ιαπετος’ом. Фарсиса можно связать с Персеем (Περσευς), который этрускам был известен как Фарсифай. В поздней языческой греческой традиции он выступает как прародитель царей Аргоса. По-видимому, первоначально он мыслился не только как прародитель пеласгов Пелопоннеса, но всех пеласгов вообще. Елиса мы можем отождествить с Eλλην’ом, который, согласно греческой традиции, родился у Девкалиона и Пирры после потопа, и которые, в свою очередь, также являлись потомками Иапета. Священное Писание также указывает на потомков Фарсиса, как изначальных жителей Крита и Родоса, что, собственно, не противоречит историческим источникам о происхождении «народов моря».
Непосредственное знание об этой родословной и его актуальная значимость очень ясно запечатлелись в чаяниях Александра Великого. Их хорошо описала Максимиани Портас: «Этот последний [Александр. – А. И.], хотя и был пан-эллинистом, лучше, чем кто-либо другой из своих наиболее образованных современников, осознавал необходимость преодоления строго эллинского патриотизма, радикального различия между греком и не-греком, выраженного словами: Pasmen Hellen Barbaros („Кто не грек – тот варвар“). Между тем вместо того, чтобы подавать пример интернационализма, что, без сомнения, хотели бы приписать ему многие идеологи современности, он провёл чёткую грань между категорией не-греков и иных народов. Он подталкивал своих чистокровных македонцев к тому, чтобы сочетаться браком с персидскими женщинами – такими же арийками, как и они сами, просто говорящими на другом языке и имеющими отличные от греческих обычаи… И две его собственные инородные жены были арийской крови»[9].
Известно, что он не желал смерти Дария III Ахеменида, намереваясь сделать его своим соправителем. Обычно современные исследователи видят в этом лишь «политическую гибкость». Правда заключается, конечно же, в ином. А именно в том, что Александр очень жёстко придерживался династического права, и его род Аргеады через царя Аргоса и Дориды Темена (Τεμενος’a) принадлежал к Гераклидам, которые, в свою очередь, также, как и Ахемениды, являлись ветвью от Персея-Фарсифая. Т. е. и тот, и другой в конечном итоге происходили от одной изначальной индоевропейской династии.
Согласно римскому мифу, предок Юлиев Асканий Юл († приблизительно в 1138 году до Р. Х.) ведёт свой род от Энея. Жена Энея, Креуса, считалась дочерью Приама и Гекубы. Но дело в том, что имя Юла родственно именам германского Волсунга и легендарного первого князя славян Волхва. Одним из потомков последнего был и новгородский князь Гостомысл. Его средняя дочь Умила, согласно Иакимовской летописи, стала матерью первого русского князя – Рюрика. Сам Рюрик был представителем восточногерманского племени, ставшего известным Тациту через посредство западногерманских информаторов как Rugii, а готскому историку Иордану – из преданий собственного народа как Rosi-manorum, Rosso-morum. В реконструкции их имя будет звучать *Ru(h)os(a)mans, что можно смело перевести словосочетанием «русские люди», по подобию с Engls («англы») и English (множественная собирательная форма от Englishmen). О правителях этого восточногерманского племени, которое в союзе со словенами ильменскими и киевскими полянами породило русский народ и создало русское государство в IX-X вв. по Р. Х., известно очень немного. Однако из «Бертинских анналов» мы знаем об их конунге по имени Хакон (839 г.). Также и «Сага о Волсунгах» доносит до нас историю о конфликте руссов с королём готов Германарихом (IV в. по Р. Х.), который за мнимую измену с собственным сыном казнил свою невесту Сванхильду. Названная у Иордана Сунильдой, она считалась дочерью Сигурда, сына Волсунга; а её матерью саги называют Гудрун из рода Гьюкингов, государство которых находилось «к югу от Рейна». После смерти Сигурда Гудрун стала женой конунга Иоанакра, сыновья от которого называются представителями племени «россомонов» – руссов. Очень интересное предположение, касающееся этимологии этого этнонима, было недавно предложено И. В. Зиньковской: «…в лексиконе готской Библии, записанной Ульфилой в IV в., есть слова: rohsns – „двор“ и manna – „муж“. Получается, что слово rohsomanna по-готски буквально могло означать „придворный“»[10]. Мы далеки от мысли, собственно, и озвученной этим автором, а именно – от отказа «россомонам» в праве этнонима и толковании их имени в чисто социологическом ключе. Однако сама эта предложенная этимология может быть принята как вполне состоятельная.
Так мы на протяжении всей европейской истории видим переплетение различных ветвей единого Троянского рода. Разделённые некогда Скандинавским ледниковым щитом на две больших ветви – носителей языков «кентум» и «сатем», индоевропейцы встречаются вновь вблизи Геллеспонта, на историческом «перекрёстке» – мосте между Азией и Европой, чтобы там вновь разделиться и создать правящие династии Евразии.
Возвращаясь к данным, которыми мы располагаем из библейского предания, и соотнося их с теорией северной прародины человечества, можно сказать, что весь эон существования допотопного человечества на территориях циркумполярной прародины отмечен фигурами Адама и Ноя. В смысле принадлежности к этому эону – их сходство; в смысле положения на временной шкале (в его начале и его конце) – их различие. И тот, и другой – единственные. Адам – единственный из живых. Ной – единственный из выживших. В этой «единственности» – их отличие от Йафета и его братьев. Не считая отца и мать, они имеют жён, братьев, двух золовок. Но если смотреть с позиции идеи «единственности», как некоего архетипа, в наибольшей полноте воплотившегося в Адаме, а уже в меньшей степени – в Ное, то старшинство Йафета делает его фигуру архетипически более близкой к Прародителю. Именно Йафетиды и их царская первородная линия воплощают архетип первородного Адама на протяжении всей человеческой истории. Причастность к этому роду в виде непосредственной «кровной» принадлежности либо присяги является залогом связи с точкой отсчёта существования мира, а в конечном итоге – с Началом вообще. С тем Началом, в котором всегда, вне времени и пространства, пребывало метафизическое Слово, которое мы именуем определением «Бог». Именно фигура царя от первородной ветви человечества всякий раз, на каждом витке спирали человеческой истории, являет собой «нового Адама». В сверх-полноте Новым Адамом является Христос. В акте причастности к Его крови, который происходит во время Евхаристического таинства, мы становимся причастными не только Богу, но и царской ветви человеческого рода.
«Из устного Предания известно, – говорит Максим Медоваров, – что сей Род един и не прервётся до Конца мира. Об этом долгое время не говорили – не было нужды говорить, но крушение традиционных монархий заставляет ставить этот вопрос эксплицитно. Сегодня, как и две тысячи лет назад в Галилее, представители царского рода, быть может, блуждают бездомные и сокрытые, голодные и неузнанные… Помнить об этом сейчас – важнее, чем когда бы то ни было»[11].
Три сына прародителя и их сакральная роль
До нас дошло «Послание пресвитера Иоанна». В нём рассказывается об устройстве царства этого легендарного правителя: «Семьдесят две области служат нам, и лишь немногие из них христианские, в каждой правит свой царь, и все они являются нашими подданными»[12]. Далее описаны страшные языческие народы в подчинении идеального православного правителя. Это чаяния Европы. Это та православная Империя, в которую желали некогда вернуться народы Старого континента. Семьдесят два – число не случайное. Это число народов, чьи языки были смешаны Господом во время Вавилонского столпотворения. Число всей полноты народов и их языков. Почему эта Империя не может вернуться? Что мешает самому сердечному чаянию обрести своё воплощение в современном мире? Для этого следует разобраться, в чём вообще заключено право царской власти согласно Православной Традиции.
Выше мы уже коснулись вопроса о соотношении сыновей Ноя с точки зрения их старшинства и выяснили, что старшим был Йафет, средним – Сим и самым младшим – Хам. Деление на расы, происходящие от трёх братьев прародителя, так же, как их привязка к социальным классам, – мотив очень устойчивый и универсальный.
В германской «Песне о Риге» (Rigsthula) рассказывается о том, как Риг в своих странствиях набрёл на дом, в котором жила чета стариков («прадед с прабабкой»). Ночью Риг ложится в постель, а по обе стороны от него укладываются хозяева. Спустя девять месяцев у хозяйки дома родился сын, который был назван Трэлем. На языке мифа это означает, что зачатие Трэля происходит не только по желанию родителей, но и по воле божества, через его посредство. Далее в песне рассказывается о том, как к Трэлю пришла дева по имени Тир, и от них повёл своё начало весь род рабов. Затем Риг остаётся на ночевку в другом доме, хозяева которого определяются в песне как «бабка и дед». Спустя девять месяцев бабка рожает сына, который назван был Карлом. Когда он вырос, к нему привезли невесту по имени Снёр. От этой четы ведут свой род все бонды, т. е. крестьяне. В следующем доме Риг встречает «мать и отца». Они рождают сына по имени Ярл.
- Ярл в палатах начал расти;
- щитом потрясал,
- сплетал тетивы,
- луки он гнул,
- стрелы точил,
- дротик и копья в воздух метал,
- скакал на коне,
- натравливал псов,
- махал он мечом,
- плавал искусно.
- Тут из лесов Риг появился,
- Риг появился,
- стал рунам учить;
- сыном назвал его,
- дал своё имя,
- дал во владенье наследные земли,
- наследные земли, селения древние.
От Эрны, дочери Херсира, к которой посватался Ярл, у него родились сыновья, одного из которых звали Кон:
- Кон юный ведал волшебные руны,
- целебные руны,
- могучие руны;
- мог он родильницам
- в родах помочь,
- мечи затупить,
- успокоить море.
- Знал птичий язык,
- огонь усмирял,
- дух усыплял,
- тоску разгонял он;
- восьмерым он по силе
- своей был равен.
Этот отрывок доносит до нас очень важную информацию, поскольку «юный Кон» (в оригинале Konrungr – «Род юный»), о котором здесь идёт речь и от которого ведут свой род верховные правители – «конунги» (konungr), наделяется способностями колдуна, указывающими на его связь с сословием жрецов.
Согласно Старшей Эдде («Прорицание Вёльвы», 17–18), прародителями человечества была только одна супружеская пара – Аск и Эмля (Askr ok Embla – «Ясень и Ива»). И именно они в «Песне о Риге» выступают как не названные по именам родители Ярла, Карла и Трэля. Они зовутся там «прадедом с прабабкой», «дедом и бабкой» и, наконец, «отцом с матерью». Это является указанием на то, что способность рожать детей и длительность их жизни в представлениях германцев были существенно продолжительнее сегодняшних. Это, в свою очередь, вновь возвращает нас к легенде о Ное, который породил первого сына, когда ему было 500 лет, а второго – на 502-м году жизни. Скандинавская «Песнь о Риге» как бы указывает на то, что в момент рождения Ярла других детей у них ещё не было, на момент рождения Карла они уже имели внуков, а когда родился самый младший, Трэль, они были прадедом и прабабкой для старшего поколения своих потомков. Другими словами, когда бы ни были зачаты Карл и Трэль, они всё равно должны пониматься как представители младшей линии рода, т. к. у их родителей, безусловно, уже были не только дети, но и внуки и правнуки. Контекст повествования, также указывает на обратное течение времени и развивается от конца к началу, что косвенно подчёркивает вечность явившегося к ним Божества, которое не подвластно времени, но, напротив, само время подвластно Ему.
Вторая форма известного нам генеалогического индоевропейского мифа повествует о расчленении Первочеловека, из частей которого происходят разные социальные классы. Это звучит как нечто невероятное, но и сегодня в священных песнях индоевропейских народов, отстоящих географически друг от друга более чем на две тысячи миль и разнесённых пропастью инволюции единого языка по самому минимуму на три тысячелетия, мы всё ещё можем найти отражение изначального сакрального текста.
Итак, Старшая Эдда, «Речи Гримира» – Grímnismál, 40–41:
- 40. Имира плоть
- стала землёй,
- кровь его – морем,
- кости – горами,
- череп стал небом,
- а волосы – лесом.
- Ór Ymisholdi
- var jörð of sköpuð,
- en ór sveitasær,
- björgór beinum,
- baðmrór hári,
- en ór hausihiminn.
- 41. Из ресниц его Мидгард
- людям был создан
- богами благими;
- из мозга его
- созданы были
- тёмные тучи.
- En ór hansbrám
- gerðublíðregin
- Miðgarð manna sonum,
- en ór hansheila
- váruþau in harðmóðgu
- skýöll of sköpuð.
Далее Ригведа, X –
- 11. Когда Пурушу расчленяли,
- На сколько частей разделили его?
- Что его рот, что руки,
- Что бедра, что ноги называются?
- yatpuruṣaṃvyadadhuḥkatidhāvyakalpayan |
- mukhaṃkimasyakaubāhūkā ūrūpādāucyete ||
- 12 Его рот стал брахманом,
- (Его) руки сделались раджанья,
- (То,) что бедра его, – это вайшья,
- Из ног родился шудра.
- brāhmaṇo.asyamukhamāsīdbāhūrājanyaḥkṛtaḥ |
- ūrūtadasyayadvaiśyaḥpadbhyāṃśūdroajāyata ||
- 13 Луна из (его) духа рождена,
- Из глаза солнце родилось.
- Из уст – Индра и Агни.
- Из дыхания родился ветер.
- candramāmanasojātaścakṣoḥsūryoajāyata |
- mukhādindraścāghniścaprāṇādvāyurajāyata ||
- 14 Из пупа возникло воздушное пространство,
- Из головы развилось небо,
- Из ног – земля, стороны света – из уха.
- Так они устроили миры.
- nābhyāāsīdantarikṣaṃśīrṣṇodyauḥsamavartata |
- padbhyāṃbhūmirdiśaḥśrotrāttathālokānakalpayan ||
И, наконец, Г[о]лубинная книга (цитата по сборнику Оксенова):
- От чего у нас начался белый вольный свет?
- От чего у нас солнце красное?
- От чего у нас млад-светел месяц?
- От чего у нас звёзды частые?
- От чего у нас ночи тёмные?
- От чего у нас зори утренни?
- От чего у нас ветры буйные?
- От чего у нас дробен дождик?
- От чего у нас ум-разум?
- От чего наши помыслы?
- От чего у нас мир-народ?
- От чего у нас кости крепкие?
- От чего телеса наши?
- От чего кровь-руда наша?
- От чего у нас в земле цари пошли?
- От чего зачались князья-бояры?
- От чего крестьяны православные?
- У нас белый вольный свет зачался от суда Божия,
- Солнце красное от лица Божьего,
- Самого Христа, Царя Небесного;
- Млад-светел месяц от грудей его,
- Звёзды частые от риз Божиих,
- Ночи тёмные от дум Господних,
- Зори утренни от очей Господних,
- Ветры буйные от Свята Духа,
- Дробен дождик от слёз Христа,
- Самого Христа, Царя Небесного.
- У нас ум-разум самого Христа,
- Наши помыслы от облац небесныих,
- У нас мир-народ от Адамия,
- Кости крепкие от камени,
- Телеса наши от сырой земли,
- Кровь-руда наша от черна моря.
- От того у нас в земле цари пошли:
- От святой главы от Адамовой;
- От того зачались князья-бояры:
- От святых мощей от Адамовых;
- От того крестьяны православные:
- От свята колена от Адамова.
Ригведа представляет священников – брахманов (у славян – волхвов) и воинов – кшатриев (бояр), как разные сословия. Однако у тех же индусов сохранилось предание о «лебединой варне» Хамса, представители которой объединяли в себе царско-жреческую функцию. В свою очередь, у славян Волх[в] выступает именно как первый князь и представитель воинского сословия.
К такого рода генеалогическим повествованиям относится также и скифская легенда о Таргитае. Имя Таргитая, как справедливо было замечено Б. А. Рыбаковым, повторяет эпитет греческого Аполлона Таргелия и Тарха Тараховича русских сказок. В пересказе Геродота сыновьями Таргитая названы Липоксаис, Арпоксаис и самый младший Колаксаис (Λιπόξαϊν καὶ Ἀρπόξαϊν καὶ νεώτατον Κολάξαιν). В их царствование на Скифскую землю с неба упали золотые предметы: плуг, ярмо, секира и чаша[13].
В данном случае классическое деление мифа на социальные классы, т. е. прямое соотношение каждой варны с определённой степенью полноты власти, заменено на представление о роде занятий: земледельцы (плуг) и скотоводы (ярмо), разумеется, не отличаются с точки зрения властных полномочий. Однако существенно то, что у скифов, несмотря на их максимальную близость с племенами индийской ветви ариев, чаша и секира не отделяются друг от друга. И чашей, и секирой владеет «Солнце-царь» (Колаксай). Другими словами, царско-воинскую и жреческую функцию, подобно славянам и германцам, скифы объединяли в лице одного сословия.
Точно также в Евангельском повествовании мидийские цари, которые поклонились Христу-младенцу, выступают как «цари-волхвы». С точки зрения священной истории очень существенно, что в лице пастухов Христу кланяется средний сын Сим, а в лице «царей-волхвов» – старший Йафет. Младший же Хам вовсе не присягает Царю Миров. И, дабы не получить упрёков в принижении какой-либо из ветвей человеческого рода, мы должны здесь особо отметить, что каждый народ, так же как и каждый человек, любим и нужен Господу, и каждый призван на своё служение. Хотя Хам не имеет привилегий касты воинов, зато он свободен от воинской присяги. Да, его дети не носят на себе золото, но и матери из его рода не хоронят своих мужей и сыновей, погибших на многочисленных войнах. Нам могут возразить, что войны приносят смерть и горе во все дома. Особенно войны мировые. Что ответить на это? Да, это так. Но нельзя забывать, что речь идёт о схеме архетипической и идеальной. Это во-первых, а во-вторых, речь идёт о самом отношении события «война» к определённой варне – «царей-волхвов». Для царей война не нечто, вторгающееся случайным, неотвратимым образом в их жизнь, подобно стихийному бедствию или катастрофе. Что-то внешнее, что могло пройти стороной. Война – непременный атрибут их жизни, основное её содержание и смысл их служения. И, наконец, следует сказать, что эти изначальные расовые архетипы реализованы внутри каждого отдельного племени и даже каждого отдельного человека подобно фракталам, распространяющимся на всё более нижележащий и всё более ограниченный уровень. Каждый человек и каждый народ несёт в себе и царя-волхва, и труженика, и раба. Но, разумеется, в разной мере и степени в разные моменты истории.
Указание Писания на Йафета, как того, кто въселитъся в села Симова (Быт. 9:27), крайне важно. Индоевропейцы действительно единственные, кто потерял свой первоначальный Северный удел. А вместе с его потерей и свою Традицию, после чего право первородства, главным индикатором которого является единственно легитимная царская власть, перешло к потомкам среднего Ноева сына. Это событие было обозначено воцарением Давида, которое практически синхронно падению Трои. Так, раз став актуальным в определённой точке времени, оно по «фрактальному» принципу сопровождает всю историю Мира. В соответствие этому и Христос, «сын Давидов» (т. е. принадлежащий к его роду по Иосифу Обручнику), оказывается младшим сыном своего названного отца. В Новом Завете, в согласии со Священным Преданием, упомянуты старшие братья Iсуса Христа в легальной фикции (опять же по Иосифу Обручнику) – Иаков, Иосия, Иуда и Симон, также и две сестры, которые не названы по имени. Теологи и историки постоянно обходят стороной тот факт, что, являясь младшим сыном Иосифа, Христос не имел права на Иудейское царство. Да, безусловно, через усыновление он был легитимным представителем рода Давида, но повторимся – первостепенного права на царство не имел. О ясном понимании этого говорит, увещевая отступников от «древлего благочестия», автор т. н. «Выговского сочинения» (XVIII в.), в котором утверждается правота дораскольной традиции Русского Севера: «Вы уже вси [ошибающиеся. – А. И.] от давних времён уставляете новомудрствующе, не токмо Пилату, яко язычнику, согласная пишуще на кресте четыре литеры сия I Н Ц I, знаменующия Исус Назарянин, Царь Иудейский: но и латином, и лютером, и кальвином, и никоновых времен новонаставшему согласному вышеозначенным подписанию. Но Церковь древлеправославная грекороссийская и апостольская гласит боголепными написании, еже есть Царь Славы, Исус Христос, Ника: всеми старопечатными книгами, разных выходов…» По сути, наиболее распространённое ныне надписание на верхней перекладине Креста Господня – это не просто издёвка Пилата над иудеями, но самая простая ложь.
Сама по себе передача права на царство от старшего брата Йафета к среднему Симу и обратно, если пользоваться метафорическим подходом к толкованию сюжетов Священного Писания, выглядит как архетипическое событие, вновь и вновь повторяющееся на протяжении поколений их потомков. Уже внутри истории рода самого Сима, младшего брата Йафета, мы встречаем мотив передачи власти от старшего брата младшему. Это не что иное, как прообраз к принятию царского чина его потомком Давидом. Речь идёт о том, как Исав продал своё право первородства младшему брату Иакову (Израилю) за чечевичную похлёбку. История затем повторяется среди потомков самого Иакова – сыновей Иуды. И неким образом «отвердевает», переходя с уровня свободного воления души уже на уровень физиологии. А именно: первым должен был появиться Зара, но во время родов лишь высунул руку, и его путь к рождению преградил Фарес. Именно он считается родоначальником царской династии Давида и Соломона. Однако Зара трактуется как образ той Благодати, что была до иудейского Закона, и одновременно той, полная реализация которой должна была произойти после его отмены. Эту отмену знаменует рождение Зары. И она не что иное, как Благодать, пришедшая через Iсуса Христа. А когда сам Христос повелевает фарисеям: воздадите кесарева кесареви (Мк. 12:13–17; Лк. 20:20–26; Мф. 22:15–22), то это повеление, кроме социально-политического значения, ещё выглядит и как свидетельство возвращения царского достоинства правителям от рода Йафетидов.
Кроме того, особенно важно, что индоевропейский миф в своей реконструкции говорит о связи старшинства с родом занятий. Средний брат – прародитель тружеников (вайшья, бондов), производителей материальных благ. Поэтому и мотив «чечевичной похлёбки» в истории Исава и Иакова не случаен. Иаков продаёт брату то, чем легитимно обладает. Так, в лице утраты первородной ветвью своего царского достоинства человечество ставит во главе себя среднее колено и связанное с ним материальное благо. В мире, до сих пор живущем в логике Ветхого Завета, именно материальное благо и связанные с ним люди находятся у руля государства и определяют как экономическое направление развития, так и макрополитику. И если первая из перечисленных функций вполне прилична потомкам среднего колена человечества, то право на вторую явно не может принадлежать им.
Рассматривая далее аспекты этой схемы и её социально-исторические проявления, мы должны отметить, что не только высшая варна имеет двойственный характер, представляя одновременно царство и священство. Также и средняя варна тружеников имеет свой условно пассивный и условно активный аспекты. Активный – это предприниматель и рабочий, пассивный – интеллигенция. Также и представитель варны рабов может реализоваться как в виде анархически настроенного пролетариата (активный аспект), так и в виде слуги (пассивный аспект). Тем, кто заинтересуется этой темой, представленная шестичленная трёхуровневая схема может многое объяснить. Мы же здесь отметим только наиболее важные следствия открывающейся через неё перспективы. Во-первых, ситуация, в которой торговец управляет военным, противоестественна; а во-вторых, интеллигенция, которая пытается всех учить жизни, – явление позднее и прямо связанное с узурпацией властных полномочий потомками среднего сына прародителя. Интеллигент – это равно представитель производящей варны, пусть даже продукт его труда – интеллектуальное достояние. В первую очередь это учёный, но не поэт или философ. Его умственная деятельность имеет жёстко ограниченный метод и особую систему, и главным мерилом продуктивности такой деятельности является возможность воспроизведения её результатов в условиях эксперимента, повсюду и любым другим человеком.
Понятно, что с философией и поэзией дела обстоят совершенно иначе, но это уже отдельная тема для беседы, её мы коснемся ниже. Здесь же для иллюстрации приведённой концептуальной схемы напомним о том, о чём вскользь мы уже упоминали в предыдущей главе, говоря об Александре Великом Аргеаде и Дарии III Ахемениде. И тот, и другой являлись ветвью от Персея-Фарсифая. Александр не желал и не мог убить Дария, потому что кровь царей священна, в ней живёт «фарн». Пролить кровь царя – значит пролить кровь Бога.
Мы также упомянули, что современные исследователи видят в этом нежелании убивать лишь «тактическую хитрость» узурпатора, к которой он прибегает в своей неуёмной жажде власти, полагая, что «тёмной массой» ему будет гораздо легче управлять из-за спины правителя, легитимность которого (видимо, в силу «инерции» и/или привычки) эта масса признаёт. Что можно сказать об этом? Это лишь логика нашего тёмного века. Но и эта логика существует не сама по себе, а в рамках особой социальной формации. В век, когда на место священника и царя заступили интеллигент и торговец, значение имеет лишь утилитарное рациональное объяснение. В оптике этого взгляда всегда должна присутствовать личная выгода. Гешефт. И это единственное основание или мотивация, которые достойны оправдания в глазах средней варны человечества. Следует ещё сказать, что в оптике того же социального концепта должна существовать и логика раба. И для Хама «всё ясно», но по-своему. Поверженный правитель – существо, достойное лишь презрения. Мог убить, но не убил? Значит, оставил для смеха, унижения и самоутверждения. Три мира, три логики. Выбирайте.
Важно понять, что на сегодняшнем этапе именно традиционалистский дискурс, который включает в себя понятие об универсальном символизме, а значит, и универсальном Священном Предании (в разных традициях в разной степени искажения), при поверке Священным Писанием позволяет утвердить концепцию святоотеческого толкования Священной истории. Ту концепцию, к которой с нескрываемой агрессией относятся проповедники «открытого общества», мира, в котором рабы правят рабами и в котором нет места царству пресвитера Иоанна.
Топография Священного Пространства
Представьте, подходите вы к какому-нибудь географу-геодезисту и заявляете:
– Мне нужна карта мироздания.
Скорее всего, он будет часто моргать, ну или что-то иное в этом роде. Так сегодня. Но для человека эпохи премодерна, для человека Традиции, такая постановка вопроса вряд ли бы вызвала удивление. В чём же дело? Изменилось само понимание мира. Мироздание – это более не образ Небесного Абсолюта. Разорвана связь между Истоком и его проявлением. Творение уже не воспринимается как отпечаток неотмирного Эйдоса, отражение Небесного Архетипа, но только как форма самого себя. Нашего картографа ставит в затруднительное положение не что иное, как истолкование Бытия как «воли к власти». Это Бытие, толкуемое как имеющее опору лишь в самом себе, не видящее своего основания в Вышнем. Бытие, которое отныне представлено, как некая, не столько временна́я, сколько вре́менная случайность, результирующая воли случая совпавших факторов.
Иначе говоря, карта, та которую мы знаем, начиная с конца эпохи Великих географических открытий, оторвана от Принципа. Она ничего не объясняет, а лишь презентует себя, и ничего кроме, или, сказать лучше, предоставляет, кроме себя, Ничто. Мир замкнулся на себе, потеряв измерение Бесконечности пространства, растворяющегося в океане метафизики (в данном случае понимаемой как особый «топос»).
У древних карты были иные. Подобно вышивке на одежде или резьбе на жилище, карта несла символический смысл. Изображая, к примеру, круг земель и стран, orbis terrarum, картограф одновременно обозначал всю полноту вещей мира. Акцентируя три континента – Европу, Азию и Африку, указывал на их соответствие трём прародителям послепотопного человечества – Йафета, Сима и Хама. Так всякому становилось ясно, что континенты – это не просто куски суши, опоясанные океанами, но уделы сыновей Ноя.
На античных картах и производных от них картах эпохи раннего Средневековья эти чаще всего континенты структурированы схематичным изображением в виде положенной на бок T-мачты, которая обозначает Средиземное море, и перекладины-меридиана, примерно соответствующего 35° восточной долготы и совпадающего на севере с Чёрным морем и устьем Днепра, а на юге – с устьем Нила и/или Красным морем. Нетрудно заметить, что с этим меридианом примерно соотносятся острова Соловецкого архипелага, Москва, Иеросалим и сама гора Голгофа.
И если иеросалимская Голгофа известна практически всем, то о северной знают немногие. А известно нам то, что 18 июня 1712 года на острове Анзер, в тонком сне, Богородица явилась преподобному Иову и сказала, указывая на близлежащую вершину: «Эта гора отныне называется второй Голгофою… Я сама буду посещать гору и пребуду с вами вовек». Эту «северную Голгофу» можно рассматривать как архетип, и тогда она встаёт в один ряд с греческим Олимпом, «Этам уттарам гирим» Ригведы, Тул Туинде ирландцев, Араратом жителей Малой Азии и Ближнего Востока. Другими словами, со всякой сакральной вершиной, находящейся к северу от места актуального расселения отдельного народа или группы племён. Этот список «северных гор», разумеется, можно расширить.
Очень сложно освободиться от навязчивого «историцизма», которым пропитано современное сознание. В оптике сакральной Традиции совершенно не имеет значения время, когда за тем или иным объектом было закреплено Имя. Если это произошло однажды, то, значит, по сути – так было и так будет всегда. Поэтому в контексте Единого Полярного Истока двойственный образ Соловецкой и Иеросалимской Голгофы сливается в один, так же как орудие казни превращается в «животворящее древо» и сама смерть – в жизнь.
О Событии, несущем одинаковое сакральное значение, и о людях, через которых этому Событию должно прийти, в одном из своих интервью В. И. Карпец заметил следующее: «Если быть последовательным в понимании того, как Вечность отражается во времени, получается, что это вообще одно и то же Событие, которое только меняет определённые очертания. Это не значит, что это одни и те же люди. […] Это разные люди, разные души, но все они объединены одним и тем же смыслом События. И этот смысл События начертан, и он… продолжается, и он ещё не завершён. Он будет завершён только тогда, когда вообще завершится актуальный мир». Подобным образом и разные Места могут быть отмечены одним смыслом События, и тогда они могут быть рассмотрены как единый сакральный Топос. Это их метафизическое единство, которое вводится в наше внимание Священной Традицией, тем не менее всегда пытается соскользнуть в упомянутый выше историцизм или, говоря иначе, конкретику бытия тварного мира и профанного линейного времени. Так Событие теряет свой смысл, но оставляет позади себя собственное очертание – тревожное пространство утраченного Иного.
Именно события, привязанные к меридиану 35-го градуса восточной долготы на единственно историческом материке (Евразии) занимают центральное место, определяя ход всей истории человечества. Нет смысла перечислять их, достаточно будет вспомнить Троянскую войну и Воплощение Господа нашего Iсуса Христа.
Особое отношение к этому меридиану фиксируется уже в эпоху зарождения институтов государственности на севере Европы. Летописец Нестор передаёт нам легенду о первом князе киевских полян, которые потом, спустя столетия, вместе с восточными германцами – руссами, крестившись, создадут единый православный русский народ. Итак: «…Кий был перевозчиком; был-де тогда у Киева перевоз с той стороны Днепра, отчего и говорили: „На перевоз на Киев“. Если бы был Кий перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду; а этот Кий княжил в роде своём, и когда ходил он к царю, то говорят, что великих почестей удостоился от царя, к которому он приходил. Когда же возвращался, пришёл он к Дунаю, и облюбовал место, и срубил городок невеликий, и хотел сесть в нём со своим родом, да не дали ему живущие окрест; так и доныне называют придунайские жители городище то – Киевец. Кий же, вернувшись в свой город Киев, тут и умер; и братья его Щек и Хорив и сестра их Лыбедь тут же скончались».
Летописца ставит в затруднение тот факт, что Кий, будучи простым перевозчиком, удостоился аудиенции самого византийского императора. Тем не менее мы, в свою очередь, можем поставить под сомнение само это сомнение Нестора. В данном случае нас не сильно интересует вопрос «историчности» самого Кия и его визита к императору. Важно понять внутреннюю логику легенды, которая в данном случае намного превосходит логику изложения самого Нестора. Итак, зачем перевозчик отправился в Константинополь? Ответ очевиден – для того, чтобы получить властные полномочия; выражаясь проще, для того, чтобы стать князем. Но сразу встаёт второй вопрос: почему для этого ему требовалось разрешение императора Римской империи?
На первый взгляд, вообще непонятно, на что претендовал этот выходец со Среднего Поднепровья, которое в те времена не представляло большого геополитического интереса для Восточной Римской Империи. Примерно в то же самое время (в 508 году) Хлодвиг I Меровинг был объявлен послами Константинополя своим консулом. По-гречески этот титул звучит как «ипат» – «высочайший» и по сути означает верховного правителя в отсутствие царя. Но в отличие от Кия франкский правитель, во-первых, по существу являлся правителем бывшей римской провинции Галлии, во-вторых, претендовал на роль пангерманского конунга и, в-третьих, был православным.
Ничего подобного легенда о Кие до нас не доносит. Что вообще мы знаем о славянских князьях, и что легитимировало их властные полномочия? Вероятно, принадлежность к роду первого князя. Славянские, главным образом северорусские, предания доносят до нас его имя в форме «Волх[в]». Как уже указывалось выше, это имя родственно именам прародителя правящей династии у других европейских народов. У германцев это Волсунг, у римлян – Асканий Юл. Юл – сын Энея. Согласно Снорри Стурлуссону, Энеей некогда назывался весь Европейский континент. В «Путях Австразии» был показан механизм перенесения образа общеиндоевропейской традиции в локальную этническую. В частности, там говорилось: «Образ изначальной прародины замещается актуальными землями: Юл связывается с Италией, Вольсунг – с Северной Европой, Волхв с Новгородом; и одновременно сам праиндоевропейский персонаж получает новую национальную принадлежность – италики считают его италийцем, германцы – германцем, а славяне – славянином». Здесь можно сделать ещё одно важное уточнение – непосредственная историческая память фиксировала в качестве последнего местопребывания правящей династии (окончательно ещё не разделённого праиндоевропейского сверхэтноса) Трою. И именно по этой причине практически все древние правящие династии Европы вели свой род от её царей[14].
В этом свете становится понятным, почему Кий ищет подтверждения своего права на княжение у римского императора в Константинополе. Император ромеев занимает трон Юла (уже не по крови, а по чину) и находится там, где некогда стояли стены Илиона. Греческое Iλιον передаёт то же название, что и хеттское Wi-lu-sha, и в самой древнейшей праностратической перспективе доносит до нас протосему *Ul. В знаковом выражении эта протосема обозначалась перевёрнутой U, дугой, и означала широкий семантический круг – солнечные врата и дворец, где скрывается дневное светило, а также символизировала ночное светило – луну, которая отражает во тьме солнечный свет, пещеру, могилу, материнскую утробу. Всё вместе можно обозначить как отражение образа Абсолюта в нижних водах Творения; или же обозначение того, что хранит в себе тайну Абсолюта, включая семантику «носителя Божественной власти на земле». Отсюда праславянское определение власти – *Volstь. Собственно, для троянцев XIII–XIV вв. до Р. Х. то, что донёс до нас хеттский язык в форме Wi-lu-sha, звучало в своём семантическом посыле так, как для нас звучит слово «волость», т. е. «своя», «подвластная» территория.
Ещё раз повторимся, в данном случае нас интересуют не насущные политические потребности и претензии какой-либо конкретной исторической эпохи, но то духовно-историческое содержание, в контексте которого были совершены те или иные действия. Или, говоря иначе, общеисторический смысл, а не сиюминутная выгода.
В этой перспективе походы руссов в союзе со славянами IX–X вв. могут предстать для нас в совершенно ином свете. Когда в 907 году Олег Вещий прибил свой щит к вратам Царского города (Константинополя), это означало не просто торжество победителя, но знак того, что город взят под его защиту. Иначе говоря, Олег осуществлял не грабительский набег с целью наживы, сродни набегам викингов (хотя и сам был варягом, а именно – норвежцем), но военный поход для подтверждения претензий Игоря (малолетнего сына Рюрика) на титул кесаря, «конунга конунгов».
То, что для этого захвата Константинополя было явно недостаточно, станет понятно позже, во времена Игорева внука – равноапостольного князя Владимира, времена интенсивного формирования национальной самоидентификации русского народа, которая, в свою очередь, ещё позднее, к XV в. по Р. Х., будет сформулирована как идея Руси – Третьего Рима. Но тогда, в X веке, всё, на что могли опереться «северные варвары», – это родословные собственных преданий, связывающие их с династией Приама и восходящие к Одину и Фриге (нижнегерманская Frigg, верхнегерманская Frija).
И здесь необходимо несколько слов сказать о том, как понималось это «божественное происхождение» первоначально. Общим местом скандинавских преданий является, во-первых, мотив рождения сына нуминозным существом (валькирией) от земнородного конунга, во-вторых, схождение божества (Одина) к супруге князя, находящегося в отлучке (погибшего на войне), либо случайная встреча некоего нуминозного существа с девой. В «Песне о Риге» мы находим адекватное объяснение этих мотивов. Риг поочередно приходит в гости к трём парам супругов, после чего проводит ночь, ложась между ними. Вслед за этим происходит рождение трёх детей – прародителей германских сословий. В этом видится указание на особую небесную волю, Промысл в соединении начал. Иными словами, естественную инициацию, когда зачатие и рождение происходит не по воле и похоти человеческой, но по промыслу самого Бога. Так утверждается единственно легитимная власть на Земле. И, как говорилось выше, последним историческим оплотом этой власти была область древней Троады.
Начало европейской культуры
Именно культура Троянского царства находится в начале греко-римской античности, а она, в свою очередь, лежит в основе нашей культуры. Вне её было и остаётся варварство. Этот феномен «старшинства» эгейского мира в рамках индоевропейского мира в целом невозможно понять вне доктрины династического права. Зададимся вопросом, почему Эгеида? Почему не гораздо более архаичные в расовом и культурном аспектах германо-скандинавский, балтский, славянский миры? Какие основания для того, чтобы сама традиция европейской философии и её производных в виде права, эстетики, литературной традиции зародилась именно там, а не где-либо ещё?
Философия рождается, когда умирает миф. В соответствии с этим мы можем сказать, что она рождается там, где умирает миф. Теперь вопрос о начале европейской цивилизации и, говоря точнее, о начале влияния античности, её экспансии и её способности к вытеснению и замещению иных, отличных от неё культур напрямую становится связан с утратой индоевропейского мифа, а говоря иначе – с отступлением от Традиции. И мы должны будем поразмыслить над этим явлением, осознав его как катастрофу мифа.
Согласно преданиям, как античным, так и средневековым, первородная династия на определённом историческом этапе оказалась связанной с Троянским царством. Именно его падение знаменует эту катастрофу. Ранее нами были высказаны предположения о Традиции исторической Трои, как той, что продолжаетТрадицию изначального монотеизма. Падение династии Приамидов, за которым последовала утрата этой Традиции, может поэтому рассматриваться как катастрофа не только династическая, но и как религиозная. Вместе с падением Трои индоевропейцы утрачивают свою Священную Традицию – колыбель изначального мифа.
В первой половине XX века была довольно популярна теория, согласно которой все народы можно разделить на три группы, а именно: 1) основателей культуры, 2) носителей культуры и 3) разрушителей культуры. В оптике данной теории в качестве основателей культуры, как правило, выступают народы индоевропейские. Причём в той части, что касается древности, отмечается и то, что расцвет культуры наблюдается именно там, где относительно небольшое число завоевателей сталкивается с аморфным автохтонным субстратом. В качестве объяснения этого феномена было высказано предположение, что народами, приведёнными в покорность, индоевропейцы просто возмещали недостаток технических средств для осуществления своих грандиозных планов.
На первый и поверхностный взгляд эта схема кажется исчерпывающей и очень наглядной. Несмотря на то, что степень знакомства с индуизмом среди европейцев в первой половине XX века оставляла желать лучшего, предложенная модель находит свои метафизические основания в индуистском концепте «Трёхликости» (Тримурти). Согласно этому учению, духовное начало мира манифестирует в трёх аспектах: Брахма – творец мира, Вишну – хранитель мира и Шива – разрушитель мира. На этом основании, конечно, можно было бы строить некоторые теории. В частности, касаясь вопроса о генезисе той же индийской цивилизации, мы можем надёжно связать её начало с племенами ариев, которые покорили местные автохтонные дравидийские племена и которые в конечном итоге пали под гнётом тюркско-мусульманских завоевателей (империя Великих Моголов). Распределение ролей «основателей», «хранителей» и «разрушителей» в данном случае очевидно. Но не будем спешить с выводами, поддаваясь очарованию стройности и простоты вышеозвученного концепта, и для начала рассмотрим историю «основателей» подробнее.
Путь ариев по Евразийскому материку прослеживается очень надёжно по лингвистическим и историческим источникам. Начинается он на Русском Севере, где мы встречаем многочисленную индоарийскую гидронимику, далее мы прослеживаем её же в Северном Причерноморье. Это река Кубала в Вельском уезде – Кубань в Причерноморье – Кабул в Афганистане – Кубха в Индии; Индега и Синдош на Русском Севере – Синдика – Тамань Причерноморья – реки Синд, Инд в Индии; река Варз в Архангельской губернии и река Варсак в Пакистане; Дан в Вологодской губернии – Дон, Днепр, Дунай в Причерноморье – Дану (река в Ригведе). Ещё далее мы находим ту же гидронимику в Малой Азии (река Инд, современное название Даламан), и, наконец, мы впервые встречаем ариев в исторических источниках, в Палестине, около 1380 г. до Р. Х. В первую очередь об их пребывании там рассказывают документы хуррито-арийского государства Митанни. Далее их путь лежал в северо-западную Мидию, в область вблизи озера Урмия, рядом с которым было известно государство Матиена (варианты упоминания у греческих и римских авторов – Martiane, Matiane, Matiene), а уже оттуда – на полуостров Индостан.
Пример ариев, думается, достаточен для того, чтобы показать, как на пути с севера на юг и с запада на восток они выступали создателями государств и распространителями присущей им культуры. Но не только это. Не менее важно и другое. Когда этот импульс ослабевает, мы повсюду начинаем наблюдать стагнацию и постепенное увядание, которое можно определить также и как «возвращение автохтонов к собственным корням». Что же нас интересует в первую очередь в вышеописанных исторических феноменах? То, что на Севере теми же индоиранцами не было создано никакой великой культуры, равно как и то, что на всех их промежуточных прародинах мы также не видим значимых материальных последствий их пребывания. Только оказавшись в историческом и географическом тупике, они создают великую цивилизацию Бхараты. И вот здесь, думаю, самое место для того, чтобы озвучить предположение, мимо которого постоянно проходит секуляризированное научное сознание. Дело не в расе или географии, а во времени. Индийская ветвь ариев появляется в Бхарате около 1100 г. до Р. Х. – об их присутствии свидетельствует т. н. культура серой расписной керамики, которая затем прослеживается в долине Ганга вплоть до 350 г. до Р. Х. Это время падения Трои. События, знаменующие конец последней цитадели изначальной индоевропейской Традиции и начало расцвета ведической культуры Индии синхронны! Так же, как практически синхронно призвание на царство потомка среднего сына прародителя Ноя – царя Давида.
Дело в том, что боковая ветвь изначального царского рода (в нашем примере – ветвь ариев-индоиранцев) достигает своего расцвета, только когда увядает главная. Лишь в этом случае она становится плодоносной и способной к инициации нового скачка цивилизации на подчинённом ей континенте. И чем более архаичной является она сама, а также чем более приближёнными к «осевому меридиану истории» лежат подчинённые ей земли, тем более исторически значимыми становятся последствия автаркии её власти.
Итак, существует осевая история, и эта история связана с перемещением по Евразийскому континенту ветви первородных царей. Там, где находятся они, творится событийный ряд, который определяет решительным образом дальнейшее существование мира. Там, откуда они уходит, наступает увядание. И сегодня, делая существенные поправки к историософским исследованиям начала прошлого столетия, мы можем говорить не о биологической, а именно о религиозно-династической движущей силе истории. Той Силе, которая в иранской традиции именовалась «фарн» и которая изображается на православных иконах в виде нимба. В своё время, покинув Приамидов, она частично манифестировала в боковых ветвях индоевропейского племени, а во всей доступной тогда полноте – в роде царя Давида до той поры, пока, по словам пророка, не пришёл Искупитель и право власти не вернулось потомкам Приамида – Аскания (Юла).
Глил ха гоим. Проблема индоевропейской идентификации
В чём заключается основной упрёк христианству среди людей, которые не желают примириться со «смертью Бога», для которых одинаково неприемлем и мир абсурда, и мир бесконечного потребления – двух альтернатив, предлагаемых современностью взамен Традиции? Поверьте, это не «зажравшиеся и развратные попы». Это не алогичный, умо-не-постигаемый предмет христианской веры. Это даже не проповедь христианского милосердия в мире, наполненном жестокостью и несправедливостью. Это вопрос родового происхождения. Многие видят в христианской Традиции, рассматриваемой как явление культурно-историческое, пропаганду особой роли истории и культуры Ближнего Востока в целом и еврейского народа в частности. И, как следствие, уничижение культурно-исторической роли иных мировозренческих идентичностей. Собственно это, а не что-то иное питает многочисленные ныне неоязыческие реакции и секты. И так будет продолжаться, пока ситуация, в которой вопрос задан, а внятного ответа нет, будет оставаться актуальной действительностью.
Думается, наиболее последовательную позицию в радикальном разрешении внутри себя этого «культурального кризиса» занимала Максимиани Джулия Портас. Решив порвать радикально со всякими проявлениями исторического наследия аврамических народов, она, не выдумывая лукавых оправданий, вышла замуж за представителя древнего рода брахманов. Так, войдя в семью мужа и приняв новое имя Савитри Деви, она одновременно стала легальным представителем индуизма – религиозного культа, исторически связанного с индоиранской ветвью индоевропейцев. И, как видится, это единственный путь обретения причастности к «индоевропейской вере», и, разумеется, открыт он только женщинам. Притом что данное утверждение оказывается верным только в том случае, если мы не ставим под сомнение инициатическую составляющую индуизма в целом, но и это, на самом деле, крайне проблематично.
Не думаю, что её удовлетворяло актуальное состояние индуистской традиции. Рассматривая языческие религиозные системы, многие современные исследователи до сих пор не могут понять простую вещь: семантическая неопределённость индоевропейского язычества в целом и индуизма в частности – это не следствие недостаточной осведомлённости или не очень умной реконструкции, а его сущностная черта. Именно в силу этой семантической неопределённости и забвения в Индии как попытка преодоления упадка Традиции появились многочисленные школы трактовки древних вед и комментарии к ним, в конечном счёте послужившие основой для появления современного индуизма как совокупности существенно отличающихся сект, у которых нет единого учения и о некотором единстве которого можно говорить лишь в отношении общего свода текстов и наиболее распространённых обрядов и святых мест. Но ни о каком согласии или всеобщности в содержании учения даже речи идти не может. В нём нет не только согласия в отношении перевода ведических текстов, но существуют значительно отличающиеся философские школы, каждая на свой лад представляющие метафизическую картину мира (санкхья, мимамса, йога, вайшешика, веданта, ньяйи и пр.). И, как писал один из крупнейших исследователей вед Б. Г. Тилак, сам являясь брахманом: «Яска говорил о трёх или даже четырёх школах переводов, в каждой из которых по-своему понимали природу и характер ведических богов. Так, в одной из них нас уверяли, что многие ведические боги были историческими персонажами, обожествлёнными в силу их сверхъестественных добродетелей и подвигов. Другие теологи делят богов на „Карма-дэватис“, то есть тех, кто обрёл состояние божественности в результате своих деяний, и „Аджана-дэватас“ – тех, кто был богом по рождению. А последователи школы Нирукты (этимологи) утверждают, что ведические боги были воплощениями некоторых космических или физических феноменов, таких, к примеру, как появление зари или рассекание тучи молнией. На свой особый лад объясняли суть богов приверженцы школы Адхъят-мики, да кроме них есть и другие методы этих разъяснений».
Поэтому, если опустить поэтическую риторику, язычество, которое есть внешнее обрядовое выражение живого пантеистического хаоса, не поддаётся точной дефиниции и представляет собой смешение различных воззрений и обрядовых установлений, смысл которых, как правило, утрачен или, по меньшей мере, сильно искажён.
Но всё это касается лишь критики индуизма и не продвигает нас в главном вопросе – что получила Максимиани Портас и те, кто идёт вслед за ней, в таком вот способе разрешения этого «культурального кризиса»? А между тем ответ очевиден. Самоощущение себя в лоне индоевропейской традиции. Да, испорченной временем, местами откровенно извращённой, но индоевропейской! Некая возможность открытия пути к собственным корням, к периоду, предшествующему приходу ариев в Индию и даже распаду индоевропейского континуума. Обозначим эту гипотетическую возможность, как «сверх-индуизм». Другими словами, не удовлетворяясь актуальным состоянием индуизма, пропитанного чуждыми индоевропейцам влияниями автохтонной культуры дравидов, европеец (и русский) ищут на землях Бхараты этого самого «сверх-индуизма», возможности легитимного (= инициатического) доступа к интегральной индоевропейской традиции. «Культуральный кризис», безусловно, сохраняется, но он как бы смягчён обещанием гипотетической возможности, которая звучит из общности корней индуизма и европейского «язычества».
Мы уже говорили, что индийская ветвь ариев появляется в Бхарате около 1100 г. до Р. Х. и существует там в относительно изолированном виде вплоть до 350 г. до Р. Х. Но тогда должны ли будут те, кто ищет «арийской мудрости» внутри индийской религиозной культуры, признать и особую роль дравидов, как хранителей их собственной Традиции на протяжении трёх тысяч лет, с момента появления на Индостане ариев и до настоящего времени? Видимо, да.
А что происходило в это время на исторически христианских территориях, в Палестине? Момент появления ариев в Индии (1100 г. до Р. Х.) точно совпадает с временем окончательного забвения изначального монотеизма в среде «народов моря». Мы уже говорили, что события, знаменующие падение последнего бастиона изначальной индоевропейской Традиции и начало расцвета ведической культуры Индии, синхронны. Так же, как практически синхронно призвание на царство потомка среднего сына прародителя Ноя – царя Давида.
Признаёт ли христианство особую историческую роль Израиля? Безусловно, да. Но эта «особая роль» также ограничена вполне определёнными временными рамками, которые не превышают тысячи лет. В сравнении со 120 тысячами лет существования Homo sapiens и 40 тысячами лет существования постверхнепалеолитической культуры это не такой уж длительный период. В принципе, тысячей лет исчерпывается не только религиозно обусловленная особая роль Израиля, но в течение того же времени сами русские исповедуют православную веру.
Теперь мы должны признать, что роль дравидов в сохранении индоевропейской сакральности в Индии и роль евреев в сохранении изначальной человеческой или, если угодно, праиндоевропейской сакральности в Палестине практически идентичны.
Мы не будем здесь вдаваться в подробности того, почему, на наш взгляд, православный Предмет веры предпочтительнее индуистского комплекса верований. Это отдельный и большой вопрос, касающийся сомнений в аутентичности линии инициатической передачи в индуизме. Здесь мы не преследуем цели критики индуизма, для нас непосредственный интерес представляет иное.
Возможно ли, оставаясь в рамках ортодоксального христианства, иметь самоощущение культурального присутствия внутри индоевропейской идентичности? Отбросив всякое лукавство, мы должны констатировать, что этот вопрос напрямую связан с вопросом о «национальности» Спасителя по человечеству. Его мы и коснёмся. Вопрос о происхождении Спасителя и Его Пречистой Матери «по крови» стал доступен для христианского преспеяния только с конца XIX – начала XX века, т. е. тогда, когда сама проблема национальной идентификации начала приобретать свою актуальность. Это связано с падением традиционных монархий. Человек в своём социальном аспекте перестал быть подданным монарха и превратился в представителя определённого народа. Конечно, нам могут возразить и сказать, что и во время монархий существовали народы, а значит, и их представители. Это, разумеется, так, существовали. Изменились не народы, изменился характер осмысления принадлежности к ним. Если до XIX века право народа было иерархически подчинено имперской присяге, то после национальная самоидентификация стала самодостаточным историческим фактором, что в итоге и породило многие политические (иногда страшные) тенденции XIX–XX веков.
Так было сто лет назад. Но ситуация меняется стремительно. Сейчас, в условиях повсеместного диктата либеральной идеологии, народ уже потерял своё право определения путей общества и человека, отдав его индивидууму. Народ отныне не обладает никакими правами – он только сумма, совокупность атомарных индивидуумов. Наш вопрос уже несколько припозднился. Именно поэтому даже среди клира и набожных людей очень часто можно встретить мнение, что он уже вовсе не имеет значения. Что ж, либеральная идеология тотальна, и православный клир тоже представитель своего времени и его идей. Однако следует напомнить, что случается с народами, которые силой исторических судеб были вынуждены «перепрыгнуть» без должного осмысления важные этапы своего развития. Многие их представителиобретаются ныне в огромных мегаполисах, живя на нищенское пособие и мелкий полукриминальный заработок. Если мы не хотим себе такой судьбы, то должны осмыслить этот вопрос как можно полнее и на самом высоком уровне, т. е. исходя из собственной религиозной традиции.
Итак, начало XX века принесло нам актуальность проблемы, начало следующего века должно принести нам инструментарий её решения. Вопрос поставлен прямым и непреодолимым образом, таковым должен быть и ответ. Уточним, речь идёт именно о генетическом аспекте родословия Спасителя, поскольку Его принадлежность к Традиции, а значит, и к народу древнего Израиля в том аспекте, что Эвола называл «расой духа», не вызывает сомнения. При этом мы, конечно, должны отдавать себе отчёт в том, что и само выражение «раса духа Израиля» несёт в себе проблематику отличия, – того, как она представлена в Талмуде, с тем, что христиане привыкли именовать «Сионом» и «священным градом Иеросалимом».











