Читать онлайн Варавва
- Автор: Мария Корелли
- Жанр: Христианское искусство, Зарубежная религиозная литература, Литература 19 века
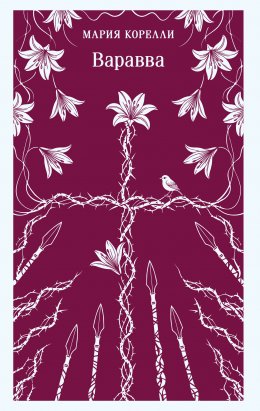
Мария Корелли
Варавва
Marie Corelli
BARABBAS: A DREAM OF THE WORLD’S TRAGEDY
Перевод с английского Е. Ф. Кропоткиной
© Сумм Л., вступительная статья, 2025
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Удочеренная!
Именно так – с восклицательным знаком – могла бы озаглавить собственную биографию Мария Корелли (Мэри Маккей), если б вздумала написать ее, а не создать, воплотить, выстроить из подтасованных и почти правдивых деталей, подлинно став той и такой, какой сама себя назначила. Восклицательный знак в названии – вполне в ее духе («Вендетта!»), как и таинственно-романтические заголовки и живой, убедительный вымысел.
Мэри Маккей действительно была приемной дочерью шотландского поэта Чарльза Маккея и его второй жены, Мэри Миллз. Естественно, возникает вопрос, кто же были ее биологические родители. Ответ Мария Корелли окутывала завесой тайны, и завеса эта соблазнительно колыхалась, намекая на что-то поэтическое, возвышенное, скрываемое из уважения к чувствам обывателей, но отнюдь не постыдное – словом, что усыновители и были единственными родителями, в том числе и в биологическом смысле. Дескать, чувства между ними вспыхнули незадолго до смерти первой жены Маккея, девочка родилась, когда приличия еще не позволяли вступить в новый брак, и ради тех же приличий Маккей затем именно удочерил малышку, сделав ее тем самым приемной и законной, что казалось приемлемее, чем статус незаконнорожденной, хотя бы и смягченный последующим браком и признанием отцовства. Разумеется, впрямую об этом Мария Корелли никогда не говорила. Называла себя приемной дочерью, много рассказывала о духовной близости с отцом, о его огромной библиотеке и так далее, но с какой стати ему вздумалось удочерить трехмесячную девочку (при том что от первого брака уже имелось несколько взрослых детей) и какую роль при этом играла жена – об этом нет ни слова в восторженной биографии, написанной при жизни Марии и с ее согласия. И лишь в посмертной биографии подруга детства, всю жизнь сохранявшая верность Марии, Берта Вивер, написала – в двадцатых, вольных годах двадцатого века – о великом чувстве, соединявшем родителей Мэри, и о деликатности, побуждавшей всех членов семьи соблюдать этот прозрачный декорум.
Так и повелось считать викторианской тайной Марии Корелли ее незаконное происхождение. И когда стало ясно, что заодно и дату рождения она основательно сдвигала, утверждая, что свою первую книгу, «Роман двух миров», написала в двадцать с небольшим лет (а потом даже – что в семнадцать): мол, издатель Бентли, к своему изумлению, знакомясь с поразившим его своей зрелостью автором увидел перед собой чуть ли не вчерашнюю школьницу. На самом деле ей было в 1885 году почти тридцать лет. Но первая жена Маккея умерла в декабре 1859 года, второй брак был заключен после соблюдения приличного срока траура, и, если поспешное появление малышки Мэри приходилось на этот период, год рождения и впрямь должен быть 1860-м, а то и 1861-м.
Все принимали на веру и историю Мэри об удочерении, и деликатный намек на истинное ее происхождение, и причины, по которым это происхождение требовалось скрывать. Разумеется, на самом деле отношения между ее отцом и матерью возникли еще в ту пору, когда отец Мэри был прочно женат, но если сдвиг даты позволял уйти от прямого признания факта многолетней супружеской измены (тем более что писательница измену глубоко не одобряла, пусть не из викторианского ханжества, а из романтического ужаса, столь выразительно переданного в «Вендетте!») и если заодно и женскому кокетству такое омолаживание выгодно, то, казалось бы, все ясно, тайна раскрыта и нет причин рыть глубже.
Умнейший ход. Мэри Корелли действительно была очень умна и, сочиняя свою жизнь, закладывала множество слоев, оставляя сверху и тайну, и удобное «разоблачение», удовлетворившись которым уж точно не станут искать дальше. Для читательниц, предпочитающих романтический флер, – удочерение, тайная любовь, намеки на примесь итальянской крови. Издателю Бентли она в сопровождающем роман письме сообщила, что может проследить венецианскую линию своего рода вплоть до знаменитого музыканта Аркангело Корелли. Впоследствии она притязала и на родство с венецианскими дожами и выписала себе гондолу с гондольерами, чтобы разъезжать по реке в шекспировском Стратфорде-на-Эйвоне, однако и Аркангело Корелли – завидный предок для творческой личности: с этим музыкантом и композитором, перешагнувшим из XVII века в XVIII, связано укрепление позиций скрипки в европейской музыке, а также он был великим импровизатором, а именно вдохновенным импровизатором – в реальной, творческой и духовной жизни – видела себя Мария. И создавала довольно-таки сложные, полифонические произведения.
Для желающих применить способность к анализу и критическому мышлению – угадываемый секрет. Даже биографы второй половины двадцатого века, в том числе и весьма скептически настроенные по отношению к популярности Марии Корелли и в целом этому феномену («идол пригородов», «фантазия Эдгара По и вкус няньки» – это еще не худшее, что выносили они в подзаголовки своих работ), – все так же читали между строк санкционированной ею биографии, не догадываясь, что продумала она и это «между строк», а не только сами строки, полагались на авторитетные источники, вроде Who Is Who, не спохватившись, что в начале двадцатого века сведения в этот справочник вносились путем анкетирования, то есть сама же Корелли и решала, какие факты предоставить, какие подправить или просто изобрести. И лишь совсем недавно, в 2023 году, за тайну Марии Корелли взялась Джоанна Тернер, которая, во-первых, решила не верить совсем ничему – ни тому, что говорила или поручала писать Корелли, ни тому, что якобы можно было из этого вычислить, а во-вторых, использовала огромное количество нелгущих источников, благо сплошная оцифровка всего, вплоть до малоуспешных и быстро исчезнувших газет, афиш провинциальных спектаклей, билетов на трансатлантические рейсы и т. д., и современные программы поиска позволяют документировать чуть ли не каждый шаг англичанина середины XIX века (вот где подлинное чудо и романтика поиска). Результатом этих исследований стали ряд интересных находок и две большие статьи в журнале, посвященном викторианской литературе, – одна о тайне происхождения Корелли, вторая – о начале ее писательской карьеры и выборе псевдонимов. В совокупности эти статьи проясняют основную установку писательницы – не столько кем она была, сколько кем она решила быть.
Тернер начинает с «предполагаемой истины». 27 апреля 1855 года у некоей Мэри Миллз в Лондоне (район Тернхэм Грин) родилась дочь Изабелла Мэри Миллз. Душеприказчики Марии Корелли и ее подруга и наследница Вивер, написавшая по ее смерти мемуары, были уверены, что Мэри Миллз и есть Мэри Элизабет Миллз, в ту пору вдова и любовница Чарльза Маккея, а родившаяся девочка была удочерена биологическим отцом после заключения брака, в 1861 году (в ту пору удочерение не оформлялось официально, от приемного отца просто требовалось дать свое имя, указывать ребенка под новой фамилией в переписи населения, при отправке в школу и т. д.).
Ни один биограф не додумался проверить приходские книги после записи о крещении, иначе давно бы выяснилось, что Изабелла Мэри Миллз умерла в восемь месяцев – «обычный викторианский сюжет», комментирует Тернер.
Так кем же тогда была при рождении Мэри Маккей?
Она обнаруживается в переписи 1861 года как четырехлетняя дочь Мэри Маккей, недавно вышедшей замуж за Чарльза Маккея и живущей пока отдельно от мужа, хотя и поблизости от него. Однако появление четырехлетней Мэри – без записей о ее рождении и крещении, без отметок о ее существовании в предыдущих цензах – требует объяснения.
Оставалась возможность, еще более романтическая и как раз обеспечивавшая Корелли итальянские корни: она могла быть дочерью незаконной дочери Чарльза Маккея, Розы Джейн, которая в 1859 году умерла в Италии, однако существование этого ребенка даже более эфемерно, чем Изабеллы Мэри, от которой хотя бы осталась запись в приходской книге.
Но есть девочка, чье существование документировано до 1860 года и с этого момента внезапно, без записи о смерти, обрывается. И есть семья этой девочки, притязавшая на родство с великой писательницей. В прессу эта версия выплеснулась сразу после смерти Марии Корелли, наряду со множеством других гипотез о ее происхождении, и была отвергнута. Согласно заявлению предполагаемой племянницы, Кэролайн Коди, сестра ее отца в пятилетнем возрасте была удочерена бездетной подругой своих родителей. Более того, уже ставшая знаменитой Мария Корелли поддерживала отношения с этими родственниками; о ней как о своей сестре говорят в переписке между собой (совершенно не предназначенной для чужих глаз) два брата Коди; один из них назвал именем знаменитой писательницы частную школу.
Даты тоже совпадают: день рождения Мария Корелли отмечала 1 мая; ее возраст, указываемый в цензах и в ранних письмах издателям, предполагает появление на свет именно в 1854, а не в 1855 году. Ее приемная мать до замужества была служанкой, как и мать Кэролайн, они жили по соседству, так что их знакомство и дружба весьма вероятны. Косвенным подтверждением истинности этой теории Тернер считает тот факт, что постоянно судившаяся при малейших признаках клеветы или искажения информации о своей персоне писательница всегда знала о претензиях семьи Коди, но никогда не пыталась их опровергнуть. Составляя завещание (она умерла в 1924 году, не дожив до семидесятилетия то ли год с небольшим, то ли несколько месяцев), Мария Корелли особо оговорила свой статус приемного ребенка: удочерение отменяло всякие кровные связи – и никто не мог претендовать на наследство, ссылаясь на родство. По-видимому, она и посмертно старалась обезопасить себя от публичного выяснения корней.
Но в чем же тогда страшный секрет? Одинокая женщина за тридцать пять надеется на брак с мужчиной выше ее статусом, существенно старше, имеющим взрослых детей и часто уезжающим (Чарльз Маккей в ту пору был журналистом, а в 1861 году отправился освещать Гражданскую войну в Америке). Ее время иметь детей, по понятиям той эпохи, почти истекло (и действительно, в браке потомство так и не появилось), и она прибегла к помощи многодетной подруги. Кэролайн была единственной на тот момент девочкой в очень небогатой семье. Выбор мог пасть на нее либо потому, что одинокой женщине удобнее иметь дело с ребенком того же пола, либо потому, что другие дети не подходили по возрасту: старшим братьям уже двенадцать и восемь, поздновато для формирования новых привязанностей, а младший еще не вышел из младенчества. Тернер предполагает также, что девочка представляла собой меньшую «экономическую ценность» в глазах рабочей семьи. В пользу гипотезы об удочерении маленькой Коди, с точки зрения Тернер, говорит и улучшившееся положение семьи: простой рабочий и служанка вырастили сыновей, которые смогли получить образование и стать один – учителем (тот самый, кто назвал свою частную школу именем предполагаемой сестры), другой – чиновником, а старший, эмигрировавший в США, занялся бизнесом (правда, потом прогорел).
Джоанна Тернер считает вполне вероятным, что Мэри Уиллз, уверившаяся в прочности своих отношений с представителем среднего класса, достаточно обеспеченным и известным журналистом, а также автором популярных стихов и песен, смогла «подтянуть» за собой не только приемное дитя, но и всех детей подруги, такой же, как она, служанки, но состоявшей в равном и потому не дававшем надежд на социальный лифт браке. И именно это, как полагает Джоанна Тернер, скрывала Мария Корелли. Не адюльтер своих родителей, не романтический побег от викторианских норм. Скучное законное рождение и раннее детство в семье низшего класса. Незаконное рождение от поэта (изящно завуалированное) поймут, простят и опоэтизируют. Можно обыграть происхождение от известного и любимого в писательских кругах отца, пусть даже мать была служанкой. Но кому интересна девица, у которой и отец – рабочий? А ведь она примеряла – хоть в итоге и не решилась применить – псевдоним не просто «Корелли», а «графиня Корелли». Ее задушевная подруга тоже была из графинь – свежеиспеченных при Наполеоне III.
Косвенным доказательством в пользу этой версии можно считать и склонность писательницы рассказывать именно о роли Маккея в удочерении, как если бы оно совершилось в первую очередь по его воле, с более-менее пассивного согласия матери. Тем самым устранялась возможная связь с исконной семьей.
Но не вспомнила ли Мэри Маккей свое первое, тоже аллитерирующее имя, выбирая фамилию с итальянским акцентом – но с тем же первым слогом? Ведь если не в три месяца – почти в шесть лет перешла она в другую семью, а с приемным отцом встретилась и того позже, то никак не могла забыть ни первых родных лиц, ни той, кем была до этого перехода. Недоброжелательные наблюдатели отмечали даже простонародный акцент, кокни, проявлявшийся в некоторых словах (немногих, тех, что закрепились детской привычкой), и слишком четкую, старательную дикцию, как будто Мария усиленно следила за собой. Она знала, кто она, и не переставала ею быть, одновременно охотно, с усердием врастая в новую себя – Минни (таким шотландским уменьшительным от «Мэри» окрестил ее приемный отец) Маккей. И это многократно высказанное и в том числе продиктованное биографам утверждение искренне: она полюбила приемного отца – и в особенности тот мир литературы, музыки и песни, который он открыл перед ней, и сумела быть «очаровательной малышкой», естественно впитывающей в себя эту жизнь.
Хотя едва ли переход дался ей так уж легко. В личном письме 1905 года она вспоминает себя как «несчастную и одинокую девочку», не имевшую иной компании, кроме взрослых, – разительный контраст с семьей, где было еще трое братьев и десятки разновозрастных детей жили по соседству. Чарльз Маккей почти сразу же забрал свою новоиспеченную семью в Америку, где мать с дочерью проживали по большей части в Нью-Йорке, а сам Чарльз присоединялся к ним в перерывах между командировками по фронтам Гражданской войны. То есть для Кэролайн-Минни изменилось все: имя, семья, образ жизни, страна. И если девочка осознавала преимущества такого «социального взлета» и какая-то часть ее существа получала наслаждение от общения со взрослым образованным человеком, то другая ее часть переживала разрыв и не справлялась со столь завышенными требованиями. Именно поэтому, как считает Тернер, Мария Корелли попросту выкинула эти годы из своей жизни и утверждала, что никогда не бывала в Америке и терпеть не может невоспитанных янки: она попросту выбросила этот период жизни из памяти, из той автобиографии, которую решила построить. Заодно это позволяло уже на столь раннем отрезке жизни немного сместить хронологию: в 1865 году, когда Маккеи вернулись в Англию, ей было 11, и где-то в промежутке с 11 до 15 лет она училась «во французской школе», а то и «в монастыре» – на самом деле в Британии, в школе, где преподавали французские монашенки, а затем финансовое и физическое состояние отца ухудшилось и она вернулась домой. Училась она, видимо, с 1868 или 1869 года, то есть скорее с пятнадцати лет, чем до, и провела в школе два года. Перепись 1871 года указывает ее социальный статус ученицы.
Образование Марии Корелли, как она его описывает, делится на две стадии: домашнее, с помощью приходящих гувернанток и главным образом благодаря отцовской библиотеке и его внимательному наставничеству, и школьное, или «монастырское», существенной частью которого была музыка. Насчет музыки она говорит правду (разве что внесенное в Who Is Who 1904 года заявление, будто в 14 лет она уже написала оперу, никак не подтверждается, а учитывая, что все сочинения Мэри так или иначе публиковались, едва ли такие плоды творчества могли сгинуть бесследно). Не оперу и не совсем в четырнадцать, но в 1875 году она сочиняет имевшую успех песню (и музыку, и слова) в честь британской арктической экспедиции, а затем перекладывает на музыку стихи своего отца – вполне плодотворное сотрудничество, в том числе служащее рекламой для самой Мэри.
Смещая момент удочерения, рассказывая о детских годах в самых общих чертах, Корелли могла убавить себе несколько лет, но гораздо больше она выгадывала, сжимая до года-двух десятилетие после учебы, когда пыталась делать карьеру как музыкант, композитор, певица и актриса. Впоследствии она говорила, что мечтала быть именно актрисой, но отец счел этот путь ненадежным – и она ограничилась любительскими выступлениями в провинции. Зато как пианист-импровизатор и как исполнительница баллад она выступала повсюду от провинции до Эдинбурга и Лондона. Даже тот список любительских спектаклей, музыкальных вечеров, больших и малых концертов, который удалось восстановить, создает впечатление неустанной работы и честного стремления заработать деньги – этого Мария отнюдь не скрывает и даже педалирует желание помочь хворому отцу.
Чаще всего она выступала под именем «Роз Тревор» – и как актриса-любительница, и как певица. К 1882 году певица Роз Тревор достигла определенного успеха, особенно в исполнении баллад, а также песен своего отца и собственного сочинения. Ее известность распространялась не только на Шотландию, где ценили Чарльза Маккея, но и на Лондон. И в этот момент Роз Тревор исчезает. На сцену выходит другая исполнительница – Мария Корелли. Десять лет спустя, уже в качестве писательницы, она пояснит, что искала для своих музыкальных опытов более итальянское имя, а также созвучное имени приятной молодой скрипачки, некоторое время аккомпанировавшей ее пению, – ту звали Аделина Динелли. Что ж, если от «Динелли» Мария взяла вторую половину имени, то «Кор» тем более напоминает о Кэролайн Коди. И как мы знаем, для псевдонима существовало и другое объяснение, в котором он оказывался фамилией одного из предков, то есть как бы не совсем псевдонимом, а утверждением своего права на кровное родство – очень похоже на версию про удочерение настоящим отцом.
Что побудило ее на пике успеха сменить псевдоним? Тернер полагает, что настала пора сепарироваться от известного отца (это поначалу и полезно, и лестны были отзывы о ней как о дочери «нашего любимого Чарльза Маккея», а теперь хотелось собственной славы), но что еще более важным резоном служила уже сложившаяся привычка разделять различные «персоны» и постоянно подправлять свой образ. Кроме того, Марии, видимо, понравилось быть юным дарованием. Конечно, она жертвовала наработанной репутацией, сложившейся аудиторией. Но заодно стряхивала с плеч семь лет. Два-три выступления под именем Роз Тревор в ранней юности – вот и все, что она будет признавать впредь. В 1882 году совсем молоденькая, только что из монастырской школы, Мэри Маккей – Мария Корелли отважно пытается зарабатывать музыкой, помочь обедневшему и больному отцу. Десять лет с плеч долой.
И этот образ невинной дебютантки она перенесла на писательницу Марию Корелли. Что не удалось заработать музыкой в 17 лет, в двадцать лет она, мол, попыталась заработать пером. В 1895 году, на гребне успеха, ей будет всего тридцать лет.
Кокетство? Желание компенсировать десять тощих лет? Теперь, когда к ней пришла слава, обидно быть сорокалетней, вышедшей по тогдашним меркам в тираж, а она миниатюрная, живая, пикантная – кто посмеет усомниться в ее молодости? Образ, который она себе придумала в отношениях с издателем Бентли и который оказался настолько успешным, что от него невозможно отказаться, – юная годами и мудрая мудростью сердца, гений, не знавший учебы и обработки? Или еще одна «страшная тайна»?
Заглянув в десятилетие между 1875 и 1885 годами и даже чуть раньше, Джоанна Тернер обнаружила, что Марии Корелли действительно было что скрывать и в эту пору. Нечто очень похожее на рабочее происхождение – литературную поденщину.
В январе 1874 года девятнадцатилетняя Минни Маккей обращается в издательство «Блэквуд», выпускавшее в том числе «Эдинбургский журнал» (Edinburgh Magazine), с надеждой на сотрудничество и рекомендует себя следующим образом:
«Я постоянно сотрудничаю с „Сент-Джеймс Мэгэзин“ и другими лондонскими журналами под псевдонимом Вивиан Эрл Клиффорд, каковой псевдоним я желаю сохранить». Слова «псевдоним» и «желаю сохранить» подчеркнуты, как это любит делать Корелли для пущей выразительности.
Биографы попросту отмахивались от этого письма в уверенности, что юная девица в ту пору и в самом деле не имела ни малейшего опыта и попросту выдумала Вивиана Эрла и постоянное сотрудничество с известными журналами. Думала обмануть издательство «Блэквуд» и таким образом протиснуться в журналистику. Но на тот момент «Сент-Джеймс Мэгэзин» действительно принял два ее поэтических произведения под именем Клиффорда, а еще одно собирался опубликовать в феврале «Лондон Скетчбук», получивший от Чарльза Маккея новые стихи и потому благосклонный также к его дочери. Мэри несколько преувеличила насчет постоянного сотрудничества и «других лондонских журналов» во множественном числе, это верно, а также принялась уже в январе искать новые контакты, используя февральские ожидания. Но не более того.
«Клиффорд» сочинял любовные станцы, и как бы ни была далека эта маска мужчины-поэта от будущей Марии Корелли, многие черты ее творчества уже заметны, в том числе, как обращали внимание и до Тернер, пристрастие к повторам. Исследователи ее прозы видели в повторах способ создавать идеальный образ любви; Тернер более склонна говорить о психологической потребности. Но, так или иначе, поэтичность будущей прозы, как и ее музыкальность, закладывались в ту пору, и в этих ранних стихах уже присутствует утверждение Любви как мужского начала (в философских пассажах своих романов писательница дополнит это утверждением Красоты как начала женского).
Но одновременно «Клиффорд» пробовал себя и в сатирических заметках, начав в том самом «Скетчбуке» с «Исследования природы дураков» и продолжив диалогами, в которых разыгрывалось неудачное, с точки зрения света, ухаживание. Оказывается, будущая писательница вполне могла работать и в таком жанре – и она отдала ему дань уже как Мария Корелли романом «Моя чудная жена».
Она была удивительно разнообразна, владела даром перевоплощения, а то и метемпсихоза. И для каждой души быстро подбирала новое имя. Поскольку Вивиан Эрл Клиффорд сделался писакой сатирического толка, новые стихи, дорогие ее сердцу, она стала подписывать собственным (домашним) именем – Минни Маккей. И охотно публиковалась вместе с отцом и вместе с братом, сыном Чарльза от первого брака. Одно время ей нравились преимущества такой семейственности, она воспевала красоту шотландской природы и радовалась, когда слышала хвалу «достойной дочери Маккея». Сюжеты, мелькавшие в творчестве брата, который много лет жил за границей, пока откладывались в копилку ее памяти. Потом история о погребенных заживо, например, послужит основой для «Вендетты!». Это тоже свойство ее души: впитывать все – и все делать иным и своим.
Но и в этой области, как в музыкальных и театральных выступлениях, она жаждет самостоятельности. Так что Минни Маккей в скором времени совмещается, а потом замещается… «Сигаретой», которая пишет легкие, ироничные заметки для «Татлера».
Это была уже серьезная попытка сделать перо основным источником заработка. Попытка не удалась: тот «Татлер» быстро прекратил издаваться – и тогда появилась первая ипостась Марии Корелли, та, что пыталась заработать музыкальными выступлениями.
Та Мария Корелли, что стала писательницей, уверяла, что «Роман о двух мирах» был первым литературным опытом, за исключением разве что нескольких сонетов на шекспировские темы. В театральных журналах начала 1880-х годов Джоанна Тернер обнаружила, помимо сонетов того же авторства и под тем же именем, статьи о музыке, вдохновении и воображении – в них уже явно звучат идеи Марии Корелли.
Джоанне Тернер среди множества ее открытий удалось также найти последнюю журнальную публикацию Марии Корелли до «Романа о двух городах» и дальнейшего непрерывного успеха. Длинное стихотворение под испанским заголовком Vale, Amor («Прощай, любовь») служит, судя по повторяющимся заклинаниям, терапевтической цели «оставить прошлое в прошлом». Джоанна Тернер заключает, что писательница именно это и сделала, расставшись со всеми прежними псевдонимами и «персонами» и отрезав к ним доступ для публики и критики. Она считает, что это множество имен и потребность от них отделаться, «погребая их заживо», – следствие расщепления личности, произошедшего при удочерении и переходе в другую семью и другой социальный класс.
Но что, если Кэролайн Коди – Минни Маккей, обретая себя в Марии Корелли, собирая в этом имени звуки и первого, и второго своего имени, прощалась со старой любовью ради новой любви?
В «Романе о двух мирах» появится, а затем будет возвращаться, в том числе в ее прославленном «Ардате», некий Гелиобас, человек, способный исцелять нервы и служить проводником души. Такой проводник, сочетающий в себе христианина и древнего мага, современного врача и кудесника, – некий идеальный образ, вымечтанный писательницей, что-то вроде «воображаемого друга», каким нередко обзаводятся одаренные одинокие дети. Корелли ухитрилась совместить вещи несовместимые – и будет так поступать впредь. С одной стороны, это дамский приключенческий роман – тут имеется англичанка-импровизаторша с расстроенными нервами; итальянский художник Рафаэлло (!) Челлини (!); буйный князь Иван, влюбленный в сестру Гелиобаса и пытающийся ею овладеть; тут происходят дуэли и внезапные смерти. С другой стороны, это весьма отважная научная фантастика, где электричеством не только исцеляют, но и используют его как оружие. В-третьих, это роман о природе творчества и, в особенности, женского вдохновения: мужчина-художник заново открывает утраченный секрет ярких красок; импровизаторша нуждается в перенастройке, чтобы порывы вдохновения не лишили ее жизненных сил; сестра Гелиобаса – скульптор, профессия, требующая не только таланта, но и физических сил и решительности. Она помогает брату и в научных опытах и погибает от удара молнии. А еще – это уже в-четвертых, – роман отдает должное нараставшему в конце XIX века интересу ко всему оккультному, но не к темной его стороне, а к поискам новых путей к духовному, к прижизненному открытию общения с потусторонним миром, к загадкам прошлого и будущего. Гелиобас становится для героини романа прежде всего врачом, исцеляющим с помощью электричества; затем другом, как и его сестра; а также – проводником в мир тайн. Он и пророк, и телепат; он смог открыть героине заветные тайны ее собственной души: под действием составленного Гелиобасом зелья героиня в видении встречает своего ангела-хранителя, созерцает полет душ и погружается в природу Вселенной и Христа. В книгу целиком включен приписываемый Гелиобасу трактат «Электрический принцип христианства» – и это еще одна особенность, которую одни прославляли, а другие считали непоправимым изъяном «Романа о двух мирах».
Многие критики бранили этот роман, как будут бранить и следующие книги Марии Корелли, а потом постараются их не замечать. Нарушение традиционных жанровых границ. Перегруженность. «Неумеренность» и «самоуверенность», с какой она рассуждала о самых важных предметах. Вторжение женщины, к тому же не имеющей университетского образования, в области, на ту пору прочно удерживаемые мужчинами. И опять же – если б она только духовидствовала, это как раз удел женщин, мадам Блаватская в ту пору обретала известность, разворачивалось движение спиритов, и астральные тела начали проступать, в том числе в английских пейзажах. Но Мария Корелли уверенно заявляла права на христианство и на науку, о чем и свидетельствует включенный в книгу трактат.
Наверное, она страдала от недоброжелательства прессы – в санкционированной ею биографии есть фото любимой собачки, в клочья раздирающей такие отзывы. Но в своем праве рассуждать о науке и вере, о природе творчества и душевном здоровье, а также наставлять общество в вопросах брака и воспитания детей Мария Корелли не сомневалась. А если и случалось ей дрогнуть, обращалась к волшебному помощнику.
Поначалу она чередовала «серьезные» книги с теми, от которых ожидала непосредственного коммерческого успеха – такими, как «Вендетта!» и «Моя чудная жена», – но «серьезные» книги пользовались очевидным спросом и приносили немалый доход, и все менее разумным казалось снижать образ автора, посвященного в глубочайшие тайны, размениваться на мелочи. Мария Корелли вернулась к своему любимцу Гелиобасу в романе «Ардат» – тут она не стала включать в книгу трактат, зато включила одно из самых длинных описаний сновидения в мировой литературе. Героем этого романа стала уже не тонко настроенная музыкантша с издерганными нервами и готовностью, желанием верить – альтер-эго молодой писательницы, – а некто более схожий с ее критиками: образованный мужчина, атеист. Его она отправляет не в Париж, лечить нервы, как музыкантшу, а в пустыню, в древний монастырь, и там с помощью Гелиобаса, теперь ставшего монахом, он обретает (сно)видение, вернувшее ему веру. В этом романе писательница дала волю не только своей страсти к проповеди, христианскому просвещению, но и своей любви к поэзии. Растянутое на сто восемьдесят страниц сновидение может утомить содержательно тех, кто не склонен к такого рода описаниям, но каждый абзац этого текста пленяет своей красотой и в этом смысле может восприниматься как нечто самоценное. Для самой Корелли это было продолжением разговора и о религии, и об искусстве, а также, как поясняла она спустя годы, «Роман о двух мирах» и «Ардат» были для нее разговорами о доверии. Такой волшебный помощник, проводник, как Гелиобас, может казаться желанным для каждого человека, воплотившейся сказкой. Но дело в том, что все тайны, которые он открывает, предложенное им исцеление и утешение, и обретение веры – все это могло бы быть доступно и без помощника, если бы человек доверял той вере, в которой он рожден и воспитан, а также своим здоровым инстинктам – а с другой стороны, даже если Вселенная пошлет такого помощника, главная проблема заключается в том, чтобы суметь ему довериться. Именно на этой психологической проблеме современного ей человека и на возможностях разрешения этой проблемы сосредоточена проза Марии Корелли.
Далее она будет все более прямо писать о жгучих проблемах современности, в первую очередь о проблемах социальных. К числу ее безусловных заслуг на этом поприще принадлежит роман о человеке, погибшем нравственно и физически от абсента, – последствием был постепенный запрет этого напитка в Англии, затем в США и ряде европейских стран. Немалая отвага требовалась, чтобы написать такую безысходно-приземленную книгу на пятом году творчества, после успеха мрачно-романтической итальянской «Вендетты!», сентиментальной, восхваляющей чистоту женского сердца и обличающей лицемерие света шведско-английской «Тельмы» и двух духовидческих романов о Гелиобасе. Немалый риск затронуть такую тему, наполнить книгу глухими и мелочными подробностями, лишить читателей катарсиса и хотя бы луча света в развязке.
В 1896 году она написала страшный, вызвавший бурю возмущения роман «Могучий атом» о мальчике, погибшем из-за перегруза «позитивными науками» и отсутствия самого простого, наивного религиозного воспитания – на уровне молитвы перед сном и воскресного посещения церкви. На счастье Марии Корелли (а может, и ее читателей), тогдашняя цензура, усердно пресекая все, что могло возмутить нравственность в сфере отношений между полами, не считала нужным запрещать истории заблудших душ, дурные и печальные примеры, полагая, что они послужат не для подражания, а для предостережения. И все же показать ребенка, даже еще не подростка, лишившего себя жизни потому, что во всем мире для него не осталось ни опоры, ни тайны, – лишь какой-то первичный атом…
Отец этого ребенка чересчур заботился о его образовании, нанимая учителей, составляя программу и не давая бедняжке ни минуты вздохнуть. Параллельно Корелли писала роман о другом мальчике – этот роман так и назван «Мальчик» (1900), – воспитанием которого родители вовсе не занимались. Последствия столь же печальные: одинокое детство, бесприютная юность, проступок на грани уголовного, раскаяние, добровольный уход на Англо-Бурскую войну, гибель. У этого мальчика нет волшебного помощника, но есть подруга матери, пытавшаяся даже его усыновить. Кем был для автора этот персонаж? Запоздалой данью той женщине, которая ее удочерила и открыла ей мир литературы, музыки, возможности самой строить свою жизнь и о которой она очень редко вспоминала (приемная мать умерла в 1875 году), всецело сосредоточив свои воспоминания и благодарность на отце? Или проекцией самой себя – ко времени Англо-Бурской войны уже точно вышедшей из брачного возраста и поры, когда можно было надеяться на детей? Свое ли удочерение вспоминала в такой форме Мария Корелли или сама чувствовала готовность стать усыновительницей?
Она не брала под свое крыло какого-то приглянувшегося мальчика или девочку. Она попыталась в каком-то смысле усыновить и удочерить всю свою читательскую аудиторию, повлиять на состояние брака и воспитание детей. В этом – в восстановлении святости брака, союза двоих, обещавших быть вместе во всех превратностях жизни «и в самой смерти», и в возвращении к простым истинам христианства, истинам любви и доверия она видела залог надежды для всех мальчиков и девочек Англии: вырасти в семье, вырасти душевно и духовно здоровыми, прожить интересную жизнь, стремиться к тем тайнам, к которым всю жизнь стремилась и она сама. И если на первом этапе творчества Мария Корелли чередовала книги «серьезные» и «развлекательные», то уже вскоре – социальные и «духовидческие», а то и прямо «вероучительские».
При этом все заметнее звучит в ее романах женская, чуть ли не феминистическая нота. Викторианская эпоха закончилась вместе с XIX веком. И женщина, чье счастье было исключительно в семье, чья душа спасалась скромным принятием своей роли, чье творчество осуществлялось исключительно под надежным руководством супруга, отца или брата (даже прекрасная скульпторша «Романа о двух миров», владевшая тайнами электричества и энергично отстаивавшая свое целомудрие, жила и умерла в тени брата), захотела наконец заявить о себе под собственным (или по своей воле и своему выбору принятым) именем, притязать на первую роль в собственной жизни и влияние в жизни других. Если Мария Корелли могла писать романы, влиявшие на потребление алкоголя чуть ли не во всем тогдашнем цивилизованном мире, если ее книги всерьез рассматривали проблемы религиозного и нравственного воспитания поколения и отношения в семье и автор была уверена, что в таких вопросах к ней следовало бы прислушаться и это существенно изменило бы жизнь в стране, – то и в ее системе персонажей пора было появиться не только милым и доверчивым Тельмам, коварным, но беспомощным итальянским женам и целиком зависящим от духовных наставников музыкантшам и скульпторшам, а женщинам «сильным» – как в хорошем, так и в дурном смысле. «Душа Лилит» (1892), «Зиска: проблема злой души» (1897) – это тот же сюжет о мистическом знании, о душе, странствующей сквозь тысячелетия, который мы уже полюбили в «Романе о двух мирах» и «Ардате», но героиней становится женщина. И героиня эта – действительно «проблема», как сказано в подзаголовке романа «Зиска».
С одной стороны, женщина остается в уязвимой позиции. Она уязвима как невеста: богатая наследница рискует попасть в руки искателя приданого, бедная – достаться немолодому, а главное – недоброму супругу. И особенно уязвима одаренная женщина, проекция самой Марии Корелли. Если она одарена страстной душой, способной любить и странствовать через века, то, скорее всего, потерпит крах в любовных отношениях и в очередном перевоплощении возжаждет мести – на это и растрачивается весь духовный потенциал. Но то же самое можно рассказать на языке социального романа – и тогда это будет называться «Убийство Делисии» (роман написан в 1896 году, в один год с «Могучим атомом», незадолго до «Зиски»). Здесь убийство прекрасной талантливой женщины-писательницы совершает муж – присваивая плоды ее творчества и выкорчевывая корни, лишая ее любви и, наконец, откровенно сознаваясь, что для него этот брак был в чистом виде коммерческим предприятием.
Печальный сюжет, и печальный отсвет бросает он на образ самой писательницы. Значит, в том числе и так, по ее мнению, могли обернуться две самые заветные женские мечты – о любви и о самовыражении. Это были годы ее большого и стремительного успеха. Все романы, о которых мы до сих пор говорили, – каждый вполне приличного размера, – написаны в короткий период с 1885 по 1900 год. И мы еще не затронули собственно «Варавву» (1893) и «Мастера Христианина» (1900), попадающих в тот же отрезок времени. В год по роману, а если год пропущен, то в другой год два – и все они достаточно разные, все требовавшие существенного напряжения фантазии, вложения ума и чувства, да просто огромного количества часов с пером в руке в ту докомпьютерную эпоху. Нарастает ощущение эксплуатации, незащищенности, несмотря даже на то, что у Марии Корелли были на редкость благоприятные отношения с издателем и зарабатывала она прекрасно. В итоге продажи ее книг превзойдут трех самых популярных авторов-мужчин ее времени, вместе взятых. И все-таки червячок сомнения точил: допустим, покупают, обеспечивая ей немалый доход, и даже читают – но прислушиваются ли? От критиков она ничего хорошего не ждала, категорически запрещала себя фотографировать: очень уж расходились снимки с ее внутренним, все еще юным и невинным образом, – а потом и вовсе старалась избегать упоминаний о себе в прессе. Удивительный случай, когда подобный подход вовсе не мешал книге за книгой становиться бестселлером. Но ее приемные дети, английские читатели, европейские читатели, индийские читатели – на какие только языки не переводились романы Корелли, – извлекают ли они из чтения пользу? Или пребывают в одном из состояний, препятствующих глубокому чтению, – в состоянии страха, неверия, себялюбия?
Этим факторам, отделяющим человека от веры и доверия, уделено много места в романе «Варавва». Пересказывать сюжет романа едва ли стоит не только потому, что читатель ознакомится с ним сам, но и потому, что сюжет вечный, прекрасно знакомый читателю и до того, как он возьмет в руки эту книгу. В евангельскую историю ею внедрены всего два персонажа, целиком выдуманных, – сестра и отец Иуды Искариота, также почти полностью придуман ею заглавный герой, разбойник Варавва: он является подлинным историческим (или евангельским) персонажем, и народ действительно потребовал отпустить Варавву, а не Христа, но кем был этот Варавва, какие чувства им двигали и что с ним сталось – все это авторский вымысел или, кто знает, прозрение, внушенная волшебными помощниками догадка.
Кстати, о волшебных помощниках: еще есть вовсе не имеющий отношения к евангельскому сюжету, подчеркнуто неизвестного происхождения персонаж – Мельхиор. По отношению к Варавве он выступает в роли волшебного помощника и, кажется, предназначен служить проводником также и читателю.
Что касается поведения и мотивов первосвященников, римского прокуратора Понтия Пилата и его жены, центуриона и римских солдат, Иосифа Аримафейского и еще нескольких евангельских персонажей, перешедших в роман, – тут Мария Корелли близко следует традиции. Схожего Понтия Пилата, происходящего из того апокрифического источника, мы увидим и в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Вот только жене Пилата автор-мужчина не придаст такого значения, не наделит ее ясновидением.
Но как раз известные евангельские персонажи, те, о которых много говорят и самые ранние тексты, и традиция – апостолы, в особенности Петр, подвергаются у писательницы жесткой женской критике. Петр струсил в ту ночь, когда арестовали Христа. Как и предсказал ему сам Христос, Петр трижды отрекся, трижды повторил: «Я не знаю этого человека». Воскресший Иисус простил его, и на этом камне (имя Петр означает «камень») основал свою Церковь – об этом тоже сказано в Евангелии.
И здесь Мария Корелли решительно идет поперек традиции. Петр, неоднократно мелькающий в романе, – это не прощенный грешник, не один из апостолов, выбранных Христом с пониманием и его слабостей, но и его потенциала, не тот, кто понесет свет народам. Трусость и сознание непоправимой вины навсегда исказили его природу. Он одержим жаждой правды или, вернее, отвращением к (собственной) лжи и потому говорит так много и так бурно, что забалтывает истину и способен поверить в утешительное вранье. Церковь, которую он создаст, не соединит людей с Богом, а станет искажающим фильтром.
Здесь, конечно, сказалось недоверие англичан к той Церкви, которая непосредственно производила себя от Петра, то есть к Церкви римско-католической. Насмешливые слова «волшебного помощника» – Мельхиора – адресованы, в первую очередь, этому могущественному многовековому институту. И все же апостол Петр был весьма почитаем и протестантами, к числу которых принадлежала и сама Корелли, и большинство ее соотечественников, и в целом упрек Мельхиора кажется применимым к любой организованной религии; а что предложить ей взамен и как сохранить истину – об этом Мельхиор умалчивает.
Помимо Петра, Мария Корелли имела серьезные претензии и к Павлу, считая, вслед за некоторыми богословами своего времени, что тот существенно исказил учение Христа. О том, что Церковь заняла место между человеком и Богом, подменяя собой Христа, она подробнее говорит в гораздо более длинном – и вновь современном и социальном, а не историческом – романе «Мастер Христианин», написанном спустя семь лет после «Вараввы». Вышедший в 1900 году роман рассматривает ставший актуальным на рубеже веков вопрос: что было бы, если бы Христос пришел сегодня? Ответ предугадывается: Его бы не услышали. Христос не востребован. Это убеждение, которое писательница окончательно сформулирует в «Мастере Христианине», но которое мучило ее и в пору написания «Вараввы», следует иметь в виду, чтобы понимать источник ее не слишком дружелюбного отношения к Петру и другим апостолам. Более того: Петра Мария Корелли делает соучастником предательства Иуды, приписывая им обоим одинаковое нетерпение, ложное понимание миссии и власти Христа, желание поскорее увидеть его царем земного Израиля, да и самим занять почетные места при его дворе.
Мотивы предательств, отречений, дальнейшего искажения веры и разлучения человека с Богом – вот что наиболее интересно в этой книге, потому что здесь писательница касается самого для нее важного и мучительного. Откуда этот недостаток доверия? Почему даже самые близкие – ученики – не смогли постичь божественную природу Христа, полностью и безусловно уверовать?
По правде сказать, ответа на этот вопрос Мария Корелли не дает. Она может сколько угодно упрекать ею же созданных персонажей в лицемерии и трусости, в неумении верить, в профанации святого и так далее, она может делать это властью повествователя, устами таинственного Мельхиора и романтическими монологами Вараввы («Я разбойник и убийца, но с вами, трусами, я хлеб не преломлю»), но ответа у нее, по-видимому, нет, и это причиняет ей страдания настолько сильные, что своим вымышленным героям она дарует миг прозрения – и смерть с улыбкой на устах. Самыми симпатичными – и близкими к Иисусу и чистой вере – оказываются грешники. Смиренная блудница Мария Магдалина, надменная прелюбодейка Юдифь Искариот, романтический разбойник Варавва. Целиком поглощенные грехом – а затем столь же полно поглощенные поисками прощения – и всегда ведомые любовью к кому-то другому, а не себялюбивым копанием в себе, эти люди достигают веры. Но что дальше? Вымышленные Юдифь и Варавва тут же умирают; легендарная Мария Магдалина стала одной из проповедниц Евангелия, но в романе она остается на втором плане и будущее ее неясно. Похоже, задача проповедовать христианство здесь вообще отсутствует. Марию Корелли не волнует, как религия распространится по всей Земле. Ее вообще не волнует религия. Ее волнует вера – в одной человеческой душе. Как обрести веру? Как преодолеть недоверие?
Но даже ее прекрасный разбойник Варавва, так сильно любивший, так сразу угадавший божественность Иисуса, мучим вопросом о происхождении Христа. Во что бы то ни стало ему требуется знать, был отцом Христа Господь или же плотник Иосиф. Он пристает с этим вопросом к Марии – нечего сказать, уместный вопрос матери, на глазах которой только что распяли сына, – он отправляется в Назарет, чтобы задать этот вопрос Иосифу, и тот горячо заверяет, что мужем Марии был лишь номинальным, по велению свыше, для прикрытия. Кульминацией этой сцены становится явление воскресшего Христа – Он пришел главным образом к своим близким, а Варавва смущенно покидает это место, но тем не менее удостоился видения Христа и получил ответ на свой неделикатный вопрос. После этого он вновь попадает в тюрьму и умирает с улыбкой на губах.
Почему, почему Варавву и его создательницу так волнует этот вопрос? После многократных, как то бывало в станцах Клиффорда и в стихах Марии Корелли до Марии Корелли, повторов одних и тех же формул о том, как Варавва сразу узрел божественность и насколько же недостойны ученики, не узревшие того же за несколько лет близкого общения – откуда эта потребность в прямом однозначном подтверждении? И не мог ли Христос быть Сыном Божьим в каком-то ином смысле – религии того времени, как и религия Марии Корелли, много чего знают о переселении душ и о различных формах духовного приобщения человека божеству. Об усыновлении отдельных людей и человечества в целом.
Или в этом и заключалась проблема? Удочеренной Марии Корелли непременно требовалась самая подлинная история отцовства. У ее во всем совершенного Христа должен быть отец, а не усыновитель.
Она вновь вернется к этой теме много лет спустя в романе «Невинная: ее фантазия и его факты». Девушка по имени Инносент (что и значит «Невинная», и является одним из эпитетов Христа: разбойник на кресте и в Евангелии, и в романе Марии Корелли уничиженно сравнивает себя с Ним, умирающим безвинно, и слышит обещание встречи в раю) выросла в поместье Гуго Джослина, твердо веря, что является незаконной дочерью своего приемного отца от его невесты, скончавшейся до свадьбы. Сердце ее отдано французскому Средневековью, ее кумир – рыцарь Амадис, и через своего приемного отца – если он и биологически ее отец – Инносент состоит в родстве с этими героями древности. Лишь после смерти Джослина Инносент узнает, что была плодом мимолетного романа светской леди и художника, которые решили подбросить ребенка.
Инносент порывает связи с семьей своего приемного отца, отказывается от имени, которое ей не принадлежит по праву, и отправляется в Лондон в надежде обрести там иное имя и заработать себе на жизнь. Она становится писательницей, первая ее книга имеет огромный успех (удивительное совпадение, право). И все же она попадает в ту же ловушку, что и Делисия: влюбляется в светского щеголя, только потому, что его имя – Амадис де Джослин. Вот ее шанс окунуться вновь в романтику французского Средневековья – и по праву носить фамилию Джослин, ведь этот потомок Амадиса непременно на ней женится. Но нет, на уме у современного Амадиса лишь флирт, и Инносент с разбитым сердцем возвращается на ферму Гуго Джослина умирать.
Все важные для Марии Корелли темы сошлись здесь: приемный отец, библиотека, девичья наивность, жестокий свет, вертопрах, губящий писательницу. И все тот же мучительный вопрос: удочеренная?!
Хочется верить, что, когда настал ее час, она услышала ответ на этот вопрос и тоже ушла с улыбкой на лице. Она очень много работала в жизни и искренне, хотя порой слишком напористо, желала добра людям. Киплинг, почти столь же популярный, как она (почти – Мария Корелли обошла и его, и Конан Дойля, и Брэма Стокера, вместе взятых), представлял себе рай, который наступит для таких, как он и она, после долгого отдохновенного сна:
- Но лишь в том, чтоб писать как видишь,
- Будет им награда и честь,
- И трудиться во славу Бога
- Всех Вещей, Каковы Они Есть[1].
Критики, сулит Киплинг в этом стихотворении, вымрут – и, видимо, не воскреснут или воскреснут не-критиками. И это очень бы устроило нашу Марию Корелли. А что рисовать, как утверждает Киплинг, предстоит Магдалину, Павла и Петра – что ж, Магдалину и Петра она уже изображала, и если ошиблась, то теперь, увидев лицом к лицу в свете Любви, конечно же, она взялась за лучшую свою книгу.
Но и эта, ныне в руках у читателя, тоже была – плод ее сердечных мук, вдохновения, поиска истины, честного писательского труда.
Любовь Сумм
И положили в совете взять Иисуса хитростью и убить.
Матфей 26:4
Был тогда у них известный узник, называемый Варавва.
Матфей 27:16
Тогда был в узах некто, по имени Варавва, со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство.
Марк 15:7
Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство.
Лука 23:19
Варавва же был разбойник.
Иоанн 18:40
Часть первая
Глава 1
Догорал длинный, знойный южный день.
Тяжелая жара была невыносима. Земляные полы тюрьмы источали ядовитое зловоние, отравлявшее небольшое количество проникавшего с воли воздуха. Царил глубокий мрак. Только тонкий светящийся лучик – скромный посланник пышущего жаром солнца – пробивался в одну из камер через небольшое отверстие вверху.
Но свет раздражал узника, и он с проклятиями отворачивался, закрывал лицо скованными руками, кусая губы в бессильной злобе, пока рот не наполнялся кровью.
И хотя арестант часто впадал в такую ярость и смотрел на солнечный луч, мечом резавший плотный тюремный мрак, как на заклятого врага, светящийся столбик был не бесполезен узнику: по нему он судил о времени. Когда луч появлялся – начинался день, исчезал – и ночь вступала в свои права.
Существование в каменном мешке было мукой, каждый новый день не приносил ничего хорошего: заканчиваясь, он оставлял обитателя подземелья в еще большем, чем вчера, животном отупении. Но слепящий глаза свет мучительно напоминал о внешнем мире и не давал окончательно забыться. Заключенный здесь человек выдержал бы сияние яркого восточного солнца в открытом пространстве – никто не бросит такого смелого взгляда на огненный шар, царящий в синеве неба! Но в смрадной темнице эта тоненькая струйка света, излучаемого дневным светилом, казалась узнику воплощением вызова и злой насмешки. Корчась на подстилке из грязной, трухлявой соломы, он отодвигался подальше, в темноту, проклиная и судьбу, и людей, и Бога.
Он был не один. В угол, где он ежился, как дикий зверь, была вмурована железная решетка, граничащая с таким же каменным мешком. Через эту решетку к нему тянулась изможденная, грязная рука. Пошарив в темноте, рука наконец нашла и потянула край его рубища; слабый хриплый голос позвал.
Он нагнулся быстрым, гневным движением. Цепи его зазвенели.
– Чего тебе?
– Про нас забыли, – простонал жалобный голос. – Я умираю от голода и жажды и проклинаю тот час, когда связался с тобой…
Варавва молчал.
– Ты помнишь, – продолжал тот же голос, – какое сегодня число?
– Не все ли равно? – отозвался Варавва. – Месяцы или годы прошли с тех пор, как нас сюда заточили… А ты знаешь?
– Восемнадцать месяцев прошло со дня убийства фарисея, – ответил сосед. – Сейчас идет пасхальная неделя.
Варавва не выразил ни удивления, ни интереса.
– Помнишь ли ты обычай Пасхи? – продолжал невидимый собеседник. – Один преступник, выбранный народом, должен быть отпущен на свободу! Ах, если бы это был кто-то из нас! Если невинность – заслуга, то выбор падет на меня. Бог моих отцов свидетель, что мои руки не запачканы кровью… Я фарисея не убивал… Немного золота – вот все, что я хотел…
– И разве ты его не взял? – прервал его Варавва. – Лицемер! Разве не ты ограбил фарисея, сняв с него все, до последнего украшения? Тебя схватили, когда ты зубами рвал с его руки золотой браслет. Не прикидывайся невинной овечкой! Ты – злейший вор в Иерусалиме!
За решеткой послышалось рычание разъяренного зверя. Затем после некоторого молчания опять раздался стон.
– Весь день без пищи! И ни капли воды! Я скоро умру! Умру в темноте и смраде! – Стенания переходили в визг.
– Туда тебе и дорога! – устало сказал Варавва. – Зато каждый, кто имеет золото, может спать спокойно!
– Ты демон, Варавва! – Через решетку просунулась сжатая в кулак рука.
Потом бледное, искаженное злобой лицо притиснулось к прутьям.
– Клянусь, я буду жить хотя бы для того, чтобы дождаться того часа, когда тебя поведут на казнь!
Варавва молча отодвинулся подальше от злобного соседа и, глянув вверх, облегченно вздохнул: ослепительно-золотое сияние сменилось мягким красноватым светом.
– Закат солнца, – бормотал он. – Вот час, который она любит! Она пойдет с рабынями к колодцу и будет отдыхать и веселиться, а я… я… О Бог мести! Я никогда не увижу ее лица! Полтора года в этой могиле и никакой надежды на избавление!
Узник резко встал, и голова почти коснулась потолка темницы. Кандалы снова напомнили о себе громким бряцанием. Поставив голую ногу на выступ стены, Варавва приник к щели, откуда пробивался горячий свет заходящего солнца, но мало что было видно ему – огороженная небольшая площадка сухой, выжженной земли да одинокая пальма с чахлыми листьями. Пристально вглядываясь, он старался различить что-то в туманной дали, но, истомленный долгим вынужденным постом, не смог удержаться и опустился на землю, продолжая мрачно следить за розовым отблеском солнца на полу.
Этот свет падал и на его лицо, оттеняя нахмуренные брови и темные негодующие глаза, освещал голую грудь и блестел на массивных железных наручниках.
Всклокоченные волосы и спутанная борода делали узника похожим на дикого зверя. Он был почти раздет: бедра опоясывал кусок полуистлевшей ткани, подвязанной грубой веревкой. Хотя было очень жарко, узник дрожал в этом душном мраке и, уронив голову на колени, пристально и упорно, как филин, смотрел на солнечный луч, который с каждой минутой бледнел, угасая. Днем луч был ярко-красный («Как кровь убитого мной фарисея», – со зловещей улыбкой подумал Варавва), теперь же он стал бледно-розовым, как румянец зардевшейся красивой женщины.
От этого сравнения узник содрогнулся и до боли сжал руки.
– Юдифь, Юдифь! – прошептал он. – Дорогая Юдифь!
И, прижавшись лбом к скользкой стене, замер, как каменное изваяние.
Последний отблеск солнца пропал, и темная мгла укрыла все. Ни один звук, ни одно движение не выдавали присутствия человеческого существа в этом ужасном месте. Только изредка слышался шорох пробегающих по полу мышей, и снова воцарялась тишина – глубокая, мертвая…
А небеса облекались в свое ночное величие. Просыпаясь, звезды белыми, хрупкими лилиями выплывали в необъятное, темное, словно гладь озера, пространство.
Но в щель темницы была видна лишь одна маленькая звездочка. Показавшаяся на горизонте серебристая луна еще не заглянула в тьму камеры, чтобы сочувственным бледным светом озарить заключенного. Одинокий и невидимый, он боролся с физическим и нравственным недугом. Стена, на которую он опирался, была обильно полита слезами.
Глава 2
Медленно тянулось время… Вдруг ночную тишину прервал какой-то неясный шум. Он, как прилив моря, начинался издалека и, приближаясь, зловеще гудел, делался все громче и громче, ударялся о стены темницы и отражался от них, умноженный эхом…
Уже были различимы отдельные голоса, топот множества ног и лязг оружия. Хрипло спорили, свистели, кричали.
Язвительный, с издевкой голос спросил:
– Скажи, Пророк, кто Тебя ударил?
Раздались оглушительный смех, визг, гиканье, улюлюканье. Потом толпа ненадолго угомонилась, притихла в ожидании конца спора, возникшего между начальниками.
Через несколько минут гул возобновился и медленно покатился мимо тюрьмы, постепенно замирая, как удаляющиеся раскаты грома.
Но пока он был рядом, в подземелье загремели цепи, скованные руки слабо застучали о решетку, и голос, говоривший прежде, опять позвал:
– Варавва!
Ответа не последовало.
– Варавва, ты слышал проходящую толпу?
Снова молчание.
– Варавва! Собака! – Сосед яростно заколотил по решетке. – Ты глух к хорошим вестям! В городе мятеж! Долой закон! Долой тирана! Долой фарисеев! Долой всех!
Он рассмеялся. Смех его походил на хрип.
– Нас освободят! Свобода! Подумай, Варавва! Тысяча проклятий тебе! Ты спишь или умер!
Но он напрасно бил кулаками по решетке. Варавва был нем.
Луна, между тем подкатившаяся к середине небосклона, заглядывала в каменный мешок и окутывала призрачным светом фигуру неподвижного Вараввы.
– Варавва! – Раздраженный, слабый голос соседа стал сильнее от злобы. – Ты не внимаешь хорошим вестям, так слушай же плохие! Послушай твоего друга Ганана, который лучше тебя знает коварство женщин! Зачем ты убил того фарисея? Он говорил правду… Ты – глупец! А твоя Юдифь…
Позорное слово не успело слететь с его языка. Безучастный до сих пор Варавва внезапно и молниеносно, как лев, кинулся к Ганану, схватил его через решетку за руку и стиснул с такой бешеной силой, что чуть не сломал.
– Еще раз произнеси это имя, и я вырву твои разбойничьи руки и оставлю для воровства одни плечи!
Лицом к лицу, почти невидимые друг другу, они яростно боролись. Наконец, страшно крича от боли, Ганан высвободил руки и рухнул в темноту камеры. Тяжело дыша, Варавва бросился на свою грязную подстилку.
– Что, если это правда? – Он скрежетал зубами, каждая его жилка билась в нервном напряжении. – Вдруг вся красота Юдифи – только искусная маска, за которой скрываются коварство и подлость? О Бог, тогда она в тысячу раз хуже меня!
Уронив голову на руки, влюбленный узник старался разрешить загадку собственной натуры, своих страстей, сильных и неукротимых. Но это было так трудно, что понемногу его мысли стали рассеиваться, и он впал в забытье, сладостное после недавней сердечной боли. Сжатые в кулаки ладони раскрылись, дыхание стало ровным, и, вытянувшись во весь рост, он заснул.
А ночь торжествовала. Луна и звезды спокойно следовали своим законам; молитвы разных людей, говорящих на разных языках, исповедующих разные религии, поднимались от земли к единому для всех небу. Молитвы о милосердии, прощении и благоденствии для того человечества, которое само не обладало ни милосердием, ни умением прощать.
С волшебной быстротой темные небесные своды стали бледно-серыми, луна тихо скрылась, и звезды погасли одна за другой, как лампы после праздника.
Наступило утро.
Варавва продолжал спать, повернувшись в сторону проникающего в тюрьму утреннего света, и тихая улыбка сменила прежнюю суровость его лица. Над нечесаной густой бородой виднелся нежный изгиб губ. Отпечаток былой степенной красоты лежал на широком лбу и закрытых глазах. Этого спокойно спящего нераскаявшегося преступника можно было принять за невинную жертву жестокой судьбы.
В наружном дворе тюрьмы зашумели, задвигались. Варавва сначала слышал это сквозь сон, но шум все усиливался, и арестант нехотя открыл глаза и приподнялся на локте. Прислушавшись, он различил бряцание оружия и мерные шаги людей. Пока он вяло размышлял, что бы это могло значить, звуки приблизились и наконец затихли у его камеры. Повернулся ключ в замке, со скрежетом отодвинулись огромные засовы, дверь распахнулась, и хлынул такой яркий свет, что узник невольно понял руки к глазам, словно защищая их от удара. Моргая, как ночная птица, он привстал. Перед ним стояла группа сверкающих металлом доспехов римских солдат, во главе которых был офицер. Рядом стоял тюремщик.
– Выходи!
Варавва смотрел сонно, непонимающе. Вдруг за решеткой раздался визгливый крик:
– Я тоже!.. Я невиновен! Отведите и меня в суд! Будьте справедливы! Не я убил фарисея, а Варавва! Не оставляйте меня здесь!
Никто не обращал внимания на эти вопли. Офицер повторил, глядя на Варавву:
– Выходи!
Очнувшись наконец, тот приложил все усилия, чтобы исполнить приказание, но мешали тяжелые цепи. Видя это, офицер отдал распоряжение солдатам, и через несколько минут оковы с ног арестанта пали.
Ганан продолжал вопить.
Оглянувшись на стражу, Варавва слабым голосом сказал:
– Прошу вас, дайте воды и пищи этому человеку…
Начальник конвоя взглянул на него с удивлением.
– Ты ничего не просишь для себя? – сказал он. – Сейчас у иудеев Пасха, и мы разрешим тебе все, что благоразумно…
Он засмеялся, и его люди дружно подхватили смех. В глазах Вараввы стояла тоска пойманного зверя.
– Сделайте это из милости, – пробормотал он. – Я тоже голоден и жажду, но Ганан слабее меня.
– Эй, тюремщик, накорми крикливого разбойника, – приказал офицер и, быстро повернувшись, стал во главе своего отряда, плотно окружившего Варавву.
Все вышли из тюрьмы.
Глава 3
Во дворе все остановились в ожидании, пока откроют ворота. Там, по ту сторону ограды, была свобода! Варавва издал хриплый стон и, задыхаясь, поднес скованные руки к лицу.
– Что с тобой? – спросил один из конвоиров и ткнул его копьем в бок. – Не может быть, чтобы ветерок так подкосил тебя!
А Варавва и в самом деле зашатался и упал бы, если бы воины с руганью и проклятиями не подхватили его и не поставили на ноги. Лицо арестанта смертельно побледнело, белые губы над всклокоченной бородой скривились, он едва дышал.
Офицер все понял.
– Дайте ему вина! – сказал он кратко.
Приказ был тотчас исполнен. Но зубы обессилевшего узника были стиснуты, и вино – каплю за каплей – пришлось насильно вливать в рот. Скоро грудь Вараввы поднялась с глубоким вздохом возвращающейся жизни, глаза широко раскрылись.
– Воздух, воздух! Чистый воздух! Свет! – восторженно стонал он. Потом, почувствовав прилив сил от выпитого вина, рассмеялся. – Свободен! Я свободен!
– Замолчи, собака! – прервал его восторги офицер. – Кто тебе сказал, что ты свободен? Посмотри на наручники и отрезвись. Вперед, солдаты!
Тюремные ворота со скрипом выпустили их, и равномерный шаг конвоя и спотыкающийся – арестанта эхом отдавался на улицах, по которым они проходили, а затем и под сводами подземного хода, ведущего прямо в зал суда. Ход этот был длинный, каменный, освещаемый такими тусклыми светильниками, которые, казалось, только усиливали глубокую темноту подземелья.
Мрак здесь был почти такой же, как в темнице, и Варавва запинался на каждом шагу. Чудное видение свободы улетучилось. Его вели на казнь. Какого милосердия мог ожидать преступник от могущественного Пилата, прокуратора Иудеи, убив одного из немногих в этой стране друзей римского правителя?
Будь он проклят, этот фарисей! Его манеры, его самодовольную улыбку, его холеные руки с огромным перстнем на указательном пальце, все детали роскошной, пышной одежды, осанку, отличавшую его от других людей, – все это Варавва вспомнил с отвращением. Ему опять представился тот момент, когда, сваленный на землю сильным, точным ударом ножа, фарисей лежал, обливаясь кровью; в лунном свете глаза Габриаса казались белыми от переполнявшей его ненависти к убийце.
Насильно отнятая жизнь взывает о мести! Варавва это понимал. Но казнь, применяемая к опасным преступникам, была так страшна, так жестока, что Варавва содрогнулся от предчувствия предстоящих ему страданий. Если бы, как убитый им фарисей, расстаться с жизнью в одно мгновение! Но быть растянутым на деревянных брусьях и часами мучиться под лучами палящего солнца – одной мысли об этом было достаточно, чтобы привести в ужас даже храброго человека!
Поэтому Варавва с трудом переставлял ноги. Голова его кружилась, глаза слезились, в ушах гудело. В приближающемся вое разъяренной толпы он расслышал свое имя.
Встревоженный, арестант стал заглядывать в лица солдат, но по их невозмутимым чертам не мог узнать свою участь. Сквозь бряцание оружия и шум шагов снова послышалось: «Варавва, Варавва!» Очевидно, жестокая толпа, как всегда, требовала казни. Для озверевшей толпы нет ничего приятнее агонии человека. Ничто не вызывает такого злорадного смеха, как отчаяние и страх жертвы, приговоренной к мучительной, медленной казни на кресте!
От этой мысли крупные капли пота выступили на лбу арестанта. Медленно двигаясь вперед, он молча молил о внезапной смерти. Но ему предстояло быть объектом насмешек толпы, ждущей чужой смерти как развлечения.
Все ближе становился гул, прерываемый паузами молчания, и во время одного такого затишья путешествие подошло к концу.
Арестант и стражники оказались в огромном зале, разделенном на два квадрата, один почти пустой, другой плотно заполненный людской массой, которую с трудом сдерживал от проникновения в просторную половину римский отряд с центурионом во главе.
Когда появился Варавва в окружении конвоя, ни один взгляд любопытства или участия не обратился к нему. Внимание народа привлекал другой Узник, Какого еще не бывало в человеческом судилище. Допрашивали такого Обвиняемого, Который никогда не давал ответа смертному человеку…
С чувством облегчения Варавва начал сознавать, что, пожалуй, его страхи были напрасными. Никто не требовал его казни. Заразившись всеобщим напряженным любопытством, он, насколько мог, вытянул шею, чтобы лучше следить за происходящим.
Под роскошным судейским балдахином восседали члены синедриона. Некоторых из них Варавва знал: первосвященника Каиафу и его родственника, тоже первосвященника, Анну. Но среди высокопоставленных лиц он с удивлением увидел маленького, худенького, сморщенного менялу, известного всем в Иерусалиме и всеми проклятого за бессовестное ростовщичество и жестокость.
«Как сюда попал этот подлец?» – подумал Варавва.
Потом его глаза остановились на человеке, чье строгое лицо не раз являлось ему в тюрьме. Понтий Пилат, наместник римского цезаря, суровый посредник между жизнью и смертью, выглядел бледным и очень усталым. Черты лица его застыли, но рука теребила осыпанную драгоценными камнями печать, висевшую на груди; под низко спадавшими складками судейской мантии одна нога в сандалии нетерпеливо постукивала по полу.
Хотя сегодня Пилат больше походил на грустного вельможу, чем на жестокого тирана, все же строгий профиль и твердость поджатых тонких губ прокуратора не предвещали никакого мягкосердечия.
Пока Варавва размышлял об этом, страшный крик вдруг потряс воздух:
– Распни! Распни Его!
Варавва вздрогнул. Чью жизнь так яростно просили? Не его ли? Нет, толпа его по-прежнему не замечала. Все взгляды были обращены в другую сторону. Вытянувшись всем телом в том же направлении, Варавва в восторженном удивлении затаил дыхание.
Все величие, все великолепие ясного дня, весь свет, льющийся из огромных окон, сосредоточились в облике второго Узника. Такой лучезарности, такой силы, такого сочетания совершенной красоты и могущества Варавва никогда не встречал, да и не думал, что такое возможно. Он смотрел так, словно его душа превратилась в одно чувство зрения. Он прошептал: «Кто этот Человек?» Никто ему не ответил. Варавва не сводил глаз с Божественного Существа, стоявшего молча, с видом покорности закону, с легкой таинственной улыбкой на губах и смирением ожидая того приговора, который Он Сам постановил. Освещаемый солнцем, Он был спокоен, как мраморная статуя. Белые одежды, падая назад с плеч ровными, красивыми складками, открывали руки, скрещенные на груди, и в этой позе видна была загадочная, непреодолимая сила Узника. Величие, власть, неоспоримое превосходство – все это торжествовало в чудном и несравненном Образе.
Крики толпы возобновились с еще большей яростью:
– Распни Его!
Далеко, в самых последних рядах выделялся женский голос, серебристый и звонкий. Этот сильный, красивый звук еще больше подстегнул азарт разъяренных людей. Поднялась суматоха. Крик, вой, свист.
Пилат сердито и повелительно встал и повернулся к народу. Когда он поднял руку, гул понемногу смягчился, постепенно замирая. Но прежде чем воцарилась полная тишина, тот самый юный, сладкий, мелодичный голос, теперь с веселой ноткой, прозвенел еще раз:
– Распни! Распни Его!
Задорный смех горячей волной окатил сердце Вараввы: его он слышал раньше, при других обстоятельствах…
– Скажите, какое зло Он совершил?
Вопрос прокуратора и реакция на него толпы отвлекли Варавву от приятных воспоминаний.
Стены судилища затряслись от страшного воя, насмешек, громового, звериного бешенства. Мужчины, женщины, дети – все принимали участие в этом хоре. К ним присоединились первосвященники, старейшины и расположившиеся прямо на полу писцы.
Пилат резко повернулся и, сдвинув брови, окинул грозным взглядом высокий суд. Первосвященник Каиафа, встретив этот взгляд, слащаво улыбнулся и мягко сказал, как бы делая приятное предложение:
– Распни Его!
– Действительно, хорошо бы Его казнить, – пробормотал Анна, толстый родственник Каиафы, исподлобья глядя на Пилата. – Почтенный правитель будто колеблется. Но ведь этот изменник – далеко не друг цезаря.
Пилат не удостоил их ответом.
Он сел в свое кресло и стал пристально смотреть на Обвиняемого.
Какое зло Он совершил? Правильнее было бы спросить: какое зло Он мог совершить? Разве был хоть малейший признак греховности на этом открытом, красивом и мудром челе? Благородство и правда запечатлелись в каждой черте молчаливого Узника. Кроме того, в Нем было нечто такое, что страшило Пилата, что-то невыговоренное, но, бесспорно, существующее – чрезвычайное величие, казалось, Его окружало и от Него исходило. И это тем более пугало, потому что было глубоко скрыто.
Пока взволнованный правитель изучал спокойную, величественную осанку Загадочного Обвиняемого, размышляя над тем, как лучше поступить, Варавва также пристально смотрел на Него, все более чувствуя удивительное, волшебное очарование Человека, Которого народ хотел убить.
Любопытство придало Варавве храбрости, и он спросил одного из солдат:
– Скажи, пожалуйста, кто этот пленный Царь?
– Царь? – Солдат захохотал. – Да, Он называет Себя Царем иудеев и за эту шутку поплатится жизнью… На самом деле Он сын столяра. Он поднял бунт и убеждал народ не подчиняться закону. Кроме того, Он вращается в среде закоренелых мошенников, воров, мытарей и грешников… Обладает искусством колдовства… Люди говорят, что Он может внезапно исчезнуть в тот момент, когда Его ищут. Но вчера Он даже не пытался скрыться. Его без труда схватили около Гефсимании. Один из Его учеников помог нам. Одни говорят, Назорей сумасшедший, другие – одержим дьяволом. Но как бы то ни было, Он сегодня умрет!
Варавва слушал, не веря. Этот царственный Человек – сын простого столяра?! Нет, это невозможно! Ему вдруг вспомнилось, что еще до его заключения ходили странные слухи, что некий Иисус творил чудеса, лечил больных и калек, возвращал зрение слепым, проповедовал бедным. Утверждали даже, что какого-то Лазаря, умершего и похороненного, Он спустя три дня воскресил из мертвых. Но эти слухи опровергали фарисеи и книжники, заявляя, что чернь невежественна и суеверна, а Он, умея лечить тяжелые болезни, пользовался огромным влиянием среди народа в Своих целях.
Варавва не мог припомнить всего, что рассказывали об Иисусе. Полтора года, проведенные в тюрьме, многое изгладили из памяти, тем более что в своем жалком состоянии узник думал только о собственном несчастье и представлял образ любимой. Теперь же он не мог думать ни о чем другом, кроме как о судьбе Того, с Кого не сводил глаз. И пока Варавва так пристально вглядывался, ему показалось, что зал суда вдруг расширился и наполнился ярким, ослепительным сиянием, которое исходило от фигуры Иисуса. Крик изумления вырвался из груди Вараввы.
– Нет, нет! – забормотал он. – Вы не можете, не смеете распять Его! Он – Дух! Такого человека не может быть. Он – Бог!
Один из солдат больно ударил его по губам.
– Молчи, дурак!
Пытаясь скованными руками стереть хлынувшую кровь, Варавва вдруг почувствовал, что Иисус смотрит на него. Прежде никто не одаривал Варавву таким взглядом – жалость и нежность были в нем. Он всем телом подался вперед, чтобы быть ближе к Тому, Кто так необыкновенно мог смотреть на людей. Ему хотелось броситься к ногам этого нового Друга, чтобы своей грубой, животной силой защитить Его ото всех! Но частокол обнаженных копий не позволял и надеяться на подобное.
Один из книжников, высокий и худой, в темной одежде, встал и, раскручивая свиток пергамента, монотонно начал читать обвинение, наспех составленное еще накануне вечером в доме Каиафы. Тишина внимания и ожидания воцарилась в толпе.
Пилат слушал, нахмурившись и прикрыв рукой глаза. Во время пауз ясней становился шум улицы, веселый голосок поющего ребенка звучал радостным колокольчиком. Солнце, стремящееся к зениту, освещало то яркую, кокетливую повязку на женских волосах, то блестящие латы римского солдата, и только члены суда оставались в холодной тусклой белизне, а пурпурные занавеси, на фоне которых они восседали, казались украшением величественных похорон.
Чтение обвинительного заключения закончилось, а Пилат все молчал. Наконец, убрав руку, которой прикрывал свои глаза, он окинул весь синедрион долгим, хмурым взглядом.
– Вы привели сюда этого Человека… В чем вы Его обвиняете?
Каиафа и Анна возмущенно переглянулись, после чего Каиафа с выражением глубоко оскорбленного достоинства и как бы даже с вызовом сказал:
– Все слышали обвинение, и вопрос почтенного правителя странен. Разве нужны еще свидетели? Если бы этот Человек не был злодеем, Его не привели бы сюда. Он богохульствовал. Вчера вечером во имя Всемогущего Бога мы спросили, Он ли Христос, Сын Вечно Благословенного, и Он смело ответил: «Я. И увидите Сына Человеческого, грядущего на облаке, с силой и славой великой». Разве Он не заслуживает смерти?
Шепоток одобрения пронесся среди священников и старейшин. Но Пилат сердито откинулся в своем кресле.
– Вы говорите притчами и только распространяете заблуждения. Обвиняемый сказал о Себе, что Он Сын Человеческий, а вовсе не Сын Божий…
Каиафа побагровел и хотел возразить, но, справившись с собой, продолжал с циничной улыбкой:
– Ты удивительно милостив, Пилат, твой государь не упрекнет тебя в слишком строгом правлении! По нашим законам, тот, кто богохульствует, подлежит смерти. Но если в твоих глазах богохульство не преступление, что ты скажешь об измене? Есть свидетели, которые клянутся, что Он подстрекал против платежа дани цезарю. К тому же Он лжец. Он надменно заявил, что разрушит святой храм, так что камня на камне не останется, и в три дня построит новый и больший храм! Такие сумасбродные речи возбуждают народ. Вдобавок Он обманывал чернь, делая вид, что творит чудеса, хотя это просто ловкие фокусы. Наконец, Он въехал в Иерусалим с торжественностью царя. – Тут Каиафа обратился к Анне: – Ты, Анна, можешь рассказать об этом, ты был там, когда устроили это возмутительное шествие.
Анна выступил вперед, сжимая руки и с показной честностью опустив свои бесцветные, фальшивые глаза.
– Свидетельствую перед законом, что я сам видел, как народ встречал этого изменника на дороге из Вифании с приветственными возгласами, устилая Его путь ветками пальм и маслин, даже своими одеждами, как перед всемирным победителем. Люди кричали: «Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне. Осанна в вышних». Я был страшно удивлен и обеспокоен и сразу же пошел к Каиафе, чтобы рассказать ему про дикие, противозаконные действия толпы, про эту непристойную выходку черни – чествовать царскими почестями сына простого столяра из Назарета!
– Разве Он из Назарета? – спросил кто-то из старейшин. – Я слышал, что Он родился в Вифлееме Иудейском и что царь Ирод Великий будто бы узнал о различных чудесах, свершившихся при Его рождении…
– Это слухи, – торопливо заверил Анна. – Все знают, что Он из Назарета. Его родители живут там.
Пилат слушал молча.
Доводы Каиафы и Анны были обычным пустословием членов синедриона, которых он не любил. Он знал, что они искали только собственной выгоды и блюли лишь собственные интересы, а главная причина, почему они возненавидели Назорейского Пророка, был страх. Страх, что их власть поколеблется, их законы пошатнутся и их авторитет в народе исчезнет.
Они видели, что этот Узник, кто бы Он ни был, думал самостоятельно. Для власть предержащих нет ничего более страшного, чем свобода мысли, свобода совести и презрение к общепринятому мнению.
Пилат сам чего-то боялся – не так, как иудейские священники, но все же…
Он старался не смотреть на Назорея, высокая фигура Которого, казалось, излучала сверхъестественный свет, контрастирующий с бледностью и холодностью судей. Не поднимая глаз, он напряженно думал, но решить ничего не мог. А время шло… Синедрион изъявлял нетерпение. Пилат чувствовал, что молчать больше нельзя, что надо говорить и действовать. Он медленно повернулся к Обвиняемому, Который тотчас поднял голову и встретил беспокойный взгляд прокуратора с великим терпением и бесконечной нежностью.
Пилат задрожал, но, пересилив себя, громко произнес:
– Иисус Назорей, Ты слышишь, в чем Тебя обвиняют?
Человек в белоснежной одежде медленно и с царственной свободой стал приближаться к Пилату. Яркие лучи солнца, падающие из высокого окна, подчеркивали бронзово-золотистый оттенок Его волос. Не отводя глаз от своего судьи, Он смиренно улыбался, заранее прощая ему еще не совершенное преступление. Но Он не произнес ни слова!
Пилат был в ужасе. Ледяной холод проник в его жилы. Он невольно встал и попятился, хватаясь за золоченую резьбу своего судейского кресла. Приближение Существа в белоснежном одеянии наполнило душу прокуратора безумным страхом. Ему вспомнились старые предания, в которых Божество, внезапно явившееся людям, уничтожало их одним дыханием вечного величия. Миг, который Пилат простоял рядом с Божественным Обвиняемым, показался ему вечностью. С поразительной ясностью перед ним мелькнуло все его прошлое, и, как темная туча на горизонте, возникло предчувствие чего-то неминуемого и ужасного в будущем.
Не сознавая, что делает, прокуратор закрыл лицо руками, как бы защищаясь от жестокого и сильного удара. Члены синедриона с удивлением смотрели на этот животный страх, охвативший римского правителя. Один из старейшин – черноглазый хитрый старик – быстро притиснулся к нему и, тронув за плечо, тихо сказал:
– Что с тобой, Пилат? Тебя хватил удар или ты сошел с ума? Прошу тебя, поспеши с приговором. Время идет, и на Пасху было бы неплохо исполнить волю народа. Что тебе этот преступник? Вели Его распять: Он изменник, называющий Себя царем. Но у нас нет иного царя, кроме цезаря. Спроси Его, правда ли, что Он хвастается Своей силой?
Пилат смотрел на непрошеного советчика, и ему казалось, что он видит скверный сон и злые духи нашептывают ему о непроизносимых преступлениях. Усталый и с похолодевшим сердцем, судья все же сознавал, что нужно продолжить допрос Узника. Облизав пересохшие губы, он спросил едва слышно:
– Ты ли Царь иудейский?
Сначала ответом было молчание. Потом голос, приятнее самой чарующей музыки, сказал спокойно:
– Ты говоришь от своего имени или так про Меня сказали?
Лицо Пилата покраснело, а руки судорожно ухватились за спинку стула. Он сделал нетерпеливый жест головой и резко ответил:
– Твой же народ и Твои первосвященники привели Тебя ко мне. Так что Ты сделал?
Внутренний свет ярче озарил глубокие, ясные глаза Назорея, таинственная улыбка еще явственней проступила на Его лике. Этим взглядом и этой улыбкой Он уже давал ответ, красноречивее всяких слов, который гласил: «Что Я сделал? Я пришел на землю к людям, чтобы сделать их жизнь сладкой и отнять у смерти ее горечь. Теперь есть надежда для всех, и рай для всех, и Бог для всех! И урок любви, Божественной и человеческой, воплощенной во Мне, осветит землю на веки вечные». Но эти великие истины остались непровозглашенными, как слишком трудные пока для человеческого понимания.
Обвиняемый медленно ответил:
– Мое царство не от мира сего. Если бы оно было от мира сего, то Мои слуги дрались бы, чтобы не отдать Меня в ваши руки, но пока Мое царство не здесь.
И Он поднял голову и посмотрел на высокое окно, за которым сияло солнце. Вид Иисуса был проникнут таким величием и такой силой, что Пилат снова пошатнулся, потрясенный чувством неодолимого страха, сжимавшего его сердце.
Священники и старейшины, слегка подавшись вперед, внимательно слушали ответ Пленника. Иронически улыбаясь, Каиафа что-то сказал Анне.
Пилат неохотно продолжил допрос. Притворяясь спокойным и равнодушным, он спросил:
– Значит, Ты царь?
Божественный Узник бросил лучистый взгляд на тех, кто с таким судорожным нетерпением ждал, что Он скажет, и, спокойно и пристально глядя в глаза Пилата, ответил:
– Ты сказал.
И когда Он произнес эти слова, солнце озарило Божественное чело таким радужным сиянием, что казалось, сами небеса венчали Иисуса.
Пилат молчал. Члены синедриона возмущенно шептались. Какие еще нужны доказательства? Он Сам произнес Себе приговор! Он признался в измене. Да будет Он предан смерти!
Солнечные блики скользили по белому одеянию Пленника, сливаясь с ярким светом, исходящим от Него.
В глазах у Пилата помутилось, в висках тупо стучало и ломило. Он почувствовал беспредельную усталость. Красота Человека, Который стоял перед судом, была слишком впечатляюща, чтобы не оставить неизгладимого следа в душе прокуратора. Пилат понял, что, осудив Его на смерть, он совершает великое преступление, о последствиях которого страшно подумать. Он хорошо понимал, какую активную роль играли в происходящем первосвященники Каиафа и Анна, добившиеся привлечения Проповедника нового учения к суду; знал, как и с чьей помощью они достигли этого.
Один сумасбродный молодой человек – Иуда Искариот, сын богатого ростовщика, приятеля Каиафы, – примкнул к ученикам Иисуса Назорея. Легко было догадаться, что недовольный внезапной приверженностью любимого чада какому-то Незнакомцу, старик по наущению первосвященника употребил весь свой родительский авторитет, чтобы убедить сына предать Учителя.
Повернувшись к совету, прокуратор спросил:
– Где Иуда?
Старейшины и священники беспокойно переглянулись, но ответа не дали.
– Вы мне говорили, что Иуда привел стражу к тому месту, где скрывался Назарянин, – медленно продолжал Пилат. – Активный участник поимки должен быть здесь. Я хочу знать, что он скажет про Человека, за Которым сначала следовал, а потом вдруг предал Его. Приведите Иуду ко мне!
Анна подобострастно согнулся:
– Молодой человек бежал из города. Он впал в какое-то буйное помешательство. Вчера поздно ночью он явился к нам, громко оплакивал свои грехи и хотел вернуть те серебряные монеты, которыми ему оплатили оказанные услуги. Мы старались успокоить его, но он с бешенством бросил перед нами деньги и исчез.
– Странно, – сказал Пилат.
Отсутствие Искариота было ему крайне неприятно. Ему очень хотелось узнать, почему этот юноша внезапно изменил своему Учителю, но теперь, когда это оказалось невозможным, прокуратор почувствовал себя еще более угнетенным. Его окутал глубокий мрак, в нем он различал большие огненные круги, которые, постепенно уменьшаясь, стягивали голову горячим обручем. Это ощущение все усиливалось, мешая дышать и смотреть, – хотелось куда-то бежать и громко кричать, чтобы избавиться от этого кошмара. Но вдруг невыносимое страдание прекратилось, словно чье-то свежее дыхание коснулось пылающего лба прокуратора. Подняв глаза, он увидел, что кроткий взор Обвиняемого устремлен на него с выражением такой бесконечной нежности, любви и милосердия, что ему вдруг открылся смысл новой жизни и безграничного счастья, путь его прояснился.
Обращаясь к первосвященникам и старейшинам, Пилат твердо и решительно произнес:
– Я не нахожу вины в этом Человеке.
Оставив напускную сдержанность, Каиафа вскочил и яростно закричал:
– Ты с ума сошел, Пилат! Назорей возмущает народ, учит везде, что…
Анна, вытягивая свою длинную худую шею, торопливо перебил зятя:
– Он водит знакомство с одними только мытарями и грешниками, а всем благочестивым открыто обещает ад. Здесь присутствует раввин Миха, который слышал все это. Говори, Миха! Правителю мало наших показаний, чтобы вынести приговор этому мошеннику и богохульнику!
Старый раввин с темным сморщенным лицом и жестокими глазами немедля встал и вынул из-за пазухи несколько вощеных дощечек.
– Эти слова записаны мною: я своими ушами слышал их в храме. Молодой фанатик не стеснялся проповедовать свои вредные теории даже в местах, отведенных для молитв. Посудите сами, разве Его слова не дышат ненавистью?











