Читать онлайн Рождение клиники. Археология медицинского взгляда
- Автор: Мишель Фуко
- Жанр: Литература 20 века, Зарубежная классика
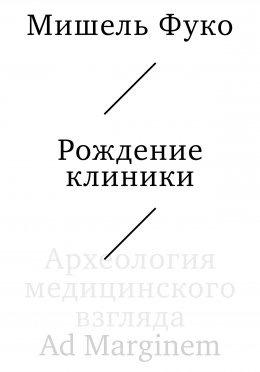
Naissance de la clinique
© Presses Universitaires de France/Humensis, 1963
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2025
Предисловие
В этой книге идет речь о пространстве, о языке и о смерти; речь идет о взгляде.
В середине XVIII века Помм врачевал и успешно излечил одну истеричку, заставляя ее принимать «ванны от 10 до 12 часов в день на протяжении полных десяти месяцев». К концу этого лечения, направленного против иссушения нервной системы и способствующего ему жара, Помм увидел «мембранные участки, похожие на куски мокрого пергамента… отделявшиеся немного болезненно и ежедневно выходившие с мочой, тогда как поверхность уретры справа отслаивалась и выходила тем же путем». То же самое происходило «с кишечником, внутреннюю оболочку которого мы наблюдали выходящей через прямую кишку в другое время. Поверхность пищевода, трахеи, артерии и языка также отслаивались; и недуг выходил по частям либо с рвотой, либо с отхаркиванием» [1].
А вот как менее столетия спустя врач воспринимает анатомическое повреждение мозга и его оболочек; речь идет о «ложных мембранах», которые часто обнаруживаются у людей, страдающих «хроническим менингитом»: «Их внешняя поверхность, прилегающая к паутинному листку твердой мозговой оболочки, прикрепляется к этому листку то очень неплотно, так что их легко отделить, то прочно и плотно, и тогда бывает весьма трудно их развести. Они соприкасаются с паутинной оболочкой только своей внутренней поверхностью, и никак иначе они с ней не соединены… Ложные мембраны часто бывают прозрачными, особенно когда они весьма тонки; но обычно они беловатого, сероватого, красноватого и, реже, желтоватого, коричневатого и черноватого цвета. Это вещество нередко имеет различные оттенки в разных частях одной и той же мембраны. Толщина этих случайных образований весьма различна; порой они настолько тонки, что их можно сравнить с паутиной. Строение ложных мембран также весьма различно: тонкие мембраны имеют кожицу, напоминающую белковую пленку яиц, и не обладают сколько-нибудь различимой структурой. Другие часто обнаруживают на одной из поверхностей сетку кровеносных сосудов, перекрещивающихся в различных направлениях и наполненных кровью. Нередко они превращаются в наслаивающиеся одна на другую пластинки, между которыми довольно часто попадаются более или менее обесцвеченные сгустки крови» [2].
Между текстом Помма, в котором обрели свою окончательную форму старые мифы о нервной патологии, и текстом Байля, который уже в то время, из которого мы все еще не вышли, описал повреждения головного мозга при общем параличе, – различие и незначительное, и абсолютное. Абсолютное для нас, поскольку каждое слово Байля, с присущей ему точностью в деталях, направляет наш взгляд на мир, где всё зримо, тогда как первый текст говорит нам о фантазмах языком, лишенным чувственного подкрепления. Но что за фундаментальный опыт мог породить столь очевидное различие, если не наши восприятия, и где они зарождаются и находят себе основания? Кто может заверить нас в том, что врач XVIII века не видел того, что он видел, и что понадобилось несколько десятилетий, чтобы фантастические фигуры развеялись и очистившееся пространство позволило узреть истинную суть вещей?
Не было ни «психоанализа» медицинского знания, ни более или менее спонтанного отказа от воображаемых нагрузок; «позитивная» медицина – это не та медицина, что делает «объектный» выбор, который в конце концов приведет к подлинной объективности. Всё, что имело силу в том визионерском пространстве, где взаимодействовали врачи и больные, физиологи и терапевты (растянутые и скрученные нервы, сухой жар, затвердевшие или спекшиеся органы, возрождение тела под благотворным действием освежения и увлажнения), никуда не исчезло; скорее, оно было вытеснено и ограничено исключительностью больного, той областью «субъективных симптомов», которые теперь определяют для врача уже не способ познания, но мир объектов познания. Фантастическая связь между знанием и недугом, которая вовсе не была разорвана, устанавливается более сложным способом, нежели простое притяжение между воображениями; присутствие болезни в теле, его напряжение, его жар, потаенный мир внутренних органов, всё темное нутро тела, о которых долго грезили, не видя их, теперь разом оказались оспорены в своей объективности редукционистским дискурсом врача и стали рассматриваться как объекты его позитивного взгляда. Образы недуга не подверглись заклятию нейтрализующим знанием; они перераспределились в пространстве, в котором встречаются тела и взгляды. Что изменилось, так это скрытая конфигурация, в которой язык обретает свою опору, соотносится с ситуацией и занимает положение между тем, кто говорит, и тем, о чем говорят.
Что же до языка, то с какого момента, в силу какой семантической или синтаксической модификации можно признать, что он превратился в рациональный дискурс? Что за разделительная линия проходит между описанием, изображающим мембраны как мокрый пергамент, и другим, столь же внимательным к деталям, столь же метафорическим, которое видит, как они покрывают мозговую оболочку подобно белковой пленке яйца? Имеют ли «беловатые» и «красноватые» листки Байля большую ценность, надежность и объективность для научного дискурса, нежели сморщенные пластинки, описанные врачом XVIII века? Взгляд несколько более педантичный, словесный поток более неспешный и более внимательный к вещам, нюансированные выражения тоньше, порой не столь расплывчаты, – не есть ли это попросту, говоря медицинским языком, распространение стиля, который со времен Галеновой медицины из-за неразличимости вещей и их форм изощрялся в описании качеств?
Чтобы понять, когда произошла мутация дискурса, нужно, конечно же, заняться чем-то иным, нежели его тематическое содержание или логические модальности, обратившись к той области, где вещи и слова еще не разделены, где способ видеть и способ говорить еще сохраняют единство на языковом уровне. Нужно пересмотреть изначальное разделение на видимое и невидимое в том, как оно связано с разделением на то, что выражает себя, и тем, что безмолвствует: тогда артикуляция медицинского языка и его объекта предстанет как единая фигура. Но не в смысле первенства, вопрос о котором ставится лишь ретроспективно; лишь речевая структура воспринимаемого – то гулкое пространство, в котором язык обретает громкость и объемность, – может быть вынесена на равнодушный свет дня. Нужно раз и навсегда закрепиться и удерживаться на фундаментальном уровне пространственного распределения и вербализации патологического, где рождается и сосредоточивается многоречивый взгляд, который врач устремляет в тлетворную сердцевину вещей.
Современная медицина считает датой своего рождения последние годы XVIII столетия. Принимаясь размышлять о себе, она определяет исток своей позитивности как возврат от какой бы то ни было теории к непритязательному, но действенному уровню восприятия. В действительности этот мнимый эмпиризм основывается не на повторном открытии абсолютной значимости видимого, не на решительном отказе от систем с их химерами, но на реорганизации того явного и тайного пространства, которое было открыто, когда взгляд в тысячный раз остановился на человеческих страданиях. Тем не менее освежение медицинского восприятия, яркое озарение оттенков и вещей под взглядом первых клиницистов – это не миф; в начале XIX века врачи описали то, что на протяжении столетий оставалось за гранью видимого и выразимого; однако дело не в том, что они вернулись к восприятию после затянувшихся спекуляций или стали больше прислушиваться к разуму, чем к воображению; дело в том, что отношение видимого к невидимому, в котором нуждается всякое конкретное знание, изменило свою структуру и представило взгляду и языку то, что пребывало вне и за пределами их области. Между словами и вещами сложилась новая связь, побуждающая видеть и говорить, и порой дискурс действительно был столь «наивным», что казалось, будто он располагается на более архаичном уровне рациональности, словно бы это было возвращение к самому началу.
В 1764 году Ж. Ф. Меккель взялся изучать повреждения головного мозга при ряде заболеваний (апоплексия, мания, туберкулез); он использовал рациональный метод взвешивания равных объемов и их сравнения, чтобы определить, какие участки мозга иссохли, какие были переувлажнены и при каких болезнях. Современная медицина почти ничего не извлекла из этих исследований. Патология головного мозга в своей «позитивной» форме началась для нас, когда Биша, но прежде всего Рекамье и Лаллеман стали использовать свой знаменитый «молоточек с широким и тонким концом. Легкие удары по наполненному черепу не могут привести к сотрясениям, которые вызвали бы разрушения. Лучше начинать с задней части, потому что, когда остается сломать только затылочную часть, она бывает настолько подвижна, что можно промахнуться… У самых маленьких детей кости слишком мягкие, чтобы их можно было разбить, и слишком тонкие, чтобы можно было их распилить; их нужно разрезать крепкими ножницами…» [3]. И вот плод трудов: из-под аккуратно расколотой скорлупы показывается какая-то мягкая сероватая масса, покрытая слизистой оболочкой с прожилками крови, жалкая бренная мякоть, в которой сияет наконец-то освобожденный, вынесенный на свет дня объект познания. Артистическая ловкость крушителя черепов потеснила научную точность взвешивания, однако именно в этом и состоит наша наука со времен Биша; точный, но не подлежащий измерению жест, открывающий взгляду всю полноту конкретных вещей, с четкой сеткой их качеств, утверждает объективность более научную, чем инструментальное опосредование количества. Медицинская рациональность погружается в чудесные глубины восприятия, предлагая, как первый лик истины, крупицы вещей, их цвет, их пятна, их твердость, их связь. Пространство опыта отождествляется теперь со сферой внимательного взгляда, с той эмпирической бдительностью, что открыта лишь очевидности зримого содержания. Глаз становится хранилищем и источником ясности; он способен вывести на свет истину, которую он обретает в той мере, в какой он высвечивает ее; раскрываясь сам, он впервые открывает истину: перелом, знаменующий переход от мира классической ясности, от «Просвещения» к XIX столетию.
Для Декарта и Мальбранша видеть значило воспринимать (даже в самых конкретных формах опыта: занятия анатомией у Декарта, микроскопические наблюдения у Мальбранша); однако речь шла о том, чтобы, не отнимая у восприятия его чувственного содержания, сделать его прозрачным для работы ума: свет, необходимое условие всякого взгляда, был элементом идеальным, тем не поддающимся описанию местом рождения, где сущность вещей совпадала с их формой, от которой вещи получали свою телесную геометрию; доведенный до совершенства акт видения вновь растворился в простой и неизменной фигуре света. В конце же XVIII века видеть означало позволить опыту обрести прежде всего телесную непрозрачность; твердость, сокрытость, плотность вещей, замкнутых в самих себе, обладающих силой истины, которую они получают не от света, но от неспешности взгляда, который их видит, обтекает и мало-помалу проницает их, который только и может их осветить. Нахождение истины в темной сердцевине вещей парадоксальным образом связано с той присущей эмпирическому взгляду силой, что обращает их ночь в день. Весь свет исходит от тонкого лучика глаза, который теперь обращается вокруг плотных предметов и заодно говорит нам об их месте и форме. Рациональный дискурс зиждется не столько на геометрии света, сколько на неподатливой, непроницаемой плотности предмета; прежде всякого познания, источник, область и границы опыта задаются его темным присутствием. Взгляд пассивно связан с этой изначальной пассивностью, которая ставит перед ним бесконечную задачу пройти через этот опыт до конца и овладеть им.
Он принадлежит языку вещей, и, быть может, только он делает доступным человеку такое знание, которое не было бы лишь историческим или эстетическим. То, что исследовательская деятельность человека превращается в бесконечный труд, более не помеха для опыта, который, признавая свою ограниченность, расширяет свои задачи до бесконечности. Особое качество, неосязаемый цвет, уникальная и непостоянная форма, приобретая статус объекта, обретают вес и устойчивость. Никакой свет теперь не может растворить их в идеальных истинах, зато устремленный на них взгляд пробуждает их и придает им ценность на почве объективности. Отныне взгляд не умаляет, но утверждает человека в его неотъемлемом качестве. И теперь вокруг него может сложиться рациональный язык. Объект дискурса может быть также субъектом, а фигуры субъективности при этом не меняются. Именно эта формальная и глубинная реорганизация, а вовсе не отказ от старых теорий и систем сделала возможным клинический опыт; она сняла старый аристотелевский запрет: теперь, наконец, можно было распространить научно структурированный дискурс на индивида.
Это обращение к индивиду наши современники рассматривают как «частное суждение» и как концентрированную формулировку старого медицинского гуманизма, столь же древнего, как человеческая жалость. Безмозглые феноменологи понимания смешивают эту полусырую идею с песком своей концептуальной пустыни; несколько эротизированный словарь «свидания» и «пары врач-больной» изнуряется в своем стремлении сообщить бледную немочь супружеских фантазий этой необходимости взаимодействовать. Клинический опыт – это первое в западной истории открытие конкретного индивида на языке рациональности, это важнейшее событие в отношении человека к самому себе и языка к вещам – вскоре стал восприниматься как простое, неконцептуализированное соприкосновение взгляда и лика, взора и безмолвного тела, своего рода контакт, предшествующий всякому дискурсу и не встречающий никаких трудностей с языком, в результате которого два живых индивида оказываются «заключены» в общей, но не обоюдной ситуации. В своих последних конвульсиях так называемая либеральная медицина, взывая к открытому рынку, ссылается на старые права клиники, понимаемые как частный контракт и негласное соглашение, заключаемые между людьми. При таком взгляде пациенту приписывается способность в разумных пределах – не слишком много и не слишком мало – стать причастным к общей форме научного исследования: «Чтобы иметь возможность предложить каждому нашему больному наиболее подходящее для его болезни и для него самого лечение, мы собираем объективное и полное представление о его случае, мы собираем его личное досье (его «наблюдение»), все сведения, которыми мы о нем располагаем. Мы наблюдаем его так же, как наблюдаем звезды или проводим лабораторный опыт» [4].
С чудесами всё не так просто: мутация, которая позволила и которая по сей день позволяет «постели» больного превращаться в поле научных исследований и дискурса, – это не гремучая смесь из старых привычек с еще более древней логикой или знания с причудливым чувственным сочетанием «такта», «взгляда» и «чутья». Медицина как клиническая наука возникла в условиях, определяющих наряду с ее исторической возможностью сферу ее опыта и структуру ее рациональности. Они формируют то a priori, которое теперь можно воплотить в жизнь, быть может, потому, что рождается новый опыт болезни, предлагающий возможность исторического и критического осмысления старого опыта.
Однако для обоснования дискурса о рождении клиники необходим обходной маневр. Дискурса странного, не спорю, ибо он не может опираться ни на сегодняшнее мышление клиницистов, ни даже на повторение того, что они могли сказать в прошлом.
Весьма вероятно, что сами мы принадлежим к веку критики, ведь отсутствие первой философии ежеминутно напоминает нам о ее господстве и неизбежности: к веку разума, который навсегда оторвал нас от первоначального языка. По Канту, возможность критики и ее необходимость были связаны через определенное научное содержание с тем фактом, что познание существует. В наши дни они связаны – и филолог Ницше тому свидетель – с тем фактом, что существует язык и что в бесчисленных словах, произносимых людьми, – будь они разумны или бессмысленны, демонстративны или поэтичны, – обрел свою форму смысл, который довлеет над нами, ведет нас в нашей слепоте, но вместе с тем поджидает впотьмах, когда мы достигнем осознания, чтобы выйти на свет дня и заговорить. Мы исторически обречены на историю, на терпеливое конструирование дискурса о дискурсах, имея перед собой задачу слушать то, что было сказано.
Фатально ли то, что мы не знаем иной формы речи, нежели комментарий? Этот последний, по правде говоря, подвергает дискурс допросу о том, что он говорит и что он хочет сказать; он стремится выявить это двойное дно речи, где она обретает тождественность с самой собой, что, как предполагается, приближает нас к ее истине; речь о том, чтобы, излагая сказанное, пересказать то, что никогда не говорилось. В этой комментаторской деятельности, которая стремится превратить сжатый, старый и словно бы замкнувшийся в своем молчании дискурс в другой, более разговорчивый, одновременно более архаичный и более современный, скрывается совершенно особенное отношение к языку: комментировать – значит по определению признавать избыток означаемых по отношению к означающим, неизбежно несформулированный остаток мысли, который язык оставил в тени, остаток, который составляет самую его суть, извлеченную из его потаенных глубин; однако комментирование предполагает также, что это невысказанное дремлет в речи и что из-за присущей означающему избыточности можно, допросив его, заставить его выговорить то содержание, которое не было явно обозначено. Эта двойная избыточность, открывая возможности комментария, ставит перед нами бесконечную задачу, которую ничто не может ограничить: всегда есть некоторый остаток означаемого, которому тоже нужно дать слово; что же касается означающего, оно всегда предлагается в избытке, который независимо от нашего желания требует задаться вопросом о том, что оно «хочет сказать». Означающее и означаемое, таким образом, обретают существенную автономию, которая обеспечивает каждому из них в отдельности хранилище виртуального значения; в пределе одно смогло бы существовать без другого и заговорить само за себя: комментарий располагается в этом предположительном пространстве. Но в то же время он изобретает между ними сложную связь, целую запутанную сеть, которая ставит на кон поэтическую выразительность: означающее не должно «переводить», ничего не скрывая, не оставляя означаемому неисчерпаемого резерва; означаемое раскрывается лишь в видимом мире и несет на себе груз означающего, наполненного значением, которое ему не принадлежит. Комментарий основывается на постулате о том, что речь есть акт «перевода», что у нее есть опасная привилегия показывать образы, скрывая их, и что она может бесконечно подменять саму себя в открытой серии дискурсивных повторений, короче говоря, он основывается на интерпретации языка, несущей на себе печать своего исторического происхождения: экзегеза, которая, продираясь через запреты, символы, чувственные образы, через весь аппарат Откровения вслушивается в Слово Божье, всегда тайное, всегда лежащее за собственными пределами. Мы годами комментируем язык своей культуры как раз с той точки, в которой мы веками напрасно ждали разрешения Слова.
Говорить о мыслях других, пытаться сказать то, что сказали они, традиционно означает заниматься анализом означаемого. Но так ли уж необходимо, чтобы сказанное в другом месте и другими людьми рассматривалось исключительно в свете игры означающего и означаемого? Разве нельзя заниматься таким анализом дискурса, который избежал бы фатальности комментария, не выдумывая никакого остатка, ничего лишнего в сказанном, кроме одного лишь факта его исторического появления? В таком случае данности дискурса следовало бы рассматривать не как автономные ядра множественных значений, но как события и функциональные сегменты, последовательно образующие систему. Смысл высказывания определялся бы не хранилищем содержащихся в нем интенций, одновременно раскрывающихся и скрываемых, а тем различием, которое артикулирует его по отношению к другим реальным и возможным высказываниям, которые ему современны или которым он противостоит в линейном ряду времени. Вот тогда и появилась бы систематическая история дискурса.
До сих пор история идей знала лишь два метода. Первым, эстетическим, был метод аналогии – аналогии, чьи пути пролегают во времени (генезис, происхождение, родство, влияния) или в плоскости исторически определенного пространства (дух времени, его Weltanschauung, его фундаментальные категории, организация его социокультурного мира). Другой, психологический, заключался в отказе от содержания (тот или иной век был не настолько рационалистическим или иррационалистическим, как об этом говорили или как в это верили), из которого стал развиваться своего рода психоанализ мыслей, результаты которого с полным правом можно повернуть в обратную сторону, – ядро ядра всегда есть его противоположность.
Здесь я хочу попытаться проанализировать определенный тип дискурса – дискурса медицинского опыта – в тот век, когда, в преддверии великих открытий XIX столетия, он изменил не столько свой материал, сколько свою систематическую форму. Клиника – это одновременно и новый разрез вещей, и принцип их артикуляции в языке, который мы привыкли называть языком «позитивной науки».
Тому, кто захотел бы составить ее тематическую опись, идея клиники, несомненно, представилась бы перегруженной весьма расплывчатыми значениями; он, вероятно, обнаружил бы такие бесцветные фигуры, как особенное действие болезни на больного, разнообразие человеческих темпераментов, вероятность патологического развития, потребность в обостренном восприятии, чувствительном к малейшим видимым модальностям, эмпирическая форма медицинского знания, кумулятивная и принципиально открытая, – все эти старые понятия, которыми пользовались издавна и которые, несомненно, были на вооружении уже у греческой медицины. Ничто в этом древнем арсенале не может ясно указать на тот произошедший в XVIII столетии поворот, когда возвращение старой клинической темы «вызвало», если верить поспешным суждениям, существенную мутацию в медицинском знании. Однако, если рассматривать ее в ее целостности, клиника предстает перед опытом врача как новая фигура воспринимаемого и высказываемого: новое распределение дискретных элементов телесного пространства (например, выделение ткани – функциональной двухмерной плоскости, которая, в отличие от функционирующей массы органа, представляет собой парадокс внутренней поверхности), реорганизация элементов, составляющих патологическое явление (грамматика знаков пришла на смену ботанике симптомов), определение линейного ряда болезненных проявлений (в отличие от путаницы нозологических видов), привязка болезни к организму (исчезновение общих болезнетворных сущностей, которые сводили симптомы в единую логическую фигуру, и их замена локальным статусом, который помещает сущее болезни с ее причинами и следствиями в единое трехмерное пространство). Появление клиники как исторический факт следует связывать с этой системой реорганизаций. Эта новая структура обозначается, но, конечно же, не исчерпывается тем с виду незначительным, но решающим изменением, которое привело к замене вопроса «Что с вами?», с которого в XVIII веке начинался диалог врача и больного, с присущими ему грамматикой и стилем, другим вопросом, в котором мы узнаем работу клиники и самый принцип ее дискурса: «Где у вас болит?». С этого момента отношение между означающим и означаемым перераспределяется, и происходит это на всех уровнях медицинского опыта: между симптомами, которые означают, и болезнью, которая означается, между описанием и тем, что оно описывает, между происходящим и тем, что оно предсказывает, между повреждением и болью, которая о нем сигнализирует, и т. д. Клиника, которую неизменно превозносят за ее эмпиризм, хладнокровное внимание и молчаливую заботу о том, чтобы вещи представали перед ее взором, не отягощенные никаким дискурсом, в действительности обязана своим значением тому факту, что она представляет собой глубинную реорганизацию не только медицинских знаний, но и самой возможности дискурса о болезни. Ограниченность клинического дискурса (провозглашаемые врачами уход от теории, отказ от систем, от философствования) отсылает к невербальным условиям, при которых он может звучать: общая структура, которая разделяет и сочленяет то, что видится, и то, что говорится.
Итак, предпринимаемое здесь исследование по своему замыслу должно быть одновременно историческим и критическим, поскольку оно, независимо от возлагаемых на него ожиданий, направлено на определение условий возможности медицинского опыта, каким его знает современная эпоха.
Скажу раз и навсегда, эта книга написана не за одну медицину против другой или против медицины и за ее отсутствие. Здесь, как и в других моих работах, речь идет об исследовании, которое пытается выявить в толще дискурса условия его истории.
В том, что говорят люди, важно не столько то, что они могли думать, или то, насколько это отражает их мысли, сколько то, что изначально организует их, делая их в дальнейшем легкодоступными для новых дискурсов и готовыми взяться за их преобразование.
I. Пространства и классы
Для наших многое повидавших глаз человеческое тело, в силу естественного права, представляет собой пространство происхождения и распространения болезни: пространство, линии, объемы, поверхности и пути которого определяются согласно уже знакомой нам по анатомическому атласу географии. Это надежное и доступное взгляду упорядочение тела есть лишь один из тех способов, при помощи которых медицина пространственно определяет болезнь. Не первый, конечно же, и не самый главный. Были и будут и другие формы распределения болезни.
Удастся ли нам когда-нибудь выявить в потаенных глубинах тела структуры, ответственные за аллергические реакции? Будет ли когда-нибудь установлена точная геометрия распространения вируса в тканевом срезе? Можно ли найти в евклидовой анатомии закон, определяющий пространственность этих явлений? В конце концов, достаточно вспомнить, что в старой теории симпатий использовался словарь соответствий, соседств, гомологий: понятий, для которых в чувственно воспринимаемом пространстве анатомии вряд ли найдется подходящий лексикон. Всякая значительная мысль в области патологии приписывает болезни конфигурацию, пространственные характеристики которой не обязательно соответствуют требованиям классической геометрии.
Точное совпадение «тела» болезни и тела больного человека, конечно же, носит исторический и преходящий характер. Их встреча очевидна лишь для нас, а вернее, сейчас мы начинаем отказываться от нее. Пространство конфигурации болезни и пространство локализации заболевания в теле совпадали в медицинском опыте лишь недолгое время, совпадающее с медициной XIX столетия и главенством патологической анатомии. Время, отмеченное сюзеренитетом взгляда, ибо в том же самом перцептивном пространстве, сохраняя те же длительности или разрывы, опыт мгновенно выявляет видимые поражения организма и согласованность патологических форм; болезнь отчетливо артикулируется в теле, а ее логическое распределение ставится в зависимость от анатомических масс. «Взгляду» остается лишь добраться до истины, чтобы обнаружить, что это та сила, которой он владеет по праву.
Но как сформировалось это право, выдаваемое за неотъемлемое и естественное? Каким образом то место, откуда болезнь дает о себе знать, может само по себе определять фигуру, в которую сходятся ее элементы? Парадоксально, но никогда пространство формирования болезни не было столь свободным, столь независимым от пространства его локализации, чем в классифицирующей медицине, то есть в той форме медицинского мышления, которая хронологически предшествовала анатомо-клиническому методу и сделала его исторически возможным.
«Никогда не лечите болезнь, не выяснив сперва, какого она рода», – говорил Жилибер [5]. От «Нозологии» Соважа (1761) до «Нозографии» Пинеля (1798) принцип классификации господствует в медицинской теории и даже в практике: он выступает как имманентная логика болезненных форм, принцип их дешифровки и семантическое правило их определения: «Так что не обращайте внимания на тех завистников, которые хотели бы набросить тень презрения на труды прославленного Соважа… Помните, что он, быть может, единственный среди всех когда-либо живших врачей подчинил все наши догмы непогрешимым правилам здравой логики. Посмотрите, как тщательно он подбирает слова, с какой скрупулезностью ограничивает определения каждой болезни». Прежде чем разместиться в самых глубинах организма, болезнь вносится в иерархический порядок семейств, родов и видов. Очевидно, речь идет не о чем ином, как о «таблице», помогающей сделать разрастающуюся область болезней доступной для изучения и запоминания. Но на уровне более глубоком, чем эта пространственная метафора, и для того, чтобы сделать ее возможной, классифицирующая медицина полагает определенную «конфигурацию» болезни: она никогда не формулировалась как таковая, но задним числом можно определить ее основные положения. Подобно тому как генеалогическое древо за своими сравнениями и всевозможными воображаемыми темами предполагает пространство, в котором родство формализуемо, нозологическая таблица включает в себя диаграмму болезней, которая не является ни цепочкой следствий и причин, ни хронологической последовательностью событий, ни их видимой в человеческом теле траекторией.
Такая организация оттесняет локализацию в организме в область второстепенных проблем, утверждая основополагающую систему отношений, включающую охват, подчинение, различия, сходства. Это пространство включает в себя: «вертикаль», из которой произрастает всё, что ею предполагается, – лихорадка, в которой «последовательно борются озноб и жар», может протекать как в одном эпизоде, так и в нескольких; они могут следовать один за другим непрерывно или через определенный интервал; этот перерыв может длиться не более 12 часов, достигать одного дня, продолжаться целых два дня или же иметь неопределенный ритм [6]; и «горизонталь», куда переносятся гомологии, – на двух ветвях судорог мы обнаруживаем в идеальной симметрии «частичные тонические» и «общие тонические», «частичные клонические» и «общие клонические» [7]; а еще, в соответствии с закономерностью выделений, то, чем катар является для горла, дизентерия является для кишечника [8]. Глубинное пространство, предшествующее любым восприятиям и управляющее ими издалека; именно оттуда, из его пересекающихся линий, из масс, которые оно распределяет или иерархизирует, болезнь, представая нашему взгляду, привносит свои черты в живой организм.
Каковы же принципы этой первичной конфигурации болезни?
1. По мнению врачей XVIII века, она дается в «историческом» опыте, противопоставляемом «философскому» знанию. Историческим является такое знание, которое описывает плеврит через четыре его проявления: лихорадка, затрудненность дыхания, кашель и боль в боку. Философским же было бы такое знание, которое задается вопросом о происхождении, принципе, причинах: охлаждение, серозный выпот, воспаление плевры. Различие между историческим и философским, однако, не сводится к различию между причиной и следствием: Каллен основывает свою классификационную систему на установлении ближайших причин; равно как и не к различию между принципом и следствиями; Сиденхэм полагал, что занимается историческим исследованием, изучая «тот способ, какими природа создает и поддерживает различные формы болезней» [9]; это даже не различие между видимым и скрытым или предполагаемым, поскольку порой приходится выслеживать «историю», которая ускользает и прячется при первом осмотре, как лихорадочный жар у некоторых чахоточных: «рифы, скрывающиеся под водой» [10]. Историческое вбирает в себя всё, что фактически или в принципе, рано или поздно, прямо или косвенно может быть представлено взгляду. Причина, которая становится видимой, мало-помалу проявляющийся симптом, различимый принцип его происхождения принадлежат не к порядку философского знания, а к знанию весьма простому, которое должно предшествовать всем остальным и которое ситуирует исходную форму медицинского опыта. Речь идет об определении своего рода фундаментальной области, где нивелируются перспективы, а сдвиги выравниваются: следствие имеет тот же статус, что и причина, предшествующее совпадает с последующим. В этом гомогенном пространстве связи распадаются, а время упраздняется: местное воспаление – это не что иное, как идеальное сопоставление его «исторических» элементов (покраснение, опухоль, жар, боль), без постановки вопроса об их взаимообусловленности или темпоральных пересечениях.
Болезнь преимущественно воспринимается в пространстве проекции без глубины и совпадения без развития. Есть лишь один план и лишь один момент. Форма, в которой первоначально проявляется истина, – это поверхность, рельеф которой одновременно появляется и сам себя упраздняет, – портрет: «Тот, кто пишет историю болезней, должен внимательно наблюдать за ясными и естественными проявлениями недугов, которые покажутся ему хоть сколько-нибудь интересными. В этом отношении он должен подражать художникам, которые при создании портрета стараются подметить все черточки и мельчайшие детали натуры, обнаруживаемые в лице изображаемого ими человека» [11]. Первая структура, которую устанавливает для себя классифицирующая медицина, – это плоская поверхность постоянной одновременности. Таблица и картина.
2. Это пространство, в котором аналогии определяют сущности. Таблицы – это подобия, но они также подобны одна другой. Дистанция, отделяющая одну болезнь от другой, измеряется лишь степенью их сходства, безотносительно к логико-временному расхождению в генеалогии. Исчезновение произвольных движений, снижение внутренней или внешней чувствительности – это общее состояние, которое проявляется в таких частных формах, как апоплексия, обморок, паралич. В пределах этого большого родства обнаруживаются незначительные отклонения: апоплексия лишает возможности пользоваться всеми органами чувств и произвольной моторикой, но не затрагивает дыхание и работу сердца; паралич, в свою очередь, затрагивает лишь локально очерченную область чувствительности и моторики; обморок в целом похож на апоплексию, но прерывает дыхательные движения [12]. Перспективное распределение, заставляющее нас видеть в параличе симптом, в обмороке – эпизод, в апоплексии – органическое и функциональное поражение, не существует для классифицирующего взгляда, который чувствителен только к поверхностным разделениям, где соседство определяется не измеримыми расстояниями, а аналогией форм. Усиливаясь в достаточной степени, эти аналогии перешагивают порог простого родства и обретают сущностное единство. Между апоплексией, разом лишающей подвижности, и хроническими и развивающимися формами, постепенно поражающими всю двигательную систему, принципиального отличия нет: в этом симультанном пространстве, где разбросанные во времени формы сходятся и накладываются одна на другую, родство сжимается до идентичности. В плоском, однородном, неметрическом мире болезнь существует там, где есть избыток аналогий.
3. Форма аналогии раскрывает рациональный порядок болезней. Когда мы видим сходство, мы не просто устанавливаем систему удобных и соотносимых между собой определений; мы беремся расшифровывать интеллигибельный порядок болезней. Приподнимается завеса над принципом их создания: таков всеобщий закон природы. Как и в случаях с растениями или животными, игра болезней по сути своей специфична: «Высшее существо следует не менее определенным законам в том, что касается создания болезней или вызревания болезнетворных гуморов, нежели при скрещивании растений и животных… Тот, кто внимательно следит за порядком, временем, часом, когда начинается приступ квартальной лихорадки, явлениями озноба, жара – словом, за всеми присущими ей симптомами, имеет столько же оснований полагать, что данная болезнь есть вид, сколько у него оснований думать, что какое-то растение составляет вид, поскольку оно всегда растет, цветет и умирает одним и тем же образом» [13].
Для медицинской мысли эта ботаническая модель имеет двоякое значение. С одной стороны, она позволяет превратить принцип аналогии форм в закон порождения сущностей, и к тому же она позволяет перцептивному вниманию врача, которое там и тут что-то находит и увязывает, по праву выйти на онтологический уровень, прежде какого бы то ни было проявления внутренне организующей мир болезни. С другой стороны, порядок болезни есть не что иное, как отличительная черта жизненного мира: там и тут господствуют одни и те же структуры, одни и те же формы разделения, одна и та же упорядоченность. Рациональность жизни идентична рациональности того, что ей угрожает. Они не относятся друг к другу как природа и контрприрода, но в общем для них природном порядке сочетаются и накладываются одна на другую. В болезни мы узнаем жизнь, поскольку закон жизни лежит также в основе познания болезни.
4. Речь идет о видах одновременно естественных и идеальных. Естественных, поскольку болезни выражают в них свои сущностные истины; идеальных, поскольку они никогда не даются в опыте без искажений или помех.
Первое искажение вносится самой болезнью и через нее. К чистой нозологической сущности, которая фиксирует и полностью занимает свое место среди прочих видов, больной прибавляет множество помех, таких как свои предрасположенности, свой возраст, свой образ жизни и целый ряд обстоятельств, которые по отношению к сущностному ядру представляются случайными. Чтобы узнать истину патологического факта, врач должен абстрагироваться от болезни: «Тот, кто описывает болезнь, должен позаботиться о том, чтобы отличить симптомы, которые ее обязательно сопровождают и присущи ей, от симптомов, которые являются случайными и необязательными, например, от тех, что зависят от темперамента и возраста больного» [14]. Парадоксально, но по отношению к тому, от чего он страдает, пациент является лишь внешним фактом; медицинское знание должно принимать его во внимание лишь затем, чтобы заключить его в скобки. Конечно, нужно знать «внутреннюю структуру наших тел», но лишь затем, чтобы вычленить и открыть взгляду врача «природу и сочетание симптомов, кризисов и других обстоятельств, сопровождающих болезни» [15]. Не патологическое выступает по отношению к жизни как контрприрода, но больной по отношению к болезни как таковой.
И не только больной, но и сам врач. Его вмешательство носит насильственный характер, если не находится в строгом подчинении у идеального порядка нозологии: «Знание болезни – это компас врача; успешность лечения зависит от точного знания болезни»; взгляд врача изначально направлен не на то конкретное тело, то видимое целое, ту позитивную наполненность, которая находится перед ним, – больного, – но на прерывности в природе, на пустоты и промежутки, где, как в негативе, проявляются «знаки, отличающие одну болезнь от другой, истинное от ложного, законное от незаконного, вредоносное от благотворного» [16]. Это сеть, набрасываемая на подлинного больного и предотвращающая всякую терапевтическую неосторожность. Назначенное чересчур рано и со спорными намерениями лекарство противно сути болезни и затуманивает ее; оно мешает подобраться к ее истинной природе и, делая ее течение неправильным, превращает ее в неизлечимую. В период инвазии врач должен затаить дыхание, поскольку «начало болезни для того и существует, чтобы распознать ее класс, род и вид»; когда симптомы усиливаются и становятся выраженными, он может «уменьшить их ярость и доставляемое ими страдание»; в период стабильности он должен «шаг за шагом следовать пути, по которому движется природа», укрепляя ее, если она слишком слаба, и ослабляя, «если она чересчур энергично стремится уничтожить то, что ей мешает» [17].
В рациональном пространстве болезни врачи и больные не занимают свое место по праву; их терпят как помехи, которых трудно избежать: парадоксальная роль медицины заключается прежде всего в их нейтрализации, в поддержании максимальной дистанции между ними, чтобы в пустоте, образующейся между ними, идеальная конфигурация болезни обрела конкретную, свободную форму, сложилась наконец в неподвижную симультанную таблицу, не имеющую ни глубины, ни тайны, где познание открывается самому себе в соответствии с порядком сущностей.
Классифицирующая мысль задает себе сущностное пространство. Болезнь существует только в нем, поскольку оно конституирует ее в качестве природы; и тем не менее она всегда кажется немного смещенной по отношению к нему, поскольку предстает уже вооруженному глазу врача в реальном больном. Прекрасное плоское пространство портрета – это одновременно и источник, и конечный результат: тем, что изначально делает возможным рациональное и обоснованное медицинское знание, и тем, к чему оно постоянно должно устремляться через то, что скрывает его от взгляда. Одна из задач медицины, таким образом, заключается в том, чтобы воссоединиться со своей предпосылкой, причем таким путем, на котором она должна стирать каждый свой шаг, поскольку она достигает своей цели, нейтрализуя не только те случаи, на которые она опирается, но и свое собственное вмешательство. Отсюда странный характер медицинского взгляда, который вращается по бесконечной спирали: он обращается к тому, что есть видимого в болезни, но при этом отталкивается от больного, который скрывает это видимое, показывая его; следовательно, он должен распознавать, чтобы знать [18]. Продвигаясь вперед, этот взгляд отступает, поскольку до истины болезни он добирается лишь в том случае, если позволяет ей взять верх над собой, победить и дать злу обрести полноту в своих проявлениях, в своей природе.
Болезнь, которую можно представить в таблице, проявляется через тело. Здесь она встречает пространство, имеющее совершенно иную конфигурацию: это пространство объемов и масс. Его ограничения определяют зримые формы, принимаемые болезнью в больном организме: то, как она распространяется в нем, проявляется, развивается, изменяя ткани, движения или функции, вызывает видимые при вскрытии повреждения, порождает в том или ином месте ряд симптомов, провоцирует реакции и тем самым ведет к летальному или благоприятному исходу. Речь идет о тех сложных и производных фигурах, посредством которых сущность болезни с ее табличной структурой выражается в неподатливом и плотном объеме организма и обретает в нем тело.
Каким образом плоское гомогенное пространство классов может стать видимым в географической системе масс, дифференцированным по объему и размерам? Как болезнь, определяемая тем, какое место она занимает в семействе, может характеризоваться своим очагом в организме? Эту проблему можно было бы назвать проблемой вторичного пространственного распределения патологического.
В классифицирующей медицине поражение какого-либо органа не является абсолютно необходимым для определения болезни: оно может перемещаться из одной точки локализации в другую, поражать другие телесные поверхности, оставаясь всё тем же по своей природе. Пространство тела и пространство болезни могут свободно скользить по отношению друг к другу. Одно и то же спазматическое состояние может из нижней части живота, где оно будет вызывать диспепсию, висцеральный застой, задержку менструальных или геморроидальных выделений, переместиться в грудь, сопровождаясь удушьем, учащенным сердцебиением, ощущением кома в горле, приступами кашля, и наконец достичь головы, вызывая эпилептические судороги, обмороки или коматозный сон [19]. Эти соскальзывания, которым сопутствует такое множество симптоматических модификаций, могут со временем развиваться у одного человека; их также можно обнаружить при обследовании ряда людей с различными участками поражения: в висцеральной форме спазм встречается преимущественно у лимфатических субъектов, в церебральной форме – у сангвиников. Но в любом случае сущностная патологическая конфигурация не меняется. Органы служат твердой опорой болезни, но никогда не составляют ее необходимого условия. Система точек, определяющих аффектированность организма, не является ни постоянной, ни необходимой. У них нет заранее определенного общего пространства.
В том телесном пространстве, где она свободно циркулирует, болезнь претерпевает метастазы и метаморфозы. Перемещение отчасти меняет ее. Носовое кровотечение может перейти в кровохарканье или кровоизлияние в мозг; единственное, что должно сохраняться, – это специфическая форма кровоизлияния. Вот почему медицина типов на протяжении всего своего существования отчасти была связана с учением о симпатиях – эти две концепции могли упрочивать одна другую для поддержания правильного баланса в системе. Симпатическое сообщение в организме осуществляется иногда локально очерченным посредником (диафрагма при спазмах или желудок при перепадах настроения); иногда целой диффузионной системой, пронизывающей всё тело (нервная система при болях и судорогах, сосудистая система при воспалении); в иных случаях простым функциональным соответствием (задержка выделений передается от кишечника почкам, а от этих последних – коже); наконец, путем подгонки чувствительности одной области к чувствительности другой (поясничные боли при водянке яичка). Но, независимо от того, имеет ли место совпадение, диффузия или посредничество, анатомическое перераспределение болезни не меняет ее сущностной структуры; симпатия поддерживает игру между пространством локализации и пространством конфигурации: она определяет их взаимную свободу и пределы этой свободы.
Скорее, следовало бы сказать не «предел», а «порог». Ибо, помимо симпатического переноса и утверждаемой им гомологии, может устанавливаться связь между одной болезнью и другой, связь причинности, но не родства. Одна патологическая форма может породить другую, весьма удаленную в нозологической таблице, своей собственной созидательной силой. Тело – это место сопоставления, последовательности, смешения различных видов. Отсюда путаница, отсюда смешанные формы, отсюда регулярные или, во всяком случае, часто встречающиеся последовательности, как между манией и параличом. Хаслам наблюдал таких бредовых больных, у которых «речь затруднена, рот перекошен, руки или ноги не способны к произвольным движениям, память ослабела» и которые чаще всего «не понимают, где они находятся» [20]. Переплетение симптомов, одновременность их крайних форм – всего этого недостаточно, чтобы сформировать единое заболевание; удаленность речевого возбуждения от двигательного паралича в таблице сродства болезней препятствует тому, чтобы хронологическая близость возобладала и определила их единство. Отсюда идея причинности, проявляющейся с небольшим временным отставанием; иногда первично начало мании, а порой весь набор симптомов открывается двигательными признаками: «Паралитические заболевания являются причиной безумия гораздо чаще, чем принято считать; они также являются весьма распространенным следствием мании». Никакой симпатический перевод не в силах преодолеть этот разрыв между видами, а общности симптомов в организме недостаточно, чтобы образовать единство вопреки их сущности. Таким образом, существует интернозологическая причинность, играющая роль, противоположную симпатии: эта последняя сохраняет свою основополагающую форму, перемещаясь во времени и пространстве, а причинность обеспечивает одновременность и взаимосвязь, которые смешивают сущностную чистоту.
Время играет в этой патологии ограниченную роль. Признается, что болезнь может быть долгой и что в этом процессе могут чередоваться ее эпизоды; со времен Гиппократа вычисляли критические дни, были известны значения артериальной пульсации: «Если пульс учащается примерно на каждом тридцатом ударе, кровотечение возникает на четыре дня позже, порой чуть раньше или чуть позже; когда это происходит на каждом шестнадцатом ударе, кровотечение происходит через три дня <…>. Наконец, когда это повторяется на каждом четвертом, третьем, втором ударе или когда это происходит непрерывно, следует ожидать кровотечение в течение двадцати четырех часов» [21]. Однако эта исчисляемая длительность является частью сущностной структуры болезни, поскольку хронический катар со временем переходит в чахоточную лихорадку. Не существует эволюционного процесса, в котором длительность сама по себе или в силу своего постоянства привносила бы новые события; время интегрировано как нозологическая константа, но не как органическая переменная. Время тела не влияет и тем более не определяет время болезни.
Таким образом, то, что сущностное «тело» болезни сообщается с реальным телом больного, – это не точки локализации и не эффекты длительности, скорее это качество. Меккель в одном из опытов, представленных Королевской академии Пруссии в 1764 году, объясняет, как он наблюдал изменение головного мозга при различных болезнях. При вскрытии он берет из мозга небольшие кубики равного объема (каждое ребро – шесть линий) в разных местах мозговой массы: он сравнивает эти образцы между собой и с образцами, взятыми от других трупов. Точным инструментом этого сравнения служат весы; при чахотке, болезни истощающей, удельный вес головного мозга оказался относительно ниже, чем при апоплексии, – болезни, связанной с ожирением (1 драхма ¾ грана против 1 драхмы 6 или 7 гранов), тогда как у нормального человека, умершего от естественных причин, средний вес составляет 1 драхму 5 гранов. В зависимости от области головного мозга этот вес может варьироваться: при чахотке мозжечок бывает особенно легким, при апоплексии центральные области тяжелы [22]. Таким образом, между болезнью и организмом существуют точки сцепления, расположенные в соответствии с зональным принципом; однако речь идет лишь о тех областях, где болезнь выделяет или переносит свои специфические качества: мозг маньяков легкий, сухой и рыхлый, потому что мания – живая, горячая, взрывная болезнь; мозг чахоточных бывает истощенным и вялым, инертным, обескровленным, потому что чахотка относится к общему классу геморрагий. Совокупность качеств, характеризующих болезнь, накладывается на орган, который затем служит носителем симптомов. Болезнь и тело сообщаются лишь через непространственный качественный элемент.
При таких условиях медицина, конечно, должна отказаться от определенной формы знания, которую Соваж называл математической: «Знать величины и уметь их измерять, например, определять силу и частоту пульса, степень жара, силу кашля и прочие подобные симптомы» [23]. Если Меккель производил измерения, то не для того, чтобы получить какое-то знание в математической форме; для него речь шла об измерении степени определенного патологического качества, составляющего болезнь. Никакая поддающаяся измерению механика тела со своими физическими или математическими частностями не может объяснить патологическое явление; судороги могут вызываться иссушением и сокращением нервной системы – что, конечно, относится к области механики, но это механика взаимосвязанных качеств, артикулированных движений, последовательно запускающихся поражений, а не механика поддающихся количественному измерению сегментов. Речь может идти о механизме, но он не принадлежит к порядку Механики. «Врачи должны ограничиваться изучением сил лекарств и болезней через их воздействие; они должны тщательно наблюдать за ними и постигать их законы, неутомимо разыскивая их физические причины» [24].
Восприятие болезни в больном, таким образом, предполагает качественный взгляд: чтобы понять болезнь, нужно взглянуть туда, где есть сухость, жар, возбуждение, туда, где есть влажность, закупорка, слабость. Как под одной и той же лихорадкой, одним и тем же кашлем, при одном и том же истощении различить плеврит от чахотки, если не распознать здесь сухое воспаление легких, а там – серозный выпот? Как иначе можно отличить судороги эпилептика, страдающего воспалением головного мозга, от судорог ипохондрика, страдающего застоем во внутренних органах, если не по их качеству? Тонкое восприятие качеств, чувствительность к различиям в том или ином случае, чуткое восприятие вариантов – нужна целая герменевтика патологического явления, основанная на модулированном и красочном опыте; следует измерять вариации, равновесия, избыточность или недостаточность: «Человеческое тело состоит из сосудов и жидкостей; …когда сосуды и волокна не имеют ни слишком большого, ни слишком малого тонуса, когда жидкости имеют соответствующую консистенцию, когда они движутся не слишком быстро и не слишком медленно, человек пребывает в здоровом состоянии; если движение… слишком сильное, ткани затвердевают, жидкости становятся густыми; если оно слишком слабое, волокна ослабевают, а кровь разжижается» [25].
И медицинский взгляд, открытый этим тончайшим качествам, по необходимости становится внимательным ко всем их модуляциям; расшифровка болезни в ее специфических чертах основывается на нюансированной форме восприятия, которая должна оценивать каждое особенное равновесие. Но в чем же заключается эта особенность? Это не организм, в котором патологические процессы и реакции были бы связаны уникальным образом, образуя «случай». Скорее, речь идет о качественных разновидностях болезни, к которым прибавляются, выводя их на второй уровень, вариации, которые могут представлять темпераменты. То, что классифицирующая медицина называет «частными историями», есть эффекты умножения, вызванные качественными вариациями (обусловленными темпераментом) сущностных качеств, характеризующих болезни. Больной индивид обнаруживается в той точке, где проявляется результат этого умножения.
Отсюда его парадоксальное положение. Тот, кто хочет узнать, о какой болезни идет речь, должен вычесть индивида с его частными качествами: «Создатель природы, – говорил Циммерман, – утвердил течение большинства болезней непреложными законами, которые вскоре обнаруживаются, если течение болезни не прерывается и не нарушается больным» [26]. На этом уровне индивид есть лишь негативный элемент. Но болезнь никогда не может проявляться вне темперамента, его качеств, его живости или тяжеловесности; и, хотя в целом она сохраняет свою физиономию, в деталях ее черты всегда приобретают особую окрашенность. И тот же Циммерман, видевший в больном лишь негатив болезни, «порой склонен», вопреки общим предписаниям Сиденхэма, «принимать лишь частные истории. Хотя природа в целом проста, в своих частях она тем не менее разнообразна; а значит, нужно стремиться познать ее и в целом и в частностях» [27].
Медицина видов испытывает обновленный интерес к индивидуальному – интерес, который делается всё более нетерпеливым и всё менее способным выдерживать общие формы восприятия, поспешным в своих суждениях. «Каждое утро в приемной какого-нибудь Эскулапа томится от пятидесяти до шестидесяти больных; он выслушивает жалобы каждого, выстраивает их в четыре ряда, прописывая первому кровопускание, второму слабительное, третьему клистир, четвертому проветривание» [28]. К медицине это не имеет отношения; то же касается больничной практики, убивающей способности к наблюдению и губящей таланты наблюдателя огромным количеством наблюдаемого. Медицинское восприятие не должно направляться ни на ряды, ни на группы; оно должно быть структурировано как взгляд через «увеличительное стекло, которое, будучи направлено на различные части объекта, делает при этом заметными другие части, которые без того остались бы незаметными» [29], производя бесконечную работу познания отдельных недугов. Здесь мы возвращаемся к теме портрета, о котором шла речь выше: больной – это болезнь, приобретшая индивидуальные черты; здесь она обретает тень и рельеф, модуляции, нюансы, глубину, и задача врача, описывающего болезнь, состоит в том, чтобы воссоздать эту живую плоть: «Нужно передать те же немощи больного, его страдания, с теми же жестами, тем же отношением, в тех же выражениях и с теми же жалобами» [30]











