Читать онлайн Образы детства: На Самотёке. На Чудовке. Стихи
- Автор: Виктор Константинов
- Жанр: Современная русская литература, Стихи и поэзия
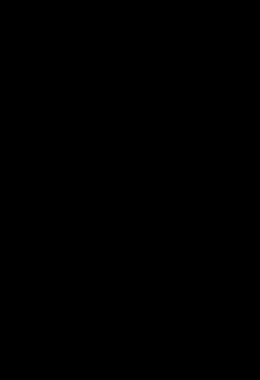
© Издательство «Перо», 2025
© Константинов В. И., 2025
Детство на Самотёке
В Москве на холме над Самотёчными родниковыми прудами когда-то было основано подворье Троице-Сергиевой Лавры.
Теперь это место на Садовом кольце называется Самотёчной площадью, в просторечье – Самотёкой.
Вокруг Троицкого подворья образовалось несколько небольших Троицких и Лаврских переулков.
В 20-х годах подворье разорили, и захватили хозяйственные службы ГПУ-НКВД. Кельи отдали под ведомственное жильё и ведомственный детский сад. По воскресеньям в скверике подворья стал играть духовой оркестр.
Самотёка, остатки подворья Лавры – моя милая маленькая родина.
Слова «2-ой Троицкий переулок, дом 6–Б» – звучат для меня сладкой музыкой.
Чтобы попасть на территорию подворья, надо было из переулка пройти или въехать сквозь арочную подворотню большого красивого дома с узорным фасадом – надвратного корпуса. За подворотней широкая асфальтированная площадка. Налево между домов виден купол церкви, направо – дорога между большими газонами, ведущая к какому-то учреждению, которое во время моего детства называли «министерством».
Прямо – двор серого пятиэтажного дома в виде буквы П. Это дом, в котором я «родился».
Замкнутый тремя стенами дома двор моего детства был наполнен играющими детьми.
– Я садовником родился, в незабудку я влюблён…
– Тише едешь – дальше будешь…
– Что мы видели, не скажем, а что делали, покажем…
– «Да» и «Нет» не говорите…
– Тише едешь – дальше будешь!
– Чур-чур меня, чур-чур меня…
Над кучкой детей взлетает мяч с криком:
– Штандар!
Играли в пряталки, в салки, лапту… Девочки чертили мелом на асфальте классики, прыгали по клеткам на одной ножке, спрашивали: «Мак»? И отвечали: «Мак»! Или – «Дурак!»
Из окон часто слышались женские крики:
– Вова, домой!
– Саша, обедать…
Я ещё маленький и не играл с другими детьми. Только смотрел, заложив руки за спину. Или сосал указательный палец. Или ковырял им в носу.
– Палец сломаешь! – предупреждал папа.
Совсем недавно кончилась война.
В дни получек мужчины шли домой улыбчивые, под хмельком.
Первые впечатления
Просыпался в темноте, первый раз в жизни, и какое-то время лежал на спине с открытыми глазами. Вдруг на потолке появлялись световые яркие беспорядочно движущиеся полосы и фигуры. Останавливались, опять двигались и пропадали. Что такое? Страшно. Темно, засыпаю.
И так почти каждую ночь меня на потолке посещало загадочное световое представленье. Мне страшно, но у меня ещё нет слов, вообще нет никаких слов, чтобы рассказать маме, спросить, что это такое? Я ещё не умею говорить, могу только видеть. Страшное и притягательное.
Немного повзрослев, научившись ходить, я сам догадался, в чём дело. Ночью в подворотню въезжали легковые автомашины и светили фарами прямо в наше большое круглое окно.
В доме жили служащие НКВД разных рангов и простые хозяйственные работники. Кто-то возвращался домой ночью на служебных машинах, за кем-то приезжала дежурная машина.
После того, как я увидел праздничный салют, а тогда после каждого залпа в чёрном небе начинали кружиться прожектора, световые круженья на потолке напоминали мне прожектора салютов.
Пока мы жили на Самотёке, продолжались эти ночные видения чёрно-белых калейдоскопов на потолке.
Проснулся и увидел сквозь сетку кроватки, что моя кроватка отодвинута от стены, почему-то ставшей голубой и ещё в каких-то серебряных узорах. Рядом кто-то тихо переговаривается.
Повернулся на бок, две незнакомые тёти в блёклых с пятнами краски комбинезонах катают по голубой стене серебристый валик на палке, а валик оставляет на стене ажурную серебристую дорожку.
Лежу тихо и разглядываю завитки поблёскивающего узора. Узор между полосами от валика чуть сдвинут.
Мама принесла меня в ванную комнату и посадила в оцинкованное корыто с высокими бортами. Тёмное окно ванной матовое от пара. Мама доливает из кастрюли в корыто горячую воду.
– Мама, горячо!
– Да где? Вот, трогаю рукой…
– Горячо! – кричу я. Мама забыла, наверно, что моя младенческая кожа гораздо чувствительней её руки.
– Горячо! – ору я в отчаянии…
Из ванной мама несёт меня в белой простыне, укладывает в пахнущую свежестью постель. «В постельку». Тепло, уютно в кроватке с мягкими сетками по бокам. Ещё горит настольная лампа – косая полоса света на стене – брат делает уроки. Взрослые разговаривают вполголоса – чтоб не мешать и мне, и брату – убаюкивающе!
Часто, проснувшись, слышу звонкие звуки хрум-хрум, хрум-хрум! Мама что-то кроит на столе, большие ножницы одним концом упираются в стол, и это усиливает звук. Хрум-хрум! Хрум-хрум!
Мама не говорит «ножницы, а «ноженки». И «рученьки, ноженьки». Я тоже: – Мамулька, расстегни пуговку.
Она разрешает потрогать на груди гранёные стеклянные «бусики». Внизу они крупные, а в верх к шее становятся всё меньше и меньше. Самые крупные приятно трогать и брать в рот.
– Ах, ты мазурик!
Живот болит. Мама щиплет спинку: – У кошки боли, у собаки боли – у Витика подживи!
Если обо что-то ударился, прошу: – Подуй!
Холодок воздушной струи снимает боль.
Соринки и реснички из глаза мама вылизывает языком.
Папа пахнет взрослостью, табаком. У него щёки шершавые, колючие. Он подносит меня к выключателю с двумя круглыми кнопками. Нажимает на белую, красная выскакивает со щелчком – а под абажуром загорается лампочка. Я смеюсь.
Папа нажимает на красную кнопку, выскакивает белая – лампочка гаснет. Я тяну руку к белой кнопке и нажимаю изо всех сил, лампочка загорается, я смеюсь.
Пристаю: – Популька, покатай на лошадке.
Папа сажает меня на колени и начинает трясти: – Цок-цок, цок-цок… Вдруг колени раздвигаются – я проваливаюсь в бездну, дух захватывает! Хохочу и прошу: – Ещё! Ещё!
Руки от сна затекли, по ладоням бегают мурашки. Пальцы не сгибаются. Цепляюсь за сетку, ограждающую кроватку. Вдруг весёлый мамин голос:
– Витик! Вставай-ка! Посмотри в окно – зима! Первый снег!
Первый снег! Что такое первый снег?
Боковая сетка снимается, но я уже умею сам перелезать через верх на подушки большой кровати.
В белой рубашонке встаю на низкий ребристый радиатор под окном и просовываю голову между цветочными горшками. Кроме неба мне видны только крыши боковых крыльев нашего дома и крыша противоположного – они совершенно белые. Ночью выпал снег, вот отчего так светло в комнате.
Мама несколько раз трёт моё лицо мокрой ладонью, потом – полотенцем. Надевает на меня пояс для пристёгивания чулок, потом надевает чулки и пристёгивает их застёжками, которые потом оставляют на чулках пупырышки.
Забираюсь на высокий детский стул. Мама ставит на стол передо мной блюдце с варёным яйцом всмятку и кромсает его маленькой ложкой со стуком по блюдцу. Я жду, серьёзный.
Неуклюже сжимая ложку в кулаке, медленно ем, сопя и пачкая щёки желтком.
Мама размешивает в гранёном стакане с чаем крупный песок, со звоном «колокольчика», как я прошу. В стакане кружится снежная вьюга, метель.
Если папа дома, то кипяток наливает он, поднимая большой чайник над стаканом как можно выше, а я кричу:
– Выше! Выше!
Мне нравится смотреть на длинную блестящую струю.
У нас квадратная комната. Главная её особенность и примечательность – большое круглое окно не меньше метра в диаметре, разделённое крестом рамы на 4 равные открывающиеся части.
Посреди под большим абажуром квадратный стол. Справа от двери железная, с блестящими штучками на спинках, кровать папы и мамы. В углу моя детская кровать. У правой стены – трёхъярусная этажерка набитая книгами, за ней небольшой диван с откидывающимися валиками по бокам, на нём спит сестра Нина. На полке дивана стоят белые разрозненные слоники, другие фигурки, пустая коробка от печенья с красивой картинкой и круглый будильник.
За диваном стул и круглый столик со стопкой журналов и книг. Над ними отрывной календарь с портретом Сталина на подложке.
Прямо под окном ножная швейная зингеровская машинка с надписью «Союзмаш». Около левой стены простая железная кровать старшего брата, старый большой гардероб с нижними выдвижными ящиками.
Около самой двери – большой деревянный сундук. Над ним, в углу, висит круглый чёрный репродуктор проводного радио. Запомнилась маршевая музыка на 1 Мая, а позже – сообщения с войны в Корее о подбитых танках, самолётах и т. д. Но, наверно, невольно в сознание западала классика, народная музыка и красивые лирические песни.
Спинку дивана, этажерку, полки под горшками с цветами у окна и всё остальное всегда украшали мамины рукоделья – вышитые салфетки, подушки и связанные ею кружева.
Семья пять человек, но я не знал, что мы живём в тесноте, поскольку жили не в обиде. Брат старше меня на 8,5 лет, а сестра старше на 3,5.
«Чердак»
В детстве казалось, что всё всегда было таким, как сейчас. Всегда такими были папа и мама, всегда был таким дом, двор, комната, в которой мы живём. Я всегда был маленьким и всегда таким буду. Всегда будет наш шумный двор, игры, беззаботность…
Райское сознание детства.
Не мог и представить, что родители тоже были маленькими, родились и жили в молодости в деревне.
Дед, работавший плотником-отходником, потом прорабом (десятником, по-старому) обосновался в Москве. Перед самой коллективизацией перевёл в Москву всю семью. Его старшие сыновья поселились на Троицком подворье в отдельных комнатах в полуподвале бывшей двухэтажной монастырской пекарни из узорного кирпича, её называли «Красным домом». В одной комнате с окнами под потолком жил мой отец с мамой, в другой дядя Коля.
Тогда в Москве все полуподвалы были жилыми, заполнены бежавшими от коллективизации «понаехавшими» из деревень крестьянами.
В 30-е годы в самом центре подворья стали строить ведомственный пятиэтажный дом в виде буквы П. Руководил стройкой мой дед, отец тут же работал плотником, а дядя Коля слесарем.
В 41-ом году отца и дядю Колю мобилизовали. Мама, испуганная бомбёжками Москвы уехала с трёхлетним сыном на родину в костромскую деревню. В начале 42-го перед отправкой на фронт отцу дали отпуск, он ездил в деревню к маме, и в 43-ем там родилась моя сестра.
Наголодавшись в деревне, мама вернулась в Москву. Комната в полуподвале оказалась разграбленной, холодной, сырой. Папа был на фронте. Весной подвал заливало так, что на полу стояла вода и ходили по подставленным кирпичам. Сестра Нина помнит, как её по этим кирпичам носили под мышкой на улицу и обратно. Жить с двумя маленькими детьми было невозможно.
Кто-то посоветовал маме написать письмо Сталину. В ответе на письмо ей предложили комнату в Текстильщиках, по её словам, у чёрта на куличках. Она отказалась и написала второе письмо. Предложили комнату в Серебряном Бору. Она опять отказалась. Потому, что около воды. (Однако!..) Боялась, что маленькие дети могут утонуть.
Кто-то посоветовал написать письмо с помощью адвоката.
Но тут надо сделать некоторое пояснение. Когда строился по проекту пятиэтажный дом в виде буквы П, архитектор решил, или разрешил, добавить в средней части шестой этаж для конторы деда. И при этом во всех пяти комнатах, поставили большие круглые окна. Может быть, архитектор хотел посмотреть, как это будет выглядеть. Во всяком случае, на построенном позже около Лубянки клубе КГБ и здании «Известий» на Пушкинской площади окна верхнего этажа точно такие же, круглые.
И представьте себе – в этом доме, который строили дед, отец и дядя Коля, маме и дали комнату в пристроенном шестом этаже. К этому времени здесь уже была квартира с газовыми плитами на кухне, ванной, но, конечно, с холодной водой. В ванной была газовая колонка, но ею почему-то не пользовались.
Круглые окна делали наш дом и нашу комнату особенными, неповторимыми. Отец в шутку называл новое жильё «чердаком». Взлёт из подвала – на чердак!
С войны папа привёз два небольших чемодана. Один самодельный фанерный, второй железный, чёрный, от немецких мин, с округлыми углами и интересными запорами-защёлками. Из всего, что он привёз в чемоданах, я видел только белое долговечное полотенце, мы им очень долго пользовались. Ещё неисправные карманные часы, вообще не послужившие. И, может быть, кое-какие инструменты (если они не сохранились с довоенных времён) – сапожные, маленькие часовые отвёрточки и разные плоскогубцы, клещи.
Ещё привёз польские открытки с видами Быдгоща, и одна – китайская, с японской войны.
Пушкин писал – бывают странные сближения. В Монголии часть отца стояла на станции Баян-Тумэн около г. Чойбалсана. Об этом он писал в сохранившемся письме. И надо же было тому случится, что в тех огромных пространствах тайги и пустынь мне довелось две трети двухгодичной службы в армии провести на этой самой тупиковой станции.
Это так, к слову.
К слову уж добавлю ещё одно.
В комнате с круглым окном, с рамой в виде креста я увидел белый свет, солнце, а крест в круге – древнейший знак солнца. Там, на «чердаке», возникло чувство дома – от кроватки, от пола, из под стола, из-под кровати. Оттуда мир стал расширяться – коридор, двор, переулок, Москва…
Но ещё до ТОГО…
В 43-ем на Ленинградском фронте отец был тяжело ранен осколком снаряда в голову. Словно о нём песня «Но вот под осколком снаряда упал паренёк костромской…» Не могу вспоминать эти строки без мокрых глаз. Две недели лежал без сознания. Наверно, папа любил эту песню «А ну-ка дай жизни, Калуга, ходи веселей, Кострома!» Выжил, может быть, только мамиными молитвами. В послевоенные годы у него случались потери сознания («припадки», мамино слово).
На весенней многолюдной Сретенке маму, беременную мной, сбила машина, толкнула так, что мама упала. Шофёр выскочил поднимать. Обошлось. Но – удар, испуг, падение… Наверно, и во мне что-то стряслось. Первая встреча с земным миром.
Вроде бы, отделался небольшим родимым пятном на попке, как мне говорили. Сам не видел.
Думаю, всё это вошло в меня, отразилось во мне, на моей психике, на моём характере, и судьбе.
Мне было года два. Я и Нина заболели коклюшем. Кто-то посоветовал – надо переехать большую воду. У тёти Кати были знакомые недалеко от Калязина в деревне Доскино.
Помню лишь обрывки. Идём с папой и мамой через редкий березняк к Волге. С невысокого зелёного обрыва я бросаю в воду палочки. Дальше провал в памяти. Мама рассказывала – так сильно бросил палку, что сам полетел в воду. Папа сразу вытащил.
Солнечный день. Идём с папой за ручку по дороге вдоль леса. Вдруг из леса громкие страшные звуки: – Ау! Ау!..
Я испугался, прижался к папе.
– Папа, кто это?
– Не бойся, это люди кричат друг другу, чтобы не потеряться.
Ночью над Волгой разразилась страшнейшая гроза. Перепуганные хозяйка и мама разбудили всех детей, одели и посадили на чемоданы. Мы сидели в комнате при включённой лампе готовые выскочить при пожаре. В тёмные окна хлестал ливень, шумели деревья, сверкала молния, а над домом, пугая нас, то и дело грохотали сильные удары грома.
В комнате
По воскресным утрам папа полёживал в постели, наслаждался возможностью спокойно полежать.
– Пап, я к тебе.
Перелезаю из своей кровати, на родительскую, забираюсь к нему под зелёное одеяло. Трогаю щетину на щеках, ищу в волосах маленькую ямку над ухом, след от осколка, и прошу рассказать о войне. Он отнекивается, отговаривается. Что и как можно рассказать ребёнку?
Тепло, мир, воскресенье…
Иногда после завтрака папа надевает солдатские брюки галифе с узким кожаным ремешком, садится под окно на скамеечку и открывает фанерный чемодан, чтобы ремонтировать ботинки или мамины туфли, сандалии. Или шить нам всем тапочки.
В чемодане много всяких интересных вещей – кривое острое шило, чёрный вар, маленькие железные гвоздики, деревянные гвоздики, мотки дратвы, сапожный молоток, сапожный нож, железные и деревянные штучки, коробочки… Но папа не разрешает ничего трогать.
У него есть сапожная нога, деревянные колодки. Он режет кожу, подбивает подошвы деревянными гвоздиками, меняет и подтачивает рашпилем каблуки, смолит дратву, приделывает к ней щетинку и, как иглу, продевает в дырки на подошвах…
Я играю щёлкающими замками железного чемодана от мин. Время от времени подбираюсь сзади и что-нибудь беру из его вещей, папа сердится.
Деревянные гвоздики он делает сам, раскалывая берёзовый кругляшок на тонкие пластинки, а потом заостряет один край пластинок и колет пластинки на квадратные заострённые гвоздики. В книге брата есть картинка первого поселения на месте Кремля – не знаю почему, я понимаю, что это макет, и его частокол сделан из таких вот гвоздиков. От этих деревянных гвоздиков во мне родилась любовь к макетам домов, церквей, парусных кораблей.
Папа горячится и раздражается, когда ему мешают, особенно, если что-то не получается.
Мы с сестрой часто надеваем тапочки или сандалии не аккуратно – ленимся наклоняться и придерживать задник пальцем. Специальных ложечек не было, защемлять палец не хотелось, особенно, если тапочки тесные.
– Сколько раз вам надо говорить – не мните задники?
У мамы тоже есть интересные вещи в швейной машинке – напёрстки, разноцветные пуговицы, катушки, шпульки, длинный мягкий «сантиметр» жёлтого цвета. Мне нравится закручивать его в колёсико.
Мама часто произносит слова: булавка, иголка, выкройка, крепдешин, ситец, драп, спицы, пяльцы. Мне нравится качать педаль под машинкой и крутить вхолостую большое колесо.
Тёплый осенний вечер, половинка окна открыта, за окном наступающие сумерки. Свет уже включили. Брат и сестра гуляют во дворе.
Я сижу в комнате на горшке, вдруг зачесалась спина.
– Мама! Глист по спине ползёт.
Она поднимает клетчатую рубашонку, гладит спину.
– Ну, где? Нет ничего.
Только отошла от меня – чувствую по спине что-то ползёт.
– Мама! Глист!
– Ну, нет же ничего! Бог с тобой!
А мне всё кажется…
Выпили чай под абажуром – папа, мама и я. Пробираюсь к окну посмотреть, что видно в уже тёмном, но ещё с ребячьими голосами дворе. Мама гонит меня от окна:
– Нельзя после чая высовываться – простудишься.
К маме пришла какая-то женщина, угощала меня конфетой, а я спрятался под кроватью, и ни за что не хотел вылезать, лежал за кружевным пологом. Ко мне наклонялись, давали конфету, я отползал к плинтусу, жался к стене. Уговаривали, уговаривали… не вылез. Маме было очень неудобно за меня.
Раза два или три мне снился один и тот же страшный сон. Дверь приоткрывает лохматое чудовище-великан, хочет пролезть из коридора и схватить меня. От страха не могу закричать, нет голоса. Не могу бежать, ноги не слушаются… просыпаюсь.
Первая игрушка, которую я увидел – стоявший на полке дивана заводной физкультурник на турнике. Когда его заводили ключиком, он начинал крутиться и проделывать упражнения. Ещё у нас был маленький деревянный ванька-встанька. У сестры – маленькая, называвшаяся пупсиком, кукла-голышок, сидящая в корыте.
Новый железный заводной воробей прыгал на тонких ножках по столу и всегда пытался спрыгнуть со стола.
Однажды папа принёс деревянного некрашеного коня на деревянных колёсах. Думаю, он его сделал сам в дровяном сарае за «Красным» домом, в полуподвале продолжали жить дядя Коля с женой тётей Люсей.
У самодельного коня была тонкая вырезанная голова, а вместо хвоста небольшая спинка сзади, чтоб не соскальзывать. На коне можно было двигаться в комнате. С этим конём я играл несколько лет, переворачивая и превращая его то в машину, то в самолёт.
Как мы жили
Когда у папы что-то получалось хорошо, он говорил:
– Мастер Пепка делает крепко!
Чтобы похвалить говорил:
– Сделано на ять!
Папа любил шутливый тон, знал много всяких приговорок: – с гаком; ни тпру, ни ну; фу-ты, ну-ты, лапти гнуты…
Приходит после работы: – Здорово живём!
Поест: – Спасибо этому дому, пойдём к другому.
Спать ложится: – Спокойной ночи, спать до полночи, а с полночи кирпичи ворочать.
Накурено: – Хоть топор вешай!
Часть поговорок он привёз из детства, из деревни, а часть – из армии.
– Пап, можно…
– Можно, только осторожно.
– Пап, вкусно?
– Язык проглотишь!
– Пап, много?
– Вагон и маленькая тележка.
– Пап, а арбуз с чем есть?
– С таком!
Я часто кричал «я сам, я сам!». И если не получалось, папа говорил:
– Мало каши ел!
В воскресенье приходит папа из магазина, говорит маме:
– Народу – пушкой не прошибёшь!
Я представляю себе, как в огромном зале, битком наполненном людьми, на них раз за разом накатывают старинную пушку, и не могут пробить.
Однажды меня привлекла услышанная в разговоре взрослых фраза:
– За это могут и по шапке дать!
– Каждому? – удивился я.
Сестра Нина очень любила сладости, и мама прятала от неё сладкое, но Нина всё же иногда находила. Нашла банку с изюмом, и каждый раз брала по немногу, чтобы было незаметно. Пришёл праздник печь пирог, мама ахнула – банка больше, чем наполовину была пустой.
Когда мы с Ниной клянчили у мамы ещё что-нибудь вкусненькое, мама говорила:
– Сейчас всё съедите, а потом зубы на полку?
Мы с Ниной, конечно, «бедокурили», но родители нас ни разу пальцем не тронули. Папа только пугал меня, совсем маленького, ремнём. Только один раз было, при маме снял ремень, наклонил, зажал голову между колен, и снял с меня штаны. Не бил, но я дико орал, было страшно и обидно чувствовать ушами папины колени.
– Папочка, я больше не буду!
Старший умный брат Валерик был непререкаемым авторитетом. А мы с сестрой спорили, ссорились. Жаловались друг на друга маме – «а Нинка…», «а Витька…». Мама сначала сразу обрывала:
– Что это за «Нинка», что это за «Витька»?
– А Нина…
– А Витя…
Потом внушала:
– Доносчику первый кнут!
Или:
– Один не пролей, другой не подтолкни.
– Кто спорит, тот дерьма не стоит.
Мама никогда не сидела без дела – вязала, вышивала, кроила на столе рубашки, брюки на всю семью, или по заказу кому-нибудь платье. Она закончила курсы кройки и шитья. Строчила на машинке. Штопала, зашивала, перелицовывала одежду старшего для младшего.
Тут к месту вспомнить мамины швейные поговорки.
– Голь на выдумки хитра.
– Семь раз отмерь, один раз отрежь.
– Овчинка выделки не стоит.
– Делаю из говна конфетку.
– Не шьёт, не порет.
Когда мы сильно допекали маму ссорами или просьбами:
– Где я вам возьму, из коленки, что ли, выломаю?
– Ох, я с вами на Канатчикову дачу попаду!
Защищалась пословицами:
– На всякое хотенье имей терпенье.
– Без труда не вынешь рыбку из пруда.
– Мам, ну, что – тебе жалко?
– Жалко у пчёлки в попке.
– Мам, ну, скажи – как?
– Как-как?.. Сядь да покак, вот как! Надоел хуже горькой редьки!
Как тогда жили мы и другие люди
Умывшись, вся семья вытиралась одним полотенцем. Жили без горячей воды. В ванной комнате стояла ванна и висела газовая колонка, но почему-то её использовали только для стирки. Мыться ходили в баню.
Мальчиков часто стригли «под машинку» – наголо. Приятно было проводить ладонью по голове, как по щётке.
В день рождения, поздравляя, слегка дергали за уши столько раз, сколько исполнилось лет.
Папа мне на день рожденья подарил большого белого фаянсового зайца с красной морковкой в лапах и сказал:
– Расти большой да вумный!
Потом заяц стоял на диванной полке.
Еду готовили на общей кухне, а ели в комнате.
На завтрак яйцо, манную кашу, хлеб с маслом… В обед – обязательно, каждый день, первое, второе и третье. Для первого у меня была пластмассовая детская миска. Мы с сестрой первое очень не любили, мама заставляла есть, а любили третье – кисель или компот из сухофруктов с черносливом, абрикосами, грушами, изюмом. Всё это и без компота, в сухом виде иногда удавалось выпросить.
– Щи да каша – пища наша, – приговаривал папа.
Ели всегда вместе. Часто мама не могла кого-нибудь заигравшегося, зачитавшегося дозваться к столу и предупреждала: – Семеро одного не ждут!
Или: – Для глухих десять обеден не служат.
– Мам мне половинку.
– Ты что – половинкин сын? – спрашивал папа.
И добавлял в таких случаях:
– Наливай полную, чтоб жена была не губастая!
То же самое он говорил, когда наливали рюмки.
Если я или сестра отказывались есть не вкусное, какую-нибудь кашу, щи, мама сердилась:
– Ешь, что дают!
Папа добавлял:
– Губы толще – так в брюхе тоньше!
И:
– Что губы надула?
Если наоборот, кто-то никак не насытится и просит раз и два добавки мама смеётся:
– Едун напал. Не жалко, ешь до укаки!
Нередко покупали мясо кроликов. Я просил, и мне всегда давали кусочек с косточкой в виде вилки, точней в виде буквы V. Вряд ли эту косточку связывали с моим именем, но мне она почему-то нравилась.
Мы жили не богато, скромно, «не шиковали», но денег не занимали, необходимое всегда было, «жили по средствам». «Вкусненькое» нам папа покупал с получки, себе – в рыбном магазине несколько тонких ломтиков сёмги.
Мама лучшее отдавала детям, экономя на себе. Масло на хлеб намазывала так тонко, что была видна структура хлеба на срезе, а то и намазывала масло, а потом соскабливала. На ломтике получался узор из белых пустот, заполненных маслом и разделяющих их стенок.
Я любил белый хлеб кирпичиком, таким же, как чёрный, хотя он был и не высшего сорта. Ещё были батоны и иногда «плетёное» хало.
Когда в доме кончался сахар или ещё какой-нибудь продукт, мама в шутку говорила: – Дожили до куки, нет ни хлеба, ни муки.
Если роняли на пол конфету, печенье…: – Не повалявши, не поешь. А папа: – Росомаха!
Конфеты были: Золотой ключик, Снежок, Раковая шейка, леденцы Монпансье в металлической коробке. В кульках без обёртки – «подушечки» розовые и белые.
Если отказывались брать подарок, мама:
– Дают – бери, а бьют – беги.
Папа:
– Нечего хвост подымать!
Когда я или Нина просили купить что-то такое, что родители не могли себе позволить, мама объясняла, приговаривая:
– По одёжке протягивай ножки.
Мы с сестрой и капризничали, и упрямились.
Папа: – Вожжа под хвост попала.
Мама: – Хватит надо мной мудровать!
Что творил я в то время, честно, не помню. Спать не хотел ложиться. А Нина совсем маленькой ранней весной додумалась встать в заячьей шубе под водосточную трубу. Эта шуба потом перешла ко мне.
Если говорили или делали что-то несуразное, спрашивали: – Тебе что – моча в голову ударила?
Или: – Не скажи в бане – шайками закидают.
Я, всё воспринимавший буквально, представлял, как в пару голые дяди кидают друг в друга шайки.
Папа читал мне книжку «Как муравьишка домой спешил». Солнце уже склонялось низко… Я очень переживал за муравьишку. Ещё была сказка про лягушку-путешественницу.
В каком-то рассказе вечерний крик то ли перепёлки, то ли выпи «фьють-пери» переводился на человеческий язык как «спать пора!». После этого рассказа, когда приходило время ложиться спать, папа мне сигналил: – «Фьють-пери, фьють-пери! Спать пора!»
Читали мне замечательную познавательную книжку для детей с картинками «Алёша-Почемучка». Он всех спрашивал – почему то, почему это… – про всё на свете. Взрослые Алёше рассказывали и объясняли. Картинки показывали. Вскоре и меня стали называть Почемучкой.
Папа покупал разные развивающие игрушки. Набор кубиков с деталями шести разных картинок на боках, их нужно было составлять. Ещё то, что теперь называют пазлами, но более простые, из крупных деталей. Ещё что-то вроде картонного лото, в котором вместо цифр были картинки зверей, птиц и рыб. Мне почему-то понравился и запомнился розовый скворец.
Старшему брату Валерику папа подарил конструктор из разных металлических пластинок, уголков, колёсиков и других деталей для сборки с помощью винтов и гаек трактора, грузовика, крана… Не все винты подходили к каждой гайке, и каждая гайка не подходила ко всем винтам, надо было подбирать. Несколько уголков от этого конструктора у меня ещё сохранились.
По радио часто звучала песня для подростков:
- Если хочешь быть здоров, закаляйся.
- Позабудь про докторов, обливайся…
Валерик, закалялся, обтирался мокрым полотенцем, делал зарядку, старался позабыть про докторов, но не мог – он был «сердечник», с пороком сердца… Один раз, мне было 3 или 4 года, мама взяла меня с собой в больницу к Валерику. Больница была далеко, в Текстильщиках. Долго ехали в автобусе, окно было заморожено. Мама разговаривала с какой-то женщиной, сидевшей рядом. Я не понимал, о чём они говорят, но почему-то запомнилось повторявшееся слово «хлопотать»: – …хлопотала… надо хлопотать… хлопотать…
Помню только картинку – мы с мамой стоим в сквере больницы и машем Валерику в окно 3-го этажа.
На обратном пути мама разговаривала в автобусе с другой женщиной о болезнях своих детей, и та сказала, что детям, лежащим в больнице, покупают заводные танки – они могут ездить по разглаженной простыне.
Из больницы Валерик вернулся со своим танком. Танк жужжал и сыпал искрами из пулемёта. Я подставлял палец под искры, они не обжигали. Говорили – это холодный огонь.
В дождливую погоду все мужчины и дети надевали чёрные галоши, красные внутри. Женщины – боты, а зимой многие девочки и женщины вместо варежек грели руки в муфтах на верёвочках.
В холодную погоду все носили пальто, зимние и «демисезонные», никаких тёплых курток не было. Мужчины зимой все в шапках-ушанках, в другое время – интеллигенция, в основном, в шляпах, люди попроще и подростки в кепках, люди искусства с претензией в беретах.
Магазины в Москве были наполнены продуктами, но, вероятно, кроме муки. Только денег у людей было мало и магазинов мало, за всем приходилось стоять в очередях.
Муку продавали по три килограмма на человека перед праздниками – все пекли пироги и свой хлеб. За мукой стояли уже не очереди, а толкающиеся толпы. Очередь занимали с вечера или с ночи, писали химическим карандашом номерки на ладонях.
Один раз мама взяла меня совсем маленького в качестве «человека». На задворках магазина между кинотеатром Экспресс и Центральным рынком муку выдавали через маленькое квадратное отверстие, вокруг толпа, шум, гам. Мне тоже написали номер синим химическим карандашом. Я держал его зажав ладонь, боялся стереть, смазать, потерять.
Когда очередь подошла, мама сунула меня в окошко в подтверждение наличия «человека».
Брат и сестра готовили уроки на общем столе, другого не было. Подстилали газету, чтобы не пачкать клеёнку чернилами – писали перьевыми ручками, макая то и дело в белую фарфоровую чернильницу-непроливашку. Чернила часто капали с перьев и ставили кляксы в тетрадях и на чернильнице. Белоснежная непроливашка через какое-то время становилась привычно чумазой грязнулей. Иногда её оттирали, и на неё, чистую, неприятно было смотреть, она казалась лысой. А кто-то сказал – босой.
Кляксы в тетрадях накрывали промокашками, от чего они часто увеличивались, превращаясь из круглых в произвольные фигуры.
У нас в семье, если кто-то делал уроки, остальные не мешали, не шумели, даже не разговаривали. Этот закон внимательности к другим, уважение читающего, думающего, спящего… стали привычкой, сохранившейся навсегда.
Чтобы занять меня, мне давали какую-нибудь книгу с картинками. Например, книгу стихов Маяковского с фотографиями красноармейцев в белёсых гимнастёрках, в строю, на крышах вагонов… На полях нарисованные маленькие чёрные человечки с винтовками, бегали туда-сюда, как муравьи.
Рисунки в тогдашних детских книжках мне нравятся и сейчас – простодушные, чёрно-белые, тёплые, добрые… У нас была большая толстая книга Андерсена со сказочным домом под высокой изогнутой крышей на обложке. Внутри был рисунок – на окне из маленьких квадратных стёкол стоит горшок с вьющимся горохом. Оттуда, наверно, моя привязанность к цветам на подоконниках.
У нас был установлен разумный распорядок дня. Валерик даже написал на листке расписание – когда вставать, когда обедать, делать уроки, гулять, читать, ложиться спать (мне в девять, старшим в десять).
В нашей семье сохранялись табу, правила и приметы, привезённые родителями из деревни, из глубин крестьянских поколений.
В гостях никогда не ели, ни пили по первому приглашению. Сначала надо было обязательно отказываться, медлить. Хапать не принято. Повзрослев, я долго не мог отвыкнуть от привычки церемониться даже с друзьями.
Вставать утром надо с правой ноги, иначе – «не с той ноги встал», с плохим настроением. Надо же, так хранилось понимание левого и правого, добра и зла.
Дома нельзя свистеть, денег не будет.
Нельзя спать, когда закатывается солнышко – голова заболит.
Нельзя много смеяться, после смеха всегда слёзы. «Смешинка в рот попала?». «Смотри, как бы после не заплакать». «Смех без причины – признак дурачины». Я смеялся, по выражению папы, до упада. А мама говорила:
– Тебе покажи пальчик – засмеёшься!
У меня в смехе выражалась и выражается радость от необычного слова, действия. Бывало это не понимали и обижались, думая, что смеюсь над ними.
Нельзя хвастать, «Хвастливое слово всегда гнило».
Нельзя класть на стол ложку выемкой вверх, «Ложка есть просит».
Наденешь майку или чулок наизнанку – будешь бит.
Что-то потерялось – это шишига украла. «Шишига-Шишига, поиграла и отдай!»
Из бани пришли – «С лёгким паром!».
Мама надевает пальто.
– Мам, ты куда идёшь?
Мама очень сердилась на такие вопросы:
– Заку дакал!.. За кудыкину гору!
Нельзя спрашивать, куда идёшь, а то не повезёт.
Чтобы повезло человеку, например, на экзамене, надо его в это время ругать.
Отправляясь на экзамен, клали под пятку пятак. В те времена школьники сдавали экзамены каждый год.
Раньше эти предосторожности называли оберегами, теперь – психозащитой.
Когда я допекал старшего брата, он говорил: – Отзынь! Или давал лёгкий щелбан. А то и предупреждал: – Дам по шеям!
Или вправду слегка давал ребром ладони по шее.
В семье возникли разговоры о том, что Валерик будет показывать домашний театр. Он тайком резал ножницами бумагу, картон, что-то клеил. Я не знал, что такое театр, и ждал с нетерпением.
И вот через несколько дней вечером «театр» состоялся. Зрители – я, Нина, мама и папа сели в два ряда на стулья.
Лампа под абажуром погасла. Сцену освящала настольная лампа, и действие началось. Валерик рассказывал и показывал сказку про хитрую лису.
Старик крестьянин поехал на санях через лес ловить рыбу. Лошадь бежала быстро, на фоне замелькавших елок, усыпанных снегом. Сани со стариком действительно двигались, ехали по дороге!..
Приехал старик, остановился и стал ловить рыбу, и началось: – Ловись, рыбка, большая и маленькая… Старик возвращался с рыбой домой, и опять замелькали ёлки, только в другую сторону. Впечатление движения лошадки с санями было поразительным.
Потом, появились лиса, старуха, волк…
Как только сказка кончилась, я сразу стал выяснять, почему сани казались едущими, лиса и волк бегущими.
Валерик показал длинную полосу бумаги с нарисованными деревьями и как он её тянул за стоящими санями. Эффект обманчивого движения был удивителен! Я сам тянул полосу с ёлками – лошадь бежала, переставал тянуть – лошадь останавливалась.
Тогда я думал, что Валерик всё рисовал сам, но, догадываюсь, это папа купил напечатанный полуфабрикат. Валерик только вырезал и клеил.
Москва
Первый раз в переулок за подворотню меня вывела Нина кататься с ледяной горки. От подворотни повернули направо – вдоль церковной ограды, и ещё раз направо в другой переулок к церкви.
Тут из-под самой кирпичной стены очень круто спускалась чёрная ледяная лента. Дети вылетали, кто на фанерках, кто на картонках, кто на попе прямо на мостовую поперёк переулка. Благо, машин тогда было мало, проезжали редко.
Я долго стоял наверху, боялся скатиться, с большим трудом преодолел страх. На этой горке при спуске перехватывало дыхание, оно поднималось от живота к подбородку.
Иногда после работы папа катал меня на санках по переулку. Зимний тёмный вечер весь в огнях фонарей и горящих окон. Передо мной папина тёмная спина в пальто, справа и слева, много мелькающих теней и тёмных людей, идущих с работы.
Зимой на московских тротуарах много коротких ледяных дорожек, катков, неизвестно как появлявшихся и раскатанных детьми. Когда я шёл по улице между папой и мамой, они поднимали меня за руки и прокатывали по каткам. Сам ещё не умел разбежаться и прокатиться, хотя во всех других случаях всегда кричал «Сам! Сам!».
Если мы ехали в метро, то в каком-то месте папа говорил:
– Сейчас мы поедем прямо под Москвой-рекой!
– Когда? Ну, когда?
– Подожди чуть-чуть… Вот сейчас!
(Это между станциями Парк культуры и Октябрьской, ещё между Павелецкой и Таганской)
Иногда по воскресеньям папа ходил со мной гулять.
Однажды я папу невольно выдал. Мы пришли на Цветной бульвар, к цирку. На углу в палатке папа купил мне вафельную трубочку с кремом. Я и сейчас могу почувствовать её вкус, слышать хруст вафли.
Дома мама спросила меня:
– Ну, где вы были, куда ходили?
– Ходили на Самотёку.
– А что делали?
– Я ел трубочку…
– А папа?
– А папа пил белую водичку.
Мама посмотрела на папу – папа смутился. Мама умно ничего не сказала.
Тогда прямо на улице можно было выпить стопку водки. Такой эпизод есть в фильме «Сын», и, кстати, происходит около цирка.
В другой раз, не помню как, мы оказались на Пушкинской площади. Солнечный день, высокие серые здания по сторонам сквера. Одной рукой я держался за папину руку, другой – тащил за собой на нитке новенький деревянный пароход, подарок на день рождения. Пароход бело-красный, длинный, дребезжал не на колёсах, а на шариках скрытых в углублениях плоского дна.
Папа показал ряд разноцветных фонтанов. Вид фонтанов необыкновенный, они похожи на букеты зелёного, розового, жёлтого и голубого цвета. На мой вопрос «Почему…» Папа объяснил, что вода снизу подсвечена разноцветными фонарями.
Я лёг на гладкий каменный бортик, спустил пароход в воду и чуть-чуть сам не сполз в фонтан.
Папа показал мне дом, где он работает, я спросил, что он делает на работе?
– Вот строят такой дом, а я считаю, сколько надо для него кирпичиков, досточек, балочек…
Зимой папа привёз меня кататься на горке около Кремля. В Александровском саду там, где сейчас могила неизвестного солдата, стояла очень высокая деревянная горка с очень длинным ледяным накатом. В те времена с ледяных горок катались просто на пятой точке.
С рождения слышал слово «Москва-река»… «Москва-река»…
Мне слышалось «Москварика», и я думал, что река так и называется – Москварика.
Папа пообещал показать мне ледоход на Москварике. Тогда она не была перегорожена шлюзами, и происходили ледоходы.
Месяца два я надоедал папе – когда будет ледоход? Скоро! Ну, когда будет ледоход, скоро? А лёд, как он говорил, стоит и стоит. Подожди ещё немного…
И вот, наконец, мы стоим на Большом Каменном мосту над рекой, вся она разбита на двигающиеся с шумом и треском белые куски льдин, похожих на облака. Мы смотрим вниз, и кажется, что не льдины всей массой уходят под мост, а мост двигается вперёд, как ледокол. Льдины задевают за гранитный берег, наползают одна на другую, трутся краями, поднимают зеленоватые рёбра, ныряют под другие льдины, разбиваются, крутятся… На некоторых льдинах плывут палки, обломки досок, коряги, вороны… Голова начинает кружиться от этого всеобщего движения. Но и оторваться невозможно.
Папа едва уговорил меня поехать домой.
По дороге в зоопарк (или зоосад, не помню, как его называли) папа купил мне маленький чёрный мячик. Он мне так понравился, что я, как в басне, не заметил никаких зверей. Подкидывал и ловил мячик.
На аллее между высокими сетчатыми оградами так подкинул, что мячик перелетел через ограду. Тут я и увидел за оградой жирафа. Мячик лежал за сеткой совсем рядом, но достать его мы не могли. Я заревел. Папа успокоил меня, только сказав, что завтра пойдёт к директору зоопарка, и мячик отдадут. А сегодня выходной, директора нет.
Конечно, он никуда не ходил, а я уже заигрался в другие игры и забыл про мячик.
Наше окно выходило на юг. В ясные дни по утрам солнце висело высоко над ближними крышами. Мне приснился сон, будто я утром смотрел в окно на солнце, но вместо солнца сияло лицо боженьки в виде иконы, и от него исходили золотые лучи. Какое-то чувство подсказало мне никому не рассказывать об этом сне.
Слово «боженька» я слышал от мамы, но иконы Христа никогда не видел. Потом этот сияющий лик я узнал на лицевой иконе.
Праздники
Хорошо помню один из праздников 1-го Мая. По радио бодрая музыка:
- Утро красит нежным светом
- стены древнего Кремля.
- Просыпается с рассветом
- вся советская земля.
- Холодок бежит за ворот…
Меня нарядили по-праздничному, папа подарил маленький, на деревянной палочке, красный флажок с жёлтой окантовкой и серпом-молотом. С этим флажком мы с папой через подворотню по переулку пошли на Садовое кольцо смотреть демонстрацию. Серенькое, прохладное утро. Я так и чувствовал холодок за воротом.
В том месте, где Садовое кольцо спускается к Самотёчной площади, на нашей стороне есть возвышающаяся на несколько метров над тротуаром длинная земляная площадка. Встали на этой горке. Дома и фонарные столбы разукрашены красными полотнами и огромными цветами. Сверху нам прекрасно было видно заполненное демонстрантами Садовое кольцо от Сухаревской до площади Маяковского.
Вся ширина улицы представляла собой движущуюся многоцветную гирлянду из флагов, больших разноцветных цветов на палках, портретов, тоже на палках, больших и маленьких шаров, машущих людей.
Большие сооружения катились на колёсах, на некоторых из них ехали люди. Проплыл огромный голубой земной шар и другие фигуры. На ходу играли духовые оркестры и гармони.
Мы долго стояли и смотрели, а эта разноцветная гирлянда не заканчивалась. Иногда она останавливалась, потом двигалась снова.
Среди зрителей, стоявших на горке, появились торговцы с самодельными детскими игрушками – вертушками из цветной бумаги на палочках, мячиками на резинках, разворачивающимися и сворачивающимися радужными ячеистыми кругами, то ли многоцветными солнышками, то ли подсолнухами без семечек…
У одного торговца из руки свисали на нитках чёрные мышки. Если такую мышку опустить на землю и отпустить нитку, мышка сама бежала пока вся нитка ни ускользала в дырочку на её спине. Такую мышку мы и принесли домой.
Мышка забавно бегала по столу и по полу, и по дивану. Я её обследовал. Она была картонная. Снизу открыта, в ней находилась деревянная катушка, как у мамы. Я эти катушки кусал и знал на вкус, берёзовый. На катушке была намотана нитка, её и вытягивали из спины мышки.
Почему-то, когда нитку вытягивали и потом отпускали, катушка сама накручивала нитку на себя. Я не мог понять – почему катушка сама накручивала нитку. А она в мышке держалась на резинках.
К праздникам варили студень из свиных ножек. Самым вкусным считалось «глодать мослы». Ставилась целая миска мослов. Попадались фигурные косточки «лодыжки». Они были похожи на танки. Мама говорила, что в деревне лодыжками играли.
Весной, в день 40-ка мучеников, по сути, в День весеннего равноденствия, мама пекла из теста жаворонков с глазом-изюминкой. Один раз я напросился самому слепить жаворонка, как это делала мама. Долго мял тесто, кое-как слепил и изюминку воткнул. И когда мама положила на подмасленный противень мой жаворонок рядом со своими, то мой оказался чуть сероватым, а не белым, как мамины.
9-е Мая не был официальным праздником и выходным днём. Не было в этот день и парада. Парады и выходные устраивали 1-го Мая и 7-го Ноября.
1-е Мая и 7-е Ноября в кругу родителей были просто лишними выходными днями и поводом собраться вместе с земляками и родственниками за общим столом, поговорить-повспоминать, попеть, а то и поплясать. О международной солидарности и революции – не говорили.
Собирались у кого-нибудь по очереди. Иногда совмещали с новосельем, или другим семейным торжеством, тогда и праздновали веселей.
Одежда чётко делилась на будничную и праздничную, новую.
Мама красила губы и выщипанные брови – тоненько, как тогда было модно. Это ей совсем не шло и выглядело ужасно.
В её дамской сумке с тугим запором в виде блестящих шариков, зацеплявшихся друг за друга с щёлчком, в кармашке лежало маленькое зеркальце.
Хорошо выпивали-закусывали с приговорками: после первой «на вторую ногу», потом «бог любит троицу», потом «телега без четырёх колёс не бывает» и т. д.
Женщины водку, называемую «белым вином», не пили, только «красное». На столе обязательно – в длинной селёдочнице кусочки селёдки покрытые кружочками лука, студень с горчицей и хреном, домашние пироги.
Сидение за оживлённым праздничным столом маме удовольствия явно не доставляло. Вино едва пригубливала. Выпив, гости и хозяева дружно энергично распевали «Каким ты был…», «Ой, цветёт калина…», «На Волге широкой…», «Хвастать, милая, не стану……
Мама уныло тихо подпевала для вида.
А папа, подвыпивший на много ног, веселился и плясал, как никто – подпрыгивая, крутился на одной ноге.
Один раз, когда и я был в гостях, начался очень сильный ливень. Гости удивлялись и повторяли: – Льёт, как из ведра!
Я долго смотрел на крышу дома напротив, на водосточные трубы, на небо и никак не мог разглядеть, где ведро, из которого льёт вода.
Прежде чем уйти гости в передней всегда долго прощались и повторяли: – Извините… Спасибо за угощение… Извиняйте… Извините…
Я тогда не мог понять – за что извиняются?
В русском языке есть пара родственных слов «простите-прощайте». Второе слово имеет и второе значение – расстаёмся, ухожу, покидаю. Видимо, в их деревенском говоре была аналогичная пара «извините-извиняйте», где второе слово тоже значило – расстаёмся, прощайте. Прощайте имеет печальный оттенок, а извиняйте – оттенок вежливости и благодарности. Конечно, часто путали значения извините и извиняйте.
К трамваю шли уже в свете фонарей. Мама ругала весёленького папу: – Никто не напился, ты всегда самый пьяный!
Праздновали и у нас. Бомкины приехали из Щёлкова на маленьком уютном собственном Москвиче первой модели. Дядя Боря работал механиком на аэродроме Чкаловский.
После первой рюмки папа, конечно, говорил: – «Надо на вторую ногу»… И «наливай до краёв, а то жена будет губастая»…
Гости, как всегда долго прощались: – Извиняйте… Извините!
Бомкины остались ночевать. Дядя Боря ночевал в машине: – У меня на сиденьях ковры новые, как бы ни стащили.
Наше окно смотрело в сторону центра Москвы, Кремля. Поэтому в праздничные дни, погасив свет в комнате, удобно было смотреть салюты. В небе рассыпались разноцветные гроздья, и как только они, падая, исчезали – по небу быстро-быстро кружились лучи прожекторов. Вдруг они все замирали и гасли – и тут же взлетали новые цветные гроздья. И опять по небу начинали бегать лучи прожекторов…
Когда приходили единичные гости, часто за чаем смотрели наш альбом с фотографиями, их вставляли уголками в полукружные прорези. Мне очень нравилась чёрная крепкая обложка альбома с рельефной тиснёной картинкой берега озера, мельницей, домом, пряслами ограды. Альбом перевязывался шёлковыми толстыми витыми шнурками крест-накрест.
Новый год
Новый год и дни рождения ограничивались семейным кругом.
Под новый 1949-й год папа купил очень красивый толстый календарь с цветными репродукциями картин русских и советских художников: «Письмо с фронта», «На охоте», «Фашист пролетел». Румяные мордастые колхозницы на солнечном току деревянными лопатами весело бросали золотое зерно в большую кучу…
В конце календаря оказались рисунки для вырезания и склеивания самодельных ёлочных игрушек. Перед каждым Новым годом мы мастерили самодельные игрушки, хотя хватало и покупных – серебряных стеклянных, картонных пузатых рыбок, хлопушек, ватных блестящих лебедей… Самодельные игрушки в основном делал старший брат, а мы с сестрой смотрели и учились вырезать и клеить из цветной гладкой, гофрированной и мраморной бумаги китайские фонарики, звёзды и гирлянды…
Из пустой яичной скорлупы получился звездочёт в высоком колпаке и с белой длинной бородой из ваты.
Ёлка стояла на полу, или на круглом столике, и тогда упиралась макушкой в потолок. Наряжали её стеклянными разноцветными шарами и разными фигурками, куколкой в одеяле, яблоком с блестящими листьями, грушей, разноцветными бусами… Единственная игрушка, о которой я мечтал – увиденный у Лёни Васенева пластмассовый сказочный домик, светящийся от вставленной в него лампочки.
Лампочек у нас не было. Тогда почти все зажигали на ёлках свечи. Для них были специальные подсвечники, крепившиеся на ветках.
В качестве игрушек вешали на нитках конфеты и орехи, завёрнутые в фольгу, но их нельзя было срывать до нового года.
Крестовину, в которую вставляли ёлку, прикрывали ватой, как снегом. Ставили под ёлку деда Мороза и подарки для нас с Ниной в коричневых бакалейных пакетах.
Наконец вечером 31-го разрешали взять из-под ёлки «подарки». Радовались, рассматривали содержимое и показывали друг другу. Это были собрания всяких вкусных вещей, каждый год разные, но совершенно одинаковые в обоих пакетах. Конечно, мандаринки, вафли, пастила, зефир, конфеты «Мишка на Северном полюсе», орехи…
Если разломить-раскусить земляной орех (слово «арахис» мы не знали), то на кончике одной из семядолей лежала маленькая рыбка с хвостиком (зародыш ростка).
Нина очень любила сладкое, таскала у мамы изюм, как я уже говорил. Мама прятала, но она всё равно находила. Нина всё содержимое пакета съедала мгновенно, а я свой «подарок» ел понемногу, не торопясь смаковал, наслаждался вкусом.
Вскоре Нина подходила ко мне и сначала, молча, хитро, смотрела мне в рот. Жую, она смотрит. Удовольствие от вкусностей у меня наполовину пропадало. Я жался, жался, но, в конце концов, она вытягивала, выпрашивала у меня: – Дай дольку… Ну, дай половинку… кусочек… орешек…
Через какое-то время опять являлась передо мной и, глядя в рот, просила:
– Ну, дай хоть маленький кусочек. Совсем маленький!..
Мы всегда, не только в Новый год, угощали маму конфетами, но она каждый раз отнекивалась: – Я не люблю конфеты.
Я верил.
Спросил маму:
– Ты кого из нас больше любишь? Меня, Нину или Валерика?
– А вот у тебя на руке пять пальчиков, какой пальчик тебе меньше дорог? Какой не жалко отрезать?
Папа иногда в шутку вместо «медведь» говорил «вед-медь», вместо «велосипед» – «лисапед».
Я его прошу о чём-нибудь, а он, будто не слышит, прикладывает ладонь к уху, как старик:
– Ась?
Я повторяю просьбу. А он:
– Ась?
– Ну, папулька!..
– Ась?
Мои вопросы становились трудными для объяснения, или о том, что рано было знать. Папа в таких случаях говорил:
– Ты ещё зелёный, не дозрел. Надо немного пожелтеть.
А Валерик:
– Отзынь! Много будешь знать – скоро состаришься!
Мама на вопросы «что это?» в шутку говорила:
– Спрос, а кто спросит – тому в нос.
Но потом объясняла.
Если я что-то не понимал, папа:
– Плохо соображаешь, не петришь. Надо мозгой шевелить!
Валерика никогда не требовалось поправлять, а нас с Ниной мама часто наставляла пословицами:
– Встречают по одёжке, а провожают по уму.
– Один раз соврёшь – в другой раз не поверят.
– Как верёвочка не вейся, а конец будет.
– Что посеешь, то и пожнёшь.
– Как потопаешь, так и полопаешь.
– «Я» – последняя буква в алфавите.
Оставалось, например, одно яблоко или пирог. Если кто-то сказал «мне», мама говорила:
– Ты думаешь в тебе душа, а в других голик?
Яблоко надо было делить.
Простуды и насморки мама лечила домашними средствами – паром от горячей картошки в мундире, горчичниками и даже банками, от которых оставались розовые круги на спине.
Приносила из кухни чугун с горячей картошкой в мундире, снимала крышку, заставляла наклониться над паром, быстро накрывала голову большим полотенцем и чем-нибудь тёплым: – Дыши!
Леченье всегда сопровождалось криками «Горячо!», «Не могу!», «Жжёт!»…
– Потерпи немного, а то будет хронический насморк, гайморит.
Если я правильно помню, появилось подозрение, что у нас с Ниной глисты. В поликлинику на углу Петровского бульвара и Каретного ряда мама меня водила только один раз, по Цветному и Петровскому бульварам.
Мы долго томились в коридоре в очереди, и я всё в нём хорошо рассмотрел – на столике весы с закрулёнными краями для младенцев, плакаты со страшными существами микробами. Понравились поворачивающиеся колонки с яркими картинками на стёклах, подсвеченных изнутри.
Врач посоветовала от глистов есть тыквенные семечки.
Обратно мы шли другой дорогой по Большому Каретному мимо автобазы милиции. Около высокой глухой стены стоял чёрного цвета грузовик-фургон. Мама со страхом в голосе тихонько сказала: – Эта машина называется «Чёрный ворон»!
Её голос внушил и мне страх, я не стал расспрашивать почему «Чёрный ворон»?
В то время ещё ходили слухи о врачах-вредителях.
Соседи
В нашей квартире на шестом этаже, на «чердаке», в длинном полутёмном коридоре было пять дверей в комнаты. Коридор такой длинный, по нему можно было кататься на велосипеде. Каталась на трёхколёсном велосипеде Люся, моя ровесница. И мне давала покататься.
Наша комната центральная. В комнате справа жила Люся и её родители Пилипчуки.
Пилипчук, здоровенный мужик, видимо, был военным. В форме я его никогда не видел, только в галифе с тапочками и в майке-футболке из комплекта нижнего белья. Он работал по ночам, днём спал. Думаю, он был охранником в звании сержанта в какой-нибудь тюрьме, судя по его грубым манерам и солдатским шуткам.
Мы с Люсей часто играли у них в комнате, залезали под стол, как будто в домик. Однажды Пилипчук сел за стол выпить кружку молока. Я высунул голову из-под стола, чтобы вылезти, он для забавы ливанул молоко мне за шиворот и засмеялся от того, что я вскрикнул и вскочил.
Жена «Пелепчучка» тоже крупная женщина, наглая и скандальная, типа мадам Грицацуевой – «на-кася выкуси!». Случалось, она и мама ругались. В одну из таких ссор Пилипчучка толкнула маму, а мама, поскольку была намного слабей, укусила ту за палец. «Выкусила».
Пилипчуки не платили за общее электричество. Соседи их не любили, но в ссоры не вступали.
В комнате за Пилипчуками жила бездетная пара интеллигентов-инженеров, очень скромных – тётя Лиза и её седой муж. В коридоре и на кухне их не было ни видно, ни слышно. У них был первый бытовой телевизор, совмещённый с радиоприёмником, «Ленинград» с маленьким экраном. Иногда они приглашали нас с Ниной и мамой смотреть интересные передачи, кино. Первая передача, которую я смотрел по телевизору, была постановка «Свадьба в Малиновке».
Тётя Лиза хорошо вышивала гладью и крестиками и научила маму. У неё было много ярких вышивок на подушках и в рамках. Приятно было гладить шёлковые листья и лепестки, вышитые разноцветными нитками «гладью». Нитки назывались красивым словом мулине.
Около двери инженеров коридор сворачивал направо в кухню, куда я заходил за все годы только несколько раз. Тёмная, тесная, с закопченным потолком она не привлекала. По стенам стояли две газовые грязные плиты и кухонные маленькие столы жильцов с висящими над ними самодельными посудниками. Ещё висел большой газовый счётчик и рядом пачка наткнутых на гвоздь жировок. Всё было засижено мухами.
В немытое окно почти ничего нельзя было разглядеть. Зимой внизу рамы нарастал толстый слой льда.
В соседней комнате слева от нашей жила странная молодая женщина тётя Варя с несколькими кошками. Она почему-то никогда не ходила в баню, пользовалась только одеколоном. Её комната, все вещи, кошки имели неприятный запах затхлости. Ириски, которыми она угощала, тоже пахли тошнотворно, я их не ел.
В торце за комнатой тёти Вари размещалась тётя Элла, толстая, рыхлая, почти квадратная, всегда в длинном чёрном платье. Она была инвалидом, у неё болели ноги, едва ходила и почти всё время сидела в своей комнате. Продукты ей приносила мама.
Тётя Элла была дочерью «канальского» генерала Раппопорта, иногда навещавшего её, но я его не видел.
Иногда тётя Элла приглашала к себе в гости квартирных детей, т. е. нас с сестрой и Люсю, чтобы угостить пирожными и шоколадными конфетами.
Она всегда сидела в кресле около стола с белой скатертью. Комната её была богато обставлена картинами, статуэтками и китайскими вазами.
На столе блистала большая хрустальная ваза. Тётя Элла разрешала легонько постучать по краю вазы длинным карандашиком. Ваза издавала чудесный звон, долго не затихавший.
Перед дверью тёти Эллы, коридор сворачивал налево к туалету и ванной комнате – тоже тёмной, влажной да ещё и холодной, с оцинкованными волнистыми стиральными досками и корытами по стенам, с висящим на протянутых верёвках сырым бельём.
Около белой эмалированной ванны, висела газовая колонка. Не знаю, вообще мылись ли в ванне или только пользовались для полоскания белья? Тогда принято было постельное бельё кипятить в оцинкованном баке, синить и крахмалить.
Валерик как-то принёс в трёхлитровой банке довольно большую рыбку. Каждый день её выпускали поплавать в ванне, но она прожила недолго.
В середине 80-ых, когда прошло лет 30 после переезда с Самотёки, я захотел побывать на «чердаке».
С замиранием сердца зашёл в наш центральный 4-ый подъезд. Та же лестница, то же деревянное фигурное покрытие перил, по которым можно съехать задом наперёд, не слезая, с 6-го этажа до 1-го.
Наша дверь с номером 71. Дверь открыла черноволосая кудрявая девушка-женщина в халатике, типа Пилипчук. Подумал – неужели Люся? Объяснил, кто я.
Это, действительно, была Люся. Она меня не пригласила войти. Видимо, ей было неудобно пригласить в этот момент. Только поговорив немного, когда я уже спускался по лестнице, она сказала: – Заходите как-нибудь.
Не захотел.
В холодный день поздней осенью один гулял во дворе, больше никого не было. Походил, походил, нашёл железный прут и надумал его зачем-то согнуть, но руками – сил не хватило. Как согнуть?
Надумал подсунуть один конец прута под край стола, стоявшего около песочницы, середину прута наложил на спинку скамейки, а на второй конец стал сильно давить вниз. Давил, давил… вдруг конец прута вырвался из-под стола, перевернулся и бац – мне в бровь. Чудом не в глаз. Заорал, побежал домой.
Мама сказала, что крови вытекла целая кружка. Я крови не видел, но представил себе зелёную эмалированную кружку полную до краёв.
Мама рассказывала – ещё до этого случая какая-то девочка в песочнице разбила мне лопаткой губу, но я это совсем не помню, маленький был.
Сначала в баню меня с собой водила мама, в женскую. Мама окатывала скамейку из шайки и мыла меня тоже из шайки, а я сидел и смотрел. В тусклом свете, среди клубов пара, как в тумане, ходили и сидели на скамейках голые тёти с шайками. Баня удивляла меня непонятно откуда берущимся шумом в ушах. Заткнёшь уши пальцами – тихо, откроешь – шумит.
Потом мы обмывались под душем.
Наконец – нас с мамой и в самом деле чуть ни закидали шайками. Какая-то тётя заругалась на маму, что она привела в баню такого большого мальчика, и он разглядывает голых женщин.
С тех пор я ходил в баню с папой, а он с маленьким чемоданчиком. (Потом в этом чемоданчике хранили ёлочные игрушки.)
Зимой мы всегда возвращались из бани, когда было уже темно. Идём по тёмным заснеженным переулкам чистые, сонные, я только глазами хлопаю.
Во 2-ом Троицком над входом в каменный дом яркая красная вывеска с белыми буквами «АГИТПУНКТ». Весь красный прямоугольник окружён пунктиром горящих лампочек.
Я всегда боялся проходить через тёмную подворотню. Лестница в подъезде тоже едва освещалась. На площадке второго этажа у меня не было сил идти выше. Папа говорил:
– Ну, залезай ко мне на закорки.
Он приседал, я сзади обхватывал его шею, он подхватывал меня под коленки, и я ехал на нём до шестого этажа.
Дома нам говорили – С лёгким паром!
Красота
Дядя Коля с женой тётей Люсей жили там, где и папа с мамой жили до войны – в полуподвале Красного дома, в комнате с окном под потолком. Они познакомились на Ленинградском фронте.
Иногда тётя Люся, увидев меня во дворе, звала к себе в комнату, чтобы угостить чем-нибудь.
Я долго не понимал значение слов «красиво», «красивое», смотрел на то, о чём так говорят, и не видел ничего особенного, отличного от всего остального. Но у тёти Люси увидел в вазочке на этажерке букет сухих, тонко раскрашенных в разные цвета, нежных метёлок ковыля, радужный фонтан. Модное украшение домов.
Заметив, как у меня загорелись глаза, тётя Люся разрешила потрогать почти не осязаемые метёлки, погладить по щеке. И меня осенило – я понял, что значит слово «красиво». Разноцветные метёлки красивые!
На Украине
К «Жене Фёдоровой» приехала знакомая с Украины, но муж не пустил её ночевать, и тётя Паша, дня два пожила у нас. Кажется, она приехала в Москву за мандаринами!
Угощала нас такими огромными яблоками, каких я больше никогда не видел – размером с блюдце. Пригласила к себе летом в Ромны Сумской области.
Летом мы всей семьёй поехали на Украину, папа – только проводить. В Бахмаче делали пересадку, сидели на платформе на чемоданах, ждали поезд. В Ромны приехали ночью… голоса из темноты… фары грузовиков…
Вошли в хату тёти Паши, удивляясь гладкому земляному полу. Она накормила нас вкусными домашними колбасками. Кое-как переночевали, а утром пошли устраиваться в село.
Спали в саду на веранде, по утрам просыпались освещённые ярким солнцем, «…как только в раннем детстве спят.»
Рядом с верандой стояла яблоня, усыпанная небольшими яблоками. Хозяева разрешили есть яблоки этой яблони, сколько хотим, с условием не есть с других яблонь, на которых росли крупные яблоки.
Сад располагался на склоне. Вниз спускалась тропинка до небольшой речки шириной не больше метров трёх и глубиной мне по шейку.
Перед домом вдоль улицы расстилалась широкая зелёная лужайка с колодцем в одном конце и высокой шелковицей в другом.
Дядя Стёпа голый по пояс, с мощными бицепсами крутился на турнике, поднимал двухпудовые гири.
Его жена, наша молодая хозяйка, разговаривая с мамой и другой женщиной около калитки, кормила грудью младенца. Я видел, как он оторвался от груди, и тонкая молочная струйка брызнула на траву.
– Вот что делает! – улыбнулась кормилица.
Откуда-то появился дядя в клетчатой рубашке и мальчик. Они бежали по лужайке, а за ними взлетал воздушный змей. Змей поднимался выше и выше. Я побежал за ними смотреть на змея.
Когда возвращался по траве, то босой ногой наступил на шмеля, и он больно меня укусил. Побежал к маме, хромая и плача.
Валерик рисовал в альбоме акварельными красками. Мама на крыльце стирала, пена поднималась выше края корыта.
А мы с Ниной вышли на улицу, прошли по тропинке, свернули на другую, широкую, улицу, спускающуюся к реке Суле. Пошагали по тропинке вниз мимо заросших травой и увитых вьюнками плетней и заборов. Срывали розовые цветы, которые называли мыльниками потому, что, если их размять, они и, правда, мылятся, как мыло.
На зелёном берегу реки несколько человек загорали и купались. Мы с Ниной страшно боялись русалок и ещё какого-то тонкого «конского волоса», впивающегося в тело. Но всё-таки залезли в воду.
Валерик нарисовал косца на лугу в белой рубашке и с косой, но потом, оказалось, нарисовал косу неправильно. Косец у него махал косой в другую сторону.
Мы с Ниной ходили через поле колосьев туда, где иногда проезжал паровоз. Там увидели одноколейную железную дорогу, разогретую солнцем и очень вкусно пахнущую!
На «нашей» улице на углу чьей-то ограды обнаружили вишню, выставившую ветки над оградой. На ветке несколько тёмно-бардовых ягод. Как не соблазниться? Вскарабкались по забору, сорвать ягоды. На стволе дерева светились застывшие янтарные капли, сгустки смолы, на вид, как ягоды, очень вкусные. Дотянулись и в рот.
Тепло и солнце разливались вокруг.
Вдруг вдоль улицы крики, наполнившие ужасом:
– Тикайты, тикайты. Бешеная собака, бешеная собака!
До нашей калитки далеко, куда спрятаться?
Перебежали на другую сторону к большим деревьям и залезли на нижние ветви. По тропинке, на которой мы только что были, вдоль заборов трусцой бежала рыжая собака с высунутым языком, крутила головой, скалилась. С языка капала густая слюна.
К нашему великому облегчению собака пробежала по тропинке дальше в другой конец села.
Я забрёл на небольшое круглое озеро. На берегах кое-где сидели мальчишки с удочками.
Слева рядом, стоя, ловили рыбу покупными длинными удочками, два парня явно городских, в синих спортивных штанах и белых спортивных шапочках с длинными козырьками. Явно приезжие.
Вдруг к ним, ругаясь, подбежал местный дядька, за дядькой маленький мальчишка, сын, которого обидели приезжие.
– А ну, сматывай удочки и бежи отсюда! – кричал дядька парням.
Те начали отругиваться, крик, перебранка. Разъярённый дядька выхватил из рук бамбуковые удочки и в миг через колено изломал их в куски.
Парни нехотя, с обломками, побрели по берегу, огрызаясь на ходу.
Так я понял, что значит выражение «сматывай удочки».
На Украине продавался, не помню, «Чай в плитках» или «Плиточный чай», толстые плитки очень вкусные, мы их просто кусали и ели. Может быть, это были прессованные сухофрукты.
За две недели до отъезда приехал папа. Как раз созрели ягоды шелковицы. Всё дерево было усыпано тёмнокрасными и чёрно-синими осыпающимися ягодами. Кажется, кроме нас их никто не ел. Мы, конечно, привели папу к шелковице наесться ягодами.
Через какое-то время, папа обнаружил, что пальцы испачканы чернилами. Удивился, не мог понять, как и где испачкал?
– Странно! Ничего не писал, а руки почему-то в чернилах?
Не знал, что чёрные ягоды шелковицы красятся.
Мы повели его в низ сада, он купался в речьке, ему было выше пояса, и он переходил на другой берег, на зелёный бугор.
Папа умел плести корзины. Заросли лозы он нашёл на берегу Сулы и ходил туда в своей солдатской гимнастёрке. Один раз взял меня с собой. Пришли, он вытащил из кустов недоплетённую корзину, нарезал перочинным ножиком прутья и сел на траву, скрестив ноги – плести. Я вертелся вокруг. Обнаружил норку земляных муравьёв, взял, лежавший около папы без дела ножик и стал ковырять им муравьиную норку.
Ковырял, ковырял… раз – и у меня в руке осталась только ручка со штопором. Мне было очень жаль, я чуть ни расплакался.
Папа огорчился, но не заругался, сказал только:
– Эх!..
Папа решил на автобусе съездить в город и взял меня. Мы гуляли по аллеям тенистого парка, вышли к футбольному полю, окружённому высокими каштанами, и шли под густыми кронами. На поле бегали футболисты в красной и синей форме. Вдруг мяч выкатился с футбольного поля и чуть-чуть не попал в меня. Папа поднял его и кинул подбежавшему футболисту.
Когда думаю об Украине, представляется лунная ночь с русалками и белыми хатами. Наверно это от искусства, Гоголя, Куинджи, Шевченко…
«…сад вишневый коло хаты…»
Чердак настоящий
Тёмным осеним ветреным вечером комната на Самотёке. Тревожное состояние буквально ощущалось в воздухе. Я смотрел в окно, над тёмным двором раскачивались фонари-шляпки. Под ними беспокойно качались световые круги. В чёрном пальто на асфальте лежал человек. Из подъезда выбежала мама:
– Ваня!..
У папы случился, как говорила мама, «припадок», следствие ранения в голову. Мама тащила папу, словно пьяного, на 6-ой этаж. Папа бормотал что-то невнятное.
С мамой мы приехали в госпиталь навестить папу.
Солнце, весна. В парке молодые деревья, дорожки. На дорожках много дядей-фронтовиков в полосатых пижамах, некоторые на костылях. Один ехал в коляске с ручным приводом – длинной ручкой-рулём.
Мы встретили папу в пижаме, но не стали гулять. Папа торопился в палату слушать последние известия и взял меня с собой, а мама осталась на улице.
В палате никого не было, как только вошли, папа подсел к столу, взял чёрный наушник и стал слушать. Недавно началась война в Корее. Я ничего не делал, смотрел на папу, радовался и больше ничего не хотел.
В нашем коридоре на «Чердаке» кроме входной двери в квартиру и дверей в комнаты была ещё одна дверь – железная. Она вела на настоящий чердак под крышей и не запиралась на замок. На чердаке сушили бельё, постельное в основном. Сохнувшее на холоде оно приятно пахло свежестью, мама это очень любила.
Летом мы, дети, иногда забирались на чердак. Летом, то есть поздней весной и ранней осенью потому, что всё лето каждый год мы, дети, проводили за городом. Полутёмный чердак, если бы мы читали Библию, сравнивали бы с чревом кита, в котором оказался Иона, а толстенные брёвна-балки и стропила – с его рёбрами.
Через слуховое окно мы вылезали на односкатную железную красно-коричневую крышу – тёплую, погромыхивающую. Крыша не крутая, но пробирались по ней, согнувшись. Встать в полный рост страшно – коленки подгибались, не за что ухватиться – вокруг только небо. Нижний край крыши ограждала хилая загородка из тонких хлипких железяк, туда не подходили. На самый верх карабкались на четвереньках.
Верхний край огораживал только невысокий бортик ниже моих колен. Перед бортиком оборачивались и садились на крышу. Какой просторный вид открывался перед нами над Лаврскими переулками. До самого горизонта крыши, крыши и кое-где верхние окна домов. Слева кусочек Самотёчного бульвара, Уголок Дурова. Правей за огромной площадью звезда театра Красной Армии с башенкой и флагом над ней.
Мы сидели на крыше, словно на летящем ковре-самолёте.
Я разворачивался и с замирающим сердцем ложился грудью на бортик края крыши, высовывая голову во двор. Это страшно, кажется, что голова может перевесить всё тело, и потянет вниз. Зато виден весь двор, его план с центральным проездом, квадратами газонов и проходами к подъездам правого и левого крыльев. Из окна тоже виден почти весь двор, но не то ощущение.
О наших вылазках на крышу Нина, спустя много лет, написала высокое стихотворение:
- Стыдились чистой бедности своей,
- и мама над иглой лицо склоняла,
- чтоб мы других не хуже, не бедней,
- всё билась и старье перешивала.
- И двери, двери – коридор тех лет
- из всех примет – лишь бережливый свет —
- гонять здесь можно на велосипеде…
- И только вот – велосипеда нет
- (и к лучшему – не злобились соседи).
- Из коридора – дверь, за ней чердак —
- мы с братом пробираемся на крышу!
- И наш испуг – внезапной мышью.
- Не бойся, говорю, полезли выше.
- О ветер,
- платье плещется как флаг!
- А лужа – там внизу – как незабудка,
- и мы не узнаем знакомых мест…
- Все крыши – ниже, весело и жутко,
- и вровень только – искривлённый крест.
Я своей «бедности» не стыдился, поскольку не знал, что это такое. А крест – на сохранившейся при большевиках стоящей рядом церкви Святой Троицы.
Иногда мне снились сны, как я машу руками, словно крыльями, и летаю в пространстве нашего двора над асфальтом, над газонами. Иногда, спасаясь от кого-то, взлетаю выше, выше.
Потом, может быть даже в другой квартире, мне три раза снился один и тот же сон. Я высовываюсь за край крыши во двор, голова перетягивает, я сползаю за бортик и падаю вниз. Перед самой землёй просыпаюсь от страха с облегчением, что это сон.
Свежее майское утро перед жарким днём. Асфальт во дворе тёмный, мокрый – уже полит из шланга дворником в белом фартуке.
Сегодня особый день, торжественный. Валерик сдаёт экзамен в школе. Он подложил под пятку пятак для везения. Мы сказали ему:
– Ни пуха, ни пера!
Смотрим в открытое окно, как он в белой рубашке идёт через двор, в конце двора оборачивается и машет нам рукой.
Брат Валерик был умным и не по летам серьёзным мальчиком. Я узнал его, когда ему было лет десять-одиннадцать. Несколькими годами позже мама спросила его:
– Кем ты хочешь стать?
Он был отличником, и ответил:
– Хочу стать профессором.
Не уточнил, каких наук, не важно. Это выглядело смешно в устах подростка, но и указывало на стремление к знаниям, науке, учёности.
Нет никакого сомнения, что стал бы…
В нашей средней части дома было два полуподвала, справа хранились вещи коммунальной службы, а слева жила пожилая сухощавая, как будто высушенная как вобла, тётя Мотя. Она работала уборщицей и приходила к маме поговорить, посплетничать. Мама в это время всегда шила или вязала и только поддакивала тёте Моте. Так она общалась и с другими незваными гостями.
Тётя Мотя как-то странно произносила слова. Словно камешки во рту мешали словам выйти изо рта. Повзрослев и услышав говоривших по-русски молдаван, понял, что, видимо, тётя Мотя была молдаванкой.
В речах гостей встречались непонятные слова: аферист, агент (ударение на первом слоге), управдом, комендант, монтёр (так называли электриков), в детстве такая куколка была, а выросла…и что стало?
В разговорах с заказчицами сама мама то и дело произносила непонятные красивые слова: габардин, мадаполам, батист, штапель, вельвет, маркизет, кокетка, фельдиперсовые…? кажется, чулки.
По очереди, и никогда вместе, приходили сестра папы Лида и брат Павлик.
Лида была на фронте санитаркой. Павлик в войну, ещё подростком, на каких-то тяжёлых работах заболел туберкулезом. Он работал фотографом и часто нас фотографировал новейшим фотоаппаратом ФЭД.
После войны они вернулись к своему отцу, жившему с новой женой в однокомнатной квартире на Земляном валу. Спали на кухне и в коридоре, ссорились с отцом и между собой.
Они жаловались маме друг на друга и на своего отца, нашего деда. Всё так же за шитьём мама с пониманием соглашалась с обоими, поддакивала и тому и другой.
Лёня Васенев
Не знаю, папа или Валерик купил серию научно-популярных книг Якова Перельмана. Я сам с удовольствием сначала рассматривал в них картинки, а потом, подрастая, читал.
Теперь я больше крутился не около папы и мамы, а около Валерика, около его вещей и книг, спрашивая, и без спроса. У него был циркуль «козья ножка», с помощью которой можно было рисовать большие и маленькие круги, вставив карандаш любого цвета. У него была металлическая ручка, из концов которой доставались и вставлялись в ручку с одного края держатель пера, а с другого – держатель короткого карандаша.
Карандаши он очинивал опасной бритвой, вставлявшейся в специальный держатель. У него был транспортир, линейка, угольники. Он показывал разные фокусы-покусы из физики, механики и прочего.
Валерик дружил с ровесником Лёней Васеневым с третьего этажа. Лёня жил с отцом, матери у него не было. Говорили, что Лёня приёмный сын. Отец, видимо, какой-то чин, Лёню, белобрысого симпатичного приветливого мальчика, любил.
У Лёни были хорошие игрушки – большая машина-грузовик, большой строительный конструктор в деревянном ящике с кубиками, арками, крышами, башенками и прочими деталями. У него были оловянные солдатики, бегущие, стоящие лежащие с пулемётом. Пушка, как настоящая, она стреляла маленькими снарядами, по дому из кубиков и оловянным солдатикам…
У Лёни был фильмоскоп и диафильмы – волшебные яркие картинки на экране. Тепло от фильмоскопа и какой божественный запах плёнок с диафильмами я чувствую до сих пор. Ещё мне навсегда полюбились запахи кожаных футляров биноклей и фотоаппаратов.
Один раз Лёня пригласил Валерика и меня смотреть по телевизору фильм «Чапаев». Мне понравилась офицерская «психическая атака», верней сухой ритм барабанов. Я его сразу запомнил и воспроизвёл, и до сих пор могу воспроизводить его пальцами по столу.
Ещё мы смотрели «Белеет парус одинокий». Валерик дома вспоминал и смеялся тому, как кухарка бросила в печку патроны, они взорвались, и разметали по плите вермишель.
У Лёни Васенева был подростковый велосипед. Лёня или Валерик иногда сажали меня на раму, прокатить. Я держался за холодный руль, попу резала труба рамы, ноги свисали и чуть ли ни попадали в спицы переднего колеса. Затылок чувствовал тяжёлое дыхание Валерика. Мы выезжали из двора налево, в проезд между крылом нашего дома и оградой территории детского сада на площадку между Красным домом и кельями детского сада, там разворачивались.
Когда было скучно во дворе, я нередко околачивался за нашим домом на площадке между Красным домом и сохранившимися красивыми двухэтажными светлыми палатами Подворья с маленькой колоколенкой без колокола. Дальнюю часть занимал детский сад, а часть, выходившую на площадку, занимали жильцы. Перед входом сохранилась дорожка из больших каменных плит, и вокруг на площадке можно было найти красивые камешки.
Кроме того, тут же был в ограде вход в сквер детского сада. По воскресеньям большая территория детского сада пустовала, и мы с папой там гуляли. Папа сделал мне маленький лук из ветки новогодней ёлки и стрелу.
Я приставал к папе:
– Покажи, как ты бегал на войне.
Он отказывался, но всё-таки смешно, понарошке, пробежал немного не по-настоящему, а семеня ногами и не вынимая рук из карманов пальто.
На лето сняли «дачу» в деревне Шереметьевка по Савёловской дороге. «Дачей» было маленькое помещение в сараюшке около дома хозяев. В нём помещались только две кровати и маленький столик. Но для меня это жильё не было неудобным.
Нину на первый месяц почему-то отправили в лагерь, ей было всего семь лет. А в сараюшке жили мама, Валерик и я. Папа приезжал в субботу вечером.
Валерику там было интересно, он подружился с сыном хозяев, у него была старая винтовка. Он показывал её нам, большую и длинную. Вся деревня была покрыта травой-муравой (горцем), и на ней кое-где лежали круглые мины коровьих лепёшек. Один раз приятель Валерика заговорился с ним и попал босой ногой в свежую лепёшку – «вляпался». Мы все трое смеялись этому. Но мне смешней было само смешное слово «вляпался».
Взрослые ходили в лес, собирали грибы и ягоды, причём мама в лес надевала папину фронтовую гимнастёрку без ремня. (Очень жалею, что когда её ветхую выбросили, не сохранили металлические пуговицы со звёздами)
Чем там занимался я, совсем не помню.
На фото держу в каждой руке по чёрному деревянному пистолету, которые сделали Валерик с приятелем.
В луже на лесной дороге Валерик показал мне живых «гвоздиков», вероятно, личинок комаров. Они и впрямь были похожи на маленькие гвоздики, висели в воде шляпками вверх. Или начинали дрыгаться, изгибаться, а потом опять замирали прямые, как гвоздики.
В одну из суббот папа привёз из пионерского лагеря семилетнюю Нину, очень нервную, внутренне раздёрганную. Наверно, ей, попавшей из тёплой семейной обстановки в лагерь, было очень плохо, одиноко. Может быть, даже её там обижали? Она была совсем маленькой, худенькой.
Вечером мы ужинали в сараюшке при свете керосиновой лампы. Нина была весёлой, радовалась, оказавшись со всеми родными. Так ёрзала на табуретке и болтала ногами, что опрокинула стоявшее под столом ведро с солившимися грибами.
Папа вспылил и сильно обругал её «росомахой», «растяпой», у которой «всё не слова богу!», «не как у девочки»…
Нина замерла, закрыла лицо руками и тихо заплакала. Так неожиданно радость и смех превратились в горькие слёзы. Не виделись почти месяц, и вот…
Мне было очень жаль Нину.
(Этот случай в Шереметьевке не тускнеет, как будто только что произошёл. Слёзы наворачиваются.)
Утром папа курил, сидя около раскрытой двери сарая. Я залез к нему на колени.
– Пап, дай попробовать папироску.
– Зелёный ещё, пожелтей немного.
Но дал мне в рот, как соску, мокрый плоский конец папиросы. Я не догадался вдохнуть в себя.
В Шереметьевке почему-то мама больно стригла ногти на ногах, больно подрезала уголки ногтей.
Хозяева сушили малину на крыше сарая, на противнях (мы говорили на протвинях).
И ещё помню картинку невероятную – воскресными вечерами хозяева и их гости на травяной площадке около дома играли в настоящий крокет. Деревянными молотками загоняли деревянные шары в проволочные ворота.
Московский двор
Наступила пора, когда большую часть дня я проводил во дворе. Мне кажется, атмосфера московского двора тех лет хорошо передана в фильме «Судьба барабанщика».
Моя жизнь во дворе началась, конечно, с песочницы.
Осенним вечером я сидел в песочнице и что-то строил из песка. Вдруг – бац, сзади удар по голове. Оглянулся – сестра смеётся, в руке какой-то облезлый веник. Любила, как это называл папа, победокурить.
Я вскочил, бросился на неё, но Нина была старше меня, проворней и бегала намного быстрей. Вмиг она уже у ворот. Я – к ней, но её и след простыл.
Вернулся в песочницу, увлёкся, заигрался, вдруг – бац! Опять удар сзади веником по голове и смех, бросился за ней, не мог догнать.
Это повторялось ещё три или четыре раза, до темноты. Я готов был её разорвать, но догнать не мог.
Зажглись висевшие над двором фонари, похожие на шляпы пастырей, и я поплёлся домой, накликая на Нину страшные кары.
На тёмной лестнице она меня догнала, потащилась за мной.
Мне так хотелось ей отомстить!
– Всё скажу папе с мамой!
– Вить…
– Всё скажу папе с мамой!
– Вить, не говори папе с мамой…
– Всё скажу!
– Вить…
– Скажу!
Так добрались до нашего 6-го этажа, и я застучал ногой в дверь, до звонка не доставал.
Дома злость вдруг как-то мгновенно улетучилась, и Нину стало жалко. Не сказал.
Весной и осенью в хорошую погоду дворовые игры детей всех возрастов сменяли одна другую. Шум. Гам.
Для участия в играх я ещё был мал, только наблюдал.
Дети разного возраста собирались в кучку. Большая девочка подкидывала вверх мяч и кричала: – «Штандар» – все разбегались в разные стороны и исчезали. Потом бегали туда-сюда, подбегали к одному месту стены, опять убегали. Что происходило дальше, не знаю. Или это уже прятки? Когда подрос, в эти игры уже не играли.
Часто старшие девочки устраивали показательные выступления – соревнования по фигурному прыганию через верёвку. Не через прыгалку для одной, а через длинную, метров пять, которую крутят двое. Крутят за концы верёвки так, чтобы внизу она пролетала над самой землёй, а вверху выше головы.
Девочки по очереди ловко вскакивают в вертящийся круг и подпрыгивают, когда верёвка оказывается внизу. При этом делают разные упражнения, прыгают то на одной, то на другой ноге. То поворачиваются в разные стороны. И выскакивают так, чтобы не задеть верёвку. Вскакивает следующая, а иногда сразу двое и прыгают вдвоём.
Перед некоторыми играми выбирают ведущего, а для этого произносят одну из детских считалок:
- – На золотом крыльце сидели – царь, царевич,
- король, королевич, сапожник, портной —
- кто ты будешь такой?
- – Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана – буду резать, буду бить, всё равно тебе водить!
- – Ты – слуга, подай карету, а я сяду и поеду.
- Я поеду в Ленинград покупать себе наряд.
- – Я садовником родился, не на шутку рассердился,
- Все цветы мне надоели… кроме – …
- – Из-под горки катится голубое платьице…
- – Вы поедете на бал? «Да» и «нет» не говорите…
Я не уверен, что всё это считалки. Может быть, сюда затесались какие-то игры. Например, сидят девочки на лавочке в рядок, держат перед собой сомкнутые ладони. Одна девочка подходит к каждой, а в сомкнутых ладонях держит какой-нибудь маленький предмет и говорит:
– Колечко, колечко, приходи на крылечко…
Касаясь ладоней девочек, она незаметно передаёт одной из них то, что держит в руках… Потом кто-то отгадывает, кому передала. Что-то в этом роде.
Меня стали брать в некоторые игры, в испорченный телефон, даже в казаки-разбойники, но я до сих пор так и не знаю, в чём заключается суть и выигрыш? Знаю только, что надо передать точно или соврать… Моё участие в казаках-разбойниках состояло только в том, что мне девочка сказала «беги!» и потащила в узкий проход между внешней стеной западного крыла нашего дома и высокого забора. Как я потом узнал, там был строительный склад. Не знаю, зачем надо было куда-то бежать, как закончилась игра. Но там, в промежутке между стеной дома и забором, оказалась масса интересных вещей.
Там всегда была тень, росла сорная трава, и в ней валялись полусгнившие щепки, куски угля, обрывки рубероида и бумаги, обломки кирпичей, осколки бутылок и стекла, пластинки шифера, камни, ростки кустов и прошлогодние листья…
Не помню, чтоб после этого я участвовал в каких-то играх, я жил сам по себе, наблюдал. Может быть, боялся дразнилок: – Ти-ли, ти-ли тесто, жених и невеста… Обманули дурака на четыре кулака…
Девочки во всём подражают подаренным куклам, а куклы тогда были все пухленькие, соответственно – и девочки.
Когда в траве появлялись зелёные бутоны одуванчиков, то внутри их оказывались желтки и белки для яичницы в детских мисочках. А из распустившихся цветов плели жёлтые венки.
В укромных уголках газонов девочки и мальчики устраивали «секреты» – тайно выкапывали ямки величиной с ладонь и больше, выстилали «золотцем» (фольгой), раскладывали фантики, цветы, разноцветные стекляшки, накрывали куском прозрачного стекла и присыпали землёй. Потом приводили только близких друзей показать свою красоту. Осторожно отгребали землю в середине стекла, и в окошке действительно было что-то красивое. Опять закрывали землёй. Спорили, у кого «секрет» красивей?











