Читать онлайн Перебор Пустоты и гармония биполярного мироустройства
- Автор: Михаил Докучаев
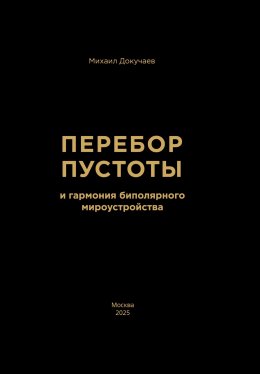
© М. Докучаев, 2025
© Издательство «Наш мир», оформление, 2025
Перебор пустоты и гармония биполярного мироустройства
Фундаментальная наука вплотную сошлась с теологией в понимании того, что наш мир сотворен из ничего, однако ни одна из сторон пока не способна переступить через порог небытия. Одних не пускает Создатель, у других пока не все сходится с расчетами и результатами экспериментов.
Держась научных наработок, попробуем подойти к этой проблеме не через формулы и графики, и конечно же не через постулаты креационизма, а посредством очевидных аналогий и коррелятов. Будем исходить из допущения того, что мир рожден по единым законам и технологиям «сотворения», переносящим в него из пустой материнской первоосновы ее симметрию и гармонию вместе с предопределяемыми ими законами сохранения и принципами детерминизма. Признавая при этом абсолютное безразличие для сложившегося мироустройства то, как мы назовем его «творца» – Природой, Провидением, Абсолютным Духом, Пустотой либо чем-либо еще. Попытаемся рассмотреть эволюционную востребованность всех известных нам форм материальности исходя из их изначального небытийного происхождения, внимая оккамовскому призыву не множить без надобности сущности, равно как и соломоновому напутствию не наращивать излишним знанием свои скорби.
Предлагаемое исследование, изложенное порой в слегка ироничной подаче, откроет совершенно неожиданные смыслы материализационных процессов, проявляющихся вокруг нас, в т. ч. в живой природе, социуме и когнитивной сфере. В конце концов, что нам мешает из любопытства, не выходя за границы научности и здравого смысла, пошарить во мраке пустоты? Неспешно и осторожно, чтобы ненароком не потревожить какую-нибудь мирно спящую там черную кошку Конфуция. Или не спугнуть затаившегося в ожидании своего непредсказуемого исхода кота Шредингера. И, быть может, мы обнаружим, что в этой пустоте сокрыт целый мир. Или даже бесконечное множество миров, один из которых – наш, любимый.
Дисклеймер: текст подготовлен с использованием естественного интеллекта с допущением свойственного ему эволюционного несовершенства.
Пустословие (вместо предисловия)
«Лучше уже сочинять новый вздор, чем повторять старый», – заявляет Д. Менделеев в одной из своих последних работ в безуспешной попытке постичь природу мирового эфира [1], и столь откровенный методологический подход мастодонта науки вселяет уверенность в наших начинаниях.
Проблема космогенеза будоражит умы многих, поскольку без постижения реальной первоосновы, причинности и смысла возникновения универсума невозможно понять сущность и резон нас самих и всего, что нас окружает – из чего и для чего «все это» создано?
Безусловно, данный вопрос должен решаться с передовых позиций астрофизики и квантовой механики, с высот заоблачных обсерваторий и из глубин адронных коллайдеров. Должен, но… не решается. Предлагаемые научные гипотезы поражают витиеватостью формул и филигранностью расчетов, однако не дают внятных объяснений того, что действительно бередит ищущие умы. Теоретики мироустройства уперлись в точку космологической сингулярности, как, скажем, античные мудрецы в первичность воды или огня либо в неделимость атома. А что за всем этим стоит?
Молчит наука, косвенным образом подтверждая слова Л. Толстого о ее бесполезности в разрешении главных задач человечества, поскольку «без науки о том, в чем назначение и благо человека, не может быть никакой науки» [2]. Прав Фауст, пергаменты жажды не утоляют. Да и путь к Творцу изрядно истоптан, однако покуда никого не привел к ответам на искомые вопросы. И все это крайне печально. Ведь, согласимся, каждый пришедший в этот мир, прежде чем оставить после себя, выражаясь определением Ле-Дантека, «минеральное воспоминание», имеет право найти приемлемые для собственного удовлетворения ответы на самые важные, пока неразрешенные вопросы: Как действительно возникла вселенная? Каким образом зародилась жизнь? Какова «механика» сознания? По каким законам развивается история человеческого общества? И еще для чего пришел сюда ты сам? Зачем ты был здесь? Что тебе здесь было нужно?
И действительно, постижение мироустройства, основанное на понимании реальности, всегда сводится к поиску смыслов. «Cui prodest (Кому это выгодно)?», – ставят во главу угла вопрос юристы, пытаясь докопаться до корней криминала. «Quid punctum?» – именно так должен формулировать конечную цель своих размышлений ищущий истоки мироздания. – «В чем его смысл?», «Чем оно востребовано», «Для чего оно необходимо?»
Современная космология и наука в целом по многим позициям уже вышла на уровень понимания того, КАКИМ ОБРАЗОМ осуществляются те или иные процессы в микро- и макромире, по некоторым из них – В СИЛУ ЧЕГО они реализуются, но ни по одной – ДЛЯ ЧЕГО ВСЕ ЭТО ПРОИСХОДИТ? Ведь даже религию авторитетный American Heritage Dictionary определяет как совокупность верований не только о причине и природе существования вселенной, но также и о ее цели [3], впрочем, также не предлагая на эти вопросы внятных ответов. Телеологическая непроясненность, проблема смыслов не подпускает нас к реальному постижению окружающего мира, а значит и постижению нас самих как его части.
Но ведь бессмысленность может быть присуща только тому, чего нет в реальности, т. е. небытию, пустоте. Любое существование чего-либо, т. е. любая отличная от небытия материализованность, должна иметь свой вполне четко выраженный экзистенциональный смысл, свой онтологический резон. В этом, по сути, и заключается принципиальное отличие того, что есть, от того, чего нет. Однако разобраться в вопросах сотворения бытия пока оказывается не способна ни теология, ни наука. Разномастные полигисторы обходят стыдливым молчанием важнейшие узлы мироздания, включая вопросы возникновения материи, жизни и разума, что де-факто превращает их «теории всего» в пустословные «теории ничего». И не проще ли тогда действительно взять за основу реальную «теорию ничего», которая как раз бы и объяснила это «все», как бы это парадоксально не звучало? Не разумнее ли, попросту выражаясь, принять концепцию возникновения мира из пустого субстрата, уже хотя бы потому, что только небытие в отличие от всего (абсолютно всего!) остального не требует объяснения причин своего происхождения и существования. Ведь иной основы, пусть и виртуальной, от которой можно было бы оттолкнуться в своих рассуждениях, у нас попросту нет.
Отсюда неудивительно, что проблема исходной небытийности оказалась в фокусе внимания не только теологии (прежде всего, креационизма), но и передовой науки. Так, А. Эйнштейн, а вслед за ним и С. Хокинг предрекли возможность существования энергии как фундаментального свойства пустого пространства, Э. Трайон выдвинул гипотезу возникновения вселенной в результате флуктуации вакуума, Я. Зельдович обосновал теоретическую возможность образования мира из пустоты, А. Виленкин анонсировал идею квантового туннелирования материи из ничего с ее последующим инфляционным расширением… Обрела признание т. н. теория Большого взрыва, которая, с одной стороны, недвусмысленно указала на конечность нашего мира, определив начальную по времени точку его образования, а с другой высветила не менее глобальный, хотя и весьма кощунственный вопрос: «Если до этого момента ничего не было, то что же там так шандарахнуло? Какая-такая неведомая субстанция смогла столь масштабно сдетонировать? И из чего образовалась она сама?»
Интерес к «пустой» теме продолжает экспоненциально нарастать, находя все новых своих приверженцев. Наряду с научными изысканиями небытийная проблематика оказалась привлекательной и для целого ряда философских исследователей, в т. ч. отечественных.
Среди работ последних отметим: «Трактат о небытии» Арс. Чанышева [4]; «К вопросу о понятии «ничто» А. Селиванова [5], «Небытие как виртуальное основание бытия» Р. Нуруллина [6]; «Философия ничто и нулевого мира» Г. Легошина [7]; «Небытие и бытие сознания в ранних формах индийской, китайской и греческой философии» Д. Родзинского [8]; «Метаморфозы бытия и небытия: опыт построения современной онтологии» М. Кагана [9]; «Ничто: введение в нигилософию» М. Бойко [10]; «Диалектическое решение проблемы небытия в истории древнегреческой философии» А. Богомолова [11] и др. Попытка системного подхода к вопросам небытийной проблематики предпринята Н. Солодухо в его монографии «Философия небытия»[112].
На данном фоне представляется вполне позволительным, игнорируя мудрое наставление Плиния Младшего «лучше ничем не заниматься, нежели заниматься ничем» [13], предложить иной подход к проблеме «ничтожности», по которому автор еще в конце (О. Боже!) прошлого тысячелетия имел переписку с Арс. Чанышевым и журналом «Вопросы философии». В его основу было предложено положить, помимо здравого смысла: с одной стороны – принцип соответствия, т. е. непротиворечивости базовым принципам науки; с другой – экстраполяцию наблюдаемых в природе общепризнанных тенденций и закономерностей на те области знания (а точнее не-знания), объяснение которых на данный момент не может быть подтверждено имеющейся доказательной базой. Поскольку любые скрытые причинноследственные связи в механике мирового развития всегда находят свое проявление в очевидных и понятных для всех аналоговых параллелях. Руководствоваться разумом и здравым смыслом нам предписывает сама природа именно в силу того, что они, – эти самые разум и здравый смысл, – сами по себе есть продукты эволюции мира, ее производные. Они сформированы в рамках общих законов и принципов мироздания и превнесены в сознание людей с тем, чтобы вести их общеэволюционным путем, не позволяя сбиваться на тупиковые или малоперспективные тропы человеческого соблазна либо недоумия.
Говорят, величайшие истины – самые простые и понятные, и это действительно так. Сами ученые шутят: даже не обладая гением Лобачевского, можно увидеть, что параллельные аллеи (или рельсы) сходятся на горизонте. А версия бесконечно-вечной статичной вселенной просто, но весьма убедительно опровергается известным парадоксом Генриха Ольберса о темноте ночного неба.
В конечном счете, неважно, кто, каким образом и с помощью каких средств пытается отыскать дорогу в сумрачном лесу. Важно ее найти. А еще важнее – отыскать ее предназначение, ее резон. Ведь отсутствие смысла сводит к никчемности все попытки отыскания нашей собственной идентичности в окружающем мире.
В данной публикации предлагается краткая версия данного подхода к осмыслению вопросов мироустройства без каких бы то ни было претензий на истину. Подхода, который лично для автора (и возможно только для него) просто, внятно и логично раскрывает востребованность и принципы работы вселенского механизма мироздания, объясняет причинность возникновения жизни и формирования разума, а также укладывает историю социума в единый процесс эволюции природы.
Изложение полного варианта исследования по указанным вопросам будет возможно лишь тогда и лишь для тех, когда и для кого данная проблематика возбудит реальный интерес.
Автор желает приятного чтения и приглашает к обсуждению.
Часть 1. Ничтожность начал
Глава 1. Жажда небытия
Horror vakui – всеобъемлющий страх пустоты, неизменно перерастающий в любовь, надежду и истинную веру, основанную на научных принципах. Пустота подсознательно очаровывает человечество и овладевает его разумом. Все дороги – и дольние, и горние – ведут из ниоткуда в никуда. Так что же такое это Ничто?
– «Из ничего ничего не возникает», – гласит известная максима, еще в античности введенная в оборот то ли Парменидом Элейским, то ли его учеником Мелиссом Самосским, а затем подхваченная их философствующими собратьями. Адепты этой прокрустовой формулы наслаждаются ее простотой и кажущейся очевидностью, полагая, что она идеально демонстрирует суть многочисленных законов сохранения.
– Ну и откуда же тогда появилось «это все»? – зададимся мы вечным и наивным вопросом. Уподобляясь Вольтеру, мы пытаемся отыскать творца этого огромного механизма, в коем каждый из нас – еле заметное колесико.
– Материя возникает из самой себя и выступает источником движения самой себя, – глубокомысленно отвечают нам оппоненты, шурша страницами учения, всесильного, по их мнению, в силу его верности. И мы едва сдерживаем ухмылку, вспоминая барона Мюнхгаузена, вытаскивающего самого себя за волосы из болота вместе со своим конем.
Нас засыпают мудреными формулами и заумными доказательствами автогонии мира (так К. Циолковский называет процесс сто самозарождения), но здравый смысл подспудно возвращает нас к кощунственному скепсису. – Нет, не поедет телега без лошади.
«Из ничего ничего не происходит», – слышим мы на каждом шагу. Нас уверяют, что основа вечного движения – единство и борьба противоположностей. Но какой Творец разрывает монолит единого на враждующие полюса? И что является источником их противостояния?
Мы отвергаем идею вечного двигателя (даже при допущении первичного внешнего толчка) в силу ее противоречивости столь милым нам законам сохранения, так будем же последовательными до конца – любое движение материи не может не быть конечным. По причине энтропии любая материальная система в конечном итоге разупорядочивается и утрачивает изменчивость, а значит ничтожится и сама материя, оставляя после себя лишь тайну своего изначального возникновения. Так что же там за краем бездны?
Horror vakui – таково название синдрома, свойственного всем нам, – страх пустоты, боязнь переступить за пределы материального мира. Впрочем, время и разум врачуют и это. Известно ведь, что от ненависти до любви лишь один шаг. «Ничто» страшит, но одновременно с безумной страстью влечет нас в свои объятия, манит заглянуть в пропасть небытия. Где же еще искать ответ на наши сакральные вопросы, повисшие в безмолвии, как ни там?
Но не одиноки ли мы в этих, во всех смыслах пустых и никчемных, исканиях? Не смешны ли мы «в миру» в наших блужданиях в поисках небытийной первоосновы в глазах здравомыслящего человечества? Быть может, в сотворение мира из пустоты верит только неразумное и наивное меньшинство?
Ан, нет, возражения несогласных с таким подходом не похожи на глас вопиющего в пустыне. Посмотрим, кого именно следует причислить к этим «немногим верящим», а точнее – «верующим». Начнем с тех, для кого пустой субстрат является краеугольным камнем их мировоззрения, основой основ их системных представлений об универсуме.
Во-первых, это приверженцы даосизма, поддерживающие воззрения Лао-цзы, а также адепты канонов китайских традиционных религий («Сущее исходит из несущего». «Все возникает из Небытия и, совершив цикл своего развития, растворяется в нем» [1]). Таковых в мире сотни миллионов.
Согласно концепции даосизма, изначально была пустота – У-цзи (неизвестное), рождающая две основные формы энергии: Инь и Ян. Комбинация и взаимодействие последних образуют ци – энергию, из которой возникает все, что существует.
Во-вторых, представители буддизма с его учением о шуньяте («божественной пустотности»), а во многом и индуизма. Это новые сотни миллионов, во вселенной которых, по определению Арнольда Тойнби, даже «боги в обыденном человеческом понимании автоматически сводились к небытию» [2].
Попутно отметим, что помимо представителей древнейших в мире культур, в числе которых мы уже упомянули китайскую и индийскую, воззрений о сотворености мира из небытия придерживались и давно исчезнувшие американские цивилизации ольмеков и майя.
В-третьих, к вышеуказанной категории верующих примыкают адепты суфизма – исламского течения с представлениями о мире как «универсальной пустоте». Сегодня число «почитателей шерстяных одеяний», пребывающих фактически во всех исламских странах (и не только), также исчисляется многими миллионами.
Достаточно? Однако мы упомянули лишь те, выражаясь языком Льва Гумилева, «мировые философские системы с миллионами поклонников, которые считают вакуум своим идеалом» [3].
Но нет, этим «жалким миллиардом» мы не ограничимся, поскольку пока лишь перечислили только тех, кто целенаправленно закладывает пустоту в основу конструкции своей идеологии. Наряду с ними существует множество таких, для которых пустая первооснова – не прямая, но косвенная, естественным образом сопутствующая и сознательно принимаемая составная часть их миропредставления.
Дабы не погрешить против «истины», к данной категории правильным будет причислить всех христиан, а их – треть населения Земли, для которых центральной догмой мирообразования выступает «creatio ex Nihilo» – «сотворение из ничего», посредством которого Создатель своим волевым актом переводит всё сущее из состояния небытия в состояние бытия («productio totius substantiâ ex nihilo sui et subjecti»). Данное положение не только прописано в Библии, но в 1215 г. было дополнительно закреплено специальным постановлением IV-го Латеранского собора римско-католической церкви, проведенного под кураторством папы Иннокентия III [4]. При этом и сам Творец в христианской религии предстает как некто «ни от мира сего», «с того света» неявного бытийствования. Ведь по свидетельству самих евангелистов: «Бога не видел никто никогда» [5].
К христианам присоединим, помимо уже упомянутых суфиев, и всех остальных мусульман – составляющих почти четверть жителей нашей планеты, по убеждениям которых Аллах за шесть дней «извлек мир из абсолютного небытия». А также большинство конфессий иудаизма [6], насчитывающих миллионы адептов, в т. ч. каббалистов с их «Эн-Соф» («Беспредельным Ничто») и хасидов с присущей им концепцией «Йеш ме-Айин» («Сущего из ничего»). А вслед за ними схоластов, верующих в «Божественный мрак», и представителей многих иных религиозных направлений «ничтотворительной» направленности.
На creatio ex nihilo также указывает ряд фрагментов из Книги пророка Исайи, Книги Питчей Соломоновых и Псалмов, Книги пророка Амоса и неканонического еврейского текста Второй книги Маккавеев о сотворении Богом неба и земли «из того, чего не существовало» и др.
Сколько там набирается? Получается, что подавляющее большинство обитателей земного шара либо свято верует в сотворение мира из небытия, либо попросту поддерживает такого рода подход к проблеме космогенеза как само собой разумеющийся и не имеющий внятно объяснимых альтернатив.
Но не сами ли мы единым демократическим хором воспеваем принцип «Vox pópuli vox Déi» [7], придавая мнению большинства чуть ли не статус абсолютной истины? Как гласит народная мудрость: «Одного можно обманывать бесконечно долго, один раз можно обмануть многих, но бесконечно обманывать многих нельзя». Просто потому что невозможно подняться выше коллективного разума.
Безусловно, вполне уместны серьезные вопросы к содержанию и логике построения вышеназванных религиозных систем, однако, согласимся, людям нельзя отказывать в разумности, в какие бы формы они не облачали свои верования, ибо все они – потомки и хранители традиций и заветов своих древних народов, сумевших подняться на вершину эволюционного отбора, вышедших победителями в жесточайших многовековых схватках с природой и судьбой за жизнь и возможность иметь свое представление основ мироздания. И для нас нет резона (да и права) вторгаться в моральнонравственное содержание их догматов – принципиально важно лишь то, что все эти теологические направления отбрасывают в своих космогониях материю как causa sui [8], основываясь на специфике своего видения мироустройства.
Представлений об изначальной пустоте мира на протяжении многих веков придерживались адепты большинства богословских течений, онтологический аспект которых выражен креационизмом – теогоническими концепциями о сотворении мира Создателем в творческом акте из ничего. Тертуллиан совершенно справедливо замечает, что если бы не было изначальной пустоты и материя была вечной, то отпала бы необходимость в самом боге [9]. Рождение бытия – действительно ключевой и самый таинственный акт мироустройства, возможно даже для самого Творца.
«Всевышний знает ли такой прехитрый трюк, чтоб нечто обратить в ничто совсем бесследно?» – вопрошает вонделовский Люцифер [10].
Патриархи теологии подспудно ощущают правомерность своей веры в сотворимость мира, однако, будучи не в состоянии объяснить природную суть этого процесса, прибегают к его верификации через мистику, хотя ныне все чаще обращаются и к научной аргументации.
Типичным примером таковой явилось объявление в 1951 г. папой Пием XII установленного космологией Большого взрыва доказательством сотворения мира и обозначение его «Божественным мгновением».
Оценивая креационизм непредубежденным взглядом, признаемся, что при всем несоответствии взглядов его адептов научным критериям, он обладает крайне ценным качеством – мертво держаться корней «творения», пусть даже еще непознанных и неосмысленных, и апелляция к сверхестественному – вполне надежное средство и верный ориентир для того, чтобы не сбиться с дороги исканий, подсказанной снизошедшей «духовной интуицией» или открывшимся «божественным наитием».
Одним из важнейших факторов, вынуждающих многих великих мыслителей вставать на платформу идеализма, выступает неприятие ими явно абсурдного утверждения их оппонентов о способности материи к самодвижению. «Я исхожу, прежде всего, из признания невозможности движения материи самой по себе, – заявляет Вольтер, – необходимо, чтобы она получала это движение извне; но она не может получить его от другой материи, ибо это было бы противоречием; следовательно, нужно, чтобы движение производила иная, имматериальная причина – бог» [11]. Схожего мнения придерживается Дж. Беркли [12] и многие иные философы.
Противостояние идеализма в его креационистской ипостаси и материализма заключается не только и не столько в специфике используемого ими инструментария и их отношении к разрешению т. н. основного вопроса философии. Разнонаправленно происходит становление их идейных основ. Первый развивается от небытия через мистифицированный «акт творения» к реальному миру, второй отталкивается от научно верифицированной «объективной реальности», все глубже проникая к исходным «ничтожным» истокам материи. А с общефилософской точки зрения они представляют две полярно-противоположные стороны единого процесса миропостижения, являя собой лишь одно из бесчисленных проявлений гармонии биполярного мироустройства, о которых мы будем говорить в нашем исследовании.
Где-то схожим образом рассуждает Генри Фильдинг: «…Из Ничто рождается все. Истина сия признана представителями всех философских школ, и единственное, в чем они расходятся, это: сотворило ли мир Нечто из Ничто, или Ничто из Нечто. Мудрецы всех времен причисляли себя к одной из сторон, явно в зависимости от того, тяготели они к духовной субстанции или к материальной. Те, кто склонялся к духовному, становились на сторону первых, те же, чей гений лучше умел постичь свойства материи… присоединялись ко вторым» [13].
У каждой кафедры свои сильные стороны, а потому – своя значимость и свои приверженцы в методах познания мироустройства. И если материалистам нужно отдать должное, что те, выбрав научную стезю, ушли от соблазна легкого пути обоснования божественного творения универсума, то креационистов следует уважать хотя бы за то, что они усомнились в вечности и бесконечности нашего мира. И еще вслед за Фомой Аквинским в попытках обоснования бытия бога указали на необходимость поиска первопричины всех вещей, их перводвижителя и целеполагателя [14].
В данном контексте в ряду адептов идеалистического направления особо выделим Спитама Заратустру, который по сути и отыскал причины движения в том, что ныне мы называем единством и борьбой противоположностей. В своем «Благом ви дении», принятом, как утверждают «Гаты» «Авесты», от бога Ахура Мазды, этот пророк сумел объединить несовместимости в едином и выделить биполярности в его монолите, выразив духовным языком то, что позже в квантово-волновом дуализме нашло подтверждение в виде принципа неопределенности В. Гейзенберга.
Итак, если пренебречь механизмом творения, так сказать, «вывести за скобки» самого Создателя, и рассматривать только лишь первичный «материал» (субстрат) мирового строительства, следует признать, что идее возникновения вселенной из ничего привержено подавляющее большинство людей хотя бы в силу того, что данный «догмат», а по сути – данная парадигма, является краеугольным камнем основных мировоззренческих, прежде всего религиозных, систем, охватывающих своим влиянием гигантскую часть человечества.
Говорят, свято место пусто не бывает, но в данном случае мы видим, что именно «пустое место» и является источником всякой «святости», явленной нам через материализацию мира нашей жизни.
Предвидя многочисленные возражения, согласимся, что на фронтах борьбы за истинное знание побеждают не числом, а умением, с использованием серьезной научной аргументации. Что ж, поговорим и об этом.
Вполне понятно, что даже после всего сказанного большинство наших читателей, если таковые еще остались, продолжит считать возможность рождения миров из пустоты абсолютной ерундой, выдвигая массу возражений в духе «ex nihilo nihil fit» и полагая, что все это противоречит научным подходам. Сила предрассудков очевидна, и для их преодоления обратимся к ученой среде – благо, наука уже существенно приблизилась к пониманию данной проблемы. С этой целью резонно воспользоваться советом Исаака Ньютона – взгромоздиться на плечи гигантов, чтобы с высоты их разума убедиться: физика без пустоты рассыпается как математика без нулей. Недаром серьезные исследователи называют физический вакуум главным объектом современной фундаментальной физики [15].
Зайдем с козырей, со столпа науки Альберта нашего Эйнштейна. Он, «вскоре после того, как разработал общую теорию относительности (ОТО), предрек возможность существования энергии как фундаментального свойства пустого пространства» [16].
Также зачастую А. Эйнштейну приписывают фразу, авторство которой точно не подтверждено: «Всё состоит из пустоты, а форма есть сгущённая пустота».
Активным сторонником идеи «энергии из пустоты» являлся и гениальный Никола Тесла, полагавший, что вакуум может содержать в себе неимоверные количества энергии [17]. Впрочем, доказательств тому в своих записках он не оставил.
Американский квантовый физик Дэвид Бом, теоретические разработки которого высоко оценивал А. Эйнштейн, а Р. Опенгеймер использовал результаты его исследований в Манхэттенском проекте, полагал предопределенность всех параметров частиц, составляющих наш материальный мир, свойствами физического вакуума [18].
Наш академик Яков Зельдович, – главный теоретик советского термоядерного оружия и одновременно выдающийся космолог, – не предрешая вопроса о замкнутости мира, обращал внимание на любопытную особенность последнего: «… Его масса равна нулю, равны нулю полная энергия и все компоненты импульса замкнутого мира» [19]. При этом «отрицательная гравитационная энергия взаимодействия частей точно компенсирует положительную энергию суммы всех частей, всего вещества. ОТО, связывающая тяготение и геометрию, доказывает, что точная компенсация происходит тогда и именно тогда, когда становится замкнутым пространство, в котором находится вещество. Энергия «ничего» равна нулю. Но и энергия замкнутой вселенной равна нулю. Значит, закон сохранения энергии не противоречит образованию «из ничего» замкнутой вселенной.» [20].
После предложения в 1960 г. Питером Хиггсом механизма спонтанного нарушения электромагнитной симметрии, объясняющей появление массы у элементарных частиц, Эдвард Трайон, опираясь на разработки Ричарда Толмена и Питера Бергмана о взаимокомпенсации положительной энергии массы и отрицательной энергии гравитации, обуславливающей универсум с нулевой энергией, выдвинул идею возникновения нашей вселенной в результате крупномасштабной квантовой флуктуации энергии вакуума, получившей наименование гипотезы вакуумного генезиса или вселенной с нулевой энергией со сбалансированными энергиями массы и гравитации.
По сообщениям очевидцев, впервые свою догадку Трайон высказал, присутствуя на физическом семинаре в 1969 или 1970 г., когда во время короткой паузы докладчика выпалил на всю аудиторию: «Может быть, вселенная – это вакуумная флуктуация!», вызвав хохот в зале. Впоследствии в своей статье в научном журнале «Nature» он дал более развернутое объяснение своей гипотезе, заключив, что «наша вселенная могла появиться из ниоткуда, не нарушая никаких законов сохранения». По его мнению, «законы физики не ограничивают масштабы вакуумных флуктуаций»: «Вселенная – это просто одна из тех вещей, которые происходят время от времени» [21].
Пояснения идеям Трайона дает его последователь Александр Виленкин: «… Вакуум вовсе не мертвый и статичный; это арена бешеной деятельности. В субатомных масштабах электрическое, магнитное и другие поля постоянно флуктуируют из-за непредсказуемых квантовых толчков. Геометрия пространства-времени также флуктуирует, неистово взбивая пространственно-временную пену на планковском масштабе расстояний. Вдобавок пространство полно так называемых виртуальных частиц, которые спонтанно появляются то здесь, то там и немедленно исчезают. Виртуальные частицы существуют очень недолго, поскольку живут за счет заемной энергии. Трайон предполагает, что вся наша вселенная с ее колоссальным количеством материи является лишь огромной квантовой флуктуацией. Предположение Трайона основывалось на хорошо известном математическом факте: энергия замкнутой вселенной всегда равна нулю. Энергия материи положительна, гравитационная энергия – отрицательна, и оказывается, что в замкнутой вселенной их вклады в точности сокращаются. Так что, если замкнутая вселенная возникнет как квантовая флуктуация, вакууму ничего не понадобится отдавать, а время жизни флуктуации может быть сколь угодно большим».
Уязвимость данной идеи Виленкин усматривает в том, что она не объясняет масштабности мира. Крошечные замкнутые вселенные постоянно отделяются от любой крупной области пространства, но вся эта деятельность протекает в планковском масштабе размеров в форме пространственно-временной пены. «В своей статье Трайон доказывал, что, даже если большинство вселенных чрезвычайно малы, наблюдатели могут появиться только в больших вселенных, а значит, мы не должны удивляться, что живем в одной из них. Но этого недостаточно, чтобы справиться с данным затруднением, поскольку наша вселенная гораздо больше, чем нужно для развития жизни. Более глубокая проблема трайоновского сценария состоит в том, что он в действительности не объясняет происхождение вселенной. Квантовая флуктуация вакуума предполагает наличие вакуума в некоем исходно существующем пространстве. А мы теперь знаем, что понятия «вакуум» и «ничто» очень сильно различаются. Вакуум, или пустое пространство, обладает энергией и натяжением, он может сгибаться и искривляться, а значит, это, безусловно, нечто» [22].
Исследователи научного наследия Трайона отмечают, что еще до него идея образования звезд из вакуума путем квантового перехода была выдвинута немецким физиком и математиком Эрнстом Паскуалем Йорданом. В частности, понимание того, что положительная энергия массы солнца может компенсировать его отрицательную энергию притяжения, оставляя наше светило с нулевой энергией, навело его на размышления о возможности звездообразования посредством квантового перехода вакуума.
Также известно, что в начале 1970-х годов советский ученый Пётр Иванович Фомин, по-видимому, независимо от Трайона, пришёл к заключению о том, что наша вселенная могла возникнуть в результате квантового процесса, однако он опубликовал свою работу только через два года после Трайона (в 1975 г.).
После описанных событий фундаментальная физика уже вплотную подошла к вопросам возникновения материи из пустого субстрата. «Из ничего было создано огромное множество вселенных», – заявляет мэтр космологии Стивен Хокинг [23]. «Ничто необычайно плодотворно, – вторит ему Питер Эткинс. – В его бесконечном охвате потенциально находится все… Ничто есть фундамент всего» [24]. С ними соглашается и уже упомянутый нами А. Виленкин, который, опираясь на трайановскую концепцию универсума как вакуумной флуктуации, дополняет ее своей гипотезой квантового туннелирования.
«Вселенная возникает чрезвычайно маленькой и с очень высокой вероятностью вновь коллапсирует в сингулярность, – рассуждает он. – Но есть крошечный шанс, что вместо этого она туннелирует сквозь барьер, приобретет больший радиус и начнет инфляционно расширяться. Таким образом, в этой грандиозной картине мира будет масса вселенных-неудачниц, живущих лишь неуловимое мгновение, но будут и те, что сумеют сделаться большими… Сразу после туннелирования вселенная имеет крошечные размеры, но она заполнена ложным вакуумом и… за долю секунды раздувается до гигантских размеров».
Как заявляет сам А. Виленкин, уже после выдвижения им данной идеи он узнал, что возможность спонтанного образования универсума из пустоты обсуждалась примерно годом раньше в МГУ Л. Грищуком и Я. Зельдовичем, впрочем, отмечает при этом, что «они не предложили никакого математического описания процесса зарождения» [25].
Лоуренс Краусс полагает, что «квантовые флуктуации указывают на неотъемлемую особенность квантового мира: ничто всегда производит что-то, хотя бы на мгновенье» [26]. «Из законов квантовой механики следует, что на очень маленьких масштабах и в очень короткие промежутки времени пустое пространство похоже на кипящую пену виртуальных частиц и полей с дикими колебаниями амплитуды. Все мы очутились здесь сегодня из-за квантовых флуктуаций, происходивших в полной пустоте» [27].
При этом вся эта «ничтожная» проблематика детально расписывается заумными физическими формулами и публикуется в серьезнейших мировых научных изданиях.
А вот еще ряд авторитетных подходов.
Академик Густав Наан: «Вселенная существует потому, что ничто неустойчиво, поляризуется на нечто и антинечто… Ничто действительно не может породить (одно лишь) нечто: но оно порождает что-то большее – нечто и антинечто одновременно!» [28].
Митио Каку: «… Пустота, которую когда-то считали лишенной чего бы то ни было, на самом деле наполнена квантовыми событиями».
Современная наука, заявляет он, принимает тот факт, что гипотетическое происхождение нашей вселенной из пустоты вполне четко согласуется с рядом весьма очевидных фактов: во-первых, установлено, что сумма положительного и отрицательного электрического заряда в универсуме равняется нулю (либо близка к нему), т. е. взаимокомпенсируется; во-вторых, доказано, что наша вселенная обладает нулевым спином! а в-третьих, суммирование положительной энергии вещества и отрицательной энергии гравитации в космосе также дает ноль [29]. «Здравый смысл говорит нам, что вакуум – это состояние пустоты с нулевой энергией, а на самом деле в нем кишмя кишат частицы вещества и антивещества, которые материализуются ненадолго из вакуума и тут же вновь аннигилируют» [30].
Дэвид Дойч: «Вакуум, который мы считаем пустым… па… самом деле не пустота, а богато структурированная сущность, называемая «квантовым полем». Элементарные частицы представляют собой высокоэнергетичные конфигурации этой сущности.» [31].
Лиза Рэндалл: «Квантовая механика учит нас, что вакуум – состояние, в котором нет постоянных частиц – на самом деле заполнен эфемерными частицами, которые то возникают, то исчезают вновь. Эти короткоживущие частицы могут обладать любой энергией – иногда настолько большой, что гравитационными эффектами от присутствия такой частицы уже нельзя пренебречь. Высокоэнергетические частицы придают вакууму необычайно большую энергию – намного большую, чем позволяет долгая эволюция вселенной» [32].
И даже упоминаемый в согласованных на всех уровнях науки и власти наших школьных учебниках астрономии Эраст Глинер преподносится как российский физик-теоретик, выдвинувший гипотезу, согласно которой «начальным состоянием вселенной был вакуум». Куда уж дальше?
В своей статье «Алгебраические свойства тензора энергии-импульса и вакуумоподобное состояние вещества», опубликованной в 1965 г. в журнале Экспериментальной и Теоретической Физики, Э. Глинер предложил гипотезу того, что изначально во вселенной был вакуум, описываемый космологической постоянной, и из него рождалось вещество, которое расширялось под действием антигравитации вакуума. Так возникло наблюдаемое космологическое расширение. Позже эту идею поддержали Андрей Сахаров, Лев Гуревич, Ирина Дымникова, Алексей Старобинский и другие маститые ученые.
Тема пустого субстрата мира реально перестает быть табуированной и даже просто оригинальной. В своих многочисленных выступлениях физики уже вполне обыденно заявляют, что миры возникают из ничего, хотя сам механизм этого «миротворения» пока остается непознанным. Уже считается экспериментально доказанным, что в вакууме, рассматриваемом в качестве низшего энергетического состояния квантового поля, в котором среднее число квантов поля равно нулю, непрерывно происходят процессы, связанные с возникновением и исчезновением виртуальных частиц, представляющих собой своеобразные потенции соответствующих типов элементарных частиц, их «вакуумные корни». При определенных условиях они способны вырываться из вакуума и трансформироваться в нормальные элементарные частицы, существующие «независимо» от своего субстрата и способные взаимодействовать с ним.
Создание электрон-позитронных пар в вакууме в присутствии мощных электрических полей в квантовой электродинамике получило название эффекта Швингера. Саму энергию вакуума современная физика рассматривает сквозь призму вакуумных флуктуаций и виртуальных частиц, которые создаются и аннигилируют в парах частица-античастица. Ее «реальность» подтверждается «эффектом Казимира», указывающим на наличие силы притяжения между близко расположенными металлическими пластинами, возникающей из-за резонанса в энергии вакуума в пространстве между ними (в качестве иллюстрации этого эффекта обычно приводят взаимное притяжение двух близкорасположенных кораблей в море), а также иными научными феноменами («лэмбовский сдвиг», «спонтанное излучение», «излучение Хокинга» и др.).
Таким образом, речь идет о реальной возможности образования материи из ничего посредством поляризации вакуума, его распада на контрарные материальные компоненты – материю и антиматерию – с соблюдением физических законов сохранения. Таковы доводы науки.
Впрочем, предоставим исследование физического аспекта гипотезы вакуумного генезиса специалистам, дабы не погружаться в пучину труднопостижимых формул и глубины «квантового туннелирования из ничто» – у фундаментальной науки еще много работы на этом благородном поприще. Впрочем, корректности ради, деликатно поправим П. Хиггса, внедрившего красивое и важное для нас понятие «спонтанного нарушения симметрии», выражающего локальную дестабилизацию пустой первоосновы, или еще более поэтично – ее вхождение в дисгармонию с самой собой. Речь все-таки идет о спонтанном нарушении не симметрии, а антисимметрии, о чем мы подробнее скажем чуть позже. Как представляется, именно оно предельно точно характеризует состояние пустоты в те случайно возникающие моменты, когда она на своих отдельно взятых локальных треках начинает проявлять свой реальный, а не виртуальный энергетизм, выражает точку перехода небытия в неустойчивое, избыточно возмущенное состояние, вынуждающее ее обретать энергоемкую материальность.
Таким образом, исходя из анализа полученных знаний, накопленного жизненного опыта, природной интуиции, личных ощущений, «божественного наития» и т. п., совокупное человеческое сообщество в основной своей массе воспринимает окружающий нас мир созданным из пустоты, и это восприятие не только не противоречит научным принципам, но и рассматривается учеными мужами в качестве наиболее обоснованного.
Как видим, речь идет явно не о «неразумном меньшинстве». Осознанно либо подсознательно большая часть населения нашей планеты, сформировавшегося в целом в рамках единой системы принципов и закономерностей мирового развития, живет «врожденным» либо приобретенным пониманием небытийного происхождения мира, и становится совершенно очевидным, что те, которые относят себя к числу «разумных», отвергающих идею «пустогенеза», сами оказываются в явном онтологическом меньшинстве, причем не факт, что разумным.
– Не тянет сменить ориентацию?
Понятную для каждого логику мирообразования из пустоты весьма простым образом формулирует Билл Брайсон: «Кажется, что получить нечто из ничего невозможно, но факт состоит в том, что когда-то не было ничего, а теперь налицо вселенная, – и это служит очевидным доказательством подобной возможности» [33].
Небытие манит нас своей таинственностью и восхищает всесилием. Оно завораживает неисчерпаемостью и очаровывает гармонией. Данный букет чувств выражается фразой одного из гениальнейших людей в человеческой истории – Леонардо да Винчи: «Среди величайших вещей вокруг нас самым великим является существование Ничто!» [34].
После всего сказанного у нас не остается иного выхода, кроме как с головой погрузиться в эту самую пустую первооснову, чтобы попытаться отыскать в ней внятно воспринимаемые и научно непротиворечивые истоки нашего материального мира. Тем более, что больше искать их попросту негде. И мы увидим, что тема пустоты отнюдь не пустая, и что нет ничего увлекательнее, чем заниматься ничем – такая вот любопытная тавтология.
– Или вы все еще не с нами?
– Но что же мы понимаем под пустотой?
На этот вопрос зачастую отвечают в духе шекспировского Макбета: «Ничто есть то, чего нет». Однако не все столь тривиально. Данная, казалось бы, никчемная во всех отношениях проблема осложняется еще и тем, что пустота в принципе не может быть постижима через законы физики, которые к ней неприменимы, поскольку действуют только в рамках нашего мира. И все-таки, что же такое это ничто?
Конечно же, первое, что приходит на ум, пустота – это «ничего», что вполне правомерно. Однако данное понятие не вполне «практично», поскольку увлекает нас в океан семантических нюансов. Наглядный пример тому – история с «железным канцлером» Отто фон Бисмарком, который, согласно исторической молве, искренне восхищался русским «ничего» за его всеобъемлемость и множественность смысловых значений, определяемых интонацией.
И действительно, этим словом можно оценить и здоровье, и настроение, и погоду, и состояние дел в хозяйстве, и красоту человека – ничего, сойдет, не беда, все в пределах нормы, более-менее. Говорят, Бисмарк, прилично освоив русский язык в период его пребывания послом в Санкт-Петербурге и изумившись многогранностью местного лексикона, заказал себе кольцо с надписью «Ничего» (латинскими буквами), к которому обращался в минуты невзгод и отчаяний.
Нам же требуется четкость и недвусмысленность, однако и понятие «ничто» весьма полезно хотя бы потому, что одновременно выражает и суть собственно самой пустоты, и состояние ее обычного, невозмущенного состояния, т. е. ее внутренней антисимметрии.
Ничего, ничего, оно нам еще сгодится.
У Поля Валери есть афоризм: «Бог сотворил мир из ничего, но материал все время чувствуется» [35]. Попробуем почувствовать этот «материал» и мы, обозначим предмет нашего исследования, ибо еще от Нагарджуны, основателя буддийской шуньявады – школы пустоты, известно: «Для кого ясна пустота, ясным становится всё» [36].
Древнейшие философские школы, базирующиеся на небытийном субстрате мира, вообще принципиально избегают точных дефиниций пустоты как ключевого понятия своих парадигм, в т. ч. в целях их сакрализации. Таковы дао в даосизме, брахман в индуизме и т. п.
К примеру, основной характеристикой брахмана как первоосновы всех вещей называется его бескачественность (ниргуна) с указанием на то, что никакое иное определение ему дано быть не может.
Мировая философия зачастую выражает пустоту через во многом синонимичные ей понятия – «небытие», «ничто», «вакуум», «бескачественная материя», «бездна» и т. п., тем самым придавая ей ту или иную коннотацию. Так, в небытии «ничтожные» исследователи обычно акцентируют внимание на нюансе отсутствия бытия, то есть отрицании существования как такового; в ничто – на непроявленности качественной определенности, в вакууме – на наличии пустого пространства, не удосуживаясь при этом пояснить, откуда это пространство возникает и наличествует ли в нем в таком случае и временной фактор.
По справедливому замечанию Рене Генона, само определение «пустое пространство» «приводит нас к концепции содержащего без содержимого». При этом, понимая единство времени и пространства, о «пустом времени» почему-то не говорит никто, по крайней мере, со времен Блаженного Августина, впервые указавшего на то, что до возникновения вселенной понятие времени было лишено смысла. Ведь «время – это неотъемлемое свойство созданного богом мира, и оно появилось вместе с ним»[37].
Иногда в попытках следования в наукоподобном русле в оборот вводится термин «квантовый вакуум», также побуждающий к рассуждениям, есть ли тогда еще и «вакуум волновой».
Предшествующая бытию темная и иррациональная «бездна» (Ungrund) Я. Бёме [38] и ряда иных исследователей предполагает «отсутствие дна» – начала и конца основания мироздания. У Л. Гумилева же под «бездной» понимается «пустота или вакуум, не являющийся частью материального мира» [39], что, в принципе, представляется правильным. К. Циолковский своеобразным образом определяет небытие как состояние «обморока атома», в период которого тот пребывает в неорганическом веществе, т. е. находится вне живого организма [40]. По всем своим признакам в роли пустого субстрата выступает Единое Плотина, не имеющее никакого начала, само не являющееся сущим, но выражающее собой источник эманации всего сущего, из которого все «изливается» и «произрастает». Как «все реально несуществующее» и «реальное несуществование как таковое» рассматривает небытие Н. Солодухо [41], а в концепции Г. Легошина оно предстает как «нулевой мир»[42].
Подходы к определению понятия пустой первоосновы различны и почти всегда противоречивы. У нас же совершенно простая задача – не забалтывать тему, не состязаться в изощренности дефиниций, а наоборот, прояснить вопрос, вскрыть суть проблемы, выяснить как устроен механизм рождения и развития мира, прорубить лед бытия с тем, чтобы взглянуть, что там снизу, в мутной первооснове, как бы она не называлась. Как представляется, мудрить с определением пустоты не требуется, поскольку она сама выражает суть предельной простоты. Подразумевая дихотомическое разделение совокупного универсума («всего») на небытие (пустоту) и бытие (материю), пустота более точно определяется отсутствием материи, т. е. проявлений материального мира в любых его качественных формах – всевозможных полей, вещества, психики. Если говорить более точно – пустота есть то, что не является материей или антиматерией. Более короткое определение – пустота есть нематериальность. В этом ключе определению пустоты в большей степени соответствует понятие небытия, вполне четко воспринимаемое как отсутствие бытия (той же самой материи), т. е. как небытийность (не-бытие).
«Поскольку дать положительное определение Ничто представляется весьма затруднительным, я поведу свое исследование от противного… – рассуждает Генри Фильдинг. – Ничто не есть Нечто… Поскольку Ничто не есть Нечто, – все, что не Нечто, есть Ничто. Если, к примеру, надуть пузырь, его наполнит Нечто; но если воздух выпустить, справедливо будет сказать, что в нем – Ничто» [43].
В онтологическом аспекте пустота – это не умозрительная, а чисто физическая категория-субстанция с синонимичным ей понятием вакуума в его абсолютном значении, причем, что принципиально важно, без априорных пространства-времени, а также всякого рода виртуальных частиц и полей, которыми его любят «наполнять» современные позитивисты, уверяющие нас, что «пустота в действительности не настолько пуста», заводя тем самым очередной куплет песенки о новом витке качественного упрощения материи. Нет, мы берем за основу «совершенно пустую пустоту», в которой нет ничего – ни виртуальных частиц, ни «торсионных полей» с «информационными вихрями», ни струн, ни инфлатонов, ни континуума, ни энергии, ни «субъективных образов объективного мира» в виде идей, грез или призраков, ни Творца, полагание которых опять возвращает нас к вопросу о причинах и «механизме» их возникновения, – пустоту, в которой действительно нет ничего.
«Пустоты, в которой нет даже пустоты, – добавил бы к этому Питер Эткинс. – Все, что у нее есть, – по его мнению, – лишь ее имя» [44].
Реальная пустота не заражена материальностью. Этой своей стерильностью, незамаранностью бытийного творения она и уникальна, а потому – превосходна и столь притягательна для нас.
В определенном смысле здесь была бы уместна дефиниция Дж. Беркли, обозначающего небытие как субстанцию, все атрибуты которой отрицательны или негативны [45].
Тем более, что в русском языке отрицание качеств чего-либо или кого-либо зачастую как раз и выражает наше восхищение оцениваемым субъектом – вспомним, какой колорит несет в себе коннотация женской миловидности в восклицании «Она очень даже ничего!».
Однако для корректности исследования нам необходима пустота именно как физическая нематериальность, а не умозрительная конструкция, не отражающая причинность космогенеза.
Глава 2. Пустота – единственно возможный субстрат мира
Только пустота отвечает базисным критериям первоосновы: не требует обоснования своего происхождения, выражает предел качественного нисхождения, выступает идеальной моделью устойчивости и проявляет свой творческий ресурс посредством локальной изменчивости. Пустота воплощает мировую гармонию как антисимметрию с самой собой, математически выражаясь через ноль
Существуют вполне очевидные доводы в пользу того, что именно пустота выступает субстратом нашего мира, равно как и всех остальных гипотетических материальных миров, манифестируя некие «каноны истины», которых, как говорили древние китайцы, «оскорбляют даже сами попытки их доказательства» [1]. Данные доводы выражают собой предопределяемые простым здравым смыслом ключевые критерии «истинной» первоосновы как таковой, в соответствии с которыми она должна:
самообуславливать свое возникновение, развитие и уничтожение, то есть являться causa sui – причиной самой себя, не требующей участия в ее судьбе каких-либо внешних сил;
быть способной выступать в качестве базиса для формирования любой иной субстанции, равно как и всех их вместе взятых, то есть выражать предел качественного упрощения;
представлять идеальную модель самосохранения своей внутренней стабильности;
содержать имманентный, изначально присущий ей запас сил – некий ресурс развития, потенциал творения мира (миров).
Безусловно, все это должно находить доказательное обоснование и не противоречить ни научным принципам, ни здравому смыслу.
Итак, суть пяти базисных критериев первоосновы – ее способность обуславливать саму себя, выступать пределом простоты, обладать абсолютной устойчивостью, располагать внутренним «творческим» ресурсом рождения и развития любых материальных форм, а также удовлетворять принципу соответствия (научности).
Убедимся, что всеми этими качествами обладает только пустой субстрат.
О необходимости отыскания первопричины всех вещей заявлял еще Фома Аквинский, здраво полагая, что она может находиться только вне этих самых вещей, впрочем, выставлял это в качестве одного из доказательств бытия бога. Ведь помимо бога, по его логике, кроме вещей нет ничего [2]. В последнем он конечно же ошибался, поскольку помимо «вещей» есть ничто. А отождествлять это ничто с гипотетическим богом или нет – это дело онтологического вкуса.
Задумывались ли вы когда-либо, почему Зодчий вселенной, согласно всем ранее перечисленным верованиям, создал мир именно из пустоты? Да просто потому, что у него «под рукой» больше ничего не было. Любой иной «материал» отсутствовал. Весьма примечательно, что у большинства древних народов понятие «космос» («space») изначально как раз и обозначало «пустое место». К примеру, у китайцев «космос» («тайкон») всегда предполагал выражение «великой пустоты». Лишь позже у некоторых народов, прежде всего европейских, данное слово обрело смысл «упорядоченности».
По сути об этом же говорит и современная астрофизика. Космической пустотой «заполнены» почти вся межгалактическая среда вселенной, внутреннее пространство галактических, звездных и планетных систем, равно как и самих атомов, в которых нуклоны занимают лишь одну триллионную часть всего атомного объёма, а делокализованные по своей позиционности электроны, пребывающие одновременно «везде и нигде», вообще являют собой пространственный контент, близкий к виртуальному. Схожая ситуация складывается с кварками и глюонами, из которых состоят кажущиеся относительно массивными сами атомные ядра. Вот он реальный мир, фактически исполненный ничтожеством.
Итак, у гипотетического мироустроителя была только пустота, ибо только она самообуславливает свое происхождение и не требует для своего генезиса вмешательства внешних сил, в т. ч. творческих ресурсов божественной природы. Хотя бы потому, что ни одно священное писание не содержит указания на то, что Господь сотворил небытие.
Из всех рассмотренных выше конструктов креационизма видно, что наиболее уязвимым их звеном является сам миросозидатель, то есть изначальная данность «механизма творения». Откуда он появился? Банальный вопрос о Творце самого Творца вновь погружает нас в бездну вечной и бесконечной «объективной реальности, данной в ощущениях», по сути ничем не отличающейся от парадигмы ортодоксального материализма. Пожалуй, в решении данного вопроса среди всего сонма теологов точнее и честнее всех оказывается Эриугена, который сопоставляет ничто непосредственно с Творцом, создающим мир из самого себя – сотворение из ничего («creatio ex nihilo») есть сотворение из Бога («creatio ex Deo») [3].
Утверждая везде и во всем незыблемость принципов детерминизма, для любого объекта материального мира мы обязаны различать причины и условия его возникновения и развития, причем лежащие за пределами этих объектов. В противном случае причина отождествляется со следствием, что означает отрицание любого рода динамики (движения) и изменчивости как таковой.
Единственной субстанцией, не требующей внешних причин и условий для своего сотворения, является пустота, не нуждающаяся в причинно-следственных связях, обоснованиях и объяснениях, откуда она появилась, кто ее сотворил, почему она именно такая и почему она вообще есть (или почему ее вообще нет). Небытие – единственное, что способно обусловить существование самого себя, и это есть первое очевидное обоснование пустоты как субстрата мира. Не требуется механизма создания того, чего нет. Для сотворения «ничего» не требуется никаких причин и условий, равно как и доказательств этого. И здесь как никогда справедлив Джордж Беркли, заявляя о необходимости доказывания существования материальных объектов, а не отсутствия оных [4].
«Ничто, небытие как исходное отсутствие чего-либо ничем не обусловлено, – пишет Натан Солодухо. – Для того чтобы ничего не было, ничего и не надо: не требуется никаких и ничьих усилий. Поэтому именно Ничто, Небытие исходно, изначально и есть действительная «causa sui», не требующая ни в чём другом своего основания. Поэтому именно Ничто, Небытие и может служить действительной субстанцией мира, выступать первопричиной и основой всего реально существующего, т. е. Бытия» [5].
Философия всегда нуждалась в категории небытия и всячески стремилась к нему, хотя зачастую и неосознанно. Она усердно занималась изысканиями запредельно простой первоосновы, без которой любые системы мироосмысления оказывались зыбкими и субтильными. Ей всегда недоставало прочного фундамента, надежного исходного субстрата. Однако попытки приведения любых субстанций к предельной качественной упрощенности непременно завершались их полным ничтожением, сведением «к нулю».
Не возымели успеха ни античные потуги возведения в ранг субстрата мира «первоэлементов» в виде воды, воздуха, земли и т. п., ни последующие устремления сделать ставку на атомы, кварки, эфир, электромагнитное поле… Николай Лосский был прав, заявляя, что вопрос о сверхмировом начале является труднейшим в философии [6].
И действительно, тяжело искать в темной комнате то, что является ничем. По всей видимости, именно непонимание первопричины универсума и одновременно боязнь соприкосновения с непостижимым «творцом» облекли представления о мире в контуры «вечной и бесконечной объективной реальности», по сути поставив философию в позу страуса. Ни древние мудрецы, ни современная физика пока так и не нашли в природе вечных и неизменных начал, этакого шарденовского «предела нисхождения» [7]. «В фундаменте мира все так же изменчиво, как и на его верхних этажах. В результате мир плывет и проваливается в небытие», – констатирует Арс. Чанышев [8], попадая в самую суть обозначенной проблемы.
Бесперспективность поисков материального субстрата бытия подспудно наталкивает на вполне здравую мысль о том, что его просто нет. Нет, ибо нулевая координата лежит вне границ материи, вне бытия. Иными словами, первооснова ничтожна и отождествляется с пустотой, небытием. Таким же образом Нагарджуна, открывая в окружении Будд и ботхисаттв одну за другой все ступы, в конце концов обнаруживает, что первосубстанции нет и быть не может.
Мартин Хайдеггер в своих размышлениях о первоначалах бытия, также приводит нас к выводу о том, что в постижении существующего необходимо начинать ни с нечто, а именно с ничто, поскольку «ничто более просто и более легко, чем нечто» [9]. А потому, следуя принципу парсимонии, не будем без надобности множить сущее и отсечем оккамовой бритвой всевторичное и производное.
Итак, следующее очевидное обоснование небытия как субстрата мира: пустота есть предел простоты, дно регрессии материи, граница качественного нисхождения, за которой – абсолютный абсурд.
Здесь небытие и есть та ничтожная субстанция, которую древние китайцы обозначали как «беспредельный великий предел». При этом заметим, что с данного ракурса небытие как гипотетическая (пока еще) первооснова бытия одновременно представляется и сложнее последнего по своему качественному содержанию, поскольку содержит его в самом себе, в своей потенции – в полном соответствии с законом эмерджентности, по которому целое всегда имеет особые свойства, отсутствующие у его части.
Для безупречной первоосновы мира мало быть самообуславливаемой и выражать предел простоты. Она еще должна обладать абсолютной устойчивостью, качественной незыблемостью.
Устойчивость любой системы предопределяется ее внутренней организацией (связанностью составляющих ее частей), которая требует ресурсов своего обеспечения, т. е. действия сил, противостоящих дезорганизации. При недостаточности либо отсутствии таковых верх одерживают энтропийные процессы, приводящие систему к максимально устойчивому уровню посредством ее дезорганизации и сведения к состоянию предельно возможной стабильности.
Что же может обеспечить устойчивость самообуславливаемой и сверхпростой системы? – Ответ дают физики, которые однозначно утверждают, что устойчивыми способны быть только динамические системы. Да и вообще статичность любых тел или систем они исключают как противоречащую принципам квантовой механики. Касаемо пустоты, такой подход означает, что «механизм» обеспечения ее стабильности выражается ее внутренней динамикой, предопределяющей в своей совокупности ее статичность. Тем более, что небытийная изменчивость в нашем понимании ничем не отличается от ее неизменчивости.
А точнее находится в неопределенном для нас состоянии, которое, как во всеми любимой песне, «трудно высказать и не высказать» на фоне речки, которая «движется и не движется», и песни, которая «слышится и не слышится» [10].
Вместе с тем, для самой пустой первоосновы это кажущееся нам безразличие ее внутреннего движения и покоя как раз и выступает основой ее предельно возможной стабильности. Более того, сама изменчивость пустоты обуславливается именно востребованностью ее неизменчивости для обретения ей своей внутренней сбалансированности и качественной устойчивости, поскольку любая субстанция самопорождает изменчивость посредством своей энтропийной устремленности к низшему энергетическому уровню, т. е. к полному самораспаду. Пустота, не обладающая внутренней активностью, попросту не являлась бы мерилом самостабилизирующего низшего качественного состояния. Образно говоря, лишившаяся изменчивости пустота окажется неустойчивой подобно тому, как это произошло бы с остановившимся велосипедом или с гипотетически утратившей динамику Солнечной системой.
Так и согласно Библии, до сотворения мира «Дух Божий носился…» [11], т. е. не покоился, а «стремительно перемещался», обеспечивая тем самым целостную бездвижность небытия.
Как видим, только пустота являет собой идеальную модель устойчивости, т. к. ее неизменчивость сбалансирована с ее совокупной изменчивостью (хаосом), выступающей гарантом равновесности системы, ее внутренней антисимметрии и гармонии, предполагающей единство конфликтующих сторон. Хаос пустоты, тождественный ее покою, обеспечивает пустоте возможность совокупно оставаться самой собой – настоящая небытийная эквилибристика. Выражаясь языком экономистов, ее статика хеджирована ее совокупной динамикой. Схожий конструкт нередко встречается в античной философии, особенно у стоиков, у которых, по свидетельству Секста Эмпирика, пустота определяется как «бескачественная материя, изменяемая во всех направлениях» [12].
Итак, идеальной первоосновой способна выступать именно изменчивая пустота, выступающая формой полной дезорганизации неизменчивой пустоты, а потому и гарантом ее предельно возможной устойчивости. Там же, где происходят спонтанные нарушения баланса совокупной изменчивости и неизменчивости, возникают материализационные процессы, призванные восстановить антисимметрию и гармонию пустого субстрата, о чем мы будем говорить позже.
А пока с этих обозначенных нами в общих чертах позиций задержим на минуту наш нарратив и условно поставим себя на место тех, кто отвергает идеи естественной (эволюционной) сотворимости бытия и призывает принять существующий мир как данность. Будет ли такой мир извечно устойчивым? Непредубежденное следование известным физическим принципам и началам неотвратимо укажет нам на конечную судьбу этой «данности», которая энтропийно отыщет свою стабильность в субстанции ничтожного качества. Просто потому, что perpetuum mobile, как нам заявляет наука, в природе не существует.
В данном вопросе многие космологи заняли, мягко выражаясь, многовекторную позицию, выступая против «творения» и одновременно «поддерживая» вечное движение. Тут бы неплохо определиться, как в известном анекдоте – либо крестик снять, либо мантию ученого.
Стабильной и качественно безупречной в своей совокупности остается лишь пустота. Только небытийность выражает идеальное состояние физической системы, характеризуемое ее суперсимметрией (гармонией с самой собой), поскольку самоустремленность такой системы к предельно низкому энергетическому уровню сводит ее к качеству пустоты, устойчивость которой предопределяется равновесностью ее неизменчивости и совокупной изменчивости.
Согласимся, для того, чтобы принять пустоту как первооснову материи, необходимо привести серьезные обоснования, весомые доводы в пользу того, что небытие, исходя из его имманентных свойств, способно быть причиной генезиса и становления бытия, ибо, как справедливо замечает Рене Декарт: «Причина должна содержать в себе, по крайней мере, столько же реальности, как и ее действие» [13].
Нечто схожее Арс. Чанышев называет «эмерджентным модусом бытия»: то, что содержится в бытии, возникающем из небытия, должно было заключаться и в самом небытии [14].
Самое важное, что мы можем сказать о такого рода причине, рассуждает Циолковский, «это то, что она не только нечто высшее Вселенной, но и то, что она не имеет ничего общего с веществом… Причина должна иметь способность ликвидировать и производить материю» [15]. И с этим не поспоришь.
Для начала рассмотрим, какими же качествами обладает пустой субстрат.
Первая реакция естественна: никакими. Поскольку пустота – это отсутствие чего бы то ни было, кажется абсурдным отыскивать в ней какие-либо свойства. Увы, научные законы и принципы, выведенные исходя из исследования материального мира и проявляющие себя исключительно в рамках материи, не имеют никакого отношения к пустоте, в которой нет ни времени, ни пространства, ни различимой энергии… В которой нет ничего. Они неприменимы к небытийному субстрату, подобно тому, как законы Ньютона оказываются бессильны для описания явлений квантового мира, а уравнения Эйнштейна перестают действовать в условиях сингулярности.
Однако, вновь вернемся к вопросу об устойчивости пустоты, основой которой выступает ее совокупная изменчивость, эквивалентная неизменчивости. Разве динамика пустоты и ее статика – не одно и то же? Ведь, как мы уже сказали, подвижность небытийного субстрата с нашего материального ракурса ничем не отличается от его покоя.
Формальный анализ данной проблемы приведет нас к следующим заключениям:
Пустота статична, ибо в ней отсутствуют:
объект (субстанция) изменчивости (в ней ничего нет);
различимая причина (движитель), обуславливающая эту изменчивость, т. е. энергия, необходимая для приведения покоящейся системы в движение (им не от куда взяться извне);
пространственно-временной континуум, способный служить агентом, средой, фоном или индикатором какой-либо динамики.
Все это так, но необходимо услышать и доносящийся сквозь толщу тысячелетий глас великого Лао-цзы, называющего покой «господином подвижности» [16]. Придется признать и обратную сторону этой когерентной суперпозиции: «Eppur si muove!» («И все-таки она вертится!»). Все-таки она еще и изменчива. Уже хотя бы потому, что состояние покоя, как мы уже сказали, запрещено законами квантовой механики.
А если предметно, пустота динамична, поскольку:
ее изменчивость тождественна ее постоянству (никакой материально ощущаемой разницы мы не воспринимаем);
отсутствие материальных взаимодействующих объектов (частиц, элементов и т. п.) и причинной взаимосвязи между ними обуславливает способность условных (виртуальных) квантов пустоты находиться одновременно в любой точке небытийного континуума, подобно тому, что мы считаем экспериментально подтвержденным и научно доказанным, к примеру, применительно к делокализованным электронам в оболочках атомов;
абстрагированность пустоты от внешних источников воздействия, ее нахождение вне законов причинности и взаимообусловленности предопределяет ее способность трансформироваться в саму себя и обладать любой внутренней структурностью;
и, наконец, самое главное: изменчивость пустоты предопределяется неустойчивостью ее статичности, стремящейся к переходу в более стабильное состояние динамического равновесия.
Физика, как мы знаем, определяет вакуум как низшее и основное энергетическое состояние квантованного поля с нулевыми квантовыми характеристиками (импульса, момента импульса и др.). Эта «зануленность» пустоты в состояние низшего энергетического уровня и предполагает ее биполяризацию как одновременное проявление в ней организующего начала, оформляющего ее пустое неизменчивое качество, и дезорганизующего начала, обеспечивающего устойчивость этого качества своей совокупной изменчивостью. Последняя в частных своих манифестациях и выражается в квантовой неопределенности.
Будучи изолированной от какого бы то ни было внешнего воздействия и предоставленной самой себе, пустота является внутренне самосбалансированной системой. Вся совокупно взятая ее имманентная изменчивость уравновешивает саму себя, предопределяя ее совокупный покой, который можно обозначить как обуславливаемую антисимметрией гармонию. Иными словами, пустота расчленяет свою статичность на совокупность взаимоуничтожающей динамики. Совокупность противоположностей есть ничто, равно как и само ничто можно выразить как совокупное нечто, существующее в виде фрагментированных взаимонейтрализующих противоположностей. Этим обуславливается принцип симметрии (а точнее – антисимметрии) со всеми присущими ей законами сохранения.
Вместе с тем, эти частные противоположности, выражающие пустоту в своей совокупности, на обособленных локальных треках выступают как «нечто», отличное от неизменчивого «ничто». Оно есть дисгармония, частное расстройство антисимметрии «ничто». И эта локальная изменчивость пустоты несет в себе потенциал частного виртуального действия (ресурс изменчивости – РИ), предполагая, что обособленно от него возникает соответствующий ему потенциал частного виртуального противодействия.
При определенных условиях, к примеру, в результате локальных коллизий частных изменчивостей, природу которых мы рассмотрим позже, возникают флуктуации, т. е. возмущенности. Возмущенность – по сути та же изменчивость в плане ее отличия от покоя, однако это уже совсем не та изменчивость пустоты, которая утверждает стабильность ее неизменчивости. Это уже изменчивость дезорганизации пустоты, порождающая ее локальную неустойчивость и тем самым вызывающая ее абсурдирование, трансформацию в состояние не-пустоты, т. е. материи. Запертый в коллапсе ресурс изменчивости находит возможность своей реализации во внепустотной, т. е. в бытийной среде.
Возмущенность пустоты выражает степень нарушения сбалансированности между ее неизменчивостью и совокупной изменчивостью, проявляя сходство по своей природе с понятием разности потенциалов (напряжения) в электродинамике. Лишь только нарушается баланс между полюсами в электрической цепи, так тут же начинается движение заряженных частиц – пошел ток, закипела работа, появились ее реальные результаты. Всем известен динамовский слоган: «Сила в движении». И мы действительно видим, что в движении, или в более общем и емком его выражении – в изменчивости, сокрыта энергия как рабочий ресурс сотворения вполне осязаемого продукта, даже если эта изменчивость ничтожна по «среде» своего происхождения.
На этот творческий ресурс пустоты косвенным образом указывает и сама наука, определяющая свет как распространение электромагнитной волны, совершающей колебания в вакууме (!), уходя при этом от четкой дефиниции самой волнующейся среды, в которой этот свет колеблется. Однако нам известно, что энергия звука передается посредством колебаний воздуха, а морской волны – посредством ее колебаний в воде. Выходит, энергия света распространяется за счет колебания «ничто»?
«Дайте мне материю и движение, и я создам мир», – восклицает Рене Декарт [17]. У нас запросы скромнее. Для создания мира нам достаточно только изменчивости как разновидности покоя пустоты.
Гегель совершенно справедливо называет противоречие «корнем всякого движения» и основой развития [18], однако полагает его зарождение в сфере идеального (в нашем понимании – на высших этажах материи), тем самым обращая это противоречие во всех смыслах в надуманное. Маркс экстраполирует это противоречие на всю сферу «объективной реальности», представляя его имманентно присущим любым материальным объектам и тем самым лишая диалектику природы своих эволюционных корней. Между тем, для обнаружения действительного источника движения следует спуститься по лифту здания бытия к фундаменту его истоков – к пустому субстрату. Именно там и зарождается, а точнее – извечно существует то самое реальное противоречие, которое выступает основой мирового развития. Причиной его формирования является коллизия организующего и дезорганизующего начал пустоты, единство и противоборство которых предопределяет биполяризацию всего мироустройства. Первое начало заключает в себе устои стабильности и консервативности, второе – потенциал изменчивости и развития.
Только в небытийной первооснове мира покой и движение находятся между собой одновременно в отношениях тождества и противоречия, являющегося, согласно закону единства и борьбы противоположностей (ЗЕБП), источником и причиной всякого развития. Их тождество предопределяется единством их формы как качества пустоты, а противоречие – противоборством их содержания, выраженном в совокупном покое через множество противостояний разнонаправленной (биполяризованной) динамики в условиях внутрипустотного хаоса изменчивости. При этом изменчивость пустоты в своей совокупности ничего не меняет, а постоянство пустоты не ограничивает ее ни в каких изменениях.
Неизменчивость пустоты, обеспеченная ее совокупной изменчивостью, выступает основой ее устойчивости, антисимметрии и гармонии, а несбалансированная частная изменчивость проявляется в формировании локальных возмущенностей, нарушающих идиллию стабильности. В последних инициируются материализационные процессы с образованием энергоемких форм (материи), необходимых для восстановления антисимметрии небытийной первоосновы, а попросту – для «рассасывания» флуктуаций и возвращения пустотной системы к исходному равновесному состоянию. Таким образом, бытие выступает в качестве некоего абсорбента избыточной возмущенности пустоты.
Рассмотренная биполяризация небытийного субстрата на его статическую и динамическую составляющие непосредственным образом вплетена в одно из основных положений китайской классической «Книги Перемен» («И-Цзин»): «Мир представляет собой изменчивость и неизменчивость, и даже более того, мир – это непосредственное единство этих его характеристик» [19]. Да и в целом в китайской традиции признается правомерным наделять первоматерию Ци свойством одновременного покоя и движения, а ее первосостояние определять понятием «Великая пустота».
Схожая идея тождества и противоречия контрарных (противоположных) сторон пустого субстрата нашла отражение и в представлениях античных философов в виде «бесплодной» пустоты, лишенной возможности мирообразования (укон), и «беременной» пустоты, наделенной потенциалом рождения бытия (меон). В нашем переложении они вполне четко предстают в качестве статичной и динамичной сторон исходной внутрипустотной биполяризации.
А еще об единстве изменчивости и постоянства говорит Гераклит Эфесский, метафорично передавая его через образ реки.
«Образ гераклитовской реки, символизирующей всеобщий миропорядок (космос), выражает оба противоположных аспекта бытия: всеобщее движение и изменение вещей и их всеобщий относительный покой и устойчивость, – пишет Феохарий Кессиди. – …Чтобы оставаться самой собой, река должна все время течь. Иначе говоря, бытие реки как реки определяется постоянным течением, изменением и обновлением потоков воды. Это значит, что каждая вещь пребывает в состоянии «движущегося покоя» и одновременно «покоящегося движения» [20].
Изначально в мире нет ничего. Есть лишь пустота, не требующая объяснения самой себя; пустота, способная вне воздействия трансцендентных сил быть или не быть в любом своем состоянии в любом своем континууме. Извечное гамлетовское «Быть или не быть» в данном контексте выступает не в форме категорической дизъюнкции, не в виде принципиального, требующего однозначного разрешения вопроса, а в форме утверждения: одновременно и быть, и не быть. Принцип неопределенности Гейзенберга, постулирующий способность элементарной частицы единомоментно позиционироваться в любой (и никакой) точке пространственно-временного континуума – одна из сцен этой же пьесы. (Хотя в данном случае, скорее, пьесы не Шекспира, а Бомарше, касаемо местонахождения его Фигаро).
Изначальная пустота, пребывающая вне каких бы то ни было законов и принципов, благодаря своей природе (точнее, полному отсутствию ее) способна одновременно находиться в состоянии внутреннего единства и внутреннего противоречия самой себе. Исходя из принципа антисимметрии («самодурства пустоты»), ее законы и принципы выводятся исключительно из внутренней сущности первоосновы, а, следовательно, являются существующими и несуществующими одновременно. Изначальная пустота способна переходить сама в себя: входить в себя и выходить из себя. Она как кошка, гуляющая сама по себе, не гонимая собаками с окрестных дворов. Она есть перетекание из пустого в порожнее. Она есть переход тьмы во мрак. Зачаруйтесь же «Черным квадратом» Казимира Малевича – возможно, он пытался выразить именно это.
Совокупной пустоте присуща антисимметрия, предопределенная сбалансированностью неизменчивости пустоты совокупным потенциалом ее изменчивости, которые соответствуют нулю. Точно по Гёте: «И все, что рвется, все, что хлещет, есть вечный в Господе покой» [21]. Мудрость Лао-цзы более лапидарна: «Достижение пустоты – вот постоянство» [22].
«Чем более мы вникаем в природу вещей, – констатирует Томас Гексли, – тем очевиднее становится, что то, что мы зовем покоем, только скрытое движение, и кажущийся мир – только немая, но напряженная борьба. Везде в каждый момент космос представляет равновесие борющихся сил» [23].
Пустота восстанавливает свою антисимметрию, спонтанно нарушаемую происходящими в ней внутренними флуктуациями изменчивости, посредством отчуждения своей избыточной возмущенности в материализованные энергоемкие формы. Сохраняя гармонию (антисимметрию) в себе самой, пустота транслирует свой избыточный РИ «в мир», формируемый по лекалам гармонии его материнской первоосновы. Таким образом, универсум, творимый из возмущенности пустоты, выстраивается по канонам небытийной антисимметрии, выступающей в нем основой всех законов сохранения.
К слову сказать, эти законы сохранения вполне четко, хотя и своеобразно, зафиксированы даже в Священном Писании: «… все творения Бога – вечны, и мы ничего не можем ни прибавить к ним, ни убавить» [24].
Как видим, изменчивость пустоты, ее Хаос (у Мильтона – Анарх, «старик с изменчивым лицом» [25]) на локальных треках выступает источником творческого ресурса, а в целом действует как стабилизатор «пустой системы» и основа ее антисимметрии, выражающая красоту и гармонию всего мироздания.
С рассмотренного ракурса анархия – действительно и есть сама мать порядка, а неразбериха – родительница гармонии. Сбалансированный хаос в своей совокупности тождественен мертвенному покою, однако в частных проявлениях он своей дезорганизующей динамикой формирует локальный потенциал «жизненности». Таким образом, не существуя в материальном смысле в своей общности, пустота существует в ее локальности, проявляя наличность через реализацию своего потенциала частного действия (РИ). А посему она – имя существительное во всех его смыслах.
В вопросах мироустройства, впрочем, как и во всех иных, внести ясность нам поможет царица наук. Обратимся к математике, языком которой описывается цифровая картина мира, памятуя при этом известную цитату А. Эйнштейна: «Надежные математические законы не имеют отношения к реальному миру» [26].
Математической символикой пустота выражается в виде нуля, который с древности изображался как замкнутый круг, как Уроборос – змея, кусающая собственный хвост. Сам знак «0» по-гречески означает «ничто» (ouden), а русское слово «нуль» возникло от латинского эквивалента «ничто» – nullum. Так ли он пуст?
Ф. Энгельс: «Оттого, что ноль есть отрицание всякого определенного качества, он не лишен содержания… Как граница между всеми положительными и отрицательными величинами, как единственное действительное нейтральное число, не могущее быть ни положительным, ни отрицательным, он не только представляет собой определенное число, но и по своей природе важнее всех других ограничиваемых им чисел. Ноль богаче содержанием, чем всякое иное число» [27].
В поддержку такому подходу из глубин древности летят исполненные мудрости максимы Лао-цзы: «Дао пусто», «Дао ничтожно» и одновременно «Дао… неисчерпаемо» [28].
Однако вывод Энгельса явно неполон. Ноль – не просто «важнее и богаче содержанием» других чисел, а являет собой материнскую основу, порождающую совокупность их положительного и отрицательного рядов, всего цифрового континуума.
Об этом же и Вадим Филатов: «Ноль, изображённый в виде круга, указывает на абсолют, пребывающий внутри этого круга. Ноль – соединение бесконечно малых и бесконечно больших величин, исток всех чисел, сам себя замыкающий круг мира. Ноль символизирует как вечность, беспредельность, так и пустоту, несуществование, идеальный, запредельный мир» [29].
К слову сказать, именно обозначающий ноль индийский «кружок» («сунья») в арабской транскрипции стал именоваться «сифр», вошедший в современный лексикон в расширительном толковании как «цифра». Таким образом, любая цифра формально означает «ноль». Здесь пустая (нулевая) величина выступает в виде соединения тождественных по величине положительного и отрицательного числовых рядов, манифестируя собой пустое множество. При этом каждый обособленно взятый элемент этого множества отличен от нуля.
Где-то в схожем направлении выстраивает свои взгляды Готлоб Фреге, определяющий ноль как множество нетождественных себе объектов, что по сути и являет собой математическое выражение антисимметрии мира.
Выражением способности нуля делиться на биполярные пары выступает его четность. Ноль является четным числом, поскольку он граничит с нечетными и обладает всеми свойствами, присущими четным числам. Более того, как подмечают математики, он без остатка делится не только на 2, но и на все степени двойки, что возводит его в ранг наиболее четных чисел из всех четных.
Наряду с этим, ноль выступает как самое устойчивое число, поскольку «подпирается с разных сторон» противопоставленными числовыми рядами, и в силу этого же фактора способен к проявлению востребованной изменчивости, т. е. переходу к состоянию неустойчивости, биполяризуясь на разнополярные числовые ряды и как бы сбрасывая в них «приступы» избыточной возмущенности для восстановления своей стабильности.
Отдадим здесь должное прозорливости Никомаха, заявляющего об устойчивости нечетности и неустойчивости четности [30]. Четность всегда выражает раздвоение единичности на пару контрарных сторон, жаждущих соития и удерживающихся обособленно лишь силой их разъединения. При этом ноль как самое четное из четных чисел способен проявлять свойства самого неустойчивого числа из всех возможных, поскольку имеет бесконечное количество опций разъединения на парные взаимонейтрализующие стороны, что опять-таки свидетельствует о его исключительной устойчивости в виде способности подстраиваться под обстоятельства: когда его начинает распирать возбужденность от внутренних флуктуаций, он «разнуляется» на разнополярные числовые ряды, «сбрасывая в них» свою избыточную возмущенность, а при нормализации ситуации вновь «зануляется», втягивая в себя эти числовые ряды и обращая их в свое нулевое значение.
В математике, равно как и в реальном мире, существует лишь один способ стать иным, оставаясь самим собой – биполяризация исходного качества на взаимоуничтожающие составляющие, противоборство которых позволяет сохранять начальный статус в их единстве (совокупности) и отличаться от него в их разрозненности.
В рассматриваемом аспекте крайне любопытны заключения Освальда Шпенглера о различиях в понимании нуля на Востоке и на Западе. По его мнению, в Древней Индии концепция нуля как настоящего числа была адекватна концепции «ничто», не-бы-тия. Позже ноль, претерпев трансформацию в арабской математике, пришел на Запад в совершенно ином, извращенном своем понимании. Здесь он был введен Штифелем в 1544 г. не в качестве тождества «ничто», а в роли некой середины между «+1» и «-1», став сечением в линейном числовом континууме [31]. Впрочем, оба эти подхода, как видим – лишь проявления единой сути.
Биполярное разделение нуля на расходящиеся ряды чисел – противопоставленные множества – образно выразим понятием «разнуление» по аналогии с использовавшимся в древнерусских летописях «размирением» (изначально – «розмирьем»), к примеру, «межкняжеским», означавшим возникновение внутриусобицы, фрагментацию некогда единого целого на непримиримые, враждующие друг с другом стороны, что в философии обозначается борьбой изначально единых противоположностей. Нечто схожее Рудольф Штейнер называет «органическим расчленением единства». Обратный «разнулению» процесс – «зануление» – схож с древнерусским «замирением» и философским единением тех самых конфликтующих сторон.
В культуре майя в схожей нулевой ипостаси выступал их главный бог творец мира Ицамна. Он воплощал в себе космос (являлся Владыкой мира) и одновременно представал как бог дневного и ночного солнца (Дня и Ночи), в котором сходились все двойственные (биполярные) противоположности. Через эту религиозную интерпретацию майя и воспринимали космос как совмещение несовместимых сторон единого.
Итак, математически выражающий пустоту ноль выступает одновременно в виде отсутствия какого бы то ни было значения и в виде совокупности тождественных по значению взаимоподавляющих (сводящихся к нулю) положительного и отрицательного множеств, отличных от нуля в своей частности. Очевидно, что данное свойство должно быть экстраполировано и на саму пустоту как субстрат мира, равно как и на все, что этот мир составляет. И это, наряду с материализмом и идеализмом в философии, являет собой еще один пример отражения биполяризации в человеческом сознании, постигающем принципы мироустройства.
Выражение Арнольда Тойнби «Бог-математик, похоже, вырождается в Бога-вакуум» [32] совсем не про «пустогенез», но по форме весьма точно отражает суть проблемы.
С давних времен наука устами Галилео Галилея утверждает, что «книга природы написана на языке математики» [33], но мы видим, что в основу этой коронованной науки наук (хотя злые языки называют ее «служанкой всех наук») положено разделение всех чисел на положительный и отрицательный числовые множества (ряды положительных и отрицательных чисел), распределенные относительно нуля и суммарно в своей совокупности равные нулю. Все числа рождаются, симметризируясь относительно нуля, и уничтожаются, суммируясь, в тот же ноль, в ничто. Наряду с этим, симметризированно относительно нуля распределяются и фундаментальные арифметические операции: сложение, умножение и возведение в степень – с одной стороны; вычитание, деление и логарифм – с другой. В своей частности все они направлены на обособление математических величин, но в своей совокупности ориентированы на их ничтожение, сведение к нулю.











