Читать онлайн Большевики. Криминальный путь к власти
- Автор: Юрий Барыкин
- Жанр: Популярно об истории
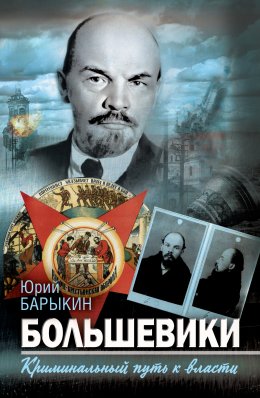
В авторской редакции
Художник О.В. Зайцева
© Барыкин Ю.М., 2025
© ООО «Издательство Родина», 2025
Деньги «товарища» Ленина
(Полные выходные данные книг, указанных в примечаниях, см. в списке использованной литературы)[1]
Откуда брались деньги у партии большевиков? Сколько их было, если хватало не только на революционную деятельность, не только на финансирование многочисленных партийных съездов и конференций в самых дорогих странах Европы, но и на комфортную жизнь высшего и среднего эшелона большевистского руководства в «загнивающих», согласно К. Марксу, странах Запада?
Для ответа на этот вопрос советским историкам пришлось придумывать байки о «партийных взносах русских пролетариев», что являлось чистейшей выдумкой: не существует заслуживающих доверия свидетельств того, что какие-то значительные суммы, собранные рабочими хоть какого-нибудь завода или фабрики, перевозились за границу, зато в наличии большое количество фактов выплат со стороны заграничных «революционеров» рабочим, например за участие последних в забастовке или очередной манифестации. Да еще глухо сообщать о «добровольных взносах» фабриканта Саввы Морозова и пожертвованиях «пролетарского писателя» Максима Горького, он же – Алексей Максимович Пешков (1868–1936).
Однако при ближайшем рассмотрении вырисовывается совсем другая картина. Да, существовали некоторые пожертвования богатых людей, хотя их «добровольность», как мы увидим на примере того же Саввы Морозова, была весьма относительна. Да, существовали отчисления в партийную кассу от гонораров Горького, самые крупные из которых сопровождались настоящими скандалами. Но все перечисленное было лишь каплей в море большевистских финансов.
Самые главные поступления в копилку «товарища» Ленина, как мы сможем убедиться, обеспечивало то, о чем не только советские, но и некоторые западные, страдающие левизной, историки отчаянно стеснялись говорить.
На практике: большевистская касса пополнялась с помощью террора, грабежей, афер, убийств, а также финансирования со стороны иностранных разведок.
Сразу оговоримся, что кроме большевиков терроризмом и грабежами занимались и другие партии и фракции, боровшиеся с существовавшим в Российской империи государственным устройством. Однако никто, даже знаменитые социалисты-революционеры (эсеры), не мог сравниться с большевиками-ленинцами в криминальной эффективности.
И еще одно: масштабы поступления средств в большевистскую кассу чередовались относительными провалами и резкими всплесками. «Провальным» можно назвать период вплоть до конца 1904 года. Зато в период с 1905-го по 1911-й дела у «товарища» Ленина и его партии шли весьма и весьма неплохо.
Но обо всем по порядку…
Годы 1904–1911
Японцы и первая «революция»
Начнем с личных свидетельств Владимира Ильича Ульянова, более известного как Ленин (1870–1924), касающихся финансового благополучия его партии в 1904 году.
Так, 31 января Ленин пишет из Женевы Г. Кржижановскому: «У нас нет денег. ЦО заваливает нас расходами, явно толкая нас к банкротству, явно рассчитывая на финансовый крах, чтобы принять экстренные меры, сводящие ЦК к нулю. Две-три тысячи рублей необходимы немедленно и во что бы то ни стало. Непременно и немедленно, иначе крах через месяц полный!» (Ленин В. И. ПСС. Т. 46. С. 351.)
2 ноября он же пишет из Женевы А. Богданову:
«Вообще денежный вопрос самый отчаянный… Надо приложить все усилия, чтобы достать большой куш. Теперь только за этим дело, все остальное есть. Но без куша неизбежно такое невыносимое, томительное прозябание, какое мы ведем здесь теперь. Надо разорваться, но достать куш». (Ленин В. И. ПСС. Т. 46. С. 396.)
А теперь о том, как большевики достали тот самый «куш».
Начнем с сотрудничества с иностранной разведкой, которая проявила интерес к «революционному» движению в России после начала Русско-японской войны (январь 1904 – август 1905 г.). И чей интерес нашел отклик в самых разных (хотя и не во всех) антиправительственных партиях.
От лица японской разведки в Европе действовал полковник Акаси.
Для справки: Мотодзиро Акаси (1864–1919). В 1889 году окончил Высшую военную академию Императорской армии в Токио. Учился в Германии. В январе 1901 года назначен военным атташе во Франции. В августе 1902-го становится военным атташе в России, прибыл в Санкт-Петербург 1 ноября 1902 года. С началом Русско-японской войны назначен военным атташе в Стокгольме, активно работает на японскую разведку.
Через Акаси финансировались финские, польские и кавказские сепаратисты в России. В июле 1904 года Акаси встречается в Женеве с теоретиком марксизма и видным деятелем российского и международного социалистического движения Г. В. Плехановым (1856–1918), а также с молодым лидером большевистской фракции РСДРП В. И. Лениным (1870–1924).
Акаси через ряд посредников финансирует проведение Парижской и Женевской конференций революционных и оппозиционных партий, а также проведение в жизнь их решений.
11 сентября 1905 года, после заключения Портмутского мирного договора между Японией и Российской империей, Акаси отозван в Японию. После отчета о проделанной работе он вновь назначается военным атташе в Германии. Однако в 1906 году в России было опубликовано исследование «Изнанка революции. Вооруженные восстания в России на японские средства», в которой освещалась деятельность Акаси. После публикации этой информации в европейских газетах Акаси отозван в Японию.
За свои заслуги перед Японией Мотодзиро Акаси был удостоен титула барона, в 1913 году произведен в генерал-лейтенанты, в апреле 1914-го назначается заместителем начальника Генерального штаба Японии, а в 1918 году назначен генерал-губернатором Тайваня.
Здесь необходимо упомянуть, что деятельную помощь в борьбе с русским самодержавием полковнику Акаси оказывал финский авантюрист, писатель и по совместительству революционер – Конни (Конрад Виктор) Циллиакус (1855–1924).
Интересно, кстати, что названный Циллиакус в течение десяти лет путешествовал по миру и три года (1894–1896) прожил в Японии. По возвращении в 1898 году в Финляндию организовал издание газеты «Свободное слово», а затем стал одним из организаторов Финляндской Партии активного сопротивления. С 1902 года через свою газету пропагандирует идею объединения усилий крупнейших оппозиционных партий.
В феврале 1904 года с Циллиакусом знакомится полковник Акаси. Японский разведчик предлагает финскому революционеру свою помощь и через некоторое время получает от того положительный ответ…
В сентябре-октябре 1904 года прошла Парижская конференция, которая была, по сути, совещанием «революционных» и оппозиционных партий России для выработки плана борьбы с русским самодержавием.
Организаторами конференции были полковник Акаси и Конни Циллиакус. Среди участников, помимо прочих, находим представителей партии социалистов-революционеров (эсеров) во главе с В. М. Черновым (1873–1952) и Е. Ф. Азефом, «Союза освобождения» – с П. Н. Милюковым (1859–1943), Польской социалистической партии (ППС) – с Юзефом Пилсудским (1867–1935), Грузинской партии социалистов-федералистов – с Георгием Деканозовым (Деканозошвили) (1869–1910) – отцом будущего видного деятеля советских спецслужб и дипломата Владимира Георгиевича Деканозова (1898–1953).
Заметим, что представители РСДРП, давшие предварительное согласие на участие в конференции, в последний момент отказались от участия. Г. В. Плеханов (1856–1918), бывший на тот момент безусловным авторитетом в социал-демократической партии и представлявший фракцию меньшевиков, заявил Циллиакусу, что хочет сохранить независимость по отношению к военным противникам царского правительства, то есть Японии. Что же касается более сговорчивого руководителя большевиков Ленина, то у него, вопреки смысловой нагрузке названия его фракции, еще не было того «партийного веса», чтобы изменить решение Плеханова.
Печально знаменитым результатом сотрудничества японской разведки и российских «революционеров» стало так называемое «Кровавое воскресенье». Трагедия 9 января 1905 года была не чем иным, как кровавым эксцессом, целенаправленно спровоцированным эсерами и, по мере возможности, сравнительно ничтожными на тот момент силами большевиков.
Сейчас не является секретом, что «мятежного попа» Г. Гапона (1870–1906) – организатора рабочей манифестации – направляли революционеры, получавшие щедрую финансовую подпитку от Акаси.
Целью провокаторов было попытаться устроить вооруженное восстание в столице империи, что в условиях идущей в то время Русско-японской войны объективно играло на руку врагам России.
Однако трагедия в Санкт-Петербурге 9 января 1905 года, вопреки планам «революционеров», не вылилась в вооруженное восстание. Тем не менее наличие десятков жертв вызвало взрыв возмущения по всей России. С точки зрения японской разведки и российских радикалов, эту ситуацию можно и нужно было использовать в полной мере.
Уже в начале февраля 1905 года в Париже состоялась очередная встреча Акаси и Циллиакуса с эсерами Ф. Волховским (1846–1914) и Н. Чайковским (1851–1926), на которой речь шла о ближайших планах революционеров в условиях разгоравшейся революции. Центральной задачей по-прежнему являлось вооруженное восстание в России, во главе которого, по мысли японца и финна, должна была встать партия эсеров (ПСР) как самая многочисленная, организованная и «боевая» из всех российских революционных партий. Датой проведения вооруженного восстания был намечен июнь 1905 года, однако прежде, по мнению участников февральского собеседования, представителям революционных партий следовало вновь встретиться, чтобы скоординировать будущие действия.
«В результате этой дискуссии, – сообщал Акаси, – при подготовке конференции оппозиционных партий, на которой предстояло выработать план усиления движения к лету, мы решили в полной мере использовать имя Гапона». (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 104.)
12 февраля Акаси телеграфирует из Парижа в Токио:
«Обстановка в России неожиданно ухудшается. Посему нет сомнения, что своей цели – свержения русского правительства – мы непременно добьемся… Поэтому нам следует продолжать поддерживать нынешнее оппозиционное движение, чтобы ослаблять правительство; в июне мы попробуем раздуть всеобщее движение [восстание] под руководством социалистов-революционеров. Это движение определит судьбу и оппозиционных партий. Мы просим японское правительство увеличить субсидирование, дабы вполне обеспечить успех.
По моим подсчетам, необходимо 440–450 тысяч иен, которые следует выплатить в начале мая; выплаты можно произвести и в два этапа». (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 105.)
Итог «рассуждений» генштаба Японии был вполне благоприятным для Акаси и российских революционеров. Было очевидно, что чем хуже будет внутреннее состояние Российской империи, тем лучше будет для Японии.
Тем временем в Европе российские «революционеры»-эмигранты, не брезгуя даже мелочевкой, старались заработать на трагедии в Санкт-Петербурге.
Вот свидетельство профессионального «революционера» П. Н. Лепешинского (1868–1944), также обитавшего в те тревожные дни в сытой Швейцарии.
Получив известия о трагических событиях 9 января 1905 года в Петербурге, П. Н. Лепешинский рассказал обо всем своей жене, тоже большевичке, Ольге Борисовне Лепешинской (урожденной Протопоповой) (1873–1961) – будущему биологу, академику Академии медицинских наук СССР (1950) и лауреату Сталинской премии первой степени (1950), признанной многими специалистами «лжеученой»:
«– На …вот… читай… – прерывающимся голосом произношу я, бросая ей газету, и сам опускаюсь на стул.
Она прочла и тоже разволновалась: и всплакнула, и затанцевала на босу ногу, и прокричала ура… У нее тотчас родилась в голове идея: во что бы то ни стало опередить меньшевиков и эсеров, пока те еще будут раздумывать, что им предпринять, и обойти как можно скорее и как можно больше кварталов с подписным листом: “на русскую революцию”. Для этого нужен только бланк с партийной печатью. Наша экспедиция его, конечно, выдаст. Нельзя только терять времени: ни четверти часа, ни минуты, ни секунды.
Она быстрее, чем при пожаре, одевается, бежит в экспедицию, получает подписные листы, прихватывает двух-трех сподручных большевиков (или большевичек), и вот уж они мчатся по улице, заходя из дома в дом…
Обегав в течение 2–3 часов главнейшие фешенебельные улицы Женевы, жена успела собрать по подписке около двух или трех тысяч франков. Когда спохватившиеся меньшевики вздумали было пуститься по ее следам с намерением тоже постричь немножко женевскую буржуазию, было уже поздно. Недоумевающий буржуа очень подозрительно встречал новых пришельцев и заявлял, что у него уже были русские революционеры, и он уже отдал свою дань сочувствия русской революции». (Лепешинский П. Н. На повороте. С. 207.)
Не здесь ли лежат корни эпизода с «сыновьями лейтенанта Шмидта», столь гениально отраженного Ильфом и Петровым в своем «Золотом теленке»?
Кстати, продолжение истории «женевских денег» для большевиков имело примерно то же завершение, что и официальная советская версия похождений «великого комбинатора» Остапа Бендера.
В отместку за большевистские происки на улицах Женевы меньшевики объявили общий митинг русских эмигрантов, собравший «колоссальную толпу слушателей».
На этом митинге сумели выступить ораторы от всех фракций, включая Воинова (Луначарского), получившего инструкции лично от Ленина. Однако меньшевики никому не уступили пальму первенства, что привело к вполне прогнозируемому финалу.
П. Н. Лепешинский: «На наше требование отдать нам из общей кассы причитающуюся нам по договору долю сборов с митинга меньшевики реагировали насмешливым отказом:
– Зачем же, – получили мы в ответ ироническую фразу, – и ваша доля, и наша доля – все это пойдет на общее дело революции… Можете быть совершенно спокойны на этот счет…» (Лепешинский П. Н. На повороте. С. 211.)
Пришлось Ленину с подельниками удовлетвориться теми крохами, что собрала жена Лепешинского. Можно с известной долей осторожности предположить, что не все «две или три тысячи франков» пошли на пиво и колбаски для вождей, а что-то было все-таки истрачено на борьбу с «кровавым режимом» Романовых.
Выполняя договоренности, достигнутые на встрече в Париже в феврале 1905 года, «эсеры обратились к Гапону с просьбой помочь организовать новую межпартийную конференцию с непременным участием в ней социал-демократов. Гапон откликнулся… “открытым письмом” ко всем революционным партиям. Большевики устами Ленина, который специально встречался с мятежным попом в середине февраля, с готовностью поддержали новое межпартийное начинание. В принципе, против практического сотрудничества с эсерами не стали возражать и меньшевики». (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 114.)
В итоге в апреле 1905 года прошла так называемая Женевская совместная конференция революционных партий России.
В конференции участвовали 11 революционных партий. После того как меньшевики во главе с Плехановым отказались от участия, делегация большевиков во главе с Лениным стала единственным представителем РСДРП, получив свою долю финансирования, полагавшуюся каждому участнику. Вообще, именно в этот период времени Владимир Ильич становился совершенно самостоятельным игроком на российском политическом поле.
Отметим здесь, что «инициатива видного немецкого марксиста Карла Каутского о слиянии двух фракций РСДРП на этой почве не нашла поддержки у большевиков. Ленин и его сторонники последовательно добивались самостоятельного и отдельного от меньшевиков представительства на будущем форуме». (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 115.)
Настолько самостоятельным, что на конференции большевистский вождь позволил себе поскандалить. Возмутившись явным перевесом на форуме эсеров, Ленин потребовал удалить представителей Латвийского социал-демократического союза, существовавшего якобы только на бумаге. Когда ленинский протест отклонили, он придрался к отсутствию ряда социал-демократических партий, сделав вид, что не знает, что на предложение об участии в конференции эти партии ответили отказом. Затем мишенью стала Финляндская партия активного сопротивления, которая, по мнению Ленина, не являлась социалистической. (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 118.)
В итоге 3 апреля, на второй день работы конференции, представители большевиков, Латвийской СДПР, Бунда и Армянской СДР (социал-демократической рабочей организации) покинули зал заседания.
Для чего этот конфликт понадобился Ленину? Ведь с уходом сразу четырех партий единый фронт против российского правительства рухнул. Это с одной стороны. Но с другой, устроив скандал, Ленин подчеркнул свои претензии на собственную руководящую роль теперь уже во всем антиправительственном действе.
Историк Д. Павлов: «Женевская межпартийная конференция сыграла важную роль в установлении временного альянса российских партий. Главную цель его явные и тайные вдохновители видели в том, чтобы организовать серию вооруженных акций в России и тем самым дестабилизировать внутриполитическое положение в стране. Центральное значение в этом плане придавалось вооруженному восстанию в Петербурге, которое должно было начаться летом 1905 г. Для его подготовки Акаси и Циллиакус привлекли Азефа, который не только был посвящен во все подробности, но и должен был возглавить “Объединенный комитет” (или “Объединенную боевую организацию”, ОБО) для подготовки приемки оружия в России и руководства восстанием». (Павлов Д. Русско-японская война 1904–1905 гг. С. 230–231.)
Для справки: Евно Фишелевич (Евгений Филиппович) Азеф (1869–1918) – революционер-провокатор, работал одновременно и на Боевую организацию эсеров, и на Департамент полиции, что позволяло ему не только обогащаться, но и, посредством реализации различных хитроумных комбинаций, щекотать себе нервы. Как глава Боевой организации участвовал в убийстве великого князя Сергея Александровича, как агент Охранного отделения сдал полиции множество революционеров. В 1908 году был разоблачен как провокатор и едва унес ноги от разъяренных бывших однопартийцев, укрывшись под чужим именем в Германии.
Но вернемся в 1905 год, когда Евно Фишелевич еще успешно продолжал свою опасную игру.
Впервые о затеянной Циллиакусом доставке оружия различным революционным организациям Азеф сообщил Л. А. Ратаеву (1857–1937) – начальнику Особого отдела Департамента полиции, заведующему заграничной агентурой, – в письме от 9 февраля 1905 года и, вероятно, настолько заинтересовал этим своего полицейского шефа, что в дальнейшем весьма подробно информировал его обо всех шагах финского «активиста». К тому же сообщение Азефа совпадало с информацией, приходившей в охранное отделение по другим каналам.
Однако когда план стал приобретать более или менее реальные очертания, Азеф, следуя своей обычной манере, начал постепенно сокращать количество «отпускаемой» информации, используя столь же свойственный ему прием полуправды.
Историк Инаба Чихару: «Постоянно находясь под угрозой разоблачения, Азеф, однако, никогда не был до конца откровенен ни со своим полицейским начальством, ни с соратниками по партии, ни с японцем и его ближайшим окружением. В той или иной степени он умудрялся всех их водить за нос. Так, отлично зная Акаси и даже получая от него значительные суммы, в феврале-марте 1905 г. в своих донесениях Ратаеву Азеф упорно “наводил” полицию на Циллиакуса, указывая на его японские связи, но не говорил ни слова о своих собственных контактах с японским полковником. Но с конца апреля 1905 г., когда планы закупки оружия и его переправки в Россию стали приобретать более или менее конкретные очертания, Азеф постепенно перестал информировать своего полицейского шефа о Циллиакусе, вероятно, опасаясь быть скомпрометированным в революционных кругах и одновременно не желая лишаться возможных японских “доходов”». (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 158–159.)
По оценке японского полковника, итоги Женевской конференции позволяли смотреть на развитие революционной ситуации в России с большим оптимизмом.
«Женевская конференция, – доносил Акаси в Генштаб 12 апреля 1905 г., – вынесла решение возложить на русского царя ответственность за прошлые и будущие кровопролития… Большой бунт должен начаться в июне, так что оппозиция прилагает все новые и новые усилия, чтобы приобрести оружие и взрывчатку. День восстания еще не назначен, но будет безопаснее переправить оружие морем». (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 120–121.)
Окончание работы конференции по времени совпало с решением Токио выделить крупные средства на финансирование русской революции.
Леонид Борисович Красин
Теперь разберемся, что позволило большевикам за время, прошедшее после Парижской конференции 1904 года, прибавить амбиций столь явно.
Дело в том, что в конце января 1905 года Петербургский городской комитет РСДРП создал Боевую техническую группу (БТГ), чтобы руководить борьбой против правительства. Первым руководителем БТГ был Н. Е. Буренин (1874–1962).
Хотя вначале группа была не слишком активна, сам факт ее наличия поднимал Владимиру Ильичу настроение. И самое ближайшее будущее вполне оправдало его ожидания.
С 12 (25) апреля по 27 апреля (10 мая) 1905 года в Лондоне прошла встреча руководства большевистской фракции, громко названная III съездом РСДРП.
Присутствовало 24 делегата с решающими голосами и 14 – с совещательными. Все делегаты были представителями фракции большевиков. Прочие фракции РСДРП на съезде отсутствовали. Сей факт привел к тому, что позднее решением V съезда РСДРП 1907 года лондонским посиделкам большевиков было отказано в официальном статусе «съезда РСДРП».
Тем не менее свои локальные задачи большевики решили. Прежде всего избрали ЦК в составе: Ленин, А. Богданов, Л. Красин, Д. Постоловский (Александров) и А. Рыков.
Между членами ЦК обязанности распределились так: Ленин – ответственный редактор Центрального Органа (ЦО) и председатель ЦК за границей (кроме того, создавалось Заграничное бюро ЦК, секретарь – Н. К. Крупская). Богданов – ответственный редактор и организатор всей литературной части в России. Рыков и Постоловский – партийно-организационная работа в России. Красин – ответственный финансист и «транспортер». (Авторханов А. Происхождение партократии. Т. 1. С. 110.)
Заметим еще, что вскоре ЦК был разделен на две части: одно бюро ЦК – для работы за границей, другое бюро – для работы в России. Это второе носило название «Русское бюро ЦК РСДРП» и находилось в Петербурге. В его первом составе: Богданов, Постоловский и Красин.
После лондонской встречи большевистского руководства БТГ перешла под контроль ЦК, связь с которым осуществлял Леонид Борисович Красин, ставший вскоре единственным реальным руководителем группы. На этом поприще Красин, имевший вполне легальный статус инженера, развернулся вовсю.
Несколько слов об этом незаурядном человеке.
Красин Леонид Борисович (1870–1926) – родился в Кургане, Тобольской губернии, в семье полицейского чиновника. Окончил Александровское реальное училище в Тюмени. В 1887–1891 гг. учился в Санкт-Петербургском технологическом институте. Сотрудничал с марксистским кружком Брусенева. За участие в студенческой демонстрации арестован и исключен из института. В 1895 году по делу Брусенева в очередной раз арестован и приговорен к ссылке, высылки в которую дожидался в тюрьме.
Биограф Леонида Красина Тимоти О. Коннор пишет: «Пока Красин сидел в тюрьме, он сам, брат Герман, мать Антонина Григорьевна – все хлопотали об изменении места его пребывания в ссылке – вместо Вологодской губернии на Иркутск. В феврале 1895 г. Леонид принял присягу на верность Императору Николаю II. В прошении на имя министра внутренних дел он писал, что страдает хронической болезнью дыхательных путей, которая может обостриться в сыром и холодном климате Яренского уезда, и что в Иркутске он скорее сможет получить медицинскую помощь, к тому же там живет его семья. Герман ходатайствовал за брата перед властями Петербурга, а Антонина Григорьевна перед генерал-губернатором Иркутска». (О. Коннор Т. Э. Инженер революции. Л. Б. Красин и большевики 1870–1926. С. 34–35.)
Герману и Антонине Григорьевне удалось убедить власти. 31 марта 1895 года Леонида Борисовича освободили из тюрьмы. И последний, как и подобает настоящему революционеру, тут же забыл о собственной недавно принятой присяге.
Осенью 1897 года Харьковский технологический институт принял Красина на третий курс химического факультета. Продолжая обучение, он продолжал и участие в студенческих волнениях. Это обернулось тем, что, закончив институт в июне 1900 года, Красин получил диплом только год спустя.
И опять же, задержка не помешала Красину, получив приглашение от бывшего однокурсника по Петербургскому технологическому институту Классона, выехать из Харькова в Баку для работы в только что созданном акционерном обществе «Электросила».
В конце июня того же 1900 года Леонид Борисович приезжает в Баку, где руководит постройкой электростанции «Электросила», а заодно организовывает крупную нелегальную типографию «Нина», на которой печатается газета «Искра».
Необходимость добывать деньги для «Нины» побуждала Красина совершать нестандартные шаги.
«Немалые деньги добывались путем организации музыкальных и вокальных вечеров и показов спектаклей в домах нефтепромышленников и торговцев. На них, как правило, приходили богатые покровители всяческих искусств, каждый из которых платил за вход по 50 рублей, вовсе не зная, куда пойдут деньги. Однако Красин организовывал вечера, концерты и спектакли не только для избранной публики, но и для многочисленных аудиторий, приглашая артистов из других городов. Здесь нелишне вспомнить о двух бенефисах в Баку в январе 1903 г. В. Ф. Комисаржевской, причем одно из выступлений состоялось в доме начальника полиции. Актриса заработала для подпольной прессы несколько тысяч рублей. Кроме того, Красин устраивал аукционы, организовывал чтение лекций, проводил лотереи…» (О. Коннор Т. Э. Инженер революции. Л. Б. Красин и большевики 1870–1926. С. 51.)
Говоря здесь о легальных финансах, надо заметить, что еще летом 1902 года видный деятель российского и германского социал-демократического движения Израиль Лазаревич Гельфанд, более известный как Александр Парвус (1867–1924), основал агентство, которое занималось охраной авторских прав российских литераторов. Одним из таковых был М. Горький (1868–1936), чьи произведения произвели фурор в Европе. Успех настолько вдохновил Парвуса, что тем же летом 1902 года он рискнул совершить краткую нелегальную поездку в Россию. На берегу Черного моря, в районе Севастополя Парвус и Горький заключили соглашение: Горький поручал Парвусу оберегать свои авторские права в Европе, за что Израилю Лазаревичу полагалось 20 % от суммы, вырученной по каждому контракту. Самого Горького устроила одна четверть от оставшегося, остальное же должно было передаваться в кассу большевистского крыла РСДРП. (Сикорский Е. А. Деньги на революцию: 1903–1920. С. 165.)
Вскоре на подмостках театров Германии с большим успехом прошла пьеса Горького «На дне», которая только в Берлине выдержала более 500 постановок.
Позднее, однако, выяснилось, что никто, кроме Парвуса, никаких денег не получил. По жалобе Горького, в начале 1908 года дело о мошенничестве Парвуса рассматривал третейский суд в составе видных германских социал-демократов А. Бебеля, К. Каутского и К. Цеткин. Парвус был морально осужден. Этот скандал заставил его перебраться сначала в Вену, а затем и вовсе в Турцию, где летом того же 1908 года был свергнут султан Абдул-Хамид II.
Вышесказанное демонстрирует явную преувеличенность рассказов советских историков об огромных инвестициях Горького.
Возвращаясь к Красину, отметим, что Леонид Борисович пошел на контакт с конкурирующими «революционными» организациями. Кроме «Искры», в типографии «Нина» печатали газету «Южный рабочий», а с сентября 1901 года – газету на грузинском языке «Брдзола» (Борьба). Передовая статья первого номера последней принадлежала двадцатидвухлетнему Иосифу Джугашвилли. Эта статья является первой известной политической работой И. В. Сталина (1878–1953).
В 1904 году Красин, через посредство старого революционера Н. М. Флерова, устанавливает связь с Горьким, который к тому времени уже был в дружеских отношениях с крупным предпринимателем и меценатом Саввой Тимофеевичем Морозовым (1862–1905).
В результате усилий Горького Красин входит в окружение Морозова, переезжает летом 1904 года из Баку в Орехово-Зуево, где руководит модернизацией электростанции на фабрике Саввы Тимофеевича.
Перебравшись ближе к центру Российской империи, что облегчало «общение» с ЦК, и став во главе БТГ, Красин добивается значительных успехов.
Историк Т. О. Коннор: «Одной из причин переподчинения БТГ ЦК являлась необходимость распространения ее деятельности за пределами Петербурга. Красин создал по всей империи обширную сеть организаций, занятых производством, покупкой, транспортировкой и хранением взрывчатки и оружия. БТГ имела прочные связи с социал-демократами Москвы, Киева, Урала, Закавказья и Прибалтики, снабжая их вооружением и готовя к восстанию против правительства». (О. Коннор Т. Э. Инженер революции. Л. Б. Красин и большевики 1870–1926. С. 74.)
Но особо важным «оперативным районом» стала Финляндия, имевшая во многих отношениях исключительное положение в Российской империи, где Охранное отделение так и не сумело наладить такой же полномасштабный и эффективный контроль, как в других регионах. Высокопоставленные финские чиновники, включая полицейских и таможенников, сочувствовали освободительному движению. В частности, заместитель полицмейстера Гельсингфорса (Хельсинки) оказывал революционерам неоценимые услуги, предупреждая о готовящихся арестах и способствуя переправке через границу людей и нелегальных грузов.
Гельсингфорс вообще стал важнейшим центром деятельности БТГ, а ее главной опорной базой – Гельсингфорсский университет. Через своих людей в университете БТГ отправляла и получала корреспонденцию, используя секретные коды, шрифты и симпатические чернила, добывала паспорта и другие документы для выезда за границу, устраивала конспиративные квартиры для размещения революционеров на пути из Западной Европы в Россию и обратно.
БТГ доставила в Петербург «северным путем» из Финляндии довольно значительное количество взрывчатки и огнестрельного оружия. Однако для масштабного вооруженного восстания всего этого было недостаточно.
Надо сказать, что Красин непрерывно совершенствовал технику конспирации: все члены БТГ имели клички и пользовались такой системой связи, при которой арест одного из них не должен был повлечь провала всей группы.
Сам Леонид Борисович, дорожа своим легальным положением, пользовался сразу несколькими кличками: «Никитич» (самая известная), «Финансист», «Зимин», «Винтер», «Иогансен», «Николаев», а также «Лошадь» – из-за своей непреодолимой тяги к тотализатору.
Однако совершенствовалась не только конспирация. Не довольствуясь закупками динамита в Финляндии, Красин приказал химикам наладить производство взрывчатки в самом Петербурге.
Леонид Борисович располагал превосходными экспертами по вопросам взрывчатых веществ. Одним из членов боевого технического бюро в «старой столице» был знаменитый руководитель Московской обсерватории профессор Павел Карлович Штернберг, другим – будущий нарком образования и член Политбюро Андрей Бубнов, ходивший в «боевых технических» акциях под кличкой Химик. (Бьеркегрен Х. Скандинавский транзит. С. 45.)
В дополнение к этому еще в начале 1905 года в Болгарию отправился М. Н. Скосаревский (партийная кличка «Омега»), химик по образованию, чтобы получить консультацию у известного анархиста и мастера по изготовлению бомб Наума Тюфекчиева, жившего в Македонии. В мае Скосаревский вернулся в Петербург с необходимыми светокопиями, таблицами, графиками и инструкциями по производству бомб в чугунной оболочке. БТГ немедленно организовала производство ручных гранат по модели Тюфекчиева, названных «Македонец» (так в тексте русского перевода; такая ручная граната называлась «Македонка». – Ю.Б.). (О. Коннор Т. Э. Инженер революции. Л. Б. Красин и большевики 1870–1926. С. 73.)
Большевик Николай Буренин пишет о деятельности БТГ в Петербурге: «Мы решили открыть на Малой Охте, в одном из переулков, сплошь заселенном кустарями-ремесленниками – столярами, мебельщиками, гробовщиками, сапожниками, – мастерскую “по производству фотографических аппаратов”. На деле в этой мастерской изготовляли не фотографические аппараты, а динамит, пикросилин, гремучую ртуть». (Буренин Н. Е. Памятные годы. С. 58–59.)
В июле 1905 года БТГ была реорганизована и разделена на две подгруппы: «химическую», занятую производством взрывчатки, и «техническую», которой поручались доставка, транспортировка и хранение оружия, а также обучение дружин для вооруженного восстания. (О. Коннор Т. Э. Инженер революции. Л. Б. Красин и большевики 1870–1926. С. 73.)
Сам Красин работал над усовершенствованием стрелкового оружия. Так, «он модернизировал знаменитую винтовку Браунинга, приспособив ее для боевых действий в условиях города. Для опробования новой взрывчатки и оружия БТГ нуждалась в полигоне. Игнатьев предоставил для этих целей свое поместье близ Гельсингфорса, где иногда сам Красин лично испытывал новые образцы бомб и стрелкового оружия, прежде чем запускать их в производство». (О. Коннор Т. Э. Инженер революции. Л. Б. Красин и большевики 1870–1926. С. 75.)
Кстати, упомянутый Игнатьев (кличка Григорий Иванович) был сыном известного петербургского ветеринарного врача М. А. Игнатьева (1850–1919), получившего за свои заслуги чин действительного статского советника и правовой статус потомственного дворянства, и активно использовал имение своих родителей Ахи-Ярви, расположенное на Финляндской границе, в целях БТГ. (Пролетарская революция. Исторический журнал. № 1 (48). М.,; Л.: Государственное издательство, 1926. С. 131.)
Бомбы и «адские машины» от БТГ были столь хороши, что эсеры были поражены качеством большевистских взрывных устройств.
Созданные техниками БТГ бомбы использовались большевиками не только для проведения терактов, но и, путем продажи «коллегам», для пополнения партийной кассы, что в сочетании с «иностранными инвестициями» давало неплохие результаты.
Общая сумма средств, которыми в 1905 году располагала большевистская организация, была очень значительной. Так, не кто иной, как Красин, заявил профессору М. М. Тихомирову, скептически относившемуся к возможности собрать достаточное количество денег для вооружения боевиков: «Да совсем не в деньгах дело! У нас их столько, что я мог бы на них купить не жалкие револьверы, а самые настоящие пушки. Но как их доставить, где спрятать? Вот в чем дело». (Валентинов Н. Недорисованный портрет. С. 287.)
Водные приключения
Действительно, проблема была уже не в деньгах, их нужно было обратить в оружие и доставить его в Россию. А главное, и самое болезненное, – разделить между революционными организациями.
Тут, естественно, не обошлось без «революционных разборок». Так, Циллиакус предлагал передать львиную долю выделенных Токио средств на организацию вооруженного восстания, покупку оружия и доставку его в Россию – эсерам. Поляки, грузины и финны шли следом. Большевикам, по плану Циллиакуса, не доставалось ничего. (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 124.)
Ленин, разумеется, был глубоко возмущен таким отношением собратьев по антиправительственной деятельности. Несмотря на это, «караван двинулся в путь».
«Покупать вооружение было тяжелой задачей, – вспоминал позднее Акаси. – Главным образом потому, что каждая партия предпочитала свой вид оружия. Рабочие по составу партии, как социалистов-революционеры и польские социалисты, не любили ружья. Напротив, финны и кавказцы, в рядах которых было много крестьян, отдавали предпочтение именно им». Действительно, купить десятки тысяч винтовок и револьверов, миллионы патронов к ним и несколько тонн взрывчатых веществ так, чтобы об этом никто не узнал, было весьма непросто. Еще сложнее было нелегально доставить все это из Западной Европы в Россию». (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 133–134.)
Именно из-за технических сложностей вооруженные восстания в России начались не летом, а лишь зимой 1905 года. Да и зимние боевые акции стали возможными в основном потому, что Акаси в полной мере проявил свой талант агента разведки, который был в дальнейшем столь щедро вознагражден японским правительством.
Чтобы представить, о какого масштаба поставках идет речь, расскажем, например, о покупке 15 тысяч винтовок «Веттерли», незадолго до описываемых событий, снятых с вооружения швейцарской армии, и двух с половиной миллионов патронов к ним. Все это было приобретено агентами Акаси непосредственно на армейском складе в Базеле.
В интересах конспирации все расчеты были произведены наличными, причем в качестве покупателя выступал Г. Деканозов, которому Акаси загодя выдал необходимую сумму. (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 135.)
В соответствии с контрактом перед отправкой оружие и боеприпасы сотрудники швейцарского арсенала упаковали самостоятельно. В середине июля вновь смазанные и запакованные в 2500 тысячи ящиков, эти винтовки по железной дороге Бо (агент Акаси. – Ю.Б.) переправил из Базеля в голландский порт Роттердам. Предприятие было сопряжено с большим риском – в случае разоблачения таможенные службы Швейцарии и Голландии имели все основания изъять этот груз. Скрытно переправить его было невозможно уже по одному тому, что для его перевозки понадобилось восемь железнодорожных вагонов. Но удивительным образом все обошлось. (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 135–136.)
Следующим шагом было приобретение кораблей для перевозки смертоносного груза в Россию. Основной «грузовик» был куплен в Великобритании. Им стал пароход «Джон Графтон», покупку которого, за соответствующие деньги, оформил на себя лондонский виноторговец Роберт Дикенсон. Кроме того, были приобретены две яхты – «Сесиль» и «Сизн». (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 138–139.)
«Треть винтовок и чуть более четверти боеприпасов, – сообщает Акаси, – предполагалось направить в Россию через Черное море, а остальные – в Балтику. С помощью торгового агента фирмы “Такада и К” и некоего англичанина эта часть оружия (по разным данным, 15,5–16 тыс. винтовок, 2,5–3 млн патронов, 2,5–3 тыс. револьверов и 3 тонны взрывчатых веществ) была перевезена сначала в Роттердам, а затем в Лондон, выбор которого как места базирования… объяснялся слабой работой здесь русской полиции. Сразу же стало ясно, что ранее купленные паровые яхты “Cecil” (Сесил) и “Sysn” (Сизн) слишком малы для транспортировки этого груза. Поэтому в экспедиции им была отведена вспомогательная роль, а при посредстве делового партнера “Такада и К” Уотта был приобретен главный перевозчик оружия – 315-тонный пароход “Джон Графтон”. Сразу же после покупки пароход был формально перепродан доверенному лицу Чайковского – лондонскому виноторговцу Р. Дикенсону, который в свою очередь 28 июля передал его в аренду американцу Мортону, при этом “Джон Графтон” был переименован в “Луну”. Стремясь еще больше запутать возможную слежку, устроители предприятия с помощью того же Уотта купили еще один пароход, “Фульхам”, который должен был вывезти оружие из Лондона и в море перегрузить его на борт бывшего “Джона Графтона”. Став собственностью некой японской фирмы, “Фульхам”, также получивший новое название (“Ункай Мару”), был снабжен документами, удостоверяющими его плавание в Китай». (Павлов Д. Русско-японская война 1904–1905 гг. С. 244–245.)
Приготовления к плаванию удалось завершить к концу июля 1905 года. Смертоносный груз должен был быть выгружен в нескольких пунктах, в том числе близ Выборга. По плану организаторов, после выгрузки оружие должно было быть распределено между финскими, латышскими и эсеровскими боевиками, часть его должна была достаться рабочим из гапоновских организаций.
Зная о закупках на японские деньги оружия за границей, а также о том, что Ленину не удалось выговорить «долю малую» для большевиков, Красин подключился к охоте на груз «Джона Графтона».
Т. О. Коннор: «Красин попытался сделать так, чтобы вся партия оружия попала в руки большевиков. По его просьбе Буренин и Горький встретились в Финляндии с Гапоном, объяснили ему, насколько большевики нуждаются в оружии, и убедили передать их партии весь груз парохода. Красин рассчитывал направить судно к побережью Эстонии, где Литвинов приготовил ямы, чтобы спрятать оружие, прежде чем везти его в Петербург». (О. Коннор Т. Э. Инженер революции. Л. Б. Красин и большевики 1870–1926. С. 76.)
Заметим, что этот замысел Леонида Борисовича, удайся он, неминуемо привел бы к прямой конфронтации не только с японской разведкой в лице полковника Акаси, но и с финскими, а главное – с эсеровскими боевиками – предполагаемыми получателями груза. Но – не случилось.
И еще обстоятельство: большевикам особенно трудно было рассчитывать на щедрость эсеров – главных бенефициаров операции японской разведки, после вышеупомянутой апрельской выходки Ленина на Женевской конференции. А нужда в оружии была несомненной, несмотря на все успехи красинской БТГ.
После нескольких неудачных попыток выйти на след «Джона Графтона» большевики вновь «раскололи» Гапона, который пообещал передать им часть смертоносного груза. Однако Рутенберг, которого эсеры направили в Петербург для организации встречи «Джона Графтона», не доверял Гапону и в последний момент лишил того доступа к информации о передвижении корабля.
Забегая вперед, сообщим, что «неуязвимый» священник Георгий Гапон был убит на даче близ станции Озерки в марте 1906 года боевиками-эсерами под руководством того самого Пинхуса Моисеевича Рутенберга (1878–1942), будущего лидера сионистского движения и создателя Американского еврейского конгресса, который помогал «мятежному попу» организовывать «Кровавое воскресенье» 9 января. Вполне возможно, что сдача Гапоном большевикам планов перевозки столь значительной партии оружия послужила дополнительным мотивом для убийства. Но, скорее, приговор был приведен в исполнение, что называется, по совокупности…
Еще одними незапланированными претендентами на оружие выступили финские «активисты», действовавшие без ведома Циллиакуса и решившие самостоятельно принять груз и распределить его по собственному усмотрению.
Известия обо всей этой революционной грызне дошли до Акаси, написавшего позднее в этой связи:
«Я очень тревожился, вполне ли понял капитан, где именно ему следует выгружаться». (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 171.)
26 июля 1905 года «Джон Графтон» покинул Великобританию и 28-го числа бросил якорь в голландском Флиссингене. В тот же день старая (английская) команда сошла там на берег, а ее место занял новый экипаж. Это были 20 человек, в основном финны и латыши. (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 171.)
Трюмы «Джона Графтона» были еще пусты. Его будущий груз ждал на пароходе «Фульхам».
На следующий день, 29 июля, суда встретились близ британского острова Гернси, где прямо в открытом море оружие и взрывчатка были перемещены на «Джон Графтон». Из-за шторма разгрузка-погрузка заняла полных три дня.
«Освобожденный от опасного груза “Фульхам” был тут же формально перепродан японской компании и под именем “Ункай-Мару” отправлен подальше – в Китай. А “Джон Графтон”, нагруженный оружием и боеприпасами, 1 августа двинулся в противоположном направлении – на север, имея конечным пунктом назначения Балтийское море. Формально корабль путешествовал уже как “Луна”, но старое название было замазано на его борту наспех и отлично читалось». (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 172.)
Промежуточная остановка парохода была назначена на 14 августа в Копенгагене. Туда же из Англии направились и обе яхты, имея на своем борту небольшой дополнительный груз оружия. Однако из-за волнения на море «Джон Графтон» прибыл в столицу Дании лишь в 20-х числах августа.
23 августа 1905 года революционеры потеряли яхту «Сесиль», которая подошла к Выборгу и была обнаружена и задержана береговой охраной. (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 174–175.)
Что же касается второй яхты «Сизн», то она, с самим Циллиакусом на борту, направлялась в Стокгольм, где финн рассчитывал забрать 300 маузеров и 200 винтовок, привезенных туда из Гамбурга, и встретиться с Акаси. (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 175.)
Тем временем 9 (22) августа 1905 года в американском Портсмуте начались мирные переговоры делегаций России и Японии.
Невзирая на достигнутые успехи, Япония находилась в крайне затруднительном положении. Несмотря на одержанные победы, силы японской армии были близки к истощению. Понесенные японцами потери, а они, напомним, значительно превышали потери русских войск, было невозможно восполнить. Экономика страны была на грани полного развала.
В ходе переговоров Япония сняла все неприемлемые для России требования и 23 августа (5 сентября) 1905 года Портсмутский мирный договор был подписан. Подписание договора было воспринято японским обществом как унижение и вызвало в Токио массовые беспорядки, в ходе которых «была сожжена резиденция министра внутренних дел, разгромлено 13 церквей, было ранено 500 полицейских и солдат. Количество раненых мятежников оценивается приблизительно в 2 тысячи, убитых – 17, арестованных – в 2 тысячи, обвинения были предъявлены 308 человекам». (Айрапетов О. На пути к краху. Русско-японская война 1904–1905 гг. Военно-политическая история. С. 370.)
Разъяренная толпа разгромила более половины всех полицейских участков города. Мало похоже на празднование победы в войне, не правда ли?
Как бы там ни было, с этого момента Токио потерял всякий интерес к вооруженному восстанию в России и к русской революции вообще. 11 сентября 1905 года Генштаб отозвал Акаси домой, и 18 ноября японский полковник покинул Европу. Таким образом, его миссия, длившаяся все 19 месяцев Русско-японской войны, завершилась.
Итак, Русско-японская война закончилась. Вот только остановить однажды запущенный механизм доставки оружия в Россию японский разведчик Акаси был уже не в состоянии.
В конце августа «Джон Графтон» двинулся в путь из Дании, вошел в Балтийское море, а затем и в его Ботнический залив. Часть оружия была выгружена 4 сентября в районе Кеми, а 6 сентября – близ Якобстадта (финский Пиетарсаари).
Вечером того же дня пароход подошел к острову Ларсмо, где отгрузил на ожидавший его катер до тысячи винтовок и значительное количество патронов. Все это было очень непросто с неопытным экипажем и в дурную погоду. Кроме того, в распоряжении капитана Нюландера не было подробных карт этой малопосещаемой части Балтийского моря. В результате ранним утром 7 сентября, уже на пути на юг, у островка Орскар «Джон Графтон» налетел на каменистую отмель. Команда попыталась переместить оставшийся груз на соседние острова, но это оказалось ей не под силу. Из трюмов удалось извлечь только взрывчатку. На следующий день, 8 сентября, по приказу Нюландера корабль был взорван. (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 182–183.)
Члены экипажа бежали в Швецию. Оружие и боеприпасы, спрятанные на островах, стали легкой добычей полиции.
К концу октября 1905 года жандармами было конфисковано 9670 винтовок «Веттерлей», около 4000 штыков к ним, 720 револьверов «Веблей», около 400 000 винтовочных и порядка 122 000 револьверных патронов, около 192 пудов (свыше 3 тонн) взрывчатого желатина, 2000 детонаторов и 13 футов бикфордова шнура. (Павлов Д. Русско-японская война 1904–1905 гг. С. 253.)
Красин прокомментировал финал истории «Джона Графтона» так: «Наша техническая группа была привлечена к этому делу в его конечной стадии, когда исправить сделанные грубые ошибки уже не было никакой возможности». (Красин Л. Б. (Никитич) Дела давно минувших дней. С. 94.)
О месте разгрузки яхты «Сизн» точных данных нет, однако понятно, что небольшой арсенал, размещенный на ее борту (300 револьверов и 200 винтовок), никакой ощутимой роли в «вооружении пролетариата» сыграть, конечно, не мог.
Более удачно для противников Российского государства сложилась судьба еще одного корабля-перевозчика, зашедшего, так сказать, с другого фланга Российской империи.
Пароход «Сириус» водоизмещением почти 597 тонн был куплен в Голландии на японские деньги по заданию Деканозова в конце августа или начале сентября 1905 Христианом Корнелисеном, голландцем же по происхождению и анархистом по убеждениям. Корнелисен впоследствии стал и капитаном корабля.
На борт судна было загружено порядка 8500 винтовок «Веттерли» и более миллиона патронов к ним.
«22 сентября 1905 г., никем не замеченный, “Сириус” с документами обычного торгового парохода вышел в плавание из Амстердама. Двигался он нарочно не спеша, по пути посещая промежуточные порты якобы с коммерческими целями. В течение всего октября корабль кружил по средиземноморским портам и только в ноябре вошел в Черное море. Несмотря на противодействие пограничников, в течение пяти дней, с 25 по 29 ноября, “Сириус” благополучно опустошил свои трюмы в поджидавшие его в море баркасы в районе Батуми, Поти, Анаклии и Гагры». (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 187–188.)
Впрочем, «опустошить трюмы» полностью не удалось. Подойдя к финальной точке в Гаграх, «Сириус» попал в непогоду.
К ночи, когда три «революционных» баркаса отправились к кораблю, поднялась буря. Два из них дошли только на рассвете, третий сбился с пути и погиб. Сдав две трети груза, корабль ушел в море. (Георгиевский Г. (Г.П.) Очерки по истории Красной гвардии. С. 30.)
Уцелевшие баркасы надеялись разгрузиться в заранее условленном месте, однако, подхваченные сильным ветром, очутились в порту и вынуждены были разгружаться на людном пляже.
Большая часть смертоносного груза была доставлена на берег и унесена прочь, когда прозвучал непреднамеренный выстрел, произведенный одним из грузчиков. На выстрел прибежал жандарм, таможенные досмотрщики, были вызваны казаки. Завязалась перестрелка, в результате которой были ранены казак и двое рабочих. Стражей и казаками были конфискованы 31 ящик винтовок, по 20 штук в каждом, и 54 ящика патронов. Был задержан и один из баркасов. (Георгиевский Г. (Г.П.) Очерки по истории Красной гвардии. С. 30–31.)
Однако эта неприятность не испортила настроения капитану «Сириуса».
«Вся страна была в полном восстании, – вспоминал Корнелисен, – и в гавани царила лихорадочная деятельность. Все шло удачно, и скоро получились доказательства, что посылка оружия произвела сильное действие». (Павлов Д. Русско-японская война 1904–1905 гг. С. 261.)
Что касается самого парохода, то 15 января 1906 г. «Сириус» благополучно вернулся с Кавказа в Амстердам.
Революционный террор
Разумеется, помимо «водных приключений» у российских антиправительственных партий существовали и другие пути поставок оружия из-за границы. Известно, что в период с весны 1904 по конец 1905 года только через Финляндию в Россию революционерами было ввезено свыше 15 000 винтовок и ружей, около 24 000 револьверов и большое количество патронов, боеприпасов и динамита. (Фельштинский Ю. Г. Вожди в законе. С. 36.)
Что касается большевиков, то по закупке и транспортировке оружия в Финляндии усиленно работали ближайший помощник Красина Н. Е. Буренин и А. М. Игнатьев. По части взрывных веществ – Грожан и «Чорт» (Богомолов). (Красная летопись. Исторический журнал. 1931. № 5–6 (44–45). С. 23.)
И если в начале года революционный террор носил выборочный характер, то уже к середине года, а особенно к его концу, благодаря деятельности большевистской БТГ и целого арсенала оружия, доставленного в Россию из-за границы, настоящий кровавый вал накрыл граждан империи.
В октябре 1905 года в Москве началась забастовка, которая переросла во Всероссийскую политическую стачку, объединившую почти 2 миллиона. Стачка сопровождалась ростом числа террористических актов по всей стране.
Историк А. Гейфман: «За один год, начиная с октября 1905-го, в стране было убито и ранено 3611 государственных чиновников… К концу 1907 года число государственных чиновников, убитых или покалеченных террористами, достигало почти 4500. Если прибавить к этому 2180 убитых и 2530 раненых частных лиц, то общее число жертв в 1905–1907 годах составляет более 9000 человек. Картина поистине ужасающая. Подробная полицейская статистика показывает, что, несмотря на общий спад революционных беспорядков к концу 1907 года (года, в течение которого, по некоторым данным, на счету террористов было в среднем 18 ежедневных жертв), количество убийств оставалось почти таким же, как в разгар революционной анархии в 1905 году. С начала января 1908 года по середину мая 1910 года было зафиксировано 19 957 терактов и революционных грабежей, в результате которых погибло 732 государственных чиновника и 3051 частное лицо, а 1022 чиновника и 2829 частных лиц были ранены». (Гейфман А. Революционный террор в России. 1894–1917. С. 31–32.)
17 (30) октября 1905 года был опубликован Манифест об усовершенствовании государственного порядка, который предоставлял политические права и свободы: свободу совести, свободу слова, свободу собраний, свободу союзов и неприкосновенность личности.
Однако революционеры уже почувствовали запах крови.
Террористические акты не прекратились после опубликования Манифеста 17 октября 1905 года, гарантировавшего соблюдение основных прав человека для всех граждан России и представлявшего законодательную власть Государственной думе.
«Наихудшие формы насилия проявились только после опубликования Октябрьского манифеста», когда действия радикалов, направленные на ослабление государства вплоть до его падения, превратили страну в кровавую баню… Были дни, «когда несколько крупных случаев террора сопровождались положительно десятками мелких покушений и убийств среди низших чинов администрации, не считая угроз путем писем, получавшихся чуть ли не всяким полицейским чиновником; … бомбы швыряют при всяком удобном и неудобном случае, бомбы встречаются в корзинах с земляникой, почтовых посылках, в карманах пальто, на вешалках общественных собраний, в церковных алтарях… Взрывалось все, что можно было взорвать, начиная с винных лавок и магазинов, продолжая жандармскими управлениями (Казань) и памятниками русским генералам (Ефимовичу, в Варшаве) и кончая церквами.» (Гейфман А. Революционный террор в России, 1894–1917. С. 29–30.)
«Что касается правительственных служащих, то здесь террор проводился без особого разбора, и его жертвами становились полицейские и армейские офицеры, государственные чиновники всех уровней, городовые, солдаты, надзиратели, охранники и вообще все, кто подпадал под весьма широкое определение “сторожевых псов старого порядка”. Из 671 служащего Министерства внутренних дел, убитого или раненного террористами в период между октябрем 1905 и концом апреля 1906 года, только 13 занимали высокие посты, в то время как остальные 658 были городовыми, полицейскими, кучерами и сторожами. Особенно распространилось среди новых профессиональных террористов обыкновение стрелять или бросать бомбы без всякой провокации в проходящие военные или казачьи части или в помещения их казарм». (Гейфман А. Революционный террор в России 1894–1917. С. 58–59.)
Видя, насколько потрясли Россию теракты, не мог не включиться в сие разрушительное движение и большевистский главарь Ленин.
Вот конкретная его рекомендация:
«Начинать нападения, при благоприятных условиях, не только право, но прямая обязанность всякого революционера. Убийства шпионов, полицейских, жандармов, взрывы полицейских участков, освобождение арестованных, отнятие правительственных денежных средств для обращения их на нужды восстания – такие операции уже ведутся везде, где разгорается восстание, и в Польше, и на Кавказе, и каждый отряд революционной армии должен быть немедленно готов к таким операциям». (Ленин В. И. ПСС. Т. 5. С. 342.)
Как видим, Владимира Ильича мало беспокоила определенно анархическая природа таких действий, и он настоятельно просил своих сторонников не бояться этих «пробных нападений»: «они могут, конечно, выродиться в крайность, но это беда завтрашнего дня… десятки жертв окупятся с лихвой.» (Гейфман А. Революционный террор в России 1894–1917. С. 131.)
В сентябре 1905 года Ленин открыто призывает создавать отряды террористов и забрасывать города Российской империи бомбами:
«Число таких отрядов в 25–75 человек может быть в каждом крупном городе и зачастую, в предместьях крупного города, доведено до нескольких десятков. Рабочие сотнями пойдут в эти отряды, надо только немедленно приступить к широкой пропаганде этой идеи, к образованию этих отрядов, к снабжению их всяким и всяческим оружием, начиная от ножей и револьверов, кончая бомбами, к военному обучению и военному воспитанию этих отрядов.
К счастью, прошли те времена, когда за неимением революционного народа революцию “делали” революционные одиночки-террористы. Бомба перестала быть оружием одиночки-бомбиста… Широкое применение сильнейших взрывчатых веществ – одна из очень характерных особенностей последней войны. И эти, общепризнанные теперь во всем мире, мастера военного дела, японцы, перешли также к ручной бомбе, которой они великолепно пользовались против Порт-Артура. Давайте же учиться у японцев!» (Ленин В. И. ПСС. Т. 11. С. 269–270.)
Говоря о нападениях на собственных граждан в условиях внешней агрессии, Ленин не скрывает своего ликования: «Вдумайтесь в эти сообщения легальных газет о найденных бомбах в корзинах мирных пароходных пассажиров. Вчитайтесь в эти известия о сотнях нападений на полицейских и военных, о десятках убитых на месте, десятках тяжело раненных за последние два месяца. Даже корреспонденты предательски-буржуазного “Освобождения”, занимающегося осуждением “безумной” и “преступной” проповеди вооруженного восстания, признают, что никогда еще трагические события не были так близки, как теперь». (Ленин В. И. ПСС. Т. 11. С. 270–271.)
Что было далее, известно – декабрьское вооруженное восстание в Москве и наведение порядка железной рукой П. А. Столыпина (1862–1911), вызвавшее бурное негодование революционеров всех окрасов и мастей по всему миру.
Мы же отметим, что роль большевиков в истории 1905 года, в частности их очевидное стремление к сотрудничеству с японской разведкой, пополнение партийной кассы самыми грязными способами, а также участие в кровавом терроре, направленном в том числе против рядовых граждан Российской империи, надолго стала одним из главных партийных секретов…
Несмотря на поражение открытого вооруженного выступления, «революционеры» вообще и большевики в частности не опустили рук.
26 февраля 1906 года два десятка латышских боевиков совершили налет на филиал Российского государственного банка в Гельсингфорсе. Организатором экса выступило большевистское руководство в Петербурге, а непосредственное планирование происходило в самом Гельсингфорсе при участии Николая Буренина. Некоторые из налетчиков были арестованы, но большинству удалось скрыться в Швеции, унеся с собой около 10 000 золотых рублей. (Бьеркегрен Х. Скандинавский транзит. С. 25–26.)
Крепло и взаимовыгодное взаимодействие БТГ с эсерами-максималистами. Так, в марте 1906 года последние ограбили Московский банк взаимного торгового кредита, захватив 875 000 рублей. (О. Коннор Т. Э. Инженер революции. Л. Б. Красин и большевики 1870–1926. С. 82.)
12 (25) августа было совершено покушение на премьер-министра Российской империи П. А. Столыпина (1862–1911). После взрыва на казенной даче Столыпина на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге погибло на месте 27 человек, более 100 были ранены. Сам Петр Аркадьевич не пострадал буквально чудом.
В обоих случаях эсеры-максималисты использовали оружие, полученное от БТГ, а часть захваченных в ходе ограбления денег передавали Красину.
Все это дало основание Ленину написать:
«Интересующее нас явление есть вооруженная борьба. Ведут ее отдельные лица и небольшие группы лиц… Вооруженная борьба преследует две различные цели, которые необходимо строго отличать одну от другой; – именно, борьба эта направлена, во-первых, на убийство отдельных лиц, начальников и подчиненных военно-полицейской службы; – во-вторых, на конфискацию денежных средств как у правительства, так и частных лиц. Конфискуемые средства частью идут на партию, частью специально на вооружение и подготовку восстания, частью на содержание лиц, ведущих характеризуемую нами борьбу. Крупные экспроприации (кавказская в 200 с лишним тысяч рублей, московская 875 тысяч рублей) шли именно на революционные партии в первую голову, – мелкие экспроприации идут прежде всего, а иногда и всецело на содержание “экспроприаторов”». (Ленин В. И. ПСС. Т. 14. С. 4.)
В апреле 1906 года в Стокгольме собрался IV съезд РСДРП, на котором присутствовало 112 делегатов с решающими голосами от 57 организаций. По фракционной принадлежности: 62 голоса принадлежало меньшевикам и 46 – большевикам. Этот съезд был назван «объединительным», так как на нем произошло формальное объединение фракций меньшевиков и большевиков. Однако объединение это не стало реальным.
Человеком, который оказывал всяческую поддержку большевикам в Швеции, был известный анархист Хинке Бергегрен (1861–1936).
«Художник Вальдемар Бенхард, друг Хинке Бергегрена, но отнюдь не его безоглядный почитатель, описывает его «поразительную внешность» так: «Черные, как смоль, борода и волосы, темные, живые глаза за поблескивающими стеклами очков, ровные белоснежные зубы. Именно это лицо, слегка окарикатурив, гениальный график Оскар Андерсон изобразил в виде самого дьявола…» (Бьеркегрен Х. Скандинавский транзит. С. 20.)
Вот этот Бергегрен отвечал за размещение делегатов IV съезда РСДРП, который проходил в Стокгольме в апреле-мае 1906 года. В числе других шведский «дьявол» встретил и «товарища» Сталина. Не только встретил, но и заселил в расположенную в центре Стокгольма гостиницу «Бристоль», впрочем, весьма захудалую. (Бьеркегрен Х. Скандинавский транзит. С. 77.)
Однако присутствие будущего «вождя всех народов» не помогло большевикам. На стокгольмском съезде они оказались в меньшинстве. В новый ЦК избрали семь меньшевиков и только трех большевиков.
«К руководству партийной газетой “Социал-демократ”, любимого детища Ленина, пришли одни меньшевики». (Бьеркегрен Х. Скандинавский транзит. С. 84.)
Один из ближайших сподвижников Ленина Г. Е. Зиновьев (Радомысльский) (1883–1936) свидетельствует:
«Большевикам ничего не оставалось, как подчиниться, т.к. они были в меньшинстве, а рабочие требовали единства. Но на деле Объединительный съезд нисколько не объединил большевиков с меньшевиками, и на деле мы уехали из Стокгольма двумя отдельными фракциями. В ЦК взяли несколько наших товарищей, как мы тогда говорили, – заложниками. Но в то же время на самом съезде большевики составили свой внутренний и нелегальный в партийном отношении Центральный комитет. Этот период в истории нашей партии, когда мы были в меньшинстве и в ЦК, и в Петроградском комитете и должны были скрывать свою сепаратную работу, был для нас очень тяжелым и мучительным… Положение было такое, словно две партии действовали в рамках одной». (Николаевский Б. И. Тайные страницы истории. С. 12.)
Как следствие в мае 1906 года Ленин вместе с двумя своими тогдашними ближайшими соратниками, руководителем БТГ Леонидом Красиным и Александром Богдановым (настоящая фамилия – Малиновский, кличка – Вагнер) (1873–1928), тайно организовал внутри Центрального комитета РСДРП (в котором преобладали меньшевики) небольшую группу, ставшую известной под названием Большевистский центр (БЦ), специально для добывания денег для большевистской фракции. Существование этой группы скрывалось не только от царской полиции, но и от других членов партии. Это означало, что БЦ был подпольным органом внутри партии, организующим и контролирующим экспроприации и различные формы вымогательства.
Вскоре, продолжая практику БТГ, Красин «создал вокруг БЦ даже не трест, а целый сложный комбинат всевозможных тайных лабораторий, мастерских, типографий и пр., обслуживавших не только большевистские, но и иные, совсем не социал-демократические “боевые предприятия”». (Николаевский Б. И. Тайные страницы истории. С. 13.)
Красин лично организовал более сотни ограблений или экспроприаций – «эксов», проведенных большевистскими группами боевиков. (О. Коннор Т. Э. Инженер революции. Л. Б. Красин и большевики 1870–1926. С. 82.)
Исполнители так называемых «эксов» набирались в среде наименее культурных, но рвущихся к «настоящим делам», а заодно и заработкам, молодых людей. Зачастую исполнителями становились и откровенные бандиты.
А. Гейфман: «На всей территории Империи они грабили почтовые отделения, билетные кассы на железнодорожных вокзалах, иногда грабили поезда, устраивая крушения. Кавказ в силу своей особой нестабильности был наиболее подходящим регионом для подобной деятельности. “Большевистский центр” получал постоянный приток необходимых средств с Кавказа благодаря одному из наиболее верных Ленину на протяжении всей жизни людей – Семену Тер-Петросяну (Петросянцу), человеку с нестабильной психикой, известному как “Камо” – кавказский разбойник (так прозвал его Ленин). Начиная с 1905 года Камо при поддержке Красина (который осуществлял общий контроль и поставлял бомбы, собранные в его петербургской лаборатории) организовал серию экспроприаций в Баку, Кутаиси и Тифлисе. Его первое грабительское нападение произошло на Коджорской дороге недалеко от Тифлиса в феврале 1906 года, и в руки экспроприаторов тогда попало от семи до восьми тысяч рублей. В начале марта этого же года группа Камо напала на банковскую карету прямо на одной из людных улиц Кутаиси, убила кучера, ранила кассира и скрылась с 15 000 рублей, которые они немедленно переправили большевикам в столицу в винных бутылках». (Гейфман А. Революционный террор в России, 1894–1917. С. 163.)
Большевистскому центру, а вовсе не ЦК, как это следует из «официальной» версии истории партии большевиков, была подчинена и Уральская боевая организация Я. М. Свердлова (1885–1919). И все меньшевистские «осуждения и запрещения» не имели для свердловцев ни малейшего значения.
Более того, и само подчинение уральских головорезов БЦ было лишь формальным. В действительности вся уральская область была подчинена лично Свердлову.
Историк В. Шамбаров: «И кстати, хотя Яков Михайлович был связан с большевистским боевым центром, но в свои структуры включал и членов других партий: эсеров, анархистов, максималистов. Какая разница-то? Главное – чтобы человек был подходящим. Способным без промаха и без колебаний послать пулю в ближнего, швырнуть бомбу, заложить заряд взрывчатки. Так что некоторые дружины числились “сводными”, многопартийными. А “лесные братья” были вообще беспартийными головорезами.
И “дело” пошло. Оружие поставлялось из-за границы – бельгийские браунинги, маузеры, “партизанские” облегченные винтовки. Текли боеприпасы, доставалась взрывчатка – ее и на Урале хватало, для горных работ использовалась». (Шамбаров В. Свердлов. Оккультные корни Октябрьской революции. С. 74.)
Особой стороной деятельности боевиков были грабежи, или, как их называли, «эксы», экспроприации. Грабили кассы, конторы, нападали на транспорты с деньгами. Бомб и патронов не жалели, случайные люди гибли десятками.
К примеру, летом 1907 года 12 вооруженных «лесных братьев» напали на пассажирский пароход «Анна Степановна Любимова», принудили поставить судно на якорь, убили матроса, полицейского, военнослужащего, одного из пассажиров, тяжело ранили капитана парохода и легко – двух пассажиров, после чего похитили более 30 000 рублей.
Показательна и история договора о «сотрудничестве», который в 1907 году военно-техническое бюро ЦК РСДРП, состоявшее из большевиков, заключило с пермской «дружиной» некоего Лбова.
«Последняя именовалась Пермским революционным партизанским отрядом, но в действительности занималась грабежами и разбоем на Урале. По договору, составленному “на бланке ЦК”, но без ведома последнего, большевики обязывались поставить Лбову транспорт оружия. Деньги – 10 000 рублей, были получены большевиками вперед, но оружие доставлено не было. Сам Лбов был пойман и повешен; но один из его “дружинников”, по прозвищу Сашка Лбовец, приехал в Париж требовать деньги обратно. Разыгрывается очередной конфликт.
Сашка Лбовец выпускает прокламацию, обвиняя большевистский центр “в присвоении денег, принадлежащих лбовцам”. Ленин резко обрушивается на лбовцев. Специальная комиссия производит расследование; она выносит постановление вернуть деньги дружине». (Никитин Б. В. Роковые годы. С. 257.)
На добытые деньги содержались местные боевые школы. Кроме того, Уральский областной комитет издавал три газеты: «Солдат», «Пролетарий» и газету на татарском языке. Деньги шли на содержание школы боевых инструкторов в Киеве, школы бомбистов во Львове, для «держания границ» (Финляндия и Западная Россия) для провоза литературы и прохождения связных и боевиков. Кроме того, финансировались поездки делегатов на различные партийные сборища за границу.
В целом же «к 1907 году лишь немногие могли отрицать, что все увеличивающееся число “борцов за свободу” в союзе с уголовниками занимались бандитизмом и грабежами большей частью не по политическим мотивам, а исключительно для удовлетворения своих низменных инстинктов». (Гейфман А. Революционный террор в России 1894–1917. С. 226–227.)
Отвлекшись от внутрироссийского «революционного» террора, сообщим, что весной 1906 года Горький, актриса Мария Федоровна Андреева (1868–1953) (о которой речь впереди) и приданный им в помощь Буренин прибыли в США для сбора средств в кассу РСДРП.
Российский историк, социал-демократ Б. И. Николаевский (1887–1966):
«Эта поездка была организована большевиками. Главным ее инициатором был Л. Б. Красин, но уже в период организации этой поездки (март 1906 г.) действовал Объединенный ЦК РСДРП, в который входили и большевики, и меньшевики; и Горький ехал в Америку, имея письма к Американской социалистической партии, официальное – от этого ЦК, и личное – от Ленина, который был тогда одним из двух представителей РСДРП в Интернационале. Фактическим организатором поездки был большевик Н. Е. Буренин, один из активных работников большевистской центральной Боевой группы, выбранный для этого Красиным». (Николаевский Б. И. Тайные страницы истории. С. 21.)
Кампания эта проводилась как общая кампания всех групп РСДРП, причем особенно важную роль играли, с одной стороны, ежедневная еврейская газета «Форвертс» и, с другой стороны, нью-йоркская группа содействия РСДРП. «Форвертс» в то время фактически проводила политическую линию Бунда, а группа содействия, хотя и включала в свой состав также и большевиков, возглавлялась определенными меньшевиками (М. Роммом, Д. М. Рубиновым и др.), которые проводимые в фонд Горького сборы поддерживали и организовывали как сборы в пользу всей партии. (Николаевский Б. И. Тайные страницы истории. С. 22.)
Нью-йоркские газеты подробно описывали приезд Горького. Одна из газет сообщала: «Буря энтузиазма приветствовала Максима Горького… Русский писатель и революционер Максим Горький высадился вчера с парохода под громкие приветствия тысяч своих соотечественников. В течение нескольких часов они ждали его под дождем. Встреча эта затмила собой прием, который был оказан борцу за свободу Венгрии Кошуту и создателю единой Италии Гарибальди, когда они прибыли в Америку. Писатель-революционер призывает американскую нацию помочь русскому народу в его борьбе за свободу! Поддержим этот призыв!» (Буренин Н. Е. Памятные годы. С. 87.)
В мае 1906 года Красин написал Горькому и Андреевой письмо:
«Характеризуя Большевистский центр как единственный партийный орган, свободный от “иллюзий” конституционализма и рассчитывающий на реальную силу маузеров, пулеметов и бомб, Красин предложил Горькому с Андреевой внести в фонд ЦК лишь малую толику собранных средств, а все остальные деньги передать большевикам на закупку оружия». (О. Коннор Т. Э. Инженер революции. Л. Б. Красин и большевики 1870–1926. С. 85.)
Все получилось, согласно его рекомендации, хотя и несколько не в том размере, на какой надеялся Красин: в июле Андреева переправила ему 50 000 рублей, и еще некоторые суммы поступили в конце лета – начале осени. (О. Коннор Т. Э. Инженер революции. Л. Б. Красин и большевики 1870–1926. С. 85.)
Николаевский подтверждает, что средства, собранные в Америке, поскольку они попали в руки Буренина, были отправлены не общепартийному ЦК, а в кассу БЦ. (Николаевский Б. И. Тайные страницы истории. С. 22.)
Итак, «поездка в Америку» принесла «50 000 рублей» и «еще некоторые суммы», что было скорее символическим жестом, чем реальной помощью.











