Читать онлайн Последняя петля
- Автор: Рейн Карвик
- Жанр: Триллеры, Мистика, Современные детективы
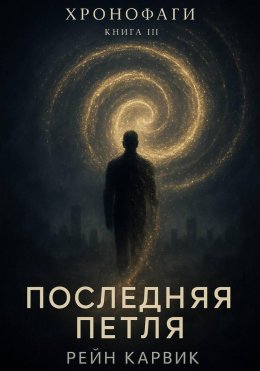
Глава 1. День, который идёт вразнобой
В это утро – если это было утро – свет в комнате был неправильным. Слишком густым для шести, слишком бледным для девяти, слишком живым для любого часа, который Мартин помнил. Он сперва решил, что не выспался, но потом заметил часы.
На тумбочке старый будильник показывал 07:03, как и положено: две косые палочки цифр, слегка выцветший циферблат, стрелка секунд, делающая свои честные круги. А на стене, над дверью, электронное табло «Синхрон-домашний», которое когда-то выдали всем бесплатно, мигало 23:59, будто застряло на последней минуте дня. В смартфоне, брошенном экраном вниз на пол, кто-то тихо шептал голосом диктора: «Сейчас полдень. Примерно».
– Примерно, – повторил Мартин вслух и сел на постели.
Спина отозвалась старой, сухой болью, хотя ещё вчера… вчера он был моложе. Или завтра. Эти глаголы давно перестали быть полезными, как карты метро в городе, где все линии смешали в один хаотичный узор.
Он провёл ладонью по лицу. Пальцы на секунду ощутили чужую кожу – не то морщинистую, не то напротив, слишком гладкую. Морганул, и ощущение исчезло, оставив после себя тупую тревогу, как эхо чужого прикосновения.
– Доброе… – начал он, и язык не выбрал слово. Утро? День? Ночь? – …время, – закончил, голосом человека, который устал спорить с календарём.
Из кухни пахло кофе. Это было странно. Он не закладывал таймер, не помнил, чтобы вчера вечером ставил турку. Хотя теоретически он мог сделать это «потом», а «потом» случилось раньше. Такое теперь происходило постоянно: простые бытовые причинно-следственные связи вели себя, как плохо натянутые струны, – дрожали, перескакивали, рвались.
Мартин поднялся, ноги поскрипывали – то ли паркетом, то ли суставами, – и прошёл в кухню. Кофеварка – старая, ещё до-Синхронная, механическая – стояла на плите. В ней и правда шипел кофе. Над ней в воздухе висела тонкая полоска пара, не движущаяся ни вверх, ни в сторону, просто застывшая, будто её кто-то сфотографировал и забыл вернуть движение.
Он коснулся пара пальцем – горячо. Отдёрнул руку, выругался тихо и привычно. Пара не шевельнулась.
На холодильнике висел магнит с миниатюрным календарём. На нём по-прежнему значилось: «Март». Какой-то март, без числа и года, просто аккуратная надпись, сделанная чьим-то спокойным почерком. Март длился уже много месяцев, иногда становясь декабрём, иногда июнем, но сам магнит упрямо оставался мартом, как напоминание о том, что когда-то у времени были имена.
– Ладно, – сказал Мартин и выключил плиту.
За окном что-то происходило с небом. Он подошёл ближе. Окно, как и пар на кухне, застыло где-то между кадрами: по левому краю стекла висела полоска ночи – густой, с редкими звёздами, дрожащими, как пиксели на старом экране; по правому – уже разливался бледный день, без солнца, просто светло, как в обычный пасмурный полдень. Посередине по стеклу прошла тонкая, идеально ровная грань, разделяя ночь и день.
Она двигалась. Медленно, неуверенно, будто вспоминала,куда ей положено идти: вправо или влево. На пару секунд грань дрогнула, дёрнулась обратно, затем решилась и потекла вправо, глотая остатки ночи.
Мартин поймал себя на том, что следит за ней слишком внимательно, как когда-то следил за секундной стрелкой в морге.
– Ты всё равно опоздаешь, – сказал он границе, и она, конечно, не ответила.
В спальне тихо чирикнул телефон. Он вернулся, поднял его с пола. На экране загорелось уведомление: «Напоминание: 08:00. Встать». Ниже – маленькая строка системного комментария: «Событие уже произошло. С вероятностью 73 %».
– Спасибо, – сказал Мартин. – Уточнил.
Он отключил напоминание и, не читая остальные, кинул телефон на кровать. Сегодняшний день всё равно пойдёт, как ему вздумается. Все дни теперь так ходят.
Он поймал в зеркале напротив дверей своё отражение. Отражение было на пару лет старше, чем он чувствовал себя сейчас: чуть глубже складки у рта, чуть тяжелее взгляд. Плечи опущены, волосы начинаются чуть дальше, чем он привык.
– Не сегодня, – сказал Мартин отражению.
Оно пожало плечами – движение не совпало по времени с его собственным, задержалось, потом догнало.
Он отвернулся, пошёл в ванную.
Вода из крана текла нормально – ровной, прозрачной струёй. Можно было бы даже забыть, что снаружи мир пошёл вразнобой, если бы не зеркало над раковиной. В зеркале его рука тянулась к крану чуть раньше, чем в реальности; капли воды падали в раковину ещё до того, как сорвались с металла. Каждое его движение сопровождалось тихим предэко – как будто рядом жил ещё один он, на полсекунды впереди. Или позади.
Это раздражало. До боли в зубах.
– Прекрати, – попросил он ни к кому конкретно.
Зеркало не послушалось. В нём он уже умывался холодной водой и смотрел на себя усталым, чуть чужим взглядом. В реальности же он ещё только собирался открыть кран.
Иногда, в такие моменты, к нему возвращалось ощущение, что всё это – просто слишком сложный кошмар. Протяжный, вязкий сон, где логика ещё держится за края, но уже скользит. Должен же быть момент, когда он проснётся. Когда время снова станет линией, а не кучей разбросанных костей.
Он дотронулся пальцами до лица – уже мокрого в зеркале и ещё сухого здесь – и вдруг услышал, как в коридоре щёлкает радио.
Он точно помнил, что не включал его уже много дней. Недели. Годы? Время после Синхрона измерялось не датами, а плотностью событий, и по этой шкале радио было где-то «давно».
Голос диктора доносился приглушённо:
– …утренние – или, возможно, ночные – новости. Напоминаем, что временные колебания в большинстве районов города сохраняются в пределах допустимой нормы…
«Допустимой», – подумал Мартин. – Для кого.
Он вытер лицо, не разбираясь, кто из них сделал это первым – он или его отражение, – и вернулся в комнату.
Радио стояло на привычном месте на шкафу, между стопкой старых дел и коробкой с теми вещами, которые он давно собирался разобрать, но так и не успевал, потому что время вечно находило, чем ещё заняться. Диктор говорил тем же спокойным, слегка усталым голосом, каким раньше сообщали о пробках на дорогах и лёгких осадках.
– …зарегистрированы участившиеся случаи асинхронного старения. Просим граждан сохранять спокойствие. В случае, если вы заметили у себя или своих близких признаки немотивированных возрастных смещений – появление или исчезновение морщин, седины, изменение роста, – рекомендуем обратиться в ближайший центр адаптации времени. Напоминаем, что в большинстве случаев изменения носят временный характер…
«Временный характер», – усмехнулся Мартин. – Конечно. Ещё бы они носили пространственный.
Он выключил радио, не дожидаясь, чем там закончится сводка. Всё равно в конце диктор скажет ровно то же, что и всегда: «Ситуация находится под контролем. Синхрон работает штатно».
Синхрон работал. Именно поэтому мир и выглядел сейчас так, как выглядел.
Никто уже не искал виноватых. В первые месяцы ещё попытались: были комиссии, круглые столы, интервью с инженерами. Кто-то кричал, что надо «откатить всё назад», кто-то – что «мы прошли точку невозврата». Потом точка невозврата тоже рассинхронизировалась: кто-то уже жил после неё, кто-то всё ещё шёл к ней. И всем постепенно надоело удивляться.
Мартин сёл на край кровати и попытался вспомнить, что у него запланировано на… сегодня. Слово всё равно вызывало лёгкую издёвку внутреннего голоса. Планировать что-либо в мире, где утро могло внезапно оказаться позавчерашней ночью, было почти интимной формой оптимизма.
Он всё же поднял телефон и пролистал календарь. Несколько встреч светились серым, как умершие файлы: «Собеседование» – «Возможность отменена ретроспективно». «Приём у врача» – «Событие не состоялось, потому что ещё не произошло». «Встреча с…» – имя было стёрто, остались только три точки.
Единственное живое напоминание выглядело почти издевательски просто: «Выйти». Без времени, без места. Только это слово.
Он ухмыльнулся.
– Это ещё когда я себе назначил?
Телефон подумал, мигнул экраном и выдал честный ответ: «Невозможно определить. Событие создано в неустановленный момент временной шкалы».
– Ладно, – сказал Мартин. – Убедил.
Он встал, нащупал под кроватью ботинки. Одному из них явно было больше лет, чем другому: кожа на левом поблёкла, на правом – ещё держала форму. Когда он завязывал шнурки, ему на секунду показалось, что руки принадлежат разным людям: одна – с тонкими, почти подростковыми пальцами, другая – с узловатыми суставами и выступающими венами.
Это чувство тоже ушло, как только он поднялся.
В коридоре зеркало поймало его ещё раз. На этот раз он был там чуть моложе. Или просто свет упал иначе.
– Пошли, – сказал Мартин своему отражению, стараясь держать голос ровным. – Пора.
Отражение кивнуло с лёгким опозданием.
Он накинул пальто, включил на телефоне режим «локальная привязка» – бесполезную иллюзию, которая якобы помогала фиксировать последовательность событий вокруг владельца, – и потянул дверь на себя.
За дверью стоял город, который когда-то шёл вперёд, как положено, улица за улицей, день за днём. Теперь он тоже жил вразнобой.
Мартин сделал первый шаг наружу и почувствовал, как день под ногами пытается выбрать, с чего ему начаться.
Лестничная клетка встретила его запахом пыли, старого линолеума и чьей-то давней жареной картошки. Всё это было неожиданно утешающе нормальным, если не считать того, что лампочка под потолком одновременно горела и нет.
Если смотреть прямо, свет тускло лился, рисуя на ступенях привычные овалы. Стоило чуть сместить взгляд, и лампочка оказывалась перегоревшей: ступени проваливались в сероватую тень, а по стенам ползли пятна темноты. Глаза не успевали решить, какой вариант считать реальностью, и мозг, устав спорить, принимал оба.
На втором этаже дверь квартиры, в которой жил когда-то молодой преподаватель музыки с манией пунктуальности, была распахнута. На коврике у порога стояла та же пара ботинок, что и три года назад, но сами ботинки успели прожить разные жизни: левый был почти новым, правый – с отклеившейся подошвой и разлохматившейся шнуровкой.
Изнутри доносилась музыка. Бах, как всегда. Но фуга распадалась: правая рука пианиста играла начало, левая – середину, а из соседней комнаты, по-видимому из прошлого, доносился финал. Все три куска звучали одновременно, как будто кто-то включил сразу три записи.
– Неплохо держится, – пробормотал Мартин, проходя мимо.
Когда-то этот сосед ходил с часами, синхронизированными до сотых секунд, и сводил с ума весь подъезд тем, что выносил мусор каждый день ровно в 22:00. Теперь он иногда выходил на лестницу подростком в вытянутой толстовке, иногда – седым стариком в халате, иногда – полупрозрачным мужчиной среднего возраста, который спешил куда-то, чего уже не существовало.
Сегодня в дверном проёме никого не было. Только музыка, разбитая на осколки, и пустой стул у пианино – то новый, то облезлый, то вовсе табуретка.
Мартин спустился ещё на пролёт. На первом этаже, у почтовых ящиков, стояла женщина с пакетом. Точнее, стояли три.
Одна – молодая, усталая, в дешёвой куртке, с ребёнком на руках. Вторая – лет сорока с небольшим, в той же куртке, только уже заношенной до серости; ребёнка не было, только пустые руки, судорожно сжимающие ручку пакета. Третья – совсем старенькая, с тонкими пальцами и прозрачной кожей, держала пакет двумя руками, будто там лежало что-то очень тяжёлое.
Они занимали одно и то же место, один и тот же квадрат плитки. Иногда их силуэты накладывались друг на друга, иногда расходились на полшага.
– Вам помочь? – спросил Мартин, сам не разобравшись, к кому обращается.
Молодая женщина подняла на него взгляд – тёмные глаза, невыспавшиеся, но живые.
– Нет, спасибо, – сказала старушка. Голос её преломился, на полслова помолодев, на полслова осипнув. – Я уже… мы уже…
Средняя женщина ничего не сказала. Она просто смотрела на почтовый ящик, который был то крашеным и незамятой формы, то вмятым и облупленным, то совсем новеньким. На нём менялись фамилии, как бегущая строка: то знакомые, то чужие, то в три ряда.
Мартин кивнул всем троим сразу и прошёл мимо.
На улице день всё ещё пытался определиться, сколько ему лет.
Небо ухитрилось стать не только полосой между ночью и полднем, как он видел из окна, но и чем-то вроде старой фотоплёнки, на которую забыли наложить единый фильтр. Над домами справа светило унылое серое солнце – не видно, но по тому, как резались тени, оно явно где-то там было, за облаками. Слева по фасадам ещё скользила синяя ночная темнота, редкие фонари давали жёлтые островки света, от которых почему-то становилось ещё холоднее.
Асфальт под ногами был сухим и мокрым одновременно. У ливнёвки в одном и том же месте лежала лужа: в ней отражались то дневные облака, то неоновая реклама бара, который по идее должен был открываться только к вечеру.
Мартин остановился на секунду, чтобы дать глазам привыкнуть.
У ближайшего перекрёстка стоял светофор и честно пытался выполнять свою работу, как перечисление временных форм: красный, жёлтый, зелёный. Только он делал это сразу. Все три цвета горели разом, и по какой-то странной договорённости водители научились считывать себе нужный.
Машины ползли через перекрёсток слоями. Старый троллейбус, который уже лет пять как списали, стоял привидением поверх новенького электробуса. Легковушка в старом кузове накладывалась на её более позднюю модель с теми же номерами, только цвет другой, как будто кто-то проиграл в стилистике, но выиграл в бюджете.
Люди шли по тротуару, и это было самое сложное зрелище.
Вот мужчина в дорогом пальто. С одной стороны улицы он выглядел лет на сорок пять: цветущий, с плотной фигурой, уверенной походкой. На другой – его же лицо, только вытянутое, с дряблой кожей и провалившимися глазами, пальто висит мешком. Между этими двумя версиями иногда мелькала третья – подросток в дешёвой куртке, с тем же подбородком и тем же поворотом головы.
Они шли как три кадра одного фильма, наложенные друг на друга. Иногда совпадали в жесте – все сразу поправляли шарф, – иногда расходились.
Рядом девочка с рюкзаком – точнее, три девочки: одна – сама девочка, лет двенадцати; другая – уже худощавая студентка с тем же рюкзаком, только облезшим; третья – женщина с усталым лицом и тем же паттерном родинки над бровью, волосы собраны кое-как, рюкзак сменился сумкой, но походка осталась детской.
Мартин шёл среди них, и в какой-то момент ему показалось, что он тоже делится.
Краем глаза он увидел, как чуть впереди по тротуару идёт он сам – на несколько лет моложе, с тем самым выражением лица, которое бывает у людей, ещё верящих в понятие «завтра». С другой стороны улицы шёл другой он – седой, сутулый, с тростью; трость, кстати, время от времени исчезала, словно иногда он всё-таки обходился без неё.
Он задержал шаг, дал им пройти.
Молодой он прошёл сквозь него, как через дым. На секунду Мартин ощутил резкий запах спирта из морга, взгляд операционной лампы, холод металла под ладонью. Вспышки памяти не были его – или были, но из другого варианта жизни.
Старый он посмотрел на него чуть дольше. В глазах – усталость, но не безнадёжность. Как у человека, который уже принял какое-то решение, но ещё не рассказал о нём себе.
– Ещё нет, – сказал этот взгляд. Или это Мартин так перевёл.
Он фыркнул, как от дурной шутки, и пошёл дальше.
У угла дома, где раньше была булочная, теперь располагался Центр адаптации времени. Табличка над входом меняла формулировки, как настроение: «Консультации по асинхронным состояниям», «Поддержка при возрастных смещениях», «Мы помогаем вам оставаться собой». Иногда надпись становилась совсем честной: «Мы не успеваем за вами».
У входа толпились люди – точнее, их временные раскладки.
На ступеньках сидел подросток, растирая ладонью синяк на колене. На том же месте стоял мужчина лет тридцати, в деловом плаще, разговаривая по телефону; иногда трубка в его руке исчезала, и вместо неё оставался только жест. Между ними, точно в промежутке между вдохом и выдохом, появлялась старуха с тем же разрезом глаз, что у подростка, и тем же профилем, что у мужчины.
Очередь не двигалась, потому что одни версии людей всё ещё приходили, другие уже уходили.
Изнутри доносился голос – привычно ровный, успокаивающий:
– …снижение интенсивности временных расхождений прогнозируется в ближайшие… ну, относительно ближайшие периоды. Напоминаем, что Синхрон удерживает общую структуру…
Мартин остановился под вывеской, посмотрел на мерцающие буквы.
Когда-то такие центры строили как временную меру. «Пока не стабилизируем стрелку», говорили. Потом стрелка просто исчезла. Синхрон удержал обломки, как мог, и признавать, что это и есть новая норма, никто вслух не хотел.
– Это всё ты, – тихо сказал он небу. Больше некому было.
Небо, как всегда, не возразило.
Дальше по улице висел огромный экран, оставшийся от тех времён, когда ещё покупали наружную рекламу. Теперь по нему гоняли новости.
Звук был выкручен на минимум, чтобы не мешать тем, кто пытался сделать вид, что живёт обычной жизнью, но титры ползли крупно и навязчиво.
На экране показывали город сверху – тот самый, в котором он стоял сейчас. Вид с дрона, или с чего там они теперь смотрели. Машины ехали по кругу, одни – днём, другие – ночью, третьи – вроде бы вообще в каком-то другом сезоне: на крышах лежал снег, хотя под ногами у Мартина было сыро, но без инея.
Внизу светилась строка:
«ЛОКАЛЬНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ АНОМАЛИИ НЕ УГРОЖАЮТ ЦЕЛОСТНОСТИ СЕТИ. ПРОСИМ СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ».
Следующая:
«МИНИСТЕРСТВО ВРЕМЕННЫХ ДЕЛ ЗАЯВЛЯЕТ: СИТУАЦИЯ НОСИТ ПРИРОДНЫЙ ХАРАКТЕР. СИНХРОН ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ».
Ниже, чуть мельче:
«ПСИХОЛОГИ СООБЩАЮТ ОБ “УСТАЛОСТИ ОТ ЧУДА”: ГРАЖДАНЕ ПЕРЕСТАЮТ РЕАГИРОВАТЬ НА РАСПАД ВРЕМЕННЫХ ЛИНИЙ».
Мартин усмехнулся. Усталость от чуда – точное название. В первый год люди снимали на телефоны всё: исчезающие дома, дети, которые засыпали младенцами, а просыпались подростками, ночи, в которых можно было встретить собственное позавчера. Теперь никто не поднимал камеру. Зачем? Чтобы снова посмотреть на то, в чём и так живёшь?
Он прислонился плечом к холодному стеклу остановки.
Автобус к этому времени должен был либо уже уйти, либо ещё не приехать. Вместо этого он существовал сразу в трёх состояниях: старый дизельный, грохочущий, с выцветшей надписью маршрута; новый, тихий, с мягкими дверями; и совсем пустое место, в которое люди по привычке всматривались, ожидая, что что-то появится.
У табло маршрутов цифры перескакивали: 11:45, 00:02, 12:00, 07:18. Сопровождающая их надпись честно пыталась успокоить: «ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ ОРИЕНТИРОВОЧНО».
Рядом с Мартином стоял мужчина в рабочем комбинезоне и держал в руках термос. Его лицо менялось не так явно, как у некоторых прохожих: то добавлялась пара морщин, то исчезала седина у висков, то спина выпрямлялась, то снова чуть сгибалась. Но взгляд оставался один и тот же – усталый, но без паники.
– Опять, – сказал он, не то Мартину, не то самому себе.
– Ага, – ответил Мартин.
– Вчера хотя бы дождь лил подряд, – продолжал мужчина. – Целых полтора часа. Как в старые добрые…
Он оборвал фразу, потому что «старые добрые» тоже растворились где-то между слоями.
– Ну, – сказал он вместо этого, – как в старые.
Мартин кивнул.
Старые времена – это когда время было старым, но не уставшим. Теперь оно было просто измотанным. Ему казалось, что сама ткань часов и минут потёрлась, истончилась в местах, где её слишком часто перезаписывали, накладывали копии, стирали и снова писали – как магнитную ленту, которую слушали до хруста.
И всё это – не потому, что кто-то запустил новый эксперимент. Не потому что очередной инженер решил “продавить систему”. Наоборот: Синхрон наконец-то сделал ровно то, чего от него так долго хотели. Он собрал все линии в одну, как его просили. Просто оказалось, что одна линия, в которой помещаются сразу все варианты, – это вовсе не линия. Это куча, свалка времени, склад вещей, которые забыли выбросить.
В этом не было взрыва, не было эффектного апокалипсиса. Не было ни чёрной дыры на месте города, ни небес, расколовшихся пополам. Был только день, который шёл вразнобой.
– Синхрон виноват, – говорил кто-то пару лет назад.
– Синхрон нас спас, – отвечал кто-то другой.
Теперь никто ничего не говорил. Слова тоже устали.
Автобус всё-таки проявился. На этот раз – более-менее цельный: новый кузов, ровный цвет, из динамиков доносился тот самый голос, что и из радио утром.
– …напоминаем, что временные колебания в вашем секторе не являются основанием для пропуска работы, – сообщил он, пока двери открывались. – Синхрон фиксирует вашу личную последовательность… насколько это возможно.
Люди вошли, каждый в свою версию салона.
Мартин не двинулся.
У него не было ни работы, ни назначения, ни точки, куда следовало бы обязательно попасть. Мир с распавшейся стрелкой времени впервые за много лет подарил ему странный подарок: отсутствие обязанности быть где-то «вовремя».
День вокруг все ещё дергался, перебирая варианты. Где-то в глубине города, в сердце «Хроноса», механизмы Синхрона продолжали делать свою работу – без него, через него, благодаря ему, неважно. Всё происходящее здесь, на улице, было всего лишь побочным эффектом их честных усилий удержать мир от окончательного распада.
Мартин смотрел, как автобус отъезжает, оставляя после себя лёгкое мерцание – след одной версии и тень другой, – и думал о том, что у времени, возможно, тоже есть предел терпению. И что однажды оно имеет право не просто ломаться, а закончиться.
Но этот день ещё не закончился. Он даже толком не начался. И если уж ему суждено идти вразнобой, кому-то придётся пройти его от начала до конца – каким бы странным ни оказалось само понятие «конца».
Он не сразу заметил, в какой именно момент утро кончилось. Не потому, что был рассеян – рассеянности себе он давно уже не позволял, – просто теперь никто не умел поймать ту секунду, когда день перестаёт быть одним и становится другим.
Сначала всё было относительно понятно: серый свет, мокрый асфальт, люди с теми лицами, которые условно подходят к слову «утро». Кто-то спешил, кто-то зевал, кто-то пил кофе из одноразовых стаканчиков, которые не меняются с годами – только логотипы модных сетей умирают и рождаются заново, а белый картон остаётся тем же.
Мартин шёл вдоль фасадов, и его собственная тень держалась достаточно ровно, вытягиваясь под тем углом, который можно было бы назвать десятью или одиннадцатью часами.
Он как раз подумал о том, что, возможно, это будет один из тех относительно цельных дней – без особых провалов, без внезапных просыпаний в чужих эпохах, – как город мигнул.
Не так, как мигают лампы или табло. По-другому.
Звук ушёл первым.
Гул машин, шелест шагов, далёкие крики чьих-то детей – всё это не то чтобы пропало, а как будто отступило, стало ватным, приглушённым, словно кто-то закрутил невидимую ручку громкости, стараясь никого не спугнуть.
Потом сменился воздух. Утренний, сырой и чуть холодящий нос, вдруг стал сухим, густым, пахнущим выхлопами и жареным мясом из ночного ларька, который здесь, в этой точке, должен открываться только после заката.
Мартин моргнул.
Когда он открыл глаза, над городом висела ночь.
Не «вечер», не «сумерки», а настоящая, плотная ночь, в которой небо превращается в чёрный экран, а свет живёт только там, где его включили люди. В окнах домов вспыхнули прямоугольники, реклама на больших экранах зажглась сразу, не утруждая себя постепенным разгоранием.
Асфальт под ногами блестел так, будто недавно прошёл дождь, хотя он помнил, что секунду назад тротуар был матовым и сухим.
– Ну вот, – сказал кто-то рядом.
Мартин повернул голову.
Киоск с кофе, который только что лениво разогревал машину, теперь сиял, как корабль в ночи. Бариста – тот же парень в вязаной шапке – стоял на том же месте, но его глаза были уже другими: не утренне-сонными, а воспалёнными от долгой смены. От чашек поднимался пар, на пластиковом меню цифры цен казались чуть крупнее, чем полчаса назад. Или полдня.
– Опять срезало, – сказал бариста, заметив, куда смотрит Мартин. – Только начали разлив – бац, и ноль-ноль.
Он показал большим пальцем вверх, туда, где над перекрёстком висело электронное табло городского времени – тот самый архаичный пережиток эпохи, когда кто-то ещё считал нужным синхронизировать все часы.
На табло мигало: 00:00.
– С Новым годом, – хмыкнул кто-то из очереди.
– Опоздали, – отозвался другой голос. – Лет на… сколько там теперь?
Никто не ответил. Никто не хлопал в ладоши, не запускал фейерверков, не бросался обниматься. Полночь давно превратилась из символа чего-то нового в очередной технический сбой.
Мартин поднял голову.
Небо было всё тем же плёночным коллажем: где-то там, над дальними домами, висела полоска рассвета – размытая, как плохо стёртая надпись. Но прямо над ним, над этой улицей, ночь была настоящей, уверенной в себе.
В витрине напротив он увидел своё отражение – на этот раз чёткое, не раздвоенное, почти привычное. Человек средних лет, в пальто, с усталым лицом. На стекле бегущей строкой шли новости.
«ЛОКАЛЬНЫЙ СБРОС СУТОК В СЕКТОРАХ В-4, В-5. СЕТЬ СИНХРОНА УДЕРЖИВАЕТ ГЛОБАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ. ПОВОДОВ ДЛЯ ПАНИКИ НЕТ».
Под этим мелькало ещё:
«ЭКСПЕРТЫ: “ЭТО НЕ НОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, А ЕСТЕСТВЕННОЕ СЛЕДСТВИЕ СЛИЯНИЯ ЛИНИЙ”».
– Слышали? – сказал бариста, кивнув подбородком на витрину. – Не новый эксперимент. Можете не переживать.
Сказал он это без сарказма, слишком устало для шутки.
– Я уже давно не переживаю, – ответил Мартин.
И это было правдой. Переживание предполагает, что ещё есть шанс что-то изменить. Сейчас оставалось только фиксировать.
«Естественное следствие». Хорошие слова. Как будто то, что происходит с городом, – просто логический вывод из когда-то принятого решения. А он, Мартин, ходит по этим выводам, как по мостовой.
Он почувствовал, как где-то глубже, под привычным раздражением, шевельнулась мысль, но не стал доводить её до конца. Для этого у него ещё будет время. Или было.
Ночь держалась недолго.
Сначала зажужжал где-то в стороне трансформатор, вспыхнули и погасли сразу несколько окон, будто кто-то слишком резко переключил канал. Электронное табло над перекрёстком замигало, пытаясь пересчитать мир. Цифры скакнули: 00:00, 23:59, 12:00, 11:58…
В какой-то момент они остановились на 12:00.
Не «полночь», а «полдень».
Свет на улице сменился не рывком, а, скорее, как в театре – плавным, но всё равно чуждым переходом. Витрины будто выдохнули, отбросив глубокие тени; неоновая реклама потеряла драматизм; люди стали выглядеть некрасивее – дневной свет был безжалостен.
Киоск с кофе превратился в унылую дневную будку. Парень в шапке, который секунду назад выглядел человеком глубокой ночной смены, теперь всего лишь зевал, потягивая свой первый за день стакан. Утомление с его лица никуда не делось, просто стало другим – дневным.
– Вот, – сказал он, словно комментируя погодный прогноз. – Перешло.
– Что, день? – спросил кто-то.
– Да какая разница, – ответил другой. – Всё равно потом обратно швырнёт.
Разговоры были всё те же, что и два года назад, и год, и неделю. Только тон менялся – из удивлённого в усталый, из усталого в безразличный.
Мартин поймал на себе взгляд женщины, стоящей чуть поодаль.
Она была примерно его возраста – в этой версии. Волосы собраны в хвост, на лице – те самые морщинки вокруг глаз, которые появляются от привычки щуриться на свет. В руках – сетчатая сумка с продуктами, слишком тяжёлая для прогулки, но не для выживания.
Она смотрела на него так, будто пыталась вспомнить, где уже видела. Возможно, в другой временной раскладке, где они жили в одном подъезде. Или были пациентами одного врача. Или просто однажды вместе стояли в очереди за хлебом.
В её взгляде не было ни страха, ни интереса – только тихое признание: да, мы все здесь заложники того же самого сломанного циферблата.
Он коротко кивнул.
Она кивнула в ответ и отвернулась, увлекая за собой сразу две своих версии: одну – чуть моложе, с другой стрижкой, другую – чуть старше, с наклеенным пластырем на щеке.
Мартин подумал, что когда-то, до всех этих слияний, он бы предложил ей донести сумку. Сейчас не стал. Не потому, что стал бессердечным. Просто не был уверен, какой из неё помогать.
Он двинулся дальше.
Город в полдень казался почти нормальным, если не смотреть слишком внимательно.
Да, где-то окна ещё светились ночным светом; да, кое-где по тротуару всё ещё тянулись длинные утренние тени людей, которые давно ушли; да, над дальними домами всё ещё висела полоска вчерашнего заката. Но в целом это был узнаваемый, почти обыденный день: машины сигналят, дети кричат, кто-то ругается в телефоне, кто-то смеётся.
На углу двух улиц, где раньше висел огромный рекламный баннер «Синхрон – порядок времени в каждый дом», теперь красовался более честный плакат.
Белые буквы по тёмному фону:
«СИНХРОН: МЫ СДЕЛАЛИ, ЧТО СМОГЛИ».
Под этим – помельче:
«ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ВРЕМЕННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТОМ. НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОТКАТА».
Когда-то такие слоганы писали из гордости. Теперь – из обороны.
Мартин остановился, прочитал всё целиком дважды, как читают диагноз, который уже поставили, но ещё не смирились.
Синхрон не был новым экспериментом. Он был старой, обкатанной системой, доведённой до логического предела. Сначала его придумали, чтобы подравнять частные часы под общий ритм – чтобы у кого-то слишком не крали, у кого-то случайно не добавляли. Потом на него навесили ещё слой, и ещё, и ещё – уровни перераспределения, коррекции, компенсации.
В какой-то момент сама идея «исходной линии» стала мифом. Осталась только сеть – нечто, что помнит всё, что было, и пытается сделать вид, что это всё ещё можно собрать в одну правдоподобную историю.
Он знал об этом чуть больше, чем средний прохожий. Не потому, что читал новости. Потому что однажды оказался внутри механизма. Не метафорически, не в виде фигуры речи, а буквально – с телом, с памятью, с каждой своей секундой, которую система аккуратно переложила на свои полки.
Иногда, как сейчас, когда день скачет из утра в полночь, а потом в полдень, он чувствовал слабый отклик где-то в глубине черепа. Как если бы у горящего города был нерв, протянутый через него, и этот нерв дёргался всякий раз, когда Синхрон пытался удержать очередной обвал.
Кто-то другой назвал бы это головной болью. Он – нет.
– Это всё ещё ты, – тихо сказал Мартин, глядя на слоган. – Не надо делать вид, что ты здесь ни при чём.
Плакат, естественно, не ответил.
Зато ожил экран рядом. Кусок фасада, отданный под новостную ленту, вспыхнул, смазал полуденный свет холодным голубым.
«В СВЯЗИ С ЛОКАЛЬНЫМ СМЕЩЕНИЕМ СУТОК В СЕКТОРАХ В-4, В-5 ОБЪЯВЛЕНА ПЕРЕВОДНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗАРПЛАТ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ. ПОДРОБНЕЕ – НА ПОРТАЛЕ СИНХРОНА».
Дальше диктор, уже знакомый голосом, говорил о том, что «хаос – это лишь ощущение», а «постепенная адаптация населения позволяет говорить о новой устойчивой норме». Кадры показывали улыбающихся людей, которые жили сразу в разных возрастах: дедушка, играющий с самим собой-подростком; женщина, одновременно беременная и гуляющая с уже подросшим ребёнком. Все они смотрели в камеру чуть слишком прямо, чтобы верить в эту улыбку.
Мартин отвернулся.
Он поймал себя на странной мысли: если бы кто-то смотрел на всё это со стороны, из другого времени, ему бы показалось, что здесь случилось что-то грандиозное. Конец света, начало света, смена эпох. А по факту – будний день. Нормальный, рабочий, просто неряшливо собранный из обрезков других дней.
Люди не бегали, не кричали, не строили баррикад. Они шли на работу, в школу, в центр адаптации. Они ругались в очередях, смеялись над глупыми шутками, обсуждали старые сериалы. Они, как могло показаться, смирились.
На самом деле – просто устали удивляться.
Он вспомнил первую волну паники. Тогда ещё писали: «Синхрон сошёл с ума», «На город обрушилась временная буря», «Учёные предупреждают…». Тогда собирались подписи под петициями «Верните нам линейное время». Тогда казалось, что можно ещё открутить всё назад, выключить неудачный патч, перезагрузить сеть.
Теперь в новостях никому не приходило в голову использовать слова «откат» или «возврат». Только «адаптация», «нормализация», «естественный процесс».
Словно время – это не то, что с ними делают, а то, что само собой так вот, распадается.
Мартин посмотрел на свои руки.
В этот момент они были его – нынешнего. Без явных смещений. Кожа, знакомая до последней родинки. Шрамы, полученные в тех ещё, старых делах. Лёгкая дрожь, появившаяся после одной ночи в сердце Хроноса.
Но он знал: стоит моргнуть – и что-то сдвинется.
И всё равно он вышел из дома. Всё равно пошёл в этот день, который, по-хорошему, не знал, с чего ему начинаться.
Не потому, что надеялся что-то исправить. Просто потому, что кто-то должен был посмотреть на всё это и запомнить. Не как новость, не как статистику, а как факт. Как утреннюю боль в спине, как вкус кофе, который сварился сам собой, как лампочку, которая одновременно горит и нет.
Время имело полное право на то, чтобы однажды устать и рассыпаться. Но пока оно рассыпалось, кто-то должен был быть свидетелем.
Пока что – это был он.
Он поймал себя на том, что идёт без цели. Просто следует за улицей, как за мыслью, которую давно пора было закончить, но она упрямо расползается во все стороны.
Раньше у таких прогулок были оправдания: «подумать», «проветриться», «переварить дело». Сейчас мыслей было слишком много, а дел – слишком мало. Осталась только привычка двигаться вперёд, хотя сам «вперёд» давно отменили.
У следующего квартала начинался рынок – тот самый стихийный, который городские власти пытались разгонять ещё в те времена, когда у них были чёткие планы по кварталам. Теперь никто его не трогал: сложно разогнать то, что существует сразу в нескольких фазах.
Ряды лотков налезали друг на друга, как слои старых газет. Вот ящик с яблоками – зелёные, наливные, с блеском воды, будто только что с дерева; рядом – те же яблоки, но уже морщинистые, с тёмными пятнами, явно пролежавшие лишнюю неделю; а поверх всего – пустой ящик, на дне которого валялась одна засохшая сердцевина. Продавец стоял между ними всеми сразу, перекидываясь словами и купюрами в разные свои версии.
– Свежие, сегодняшние, – говорил он, протягивая яблоко женщине с авоськой.
«Сегодняшние» могли означать всё, что угодно: от этого утра до давным-давно отменённой осени.
Мартин прошёл мимо мясного ряда. Там было сложнее. Мясо вообще плохо переносило временные смешения. На одном крюке висел свежий кусок, ещё красный, с ровным срезом. На другом – серый, иссохший, словно его забыли здесь пару месяцев назад. Иногда они менялись местами. Покупатели научились выбирать на глаз, интуитивно угадывая, какой вариант им достанется, если протянуть руку сейчас.
Чуть дальше, у стены, сидела пожилая женщина с ведром цветов. Вода в ведре одновременно была прозрачной и мутной, стебли – то бодро стояли, то обмякали. На табличке мелом было написано: «Всегда свежие».
У неё же на коленях лежала стопка газет. Верхняя – сегодняшняя, с тем самым заголовком про «естественное следствие слияния линий». Ниже – старая, пожелтевшая, датированная тем годом, когда Синхрон ещё только запускали в тестовом режиме. В ней было: «ПРИВЕТСТВУЕМ ЭРУ ЧЕСТНОГО ВРЕМЕНИ».
Мартин почти машинально потянулся, взял ту старую.
– Сколько? – спросил.
Женщина подняла голову.
Её лицо и правда было старым – но по-честному, без скачков: морщины прорисованы временем, а не системой, глаза мутноватые, но цепкие.
– Эту не продам, – сказала она после короткой паузы. – Эту я оставляю себе. Чтобы знать, с чего всё началось.
Она улыбнулась уголком губ, и в этой улыбке было больше остроты, чем в заголовках.
– А началось с того, что мы хотели справедливости, – добавила она, больше себе, чем ему. – Чтобы никому лишнего, никому в кредит.
Мартин вернул газету на место.
– Получилось? – спросил.
– О, – сказала она, – во времени никому не лишнего.
Он не стал уточнять, что она имеет в виду. И так было понятно.
Дальше, за рынком, начинался сквер. Здесь время чувствовалось особенно странно. Деревья всегда были плохими союзниками для Синхрона: слишком уж у них свой ритм, не похожий ни на человеческий, ни на машинный.
В этом сквере каждое дерево жило в свой сезон. Один клён стоял голый, чёрный, как после ноябрьского ветра; соседний только-только распускал молодые, липкие листья; третий был забит тяжёлой, тёмно-зелёной листвой середины лета. Под ними по земле лежал снег – не ровным ковром, а клочками, как старое одеяло, из которого выдрали куски.
На одной лавочке сидела пара – точнее, три пары.
В центре – двое молодых, почти подростков: она в лёгком пальто, он в худи, их руки осторожно касались друг друга. Слева – они же лет через двадцать: она с чуть оплывшими чертами лица, но с тем же смехом; он с намечающимся животиком, но всё с теми же светящимися глазами. Справа – ещё через несколько десятков лет: она – с тростью, он – с кислородной трубкой; руки всё так же переплетены.
Смешные фразы, брошенные между ними, долетали кучей: «позвони мне», «помнишь, как тогда», «не уходи надолго», «ты всё равно никуда не денешься», «держись».
Мартин поймал себя на том, что слушает их, как хронику. Не из романтического интереса – просто как факт времени, который ещё умеет повторяться, хоть и не по порядку.
На другой лавочке, ближе к дорожке, сидел мальчишка лет восьми и швырял камешки в лужу. В той же лужи через пару метров отражался мужчина в форме – наверняка тот же мальчишка, только выросший и поступивший куда-то в органы, где форма ещё имеет значение. Их броски совпадали по траектории.
Мартин остановился.
Ему вдруг отчётливо представилось, как выглядел бы этот сквер «раньше». Одна версия каждого человека на каждой лавочке, один возраст, одна последовательность событий: встретились, поссорились, помирились, постарели, кто-то ушёл. Всё аккуратно разложено по линиям, как дела по папкам.
Тот старый мир был больным – неравномерностью, несправедливостью, кражей чужих секунд. Он это знал слишком хорошо: каждое дело, каждая жертва, каждая строка в отчётах. Тогда казалось, что достаточно поставить над всем этим честного, беспристрастного судью – систему, которая будет следить, чтобы никто не обманывал время.
Сейчас судья превратился в перепуганного архивариуса, который, испугавшись потерять хоть одну бумажку, свалил все дела в одну кучу.
И всё это – не потому, что кто-то в тайне запустил «новый эксперимент». Напротив; любой, кто ещё попытался бы провести эксперимент над временем, просто утонул бы в этом мешанине. Не осталось чистого поля, на котором можно было бы что-то испытать.
Синхрон больше не был лабораторией. Он был костылём. Подпоркой под зданием, стены которого давно дали трещину. И эта подпорка, как любой временный механизм, однажды имела полное право рухнуть.
– Ты сам себя довёл, – сказал он мысленно тому, кто когда-то был сетью, потом стал сознанием, потом – почти организмом.
Ответа не последовало, конечно. И всё же где-то на границе слуха, там, где тончайшие временные колебания переходят в шум, Мартин уловил лёгкий, едва заметный отклик.
Не звук. Скорее, отсутствие звука – провал в фоновой какофонии города, как если бы кто-то аккуратно вырезал один фрагмент и оставил после него тишину.
Он знал это ощущение.
Когда-то оно означало: «Хронофаг рядом». Не в том смысле, что где-то за углом прячется чудовище, готовое сожрать ещё кусок чужой жизни. В смысле, что сама структура времени собирается и напрягается, как мышца.
Сейчас Хронофаг был не «кем-то», а «чем-то». Режимом освещения, как шутил некогда один инженер; органом, через который сеть переваривает накопленную память.
Мартин остановился посреди дорожки.
Свет в сквере был ровный, ненастоящий – как в дешёвых фильтрах на фотографиях. Тени сгладились, лица людей посерели, лишившись контрастов. В ветвях деревьев пропали случайные отсветы разного времени суток – осталось только одно, полуденное, упрямо выровненное светило.
– Любишь ровную освещённость, да? – тихо сказал он, обращаясь в никуда.
Раньше, в той жизни, когда он ещё называл вещи по имени, за этим следовало бы что-то ещё: погоня, расследование, попытка поймать, понять, остановить. Теперь не было ни сил, ни смысла.
Свет чуть дрогнул – или ему показалось.
На дорожке перед ним две версии одного и того же ребёнка шли навстречу из разных времён. Одна – младшая, в яркой куртке, с шарфом, затянутым чуть ли не до глаз; другая – постарше, лет одиннадцати, с тем же шрамом на подбородке, но уже без шарфа, с самостоятельной походкой.
Они должны были пересечься, но не пересеклись.
В какой-то момент младшая версия просто исчезла, как кадр, который вырезали из ленты, и осталась только старшая. Как будто Хронофаг – этот нелепый, неуклюжий орган времени – решил, что две одинаковые истории для одного человека – перебор.
Мартин сжал пальцы в карманах.
Он видел такие «редукции» и раньше. В сети это называлось безлично: оптимизация, примирение версий, снижение избыточной нагрузки. В жизни это означало, что какие-то детские травмы, радости, встречи – всё то, что когда-то происходило – вдруг переставали иметь место. Люди продолжали жить, но у них становилось чуть меньше «я».
Он сам был частью этого механизма. Не хотел, не просился, но стал. Когда его память, перемолотая через ядро Синхрона, превратилась в один из фильтров, который решает, какие моменты стоит сохранить, а какие можно списать в архив.
В такие моменты город подрагивал, как сквер сейчас.
– Я не эксперимент, – сказал тихий голос где-то на границе сознания.
Он не был голосом. Не был словами. Но Мартин всё равно уловил смысл так же отчётливо, как прочитал бы бегущую строку на экране.
– Знаю, – ответил он – тоже не вслух.
Он поймал себя на том, что говорит «знаю» не просто сети, не абстрактному Хронофагу. Себе тоже. Той своей части, что до сих пор жила там, в глубине серверных залов, пропущенная через оптоволокно и обёрнутая в протоколы безопасности.
Всё, что сейчас происходило с городом – этот день, перескакивающий из рассвета в полночь, из полудня в раньше, – было не чей-то новой прихотью. Не дурацким экспериментом, который можно разоблачить и остановить.
Это был закономерный результат.
Хотели собрать все линии в одну – собрали. Хотели, чтобы никто не мог украсть лишнее, отнять у другого жизнь – сделали так, что никто больше не знает, сколько этой жизни у него есть. Хотели честности – получили честный хаос.
Мартин вышел из сквера на следующую улицу и только тогда заметил, что снова стало как бы утро.
Свет посерел, стал мягче, влажнее. В окнах домов отражались облака того самого типа, который принято называть «утренними». В кофейнях опять крутили плейлисты с бодрым джазом, будто пытаясь подбодрить тех, кто только что проснулся, хотя кое-кто уже прожил сегодня больше суток.
На перекрёстке школьники – целая стая – шли с рюкзаками, как полагается по дороге на занятия. Некоторые из них были заметно старше, чем допускает школьная форма: на лицах щетина, сигареты в руках, усталость ночных смен. Кто-то из них, вероятно, уже давно закончил школу в другой версии дня, но привычка идти по этому маршруту сохранилась.
В новостном киоске телевизор показывал всё те же кадры города сверху. Только подписи под сюжетами поменялись.
«ЭТО НЕ ЭКСПЕРИМЕНТ, – ГОВОРИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СИНХРОНА. – ЭТО НОВЫЙ БАЛАНС».
«ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ЯДРА СЕТИ ПРОПАЛ ТРИ ГОДА НАЗАД. СЛЕДОВАТЕЛИ ПРЕДПОЛАГАЮТ, ЧТО ОН ПОГИБ ПРИ ЛОКАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЕ».
Фотография под заголовком была ему знакома. Чересчур.
С неё смотрел он сам – чуть моложе, чем сейчас, с более резкими чертами, в костюме, который тогда казался ему чужим. Под снимком значилось: «М. Р., центральный узел проекта “Синхрон”. Статус: погиб. Данные уточняются».
Мартин посмотрел на собственное лицо, аккуратно заключённое в рамку.
«Главный архитектор», «центральный узел» – хорошие формулировки. Не вполне точные, но удобные для новостей. Для тех, кто не хочет вдаваться в подробности.
Он не стал приставать к киоскёру с вопросами, зачем тот оставил старый сюжет в эфире. Просто постоял, посмотрел на себя, которого мир уже три года как похоронил, и подумал, что у времени, в отличие от людей, нет роскоши считать кого-то окончательно «умершим».
Если ты когда-то был, ты продолжаешь быть. В чьей-то памяти, в чьих-то слоях, в чьих-то сбоях. В самой ткани Синхрона – тоже.
Город вокруг переставал пытаться сделать вид, что живёт по расписанию.
Мартин поправил ворот пальто и двинулся дальше по улице, которая помнила слишком много разных утр, ночей и полудней сразу. День шёл вразнобой, как умел. А он пока что просто шёл вместе с ним, отмечая для себя каждую трещину, каждый сдвиг, как когда-то отмечал улики в протоколе.
Он свернул в переулок просто потому, что так делал раньше. Ещё в те времена, когда дни шли от утра к вечеру, а не как выпавшая колода, где карты разных мастей лежат поперемешку. Тогда этот путь был «короче до участка». Теперь участок значился где-то между «перенесён», «объединён» и «упразднён», но ноги всё равно помнили маршрут.
Переулок встретил его запахом сырости и кошек. Тут время всегда держалось чуть менее уверенно, чем на проспекте: городские службы сюда редко заглядывали даже в линейные времена, а сейчас и подавно.
Он прошёл мимо двери, которую раньше знал как «подворотню с закладками». Теперь там висела табличка «Пункт выдачи заказов». Под ней толпились люди – в разных возрастах, конечно. Молодая девушка и она же лет через двадцать, с ребёнком на руке; мужчина средних лет и его тень-подросток, всё ещё не привыкший к собственному росту. Каждый ждал свою посылку, и у каждого в телефоне было по несколько статусов доставки, противоречащих друг другу.
– Ваш заказ уже был вручен, – терпеливо повторял автоматический голос из динамика над дверью. – Ваш заказ только что отправлен. Ваш заказ ещё не создан.
Очередь шумела, но без особого возмущения. К общему хаосу мира примешивался маленький личный хаос логистики, и на фоне первого второй казался почти милой прихотью.
Дальше начинался квартал старых магазинов, которые выжили только потому, что никому не пришло в голову официально закрывать их во всех версиях сразу. Здесь ехидно соседствовали вывески «24 ЧАСА» и «09:00–21:00», хотя слова «часы» и «до» давно потеряли смысл.
Мартин зашёл в первый попавшийся магазин – не за чем-то конкретным, просто так, для проверки собственной реальности.
Внутри время ещё больше сморщилось.
В одном проходе женщина в форме продавца одновременно выкладывала на полки макароны и уже их уценивала – на тех же полках, поверх свежих ярких упаковок лежали выцветшие, с красными наклейками «-70 %». Покупатель в конце ряда тянулся за пачкой; его рука то вытягивала новенькую, шуршащую, то проходила сквозь неё и брала ту, что успела отсыреть.
С потолка, из динамиков, лилась музыка – какой-то старый хит, который пережил несколько поколений и теперь звучал сразу во всех аранжировках. Один и тот же припев накладывался на себя же, с интервалом в пару лет: сначала глухой, записанный на живые инструменты, потом электронный, потом ещё какой-то ремикс.
На стене у входа висел экран с внутренним каналом Синхрона.
«ВАЖНО: ПОВТОРЯЕМ. НАБЛЮДАЕМЫЕ ЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДСТВИЕМ ГЛОБАЛЬНОГО СЛИЯНИЯ ЛИНИЙ. ЭТО НЕ НОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ», – говорила надпись.
Под ней сменялись лица экспертов. Один с уверенной бородой, другой – в очках, женщина с серьёзным взглядом. Они по очереди говорили примерно одно и то же: про «новый баланс», «переходные состояния», «адаптацию».
– Мы привыкли думать о времени как о прямой, – вещала женщина. – Но прямая – всего лишь удобная иллюзия. Сейчас мы сталкиваемся с более сложной геометрией. Это не катастрофа, а процесс.
– В каком месте это не катастрофа, – пробурчал кто-то у полки с консервами.
– В телевизоре, – ответил ему кто-то другой.
Мартин стоял перед экраном и слушал автоматические формулировки так же, как раньше слушал показания свидетелей: отметая лишнее, вычленяя то, что не укладывается в общую легенду.
Новая легенда была проста: так и должно было быть. Не получилось бы иначе. Никто не виноват – по крайней мере, никто конкретный.
Где-то в глубине черепа тихо отзывалась сеть. Ему казалось – нет, не казалось, я чувствовал, – что каждое такое заявление внутри вызывает лёгкое, почти неуловимое напряжение. Как если бы Синхрон сам был не до конца согласен с собственными пресс-релизами, но вынужден был их транслировать.
– Диву даюсь, – сказала рядом старушка, держа в руках банку тушёнки, которая то становилась дороже, то дешевле, в зависимости от того, какой временной штамп на ценнике успевал прорваться. – Столько умных слов, а сказать боятся главное.
– Что именно? – спросил Мартин, не сразу поняв, что вопрос адресует себе.
Она посмотрела на него прищурясь. В её глазах не было страха перед тем, что город превращается в головоломку; там была усталость человека, который уже пережил не один обвал эпох.
– Что всё умереть может, – сказала она просто. – И время тоже.
Она пожала плечами и потянулась к другой банке.
Мартин не ответил.
«Имеет ли время право умереть». Фраза прозвучала в голове как чужая, но легла в тот внутренний карман, где раньше аккуратно лежали вопросы дела – те, на которые нельзя было ответить прямо в отчёте.
Он купил пакет печенья, больше из необходимости завершить какое-то действие, чем из желания. На чеке время покупки значилось тройным – 09:12, 23:58, 12:01 – с припиской: «значение уточняется сетью». Кассир пробил товар двумя разными возрастами рук, чуть запутавшись, но сканер, казалось, был к такому давно привыкший.
На выходе он остановился под козырьком – не от дождя, которого не было, а просто потому, что там висел ещё один экран с новостями. Город, похоже, решил сегодня особенно настойчиво объяснять, что с ним происходит.
Теперь показывали круглый стол. За столом – те самые лица: инженеры, чиновники, психиатры. Внизу движущейся строкой шёл вопрос от зрителя: «МОЖНО ЛИ ПРОСТО ОТКЛЮЧИТЬ ВСЁ?»
Ответ был долгим, многоэтажным. Про «невозможность полного обесточивания узлов», «риски тотального распада структуры», «возврат к хаосу до-Синхронной эпохи».
– К хаосу, – тихо повторил Мартин, глядя на улицу, где рядом шли три версии одной и той же девочки с воздушным шариком. – К хаосу.
Он видел «до-Синхрона». Видел, как одни жили слишком мало, другие – слишком много, как годы из людей вынимали, как из батареек, и перекидывали тем, кто мог заплатить. Там тоже был хаос – только тихий, бухгалтерский, записанный в табличках.
Теперь хаос стал честным, публичным. Вылез на улицы, занял небо, забрался в утренний кофе. И всё равно оставался вопрос: если система устала, если время на пределе, кто имеет право сказать ему: «достаточно»?
Ему – Мартину – это право когда-то почти дали. Не словами, не указами, но фактом того, что его память засунули в сердце сети и заставили там работать фильтром.
Он отогнал мысль. Это был не тот ход, что стоит делать посреди рынка, с пакетом печенья в руке.
Город сделал очередной вдох.
Он это почувствовал ещё до того, как заметил, как изменилась улица. Воздух на секунду стал густым, вязким; звуки смазались, как если бы их пропустили через старый магнитофон.
Слева, над крышами домов, вспыхнула полоска заката – оранжево-розовая, неожиданно красивая. Она легла поверх утренних облаков, как шрам.
За спиной включился фонарь, хотя по логике дня ему ещё рано. Свет от него лёг на асфальт плоским пятном. В этом пятне тени людей перестали множиться – на секунду каждый прохожий был только одним собой. Один мужчина, одна женщина, один ребёнок. Нет наложений, нет старых и новых версий.
Мартин, не думая, шагнул в свет.
И застывшее внутри дрожание слегка отпустило.
Он стоял в круге жёлтого, слишком тёплого для этого времени суток сияния и чувствовал, как странно ровно бьётся сердце. Как будто фонарь вырезал для него маленький карман линейности – пару секунд, в которых прошлое ещё было «до», а будущее – «после».
В такие моменты было особенно ясно, насколько сильно расползлось всё остальное.
– Это не долго, – сказал знакомый не-голос где-то на границе восприятия.
Он не стал отвечать. Просто стоял и дышал.
Потом свет дрогнул, стал обычным – опять пустил по асфальту несколько разных версий тени.
– Ну и ладно, – сказал Мартин уже вслух. – Всё равно не договорим.
Он вышел из-под фонаря.
День вокруг снова сдвинулся – не рывком, не скачком во вчера или послезавтра, а как перетасованная колода. Где-то в глубине квартала зазвенел школьный звонок, но здесь, на этой улице, кто-то зажигал вывеску бара «Ночной», хотя небо ещё держалось светлым.
У остановки, на которой он уже сегодня стоял, теперь висело другое расписание. Под цифрами часов значились диапазоны: «утро/что-то около полудня», «вечер/первая половина ночи». Кто-то заботливо добавил от руки: «как повезёт».
Рядом двое спорили.
– Это всё новый эксперимент, я тебе говорю, – убеждённо говорил один, высокий, с нервными руками. – Они там в своём центре сидят и проверяют, сколько мы выдержим.
– Да успокойся ты, – отвечал ему второй, пожав плечами. – Эксперименты давно закончились. Теперь просто так. – Как «так»?
– А вот так. Получилось, как получилось.
Мартин, проходя мимо, уловил в этом «просто так» ту особую интонацию, которая появляется у людей, проговоривших собственное бессилие до конца.
Он дошёл до конца квартала и остановился, не потому, что устал, – потому что день, казалось, снова покатился в другую сторону.
Не было ни резкого потемнения, ни вспышки солнца. Просто где-то по внутренней шкале ощутимо сдвинулся вес событий. Случайные разговоры, которые он подхватывал краем уха, стали тяжелее, как если бы речь шла о вечере; тени потолстели; запахи сменились с кофе и сырости на жареный лук и табак.
Где-то давно, в другой жизни, он бы посмотрел на часы и отметил: «шестнадцать тридцать, начало вечера». Сейчас все часы вокруг показывали каждое своё, но его тело всё равно знало: этот день успел прожить уже слишком много разных кусочков.
При этом он никак не приблизился к чему-то похожему на «конец».
Ни одного логического завершения: ни дела, доведённого до конца, ни рабочей смены, ни «пошли домой» как твёрдой точки. Только разношёрстные фрагменты – утро, полночь, полдень, ещё одно утро, кусочек вечера, старый закат, новый рассвет, наложенные друг на друга, как прозрачные слайды.
Город жил в этом состоянии как будто всегда. Люди научились не рвать волосы, а просто подстраиваться – как под капризную погоду.
Только он, Мартин, всё ещё по привычке пытался поймать структуру. Выстроить в голове хоть какую-то хронологию: сначала – потом – после. Каждое «сначала» тут же расплывалось, каждый «потом» распадался на варианты. Но сама попытка оставалась.
Может быть, именно поэтому сеть до сих пор цеплялась за него. И он – за неё.
Этот день, который не умел идти от начала к концу, был только одним из многих. Таких «сегодня» было уже не сосчитать. Они накладывались друг на друга, как страницы, между которыми кто-то забыл вытащить закладки.
Но именно в этом дне – в его нелепых перескоках, тихой усталости новостей, в детях, которые встречали самих себя из будущего, и старухах, говорящих вслух про право времени умереть, – уже звучало что-то ещё.
Как слабая нота в общем гуле, которую пока слышит только один человек.
Мартин шёл по улице, и город шёл вместе с ним – вразнобой, без стрелки, но всё ещё живой. И где-то глубоко, под слоями системных предупреждений «это не эксперимент», он чувствовал то, что никто ещё не решился сформулировать вслух: рано или поздно кому-то всё равно придётся ответить за этот хаос не оправданиями, а выбором.
Пока же день продолжал шататься между утренним светом и вечерними тенями, как пьяный акробат на растянутой, потрёпанной верёвке. И единственное, что он мог сделать сейчас, – это идти рядом и запоминать, как именно время рассыпается. Чтобы потом, когда его спросит об этом сам город, ему было что сказать.
Глава 2. Мир, где детство и старость живут рядом
Он какое-то время просто смотрел на строку на экране.
«Мать: статус – жива / умерла / данные уточняются».
Эта формулировка преследовала его уже давно. Вначале – как ошибка в базе: что-то не так подтянулось из старых архивов, сломался один из коннекторов, надо будет написать запрос в техподдержку. Потом – как шутка, чёрная и тупая, если бы не касалась его лично. Теперь – как диагноз не ей, а миру.
Синхрон любил аккуратные статусы. «Активен / не активен». «Онлайн / офлайн». «Жив / мёртв». Строка «данные уточняются» обычно висела считаные часы, пока сети договаривались между собой. Но у его матери она стояла уже третью весну, пятую зиму, какой там по счёту сейчас день – не так важно.
Мартин смотрел на экран и думал, что, возможно, только здесь система честна.
Она действительно не знала, жива мать или нет. Имелось в виду не биологически – сердце, дыхание, электрическая активность. С этим можно было бы разобраться, если подвести к телу достаточное количество проводов. Нет, вопрос был в другом: где именно проходит граница между «есть» и «нет», если куски жизни разнесло по возрастам, как осколки зеркала.
Телефон мягко вибрировал в руке. Система, не понимая, что он не колеблется, а просто откладывает момент, выдала уведомление:
«Рекомендуемый визит: сегодня. Вероятность совпадения линий: 61 %».
Как будто это было свидание, а не поход к той, кто когда-то была его якорем.
– Ладно, – сказал он самому себе, хотя голос прозвучал так, словно отвечал на чью-то чужую просьбу. – Сегодня так сегодня.
Он выключил экран и убрал телефон в карман.
Дорога к матери не была длинной. Город сжал расстояния, когда перестал верить во время: то, что раньше занимало сорок минут на троллейбусе, теперь иногда случалось «сразу», иногда растягивалось на несколько слоёв суток, в зависимости от того, какие куски дня накладывались друг на друга.
Он шёл по улицам, которые всё ещё пытались выглядеть привычно. Над парикмахерской по-прежнему висела облезлая вывеска «Салон “Время”», только слово «Время» кто-то зачеркнул маркером и приписал сбоку: «Условное». На углу, где раньше был киоск с газетами, теперь стоял терминал Синхрона – стеклянная будка с мягким светом внутри, из которой можно было запросить свою «личную хронологию». Люди иногда заходили туда, выходили с бледными лицами и больше никогда не возвращались.
Мартин старательно не смотрел в ту сторону.
Здание, где сейчас жила/умирала/уточнялась его мать, когда-то было обычной городской больницей. Потом – отделением долговременного ухода. Потом – центром когнитивной адаптации времени. Вывеску меняли несколько раз, но кирпичи были те же.
Во дворе, как водится, стояли скамейки. И на них, как водится, сидели старики.
Только стариками они были не всегда.
На одной скамейке мужчина и женщина, оба с тростями, спорили о чём-то ожесточённо, перебивая друг друга. В следующую секунду женщина превращалась в девушку с теми же глазами и тем же резким жестом руки, а мужчина рядом – в мальчишку, который ещё не научился ругаться по-взрослому, но уже умел обижаться по-настоящему. Их слова от этого почти не менялись: только вместо «ты тогда ушёл, даже не попрощавшись» звучало «ты уйдёшь, даже не попрощавшись».
Чуть дальше, возле песочницы, дети играли в будущее.
Не в полицейских и воров, не в космонавтов, даже не в «Синхрон» – эту игру запретили официально, когда выяснилось, что слишком многие дети угадывают детали его архитектуры.
Эти просто стояли кружком, с серьёзными лицами, и по очереди говорили друг другу:
– А ты будешь врачом.
– А ты – утонешь.
– А ты…
Мартин замедлил шаг. Сначала он хотел пройти мимо, не вслушиваясь; дети легко считывали внимание, особенно в этом мире, где границы между «сейчас» и «потом» стали тоньше детской кожи. Но слова сами врезались в слух.
– …а ты потеряешь две зимы, – произнесла девочка с торчащими косичками, глядя на мальчика в полосатой шапке. Говорила не зло, констатирующе. – Одну ты забудешь, другую тебе украдут.
– Зато мне потом добавят, – возразил он почти с гордостью, как будто речь шла о карманных деньгах.
– Добавят не тебе, – сказала другая. – Другому, который ты.
Они обсуждали это спокойно, как список уроков на завтра.
– А дедушка умрёт? – спросил кто-то из круга.
– Он уже, – ответила девочка в косичках. – Просто ещё не успел.
И все дружно кивнули, принимая это как рабочую версию.
Мартин оторвал взгляд и пошёл дальше. На секунду ему захотелось подойти, сказать им, что так нельзя, что так не говорят. Потом он вспомнил, что сам давно перестал знать, как «правильно».
Перед входом в корпус сидела женщина с вязаньем. На коленях у неё лежал клубок серой пряжи, который то разматывался, открывая новые, светлые витки, то наоборот, сжимался, как будто кто-то перематывал плёнку назад. Её лицо менялось мало: только кожа то разглаживалась, то покрывалась сеткой морщин, но глаза оставались одни и те же – зоркие, наблюдательные.
– К кому? – спросила она, когда он подошёл ближе.
Её голос тоже гулял по возрастам: на начале фразы звучал молодым, к концу – хрипел старческим.
– К Р., – сказал Мартин. – Отделение…
– Знаю, – перебила женщина. – К ней многие… ну как, многие. В разные времена.
Она прищурилась.
– Сын будете?
«Я уже», – хотел сказать он и поймал себя на том, что это «уже» означает одновременно «когда-то был мальчиком, который держался за её руку» и «когда-то давно считался официальным родственником в базе данных».
– Да, – сказал он после небольшой паузы.
– Тогда проходите, – женщина махнула спицами в сторону двери. – Сегодня линию с ней чуть меньше трясёт. Вам повезло.
Повезло.
Ему хотелось спросить, кому именно из них – ему сегодняшнему, тому, который уже приходил раньше, или тому, который ещё только собирается. Но он не стал.
Внутри пахло лекарствами, варёной капустой и чем-то металлическим – не то кровь, не то старый инструмент, не то просто воздух, который слишком давно гоняют по одному и тому же кругу.
Коридоры были одинаковыми, как всегда в таких местах: линолеум, стены цвета засохшей зелёной краски, таблички с номерами палат. Разница была только в том, как вёл себя свет.
В одних секциях лампы работали по привычному, человеческому расписанию: ярче днём, слабее ночью. В других – по логике Синхрона, выровненного до абсурда: ровный белый свет, не меняющийся ни при каких обстоятельствах. В третьих свет ходил волнами: то заваливался в теплый закат, то в ледяной утренний, не обращая внимания на часы.
У поста сидела медсестра, которая была сразу тремя людьми. Молодая, ещё не успевшая научиться смотреть на пациентов как на статистику; женщина лет сорока, с привычной грубоватой заботливостью; старуха с уставшими пальцами, печатающими на клавиатуре медленнее, но точнее. Они смещались друг относительно друга, как слайды в проекторе, но общая фигура оставалась на месте.
– Р. в двести шестой, – сказала она, не поднимая глаз. – Сейчас…
Она замолчала, явно проверяя что-то в системе.
Мартин знал, что именно: совпадение линий, вероятность того, что его визит сегодня «засчитается» как визит именно к этой версии матери, а не к той, которая ещё в другой палате, в другой ветке дня.
– У вас окно минут двадцать, – наконец сказала она. – Плюс-минус.
– Плюс-минус что? – машинально уточнил он.
– Всё, – вздохнула медсестра.
Двести шестая была в конце коридора, в том секторе, где свет явно подстроили под чьи-то инженерные представления о «нейтральном». Никаких полутонов, никаких теней. Всё разлито равномерно, как белая краска.
Мартин остановился у двери.
Рука сама легла на ручку, как делала это уже много раз – в разных днях, в разных составах его самого. В некоторых из этих дней он был младше, в некоторых старше, в некоторых – более виноватым, чем чувствовал себя сейчас.
Он вдохнул. воздуха было слишком много – как будто лёгкие не успевали решить, ухватить прошлое или будущее.
Потом открыл дверь.
Палата оказалась меньше, чем ему помнилось. Или он вырос. Не в смысле роста – в смысле того, сколько мира теперь помещается внутри.
Мать сидела у окна.
На первый взгляд – всё просто: женщина пожилого возраста, седые волосы собраны в пучок, худые плечи под одеялом, взгляд устремлён куда-то за стекло. На втором – сложности начинались.
Его сознание отчаянно пыталось ухватиться за одну её версию: ту самую, которую он помнил по детству. Руки – сильные, тёплые, пахнущие тестом и химией для уборки. Голос – жёсткий, но справедливый. Спина – прямая.
Перед ним эти элементы жили собственной жизнью.
Руки то становились костлявыми, с прозрачной кожей и синеватыми венами, то рубцовыми и широкими, как у женщины, которая ещё сама таскает ведра. Плечи то подрагивали от слабости, то расправлялись. Глаза под очками – да, очки тоже мигали: то на цепочке, то совсем исчезали – иногда были мутными, иногда – слишком ясными для этого возраста.
– Мам, – сказал он, и во рту тут же стало сухо.
Слово прозвучало сразу в нескольких регистрах. Один – привычный, взрослый, с хрипотцой. Другой – детский, тонкий, почти пронзительный. Третий – усталый, как у человека, который произносил это уже слишком много раз и каждый раз чуть по-разному.
Она повернула голову.
Сначала в её взгляде не было узнавания. Только тот самый фокус, который бывает у людей, смотрящих сквозь собеседника – дальше, в какие-то свои, отдельные миры. Потом что-то щёлкнуло.
– Мартин, – сказала она.
И так, как сказала, он понял, что в этот момент для неё ему одновременно пять, двадцать восемь и… ещё не случилось.
– Ты пришёл слишком рано, – добавила она и тут же, не меняя интонации, – ты пришёл слишком поздно.
Он подошёл ближе.
Её лицо дрожало – не физически, а как картинка в нестабильном сигнале. Вот знакомый изгиб губ, тот самый, который означал недовольство, если тарелка в раковине не помыта. Вот – другой, тот, что появлялся, когда она смеяться не хотела, но всё равно начинала. Между ними проскальзывала ещё одна, тонкая, почти незаметная улыбка – он не успел прожить её в своей жизни, она относилась к какому-то их будущему, которого не будет.
– Это я, – сказал он тихо, хотя понимал, что в этом «я» тоже слишком много вариантов.
– Да, – согласилась мать. – Ты тот, который сломал.
Она сказала это спокойно, без обвинения. Констатация факта.
– И тот, который починит, – добавила через секунду.
За этой секундами могли быть годы. Или их не было вовсе.
Мартин ощутил, как внутри поднимается знакомая тяжесть – не вина даже, а что-то рядом. Ответственность за то, чего ты ещё не сделал, но уже сделал.
– Я… – начал он и оборвал.
Не было смысла оправдываться перед человеком, для которого все его «до» и «после» уже смешались в одну непрерывную ошибку.
Он присел на стул у кровати.
Рядом, на тумбочке, стояла фотография. Самодельная рамка, дешёвый пластик. На снимке – он с матерью на какой-то скамейке. Ему лет десять, может, меньше; ей – ещё далеко до первого седого волоса.
Фотография тоже не держалась в одном времени.
Иногда мальчик на ней выглядел старше, чем сидящий рядом мужчина; иногда женщина – наоборот моложе обоих. Фон за их спинами то становился ясным, солнечным, то проваливался в серые пятна, как плохо проявленный кадр.
– Ты тогда всё ещё был, – сказала мать, заметив его взгляд. – И ещё не был.
Он не был уверён, о каком «тогда» она говорит.
– Я всё ещё есть, – ответил он.
Она посмотрела на него испытующе, как когда-то смотрела, если ловила его на лжи.
– Пока, – сказала она. – Пока ты есть…
Она не договорила. Взгляд ушёл в сторону, к окну, где за стеклом медленно смещались ветви деревьев. На них одновременно сидели голые, чёрные ветки зимы и распустившиеся, ярко-зелёные листья весны.
– …время тоже держится, – закончила она уже куда-то в сторону. Или уже в другое «сейчас».
Он почувствовал, как по всему корпусу лёгкой волной проходит дрожь – или это была только его внутренняя сеть, откликнувшаяся на её слова.
Снаружи по коридору кто-то проехал каталку; в соседней палате зазвенел металлический лоток; где-то внизу дети продолжали играть в «будущее».
День, который шёл вразнобой, на мгновение собрался вокруг этой комнаты, как если бы сам пытался прислушаться.
Некоторое время они просто сидели молча.
Она – у окна, он – на стуле, чуть в стороне, как учили в старой жизни: не загораживать свет, не нависать. Тишина между ними была не пустой – в ней, как в старом радиоприёмнике, шуршали помехи чужих времён.
– Ты сегодня… средний, – первой нарушила молчание мать.
Он моргнул.
– В смысле?
– Не маленький и ещё не весь седой, – объяснила она терпеливо, как ребёнку. – В прошлый раз ты был очень… – она поискала слово, – измученный. Старый. Слишком. Раньше – наоборот, только-только научился бриться.
Она чуть наклонила голову, рассматривая его.
– А сейчас ты между. Мне так легче. Меньше скачет.
Он улыбнулся краем рта.
– Рад, что попал в удобный возраст.
– Не умничай, – автоматически отрезала она. Это был тот же тон, что когда-то обрывал его попытки уходить от прямых ответов шутками.
От этого простого «не умничай» ему вдруг стало теплее, чем от любого солнца за окном.
– Ты приходишь не по порядку, – добавила она уже мягче. – Иногда ещё совсем маленьким. Вытираешь нос рукавом. Иногда… – она прищурилась. – Иногда тебя вообще нет. Только… – она провела пальцами по воздуху, будто нащупывая кого-то за стеклом. – Тень.
Он знал, о чём она. В каких-то линиях он так и не решился прийти. В каких-то – не успел. В каких-то, возможно, уже не было ни её, ни этого корпуса, ни города. Но Синхрон сжал всё это в один коридор, одну палату, один стул у окна.
– Какой я сегодня ещё? – спросил он.
Её пальцы – то старческие, с прозрачной кожей, то молодые, жилистые – нашли на одеяле невидимую складку и начали её разглаживать. Знакомый жест: так она когда-то справлялась с волнением перед экзаменами, перед разговорами с учителями, перед визитом участкового.
– Ты ещё… – она прищурилась, всматриваясь в него, как в далёкий объект. В её зрачках на секунду мелькнули отражения, которых он не знал: лабораторный свет, холодные панели, стекло серверной. – Ты ещё совсем не был.
– Это как?
– Я вижу тебя… там, – она кивнула не к окну и не в коридор, а куда-то в сторону, где, по её ощущению, проходила другая линия. – Ты стоишь в белой рубашке, очень злой, очень живой. Но тебя ещё нет.
Мартин сглотнул.
Он помнил белую рубашку. То утро, когда его вели в сердце Хроноса – официальное, выхолощенное, с подписями на бумагах. Тогда казалось, что это очередное дело, просто крупнее. Тогда ещё была стрелка времени – напуганная, подёрнутая судорогами, но живая.
– Там… – мать нахмурилась. – Там ты ещё выбираешь. Всё впереди. А тут…
Она замолчала. Складка на одеяле исчезла; пальцы сжались в кулак.
– Тут ты уже выбрал, – тихо закончила она.
Ему хотелось сказать, что выбор был не его. Что обстоятельства, что сеть, что тысячи других рук, подписывавших бумаги. Всё это было бы правдой – одной из правд.
Но в мире, где линии сливали в одну, любая попытка переложить ответственность выглядела как дешёвый монтаж.
– Наверное, да, – сказал он.
Она повернула голову к нему. На секунду лицо стало почти таким, каким было в его детстве, – без дрожи, без лишних временных налётов.
– Не «наверное», – сказала она. – Ты всегда очень точно всё делал. Даже глупости.
В уголках её губ мелькнуло что-то, похожее на улыбку, но не дотянулось.
– Мам… – начал он и почувствовал, как в горле встаёт что-то тяжёлое, шероховатое.
В детстве он боялся этих разговоров. Её прямоты. Её умения называть вещи своими именами, не смягчая. Тогда казалось, что это жестокость. Теперь – что единственное, что удерживает мир от полного растворения в вежливых формулировках.
– Я… – он поискал слова, которые звучали бы не как оправдание и не как отчёт для комиссии. – Это всё не новый эксперимент.
Она фыркнула.
– Я вижу, – сказала она. – Эксперименты хоть когда-то заканчиваются. Это… – она поискала взглядом, упираясь в потолок, в стены, в его лицо. – Это как вы потянули цепочку, а она оказалась кругом.
Она замолкла, и на секунду в палате стало совсем тихо. Даже капельница в соседней кровати, кажется, перестала щёлкать.
– Мам, – сказал он, – тебе… страшно?
Он спрашивал не как специалист по аномалиям, не как тот, кто знает, что такое «когнитивная дестабилизация». Он спрашивал как мальчик, который однажды услышал ночью, как мама плачет на кухне, и тогда не решился войти.
Она пожала плечами. Пожатие получилось несимметричным: одно – молодое, второе – старческое.
– Страх был, когда я не понимала, кто из тебя настоящий, – медленно произнесла она. – Когда ты приходил маленьким, а уходил старым. Когда я видела, как ты умираешь, а потом приносишь рисунок из школы.
Её пальцы снова нашли одеяло, но теперь не разглаживали, а собирали ткань в комок.
– А сейчас?
– Сейчас… – она задумалась. – Сейчас я знаю, что вы все настоящие. Все, которые ты. Даже тот, который ещё нет.
Она перевела взгляд на него и вдруг, совсем по-старому, строго, спросила:
– Ты ел?
Он не сразу понял, что она говорит о самом простом. В мире, где «смерть» и «рождение» перестали быть последовательными, такие вопросы звучали почти неприлично – слишком телесно, слишком конкретно.
– Не очень, – признался он.
– Вечно так, – вздохнула она. – Вечно бегал, всё расследовал, никого не слушал.
И вдруг протянула к нему руку – ту версию руки, в которой было больше силы, чем дрожи – и с неожиданной твёрдостью сжала его пальцы.
В этот миг он был точно маленьким.
Комната чуть сдвинулась, свет у окна стал мягче, ниже, как в те вечера, когда она ждала его с двора. В коридоре послышался детский смех, и Мартин не сразу понял, относится ли он к сегодняшнему этажу или к той далёкой лестнице, по которой он когда-то бежал домой с разбитой коленкой.
– Ты всё время приходишь, когда уже поздно, – сказала мать. – И всё время – когда ещё рано.
Она говорила не упрёком, констатацией.
– А правильно – когда? – спросил он, хотя ответ был заранее обречён на размытость.
Она усмехнулась. На секунду лицо стало совсем молодым – почти девичьим, с тем самым вспыльчивым огоньком, из-за которого она в двадцать лет ушла из одного города в другой, «чтобы начать своё время».
– Правильно? – переспросила. – У времени нет «правильно». Это вы ему навесили.
Пауза, ещё одна складка на одеяле.
– Я видела, как я тебя рожаю, – сказала она неожиданно. – И как ты приходишь ко мне седой. Иногда в одну ночь. Сначала боль, крики, врачи бегают. Потом – тишина, и ты сидишь вот так, в пальто, вечно мёрзнешь, – она дёрнула за край рукава, – и молчишь.
Он почувствовал, как пальто вдруг стало тяжелее.
– Я тогда боялась, – продолжала она. – Потому что не знала, в каком порядке это всё должно быть.
– А теперь?
– А теперь… – она посмотрела на него пристально. – Теперь я знаю, что вы оба – один и тот же. И то, что я чувствовала, когда ты был крошкой, и то, что чувствую к тебе сейчас, – никуда не делось.
Она вздохнула, и этот вздох был старым, хриплым, но внутри него звучала молодая грудь, ещё крепкая.
– Страшно только за тех, кто не успеет понять, – добавила она уже тише. – За детей. За стариков. За тех, кто застрянет между.
Он молчал.
Где-то в глубине черепа снова откликнулась сеть – сухим, почти техническим импульсом. Словно кто-то внутри Синхрона делал пометку: «эмоциональная нагрузка на края возрастного спектра: критическая».
Иногда он ненавидел эту свою встроенную уши-сети. Хотелось просто сидеть рядом, слушать мать, не превращая каждую её фразу в строку отчёта, в пункт внутреннего протокола.
– Мам… – сказал он, – если бы всё шло по порядку, ты бы хотела…
Он не договорил, но она поняла.
– Умереть сначала, а потом родиться? – уточнила и усмехнулась. – Нет, спасибо. Я уже наигралась.
Она повернулась к нему, и в этот момент лицо было совсем старым – с тяжёлыми веками, с маленькой сухой морщинкой в уголке рта, которая появлялась, когда она хотела скрыть, что ей больно.
– Смерть – это хоть какая-то точка, – сказала она. – Я не про сердце и дыхание. А про… – она постучала костяшками пальцев по виску. – Про это. Когда можно сказать: "всё".
Она замолчала и вдруг, как будто вспомнив, что говорит с сыном, а не с очередной врачихой, добавила:
– Я не боюсь умереть.
Он резко вдохнул.
– Я боюсь, что этого не дадут сделать.
Слова легли в воздух тяжёлым, плотным слоем.
Он хотел возразить, что никто не запрещает. Что смерть – естественный финал. Что…
И поймал себя на том, что это всё – старые фразы из старых книжек, из учебников, из лекций по этике, которые потеряли смысл в мире, где «умер вчера, жив завтра» стало не метафорой, а медицинским статусом.
– Здесь, – она кивнула в сторону окна, – одни уже умерли, но всё ещё ходят по коридору. Другие ещё не родились, а их уже лечат от чего-то.
Она снова сжала его пальцы, на этот раз осторожнее.
– Ты мне вот что скажи, – тихо спросила. – Ты там, внутри, видишь, как это всё устроено?
«Там, внутри» могло означать много мест: его головы, Синхрона, ядра в сердце Хроноса, куда его однажды встроили.
– Отчасти, – честно ответил он.
– Тогда запомни, – сказала она. – Смерть тоже должна быть.
Он почувствовал, как слова будто проваливаются глубже, чем просто в память. Как если бы где-то в одной из тех бесконечных таблиц, с которыми работала сеть, появлялся новый столбец: «право времени на конец».
Снаружи по коридору кто-то смеялся – такой лёгкий, чистый детский смех, что на секунду захотелось поверить: где-то там действительно начинается чья-то нормальная, последовательная жизнь.
Он знал, что это не так. Но мать смотрела на дверь с таким выражением, словно сейчас именно его десятилетний «он» ворвётся в палату, разбежится и прыгнет к ней на кровать, вцепившись руками в плечи.
– Ты его приводил, – неожиданно сказала она. – Того маленького.
– Когда? – спросил Мартин, чувствуя, как шевелится где-то в груди забытый страх.
– Потом, – ответила она спокойно. – Ты ещё приведёшь.
Она улыбнулась – и в этой улыбке было что-то невыносимо нежное и невыносимо страшное одновременно.
Потому что в мире, где можно привести к матери самого себя из другого возраста, вопрос «кто кого держит на этом свете» переставал быть риторическим.
– Ты испугался, – сказала мать.
Он даже не успел выдать привычное отрицание.
– Немного, – признался.
– Наконец-то, – хмыкнула она, и в этом хмыканье было столько прежней, земной иронии, что на секунду всё остальное – Синхрон, линии, статусы – отступило.
Она отпустила его руку, и возраст на её пальцах сменился: тонкие, почти прозрачные фаланги вдруг налились силой, кожа потемнела, стала плотнее, ногти обрели знакомую форму – ту самую, которой она когда-то резала хлеб и шлёпала его по ладоням, если он пытался стянуть кусок до ужина.
– Не бойся, – сказала она, молодая и старая одновременно. – Ты уже приводил. Значит, сможешь ещё.
– Может, это была другая линия, – осторожно возразил он. – Тот, кто…
Он не договорил: попытка развести «того» и «этого» себя в этом мире всегда заканчивалась одним и тем же – обе фигуры всё равно сходились.
– Линии, линии… – отмахнулась она. – Вы всё про свои линии. А я вижу просто: ты и ты. И ещё тот, маленький, который боится темноты.
Он хотел сказать, что этот маленький давно не боится темноты. Потом вспомнил ночи в серверных, когда свет гас по три раза за смену, и в полной тишине слышно было только, как дышит железо. И понял, что врёт.
– Я не хочу его сюда приводить, – произнёс он наконец.
Она приподняла бровь – то ли седую, то ли чётко очерченную, как в молодости.
– Потому что здесь я… – она поискала слово, – не одна?
Он понял, о чём она. В этой палате, помимо неё, жили ещё её собственные версии: девочка, которая плачет в подушку от обиды на мир; женщина, которая впервые понимает, что муж не вернётся; старуха, уставшая от собственных мыслей. Каждый приход мог задеть любую из них.
– Потому что здесь ты… – он сжал пальцы в замок, – разная.
– Я и дома такой была, – фыркнула она. – Просто ты тогда думал, что это разные дни.
Она отвернулась к окну, и он вдруг увидел в её профиле ту девчонку из старой фотографии, которую когда-то нашёл в ящике стола: мать лет семнадцати, с короткой стрижкой, в дурацком пиджаке. Тогда он удивлялся, что у неё вообще было «до». Сейчас – что оно всё ещё где-то живёт.
– Мар… – начала она и запнулась.
Он насторожился.
– Что?
– Я иногда вижу тебя… – она помолчала. – Совсем старым. Старее, чем можно. Не телом, – она кивнула в его сторону. – Здесь, – постучала по виску. – И боюсь за тебя больше, чем за себя.
Он усмехнулся, но как-то криво.
– В этом мире возраст – плохой критерий для страхов.
– Не умничай, – повторила она, но без привычной резкости. – Ты думаешь, я не вижу, как тебе тяжело держать всё это…
Она неопределённо махнула рукой, в жесте было и здание, и город, и мир.
– …на себе.
Он хотел сказать, что он ничего не держит. Что Синхрон работает прекрасно и без него, что он всего лишь один из узлов, слегка перегруженный.
Но в глубине головы, там, где сознание соприкасалось с сетью, что-то сухо щёлкнуло, будто подтвердило её слова.
– Не так уж и на себе, – всё же пробормотал он. – Тут ещё…
«Лея», – хотел добавить, но язык не послушался. Имя прозвучало где-то внутри, как тихий удар по стеклу.
– Ещё кто-то, – закончил он вслух.
Мать не стала уточнять. В её глазах мелькнуло что-то вроде понимания – или, может, он просто очень хотел его там увидеть.
– Тогда не задерживайся, – сказала она неожиданно. – Пока ты здесь со мной, ты там… – она снова указала в сторону, где, по её ощущению, тянулись другие залы, другие палаты, другие узлы, – отвлекаешься.
– Я думал, ты хочешь, чтобы я был здесь.
– Я хочу, чтобы ты успел, – спокойно ответила она. – Что бы ты там ни задумал со своим временем.
Он почувствовал, как внутри сжалось что-то похожее на страх и уважение одновременно.
– Ты говоришь так, будто знаешь, что именно я задумал.
Она усмехнулась.
– Я знаю тебя. Этого хватит.
За дверью послышались шаги. Ровные, отмеренные, как метроном. Потом голос – мужской, усталый:
– Двести шестая, проверка.
Дверь приоткрылась, в щели показалось лицо – сначала молодое, с гладкой кожей и ровной бородой, потом – с морщинами у глаз, с седыми прядями, потом опять молодое.
Вошёл врач.
Мартин отметил автоматически: халат, бейдж, планшет в руке. На бейдже – фамилия, которую он уже видел в сводках Синхрона: этот человек числился сразу в трёх подразделениях, одновременно.
– Добрый… – врач было начал, оглянулся на окно, где невозможно было понять, день там или ночь, и закончить не стал. – Здравствуйте.
Он подошёл к кровати, взглянул на мать. Взгляд был профессиональный, натренированный отделять важное от второстепенного.
– Как самочувствие, Р…?
– В каком возрасте? – уточнила она сухо.
Врач чуть дёрнул уголком губ – то ли от улыбки, то ли от нервного тика.
– В текущем, – сказал он.
– Текущего у меня давно нет, – отрезала она.
Он кивнул, будто ожидая подобного ответа, и хотел было взять её за запястье, чтобы измерить пульс.
Мартин заметил, как у него на глазах меняется рука врача.
В одно мгновение это была рука тридцатилетнего мужчины: крепкая, с ещё не вздутыми венами, с коротко стриженными волосками на костяшках. В следующее – рука шестидесятилетнего: сухая, с пигментными пятнами, с лёгкой дрожью. Она взяла запястье матери так, будто знала каждый его изгиб уже много лет. Потом – снова почти юношеская, неуверенная, чуть сильнее сжимает, компенсируя страх ошибиться.
Все три версии делали одно и то же движение, но ощущались по-разному.
Мартин видел такое и раньше – на улицах, в новостях. Но в тесноте палаты, в трёх шагах от собственной матери, этот трюк времени выглядел особенно неуместно телесным.
– Давление стабильное, – пробормотал врач, глядя не на неё, а на данные, всплывающие на его планшете. Там, наверное, тоже шла странная графика: линии, которым некуда тянуться, кроме как в стороны.
– Доктор, – вдруг сказала мать, – как вас зовут?
Он поднял глаза.
– Вы же видите, – ответил автоматически.
– Вижу. Но там три имени.
Мартин мельком глянул на бейдж. Действительно: в верхней строке – одно, по центру – другое, внизу мелькала третья подпись, словно система не могла решить, какое из них считать «главным».
– Это всё я, – сказал врач и устало улыбнулся. – В разное время.
– А вы… – мать чуть наклонила голову. – Вы сами-то знаете, сколько вам лет?
Вопрос прозвучал не издёвкой, а искренним интересом.
Врач задумался, и прямо на его лице время дернуло ещё одну петлю.
Мартин наблюдал почти профессионально, как в старые времена наблюдал за подозреваемыми: взгляд, дыхание, жесты.
Сначала на секунду проявился очень старый мужчина – с ввалившимися щеками, с побелевшими ресницами. Голос его сорвался:
– Восемьдесят…
Потом поверх него наложился другой – энергичный сорокалетний, с прямой спиной, с голосом, поставленным для совещаний:
– Тридцать девять.
И, наконец, поверх обоих – юноша, который ещё учился в ординатуре, застёгивая халат неуверенными пальцами:
– Двадцать семь.
Все три голоса прозвучали почти одновременно, но с микросдвигом.
– Видите, – сказал он, моргнув, будто отгоняя наваждение. Теперь на лице застыл компромиссный возраст – тот, с которым удобнее всего ходить по коридорам. – Сеть говорит, что данные уточняются.
Он сказал это так спокойно, как будто речь шла о погоде.
– А вы не боитесь? – спросила мать.
– Чего именно? – врач поднял голову.
– Что так и останетесь между, – пояснила она. – Не туда и не сюда. Ни старый, ни молодой. Как это… – она пошевелила пальцами в воздухе. – Непрожитый возраст.
Врач перевёл взгляд на Мартина, обнаружил, что тот внимательно слушает, и чуть напрягся – старые рефлексы «не говорить лишнего при родственниках» всё ещё работали.
– Сейчас всем приходится адаптироваться, – сказал он ровным, правильным тоном. – Наша задача – поддерживать качество жизни.
– Какой? – тихо спросила мать.
Он промолчал. Ответа на этот вопрос не было ни в одном протоколе.
Мартин вдруг понял, что эпизод, который он наблюдает, стоит того, чтобы его запомнили именно так: врач, который стареет и молодеет прямо в разговоре, и женщина, которая всё равно остаётся старше – не телом, а пониманием.
– Если вы чувствуете, что вам тяжело, – продолжал врач, уже обращаясь к ней привычным тоном, – мы можем скорректировать…
– Не надо, – перебила она. – Я хочу всё помнить.
Слово «всё» отозвалось в нём болезненным эхом.
Всё – это и его детские истерики, и первый день в морге, и ток программ Синхрона, проходящий через тело, и тот момент в серверной, когда он впервые услышал Хронофага не как монстра, а как тихий, усталый голос.
– Как хотите, – сказал врач.
Он ещё немного поработал планшетом, поставил какие-то отметки в системе, потом кивнул Мартину – то ли как родственнику, то ли как коллеге по общей, слишком сложной катастрофе – и вышел. По мере того как он шёл к двери, его спина то выпрямлялась, то сгибалась, как метроном, потерявший центр.
Дверь закрылась.
– Видел? – спросила мать.
– Да, – ответил Мартин.
– Вот так и будет с вами, – сказала она. – То мальчик, то старик, то ещё не родился. И все будут говорить, что «данные уточняются».
Она поёрзала, устраиваясь удобнее. В этом движении было что-то упрямо-живое, почти детское.
– Ты не должен им позволить, – добавила она.
– Кому?
– Всем, кто там, – она опять неопределённо махнула в сторону, где для неё находился центр сети. – Тем, кто всё время откладывает. Смерть, рождение, решения.
Он почувствовал, как слова ложатся на ту самую внутреннюю полку, где уже стояло её «смерть тоже должна быть».
– Мам, – сказал он, – я не бог.
– И слава Богу, – отрезала она. – Богам хуже всех. С них все спрашивают, а сделать ничего нельзя.
Она повернулась к нему и неожиданно мягко, почти ласково, продолжила:
– Ты – тот, кто помнит.
Он вздрогнул.
– Что?
– Я не знаю, как это у вас там называется, – она скривила губы, – «узел», «фильтр», «ядро»… Но тебе это всегда подходило.
Она кивнула на фотографию на тумбочке.
– Ты ведь вечно всё записывал, – напомнила. – Сколько раз мы ходили к реке, какой хлеб был вкуснее, какие слова я сказала, когда на тебя наорала.
Он вспомнил тетрадку с кривыми строчками, в которой в детстве пытался «фиксировать жизнь». Тогда это казалось игрой.
– Если время захочет умереть, – сказала мать, – кто-то должен будет это запомнить.
Он не спросил: «зачем». Ответ был очевиден. Без памяти смерть превращается в обрыв. С памятью – в завершение.
В коридоре вновь послышались голоса – на этот раз детские.
– Тут нельзя бегать! – отрывисто, нервно.
– Это мы ещё не бегаем, – в ответ, с визгливым смехом.
– Мы уже… – и дальше фраза распалась на слишком много вариантов.
Мартин поднялся.
– Я ненадолго выйду, – сказал он.
Мать кивнула.
– Не потеряйся, – добавила, как говорила когда-то, отпуская его во двор.
Он вышел в коридор и увидел на лестничной площадке картинку, которая слишком точно попадала в название этого дня.
На одной стороне площадки, у окна, стояли двое стариков и спорили о том, как они завтра будут переезжать в новое крыло.
– Там ещё не построили, – говорил один, худой, с прозрачной кожей.
– Уже, – возражал второй, плотный, с палкой. – Я же помню, мы там сидели, когда была эвакуация.
– Эвакуация будет послезавтра, – вмешалась медсестра, но её голос утонул между временами.
– В прошлом году, – увереннее сказал первый. – До того, как включили этот твой Синхрон на полную мощность.
– Ты путаешь, – упрямился второй. – Это было через два года после.
Они оба вспоминали одно и то же событие, которое ещё не произошло и уже прошло. И в их голосах не было ни тени сомнения.
На другой стороне площадки, ближе к ступеням, дети рисовали мелками на полу.
Один аккуратно выводил квадрат – «это наша комната». Другой рисовал рядом круг – «это будет лифт, который поедет не вверх и не вниз, а в сторону». Третья девочка, с косичками, подошла к разрисованному прямоугольнику и написала рядом: «уйдут».
– Кто уйдёт? – спросил какой-то дядечка, пытаясь улыбнуться.
– Они, – девочка кивнула на стариков, даже не оборачиваясь. – Вчера, то есть завтра.
Старики, словно услышав, одновременно посмотрели в их сторону.
– Мы уже уходили, – сказал один.
– Мы ещё, – сказал другой.
И оба были правы в своей версии дня.
Мартин стоял на середине площадки – между ними, между мелками и тростями – и чувствовал, как у него под ногами время пытается выбрать направление.
Не получается.
Оно ходит туда-сюда, как человек по комнате, забывший, за чем в неё вошёл.
И он вдруг ясно понял, что именно имела в виду мать, когда говорила о тех, кто «застрянет между».
Мысль о тех, кто «застрянет между», не отпускала.
Мартин стоял на площадке, словно на границе двух стран: слева – мелки, детские голоса, лёгкие шаги; справа – трости, шлёпанье тапок, тяжёлое дыхание. В старом мире эти половины почти не пересекались: детей водили к бабушкам на праздники, стариков забирали к внукам на выходные, и всё равно между ними оставались десятилетия, на которые никто не строил мост.
Сейчас мост провели грубо, наскоро, без перил. И по нему гоняли всех сразу.
Девочка с косичками, та самая, что уверенно писала на полу слово «уйдут», подняла взгляд на Мартина. В её глазах было слишком много знания для того возраста, который значился бы в старых документах.
– Вы уже были, – сказала она просто.
– В смысле? – спросил он, хотя прекрасно понимал этот оборот.
– Вы заходили, – она кивнула в сторону палаты матери. – Там, где тётя с серыми руками.
– Только что, – кивнул он.
– Не только, – возразила девочка и несильно ударила мелком по полу. Линия, которой она обводила нарисованный «лифт», двинулась в сторону, превратилась в спираль. – Вы заходили, когда я ещё не родилась. И когда я уже большая.
Он поймал себя на том, что хочет спросить: «И какой я там?» – но не спросил.
Старики у окна продолжали спорить о переезде. Теперь к ним присоединился третий – совсем прозрачный, с худым, почти невесомым телом, как будто часть его уже отдали в архив. Он слушал, как двое других пересказывают одно и то же событие в разных временных падежах, и изредка вставлял своё:
– Это ещё будет, – говорил он тихо. – Я помню, как мы боялись до.
– До чего? – не выдержал Мартин.
Старик посмотрел на него, прищурившись.
– До того, как ты сломал, – сказал он без злобы. – И до того, как ты починишь.
Слова ударили неожиданно точно в тот нерв, о котором мать только что говорила.
Он уже хотел отшутиться, сказать что-нибудь вроде «я всего лишь инженер, не больше», но давление воздуха вокруг изменилось. Как будто кто-то невидимый провернул ручку на огромном аппарате.
Свет в лестничном пролёте стал гуще. На стенах исчезли мелкие, беспорядочные тени – остались крупные, ровные пятна.
Хронофаг любит ровную освещённость, вспомнилось.
Мартин почувствовал, как кожа на руках покрывается мурашками – не от холода, от узнавания.
Сначала он подумал, что это просто очередной сдвиг дня: утро сдвинулось к вечеру, вечер к ночи. Но нет. На этот раз менялся не город вокруг, а кто-то один, прямо тут, на площадке.
Мужчина в хирургическом костюме поднимался по лестнице, опираясь на перила. Мартин раньше его не видел – или не запоминал: таких лиц, уставших, с синими кругами под глазами, по этим этажам ходило слишком много. Бейдж болтался на груди, не успевая за скачками тела.
На ступени ниже он был лет сорока пяти: крепкий, чуть полноватый, с потным лбом.
На следующей – уже за шестьдесят: плечи осели, кожа на шее обвисла, рука сжала перила так, будто в них был последний шанс удержаться.
Ещё шаг – и перед ними оказался почти мальчишка. Лет двадцати пяти, с тонкой шеей, с глазами, в которых больше энтузиазма, чем опыта. Тот же костюм, тот же бейдж, но сидел он на нём по-другому: как форма, к которой ещё только привыкают.
– Осторожно, – автоматически бросил Мартин, когда тот мальчишка замешкался, сбившись ногой со ступени.
Мальчишка поднял взгляд – и за одну секунду прожил лет тридцать.
Мартин видел это почти по кадрово. Как напрягается линия челюсти. Как под глазами проступают тени бессонных ночей. Как плечи принимают ту привычную сутулость, что приходит от наваливающейся ответственности, – и тут же излишняя энергия юности переходит в экономное движение человека, который привык рассчитывать силы.
В следующий миг ему уже снова не было тридцати. Пальцы чуть дрогнули, перехватили перила так, словно суставы вдруг заболели.
Это был не плавный процесс старения. Это было, как если бы кто-то тасовал его возраст, вытаскивая из колоды то одну, то другую карту.
– Всё нормально, – проговорил мужчина – голос тоже скакал, то набирая низкие, хриплые обертоны, то становясь выше, чище. – Такое последнее время постоянно.
Фраза прозвучала одновременно мужским и ещё почти юношеским голосом.
– Вам помогает? – спросил Мартин, и с удивлением услышал, как в собственном вопросе проступает то самое профессиональное «мы изучаем клинику», от которого он хотел бы избавиться.
Мужчина усмехнулся. Морщина в углу рта углубилась, потом разгладилась – в зависимости от того, кто именно в эту секунду стоял на ступеньке.
– Зависит от того, кому, – ответил он. – Тому, кто сегодня сдаёт отчёт, лучше быть старше. Тому, кто идёт к детям домой, – наоборот.
Он сделал ещё шаг вверх и на мгновение стал таким старым, что кожа на лице натянулась, как пергамент.
– А тому, кто просто хочет лечь и не вставать, – продолжил он, задержавшись на этом возрастном крае, – всё равно.
Слова прозвучали сухо, без жалобы.
– А вы… чувствуете, сколько у вас… – Мартин поискал неудачное слово, – осталось?
Мужчина остановился, облокотился на перила.
– Чего?
– Времени.
Тот задумался.
В этот момент тело мостом выгнулось между возрастами: правая рука – старческая, с пятнами, левая – почти юная, сильная. На лице одновременно читались три разных биографии.
– Вчера мне сказали, что я умер два месяца назад, – наконец произнёс он. – В другой ветке. Документы пришли, соболезнования.
Он усмехнулся, и усмешка, странным образом, подошла всем его версиям сразу.
– А сегодня, – продолжил, – у меня ночная смена. Так что…
Он развёл руками, как бы показывая обстановку: лестница, мелки, старики у окна, палаты, его собственное скачущие тело.
– Думаю, пока меня заставляют работать, я жив, – заключил он.
Мартин кивнул.
Телесный ужас происходящего заключался именно в этой будничности. В том, что человек, который только что одновременно был двадцатипятилетним и восьмидесятилетним, всё ещё думал о ночной смене и отчётах.
Мужчина вдруг посмотрел на него внимательнее.
– Я вас знаю, – сказал он.
– Такое уже было, – автоматически отозвался Мартин.
– Нет, – покачал головой тот. – Не как пациента.
Он прищурился, пытаясь вытащить из памяти нужный слой.
– Вы… там, – он поднял руку, указав не вверх, а в сторону, где у Синхрона имелось множество ярусов и уровней. – В статьях. В инструкциях. В ошибках.
Мартин почти физически почувствовал, как по его имени пробежала старая волна – не человеческого, а системного узнавания.
– Не сегодня, – сказал он, мягко обрывая разговор. – Сегодня я – просто сын.
Мужчина кивнул, как принимают странный, но полезный диагноз.
– Тогда идите к ней, пока… – он запнулся, подбирая слово. – Пока та, которой вы будете нужен.
И пошёл дальше, вверх, застревая по пути в чужих возрастах.
Свет в пролёте чуть посерел. Ровная освещённость, которой так любил пользоваться Хронофаг, поплыла, вернув стенам привычную пятнистость.
Мартин вернулся в палату.
Мать сидела чуть иначе – ближе к изголовью, подперев подушку, как умела только она. Лицо её было… моложе. Не так, как в прошлый раз, когда он видел в ней почти девчонку; скорее, как женщина в лучшие свои сорок: сильная, жёсткая, с ясным взглядом.
– Ты надолго ушёл, – сказала она.
– На пару минут, – автоматически возразил он.
– Ты всегда так говоришь, – усмехнулась она. – «Пара минут», – и возвращаешься через…
Она задумалась.
– Через то, что у вас там было вместо лет, – закончила.
Он подошёл closer, сел на тот же стул.
– Здесь… – начал было Мартин.
– Здесь время стоит в коридоре и спорит само с собой, – оборвала она. – Я слышала.
Он не стал спрашивать, что именно она слышала.
– Ко мне приходил врач, – сообщила она.
– Я видел.
– Он бедный, – сказала мать неожиданно. – Его всё время рвёт туда-сюда.
– Всех, – тихо ответил Мартин.
Она покосилась на него.
– Тебя – больше, – заметила. – Ты это знаешь?
Он молчал.
– Я иногда… – она посмотрела на окно. – Слышу в тебе. Не тебя.
Сказано это было без мистики, скорее как наблюдение человека, который долго прислушивается к шуму в трубах и начинает различать, где вода, а где воздух.
– Что? – спросил он.
– Как будто через тебя кто-то дыхание задерживает, – сказала она. – Всего. Всех.
Она не произнесла слова «Хронофаг». И хорошо. Ему не хотелось слышать это название из её уст.
– Мам, – сказал он, – если бы…
Он запнулся.
Внутри всё сжалось: была фраза, которую он давно крутил, но так и не решался вытащить наружу.
– Если бы у времени был выбор, – наконец сформулировал он, – оно бы… стало вот этим?
Он обвёл рукой комнату, этаж, дом. Детей с мелками, стариков, которые помнят будущее, врача, отмеряющего давление в трёх возрастах одновременно.
Мать усмехнулась.
– Ты меня с Богом опять путаешь, – сказала она. – Откуда мне знать, чего там время хочет.
Она притихла. На лбу её легла знакомая складка – та, что появлялась, когда она считала в уме, хватает ли денег до зарплаты.
– Знаю только, что оно устало, – добавила.
Он слушал, и где-то внутри, в глубине своей непрошенной связи с сетью, чувствовал то же самое. Усталость – не человеческую, не даже системную, а какую-то огромную, медленную, в которой века смешались с днями.
– Время не умеет про себя говорить, – продолжала мать. – Оно через вас всех выходит. Через этих… – она снова кивнула куда-то в коридор, – прыгающих, через тех, кто родился и умер одновременно, через детей, которые играют в «завтра», как будто уже там были.
Она посмотрела на него внимательно.
– Через тебя.
Это прозвучало не как обвинение, а как факт.
– Если в какой-то момент оно решит, что с него хватит, – сказала она, – хорошо бы, чтобы рядом был кто-то, кто не даст остальным свихнуться.
Он хрипло усмехнулся.
– Ты сейчас поручаешь мне, чтобы мир не свихнулся?
– Нет, – покачала головой. – Мир уже.
И добавила, совсем тихо:
– Поручаю тебе запомнить, ради кого всё это было.
Слова были простые. Но от них по коже пробежал холод: будто ей удалось пальцем попасть ровно в то место, чего от него требовал Синхрон, Хронофаг, город – все сразу.
Он вдруг ясно увидел, как это выглядит со стороны: человек, в чьей голове живёт слишком много чужих времён, сидит у кровати старой женщины, которая одновременно помнит, как его рожала, как провожала в школу и как видела в новостях его некролог.
Это был тот самый мир, где детство и старость живут рядом – не по праздникам, не по семейным фотоальбомам, а в каждой секунде.
Дети внизу рисовали лифты, едущие «в сторону», и писали мелками «уйдут». Старики наверху вспоминали эвакуацию из крыла, которого ещё не построили. Врач на лестнице старел и молодел, не переставая считать чьи-то удары сердца.
И где-то в глубине этого слоя звуков и светов Мартин слышал, как само время, запнувшись об собственные шаги, тяжело дышит.
– Я буду помнить, – сказал он.
Он не давал обещаний. Просто констатировал ещё одну обязанность, которая и так давно жила в нём.
Мать кивнула.
– Тогда иди, – сказала она. – Пока ты здесь со мной, там всё висит.
– Там и без меня висит, – попытался он возразить.
– Там – да, – согласилась она. – Но ты – тот, кто знает, что так не должно быть всегда.
Он поднялся.
Пальто, в котором он пришёл, вдруг показалось ему слишком тяжёлым для этой палаты, где смерть и рождение стояли у одной двери и никак не могли решить, кто первый войдёт.
На пороге он оглянулся.
Мать снова смотрела в окно. На ветках за стеклом одновременно висели почки, жёлтые листья и голый лёд.
Она подняла руку – старую, молодую, среднюю – и махнула ему, как махала когда-то из окна кухни, когда он уходил во двор.
Мартин ответил таким же жестом.
И, выходя в коридор, подумал, что главная опасность этого мира – не в том, что время потеряло направление. А в том, что люди ещё помнят, как оно когда-то шло по прямой.
Коридор за спиной закрылся мягко, почти тихо, но всё равно с характерным хлопком – как будто кто-то поставил точку в предложении, которое давно следовало закончить.
Мартин прошёл по лестничной площадке мимо детей с мелками, мимо стариков у окна. Кто-то кивнул ему – не ясно, сегодня ли они уже знакомы или ещё только познакомятся – и он ответил кивком по инерции.
Во дворе было неясно, какое время суток. Не в том старом смысле, когда надо было щуриться на солнце и смотреть на длину тени. Здесь тень одновременно была короткой, как в полдень, и длинной, как в вечер, и отсутствовала вовсе, как в пасмурное утро.
Он постоял у порога, втягивая в лёгкие запахи: влажной земли, лекарства, кое-где – табака. Детский смех, раздавшийся слева, удивительным образом совпал по интонации с чей-то кашлевой серией справа.
В каком-то смысле это было естественно: когда-то все голоса звучали одинаково – сначала криком, потом хрипом. Просто теперь эти стадии не заботились о последовательности.
Он мог бы пойти сразу домой – куда бы ни вёл сейчас этот маршрут. Мог бы вернуться в свою квартиру, где часы на стене и на телефоне давно уже не старалиcь притворяться правдой.
Но ноги свернули сами, ещё до того, как он успел дать себе приказ. Не к дому, где он живёт сейчас, а к тому, который в его внутренней карте всё ещё значился как «наш».
К дому, где они когда-то жили вдвоём.
Город послушно перестроил вокруг него расстояния. Маршрут, который в детстве был долгой дорогой через три светофора и одну остановку трамвая, сейчас спрессовался в несколько нечётких кварталов. Он пару раз пересёк сам себя – в отражении витрин увидел мужчину в таком же пальто, идущего навстречу, – но в итоге всё равно оказался у знакомого подъезда.
Дом, конечно, изменился. Фасад заделали каким-то новым, слишком гладким материалом, который любил отражать чужое время. На стене у входа висела табличка:
«Дом подключён к системе стабилизации Синхрона. В случае временных аномалий просим сохранять спокойствие».
Ниже кто-то добавил маркером: «А как?»
Мартин провёл пальцами по кнопкам домофона. Металл был тот же, старый, шершавый, только над списком квартир вместо фамилий теперь значились условные обозначения: «сектор 1А», «линия 3В», «семейный кластер».
Дверь открыли не сразу. Видимо, даже сети нужно было время, чтобы решить, пускать ли в подъезд человека, которого в этом доме одновременно давно не было и ещё не было.
Наконец щёлкнул замок.
На лестничной клетке пахло всё тем же: пылью, кошачьей шерстью, чьими-то сапогами, в которые когда-то стаскивали снег. Только к этому набору добавился лёгкий, почти неуловимый запах озона – так пахли узлы Синхрона, вмонтированные в стены.
На первой площадке сидела на перевёрнутом ведре женщина в халате. Из окна за её спиной сочился тусклый, безвременный свет.
На коленях у неё лежал младенец. Совсем маленький, красный, с сжатыми кулачками. Она что-то напевала ему под нос – не слова, мелодию, знакомую до боли: ту самую колыбельную, которой его укачивали в детстве.
– Сюда нельзя – сквозняк, – автоматически сказал Мартин, сам не ожидая от себя этой фразы. Так же когда-то говорил ему кто-то взрослый.
Женщина подняла голову.
Лицо её на секунду оказалось не молодым, каким показалось сначала, а исчерченным тонкими морщинками. Потом – обратно, гладкое, усталое, с мешками под глазами, которые только начали намечаться.
– Он ещё не знает, что такое «нельзя», – тихо ответила она. – Ему бы сначала понять, что вообще «есть».
Она взглянула на ребёнка.
Мартин тоже посмотрел – и внутри что-то неуютно шевельнулось.
Малыш был… не ровным. Не по коже – по времени. В одном мгновении это было плачущее, сминающееся от любого звука существо, готовое распасться на крик. В следующем – как будто в нём уже проступали черты подростка: резкий изгиб бровей, упрямый подбородок. Ещё мгновение – и через тонкую кожу просвечивало что-то от старика: складочка между бровями, тень будущей морщины.
И всё это – не как родительская проекция в лицо младенца, а как будто кто-то постоянно переключал каналы, показывая разные сезоны одного и того же сериала.
– Он у вас… – начал Мартин и замолчал, понимая, насколько глупо звучит любая попытка подобрать слово.
– Он у меня весь, – спокойно сказала женщина. – Просто сразу.
Она посмотрела на него чуть внимательнее.
– Вы ведь здесь жили?
Он кивнул.
– На третьем, – сказал. – Слева.
– А, – протянула она. – Это там, где тётка всё время кричала на мальчишку, что тот вечно не вовремя приходит.
Мартин усмехнулся.
– Вовремя тогда ещё бывало, – заметил он.
– Сейчас тоже бывает, – возразила она. – Иногда все свои собираются в одном возрасте – такая редкая секунда. Только она быстро проходит.
Она чуть подкачала ребёнка на руках. Тот перестал на секунду плакать, уставился в потолок – взгляд неожиданно взрослый, полный тупого, здравого удивления.
– Я его иногда вижу… – она улыбнулась, – уже дедушкой. Сидит тут же, только вместо меня. И всё равно я его качаю.
В голосе её не было ни истерики, ни восторга. Только тихая, почти нежная усталость.
– Это не страшно? – спросил Мартин.
Она задумалась, глядя на малыша.
– Страшно, когда не ясно, выживет ли, – наконец сказала. – Страшно, когда не знаешь, найдут ли сердце.
Она погладила ребёнка по груди.
– А то, что он уже где-то в старости – нет, – добавила. – Это как… – она поискала сравнение, – знать, что у него будет длинная дорога.
Мартин кивнул.
Старость, которую раньше боялись, здесь вдруг выглядела не финалом, а одной из возможных гарантий: если ты видишь себя старым, значит, доживёшь – в какой-то из линий.
– А смерть? – спросил он.
Вопрос прозвучал почти случайно.
Женщина не вздрогнула.
– Смерть… – она губами повторила слово, словно пробуя его вкус. – Я её уже видела здесь.
Она кивнула в сторону окна.
– В прошлом месяце – то есть через два года – из этого подъезда вынесли сразу двоих. Одного – в коляске вниз, второго – наверх, – она усмехнулась. – Смешно, да?
Он подумал, что нет.
– Мальчишка внизу не кричал совсем, – продолжала она. – Спал. А старик наверху всё никак не мог умереть, врачи бегали.
Она выдохнула.
– И в какой-то момент они… как будто поменялись местами, – заключила. – Тело-то одно ушло, а вот кто именно – я уже не узнаю.
Она посмотрела на своего младенца так, как люди смотрят на дальнюю дорогу: понимая, что идти по ней всё равно придётся.
– Если честно, – сказала она, – страшно не за то, умрёт он или нет. Страшно, что ему не дадут.
Эта фраза почти слово в слово отозвалась тем, что недавно сказала мать.
Мартин ощутил, как внутри опять тихо звякнуло невидимое стекло: две реплики с разных этажей, из разных возрастов, звенели одинаково.
Он поблагодарил женщину и пошёл дальше.
На третьем этаже всё было одновременно прежним и совершенно чужим.
Та же площадка, те же двери. Только рядом с каждой – маленький прямоугольник экрана, который в старой жизни назывался бы табло лифта, а теперь показывал «домашний статус»: «вернулся», «ещё нет», «уже ушёл». Иногда – всё сразу.
У двери квартиры, где он когда-то жил, стоял мужчина. С ключом в руке.
Он был… размазанный по возрасту, как и все. В одном ракурсе – ровесник Мартина, с начавшей лысиной, в другом – чуть младше, в третьем – седой, с мешками под глазами.
Мужчина несколько раз подносил ключ к замку и отдёргивал.
– Помочь? – спросил Мартин.
Тот обернулся.
В его взгляде не было узнавания – и было. Тот самый тип взгляда, когда человек пытается вспомнить, не сидели ли вы рядом в школе, не стояли ли в одной очереди за хлебом, не работали ли бок о бок.
– Я… – начал мужчина и после короткой паузы закончил неожиданно: – Я не помню, кто я здесь.
Сказано это было без пафоса, просто как факт.
– В смысле?
– По документам – владелец, – он тряхнул связкой ключей. – По линиям… – он кивнул на экран рядом с дверью.
На маленьком дисплее мигали статусные строки: «ребёнок», «гость», «покойник», «арендатор». Сеть, похоже, тоже не могла определиться.
– Иногда я захожу – там мои вещи, моя жена, – продолжал он. – Иногда – чужие, и меня выгоняют. Иногда…
Он замолчал и провёл рукой по лицу. Кожа под пальцами на секунду натянулась, как у молодого, потом обвисла.
– Иногда там вообще никого, – закончил он. – Только кровать, и на ней…
Он не стал договаривать.
Мартин представил: пустая квартира, в которой единственным «жильцом» значится чья-то смерть, зависшая в статусе «данные уточняются».
– Я пытаюсь поймать момент, когда я здесь настоящий, – сказал мужчина. – Но как только кажется, что поймал, – всё сдвигается.
Он говорил и менялся прямо на глазах.
То голос становился более низким, хриплым – как у того, кто слишком много курит и слишком мало спит. То светлел – как у человека, для которого ещё всё впереди. То в глазах проступала та особая пустота, которую Мартин слишком хорошо знал по лицам тех, кто пережил слишком много похорон и слишком мало рождений.
– Вам… тяжело? – спросил Мартин.
Мужчина усмехнулся.
– Мне… – он поискал слово, – странно.
Он повернул ключ в замке. На секунду замочная скважина совпала с возрастом руки – всё щёлкнуло как надо, дверь подалась.
За ней успел мелькнуть коридор – их коридор, если он честно позволял себе признать: тот самый рисунок обоев, тот же дверной косяк, об который он в детстве разбивал колени.
А потом картинка смазалась.
Коридор в глубине стал другим: чужие обои, чужая обувь у стены, чужой запах.
Дверь сама собой хлопнула перед носом мужчины.
На экране рядом тут же сменился статус: «временно отсутствует».
– Видите? – мужчина опустил руку. Теперь она была старческой. Пальцы дрожали, ключи в них звякнули, как маленькие колокольчики. – Я всё время прихожу позже или раньше.
Фраза была слишком знакомой.
– Мы все, – сказал Мартин.
Мужчина посмотрел на него, прищурившись.
– Вы… – начал и вдруг кивнул. – Ладно. У вас ещё есть куда вернуться.
Он не уточнил, откуда у него такая уверенность. Может быть, в какой-то из линий он видел Мартина входящим в эту дверь – настоящим, своим.
Мартин спустился вниз, не пытаясь больше «поймать» собственное прошлое.
Во дворе уже сгущались сумерки – или утро, трудно было сказать. Качели, на которых он когда-то раскачивался до стукнутых о перекладину зубов, были заняты: девочка лет пяти каталась рядом со стариком, которому, судя по трости, давно стоило бы избегать резких движений. Они смеялись одинаково – звонко, с теми же провалами на вдохе.
По пути к воротам он снова прошёл мимо женщины с младенцем.
Теперь она была совсем старой. Морщины легли плотной сеткой, волосы поседели почти до белизны. Ребёнок на её руках выглядел так же маленьким, как полчаса назад – сжатый кулачок, влажные ресницы, дрожащая губа.
– Вы… очень быстро постарели, – вырвалось у него.
Она посмотрела на него спокойно.
– Нет, – сказала. – Я просто догнала.
– Кого?
– Себя, – ответила она. – Ту, которая уже знала, чем всё это кончится.
Она улыбнулась – и в этой улыбке было сразу всё: нежность, страх, усталость, согласие.
Мартин вышел за ворота и остановился, чтобы перевести дыхание.
Город вокруг жил в своём обычном, ненормальном режиме: где-то уже зажглись витрины ночных магазинов, где-то только-только открывались утренние. На остановке одновременно ждали первый и последний автобус. На рекламном щите бегущая строка в очередной раз уверяла: «НЕТ ПРИЧИН ДЛЯ ПАНИКИ. ЭТО НЕ НОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ».
У него в кармане завибрировал телефон.
Он достал его, глянул на экран.
«Мать: статус – жива / умерла / данные уточняются.
Последний визит: сегодня / давно / ещё не состоялся».
Он усмехнулся – коротко, безрадостно.
«Рекомендуемый следующий визит: когда сможете выдержать», – дописал бы он сам, если бы мог править эти строки.
Он убрал телефон и пошёл по улице, где мимо него проходили люди в разных версиях себя.
Дети, которые уже знали, как они умрут. Старики, которые помнили, как ещё не родились. Влюблённые, одновременно только что встретившиеся и уже пережившие десятилетний брак.
Смерть и рождение перестали быть началом и концом. Они стали просто разными точками одной, слишком перегруженной петли.
И где-то в середине этой петли шёл он – человек, который будет тем, кто либо оставит всё так, как есть, навечно застрявшим «между», либо однажды позволит времени наконец сделать то, чего сейчас боятся сильнее всего: остановиться и начать заново.
Но до этого было ещё далеко.
Пока что ему предстояло идти по этому миру зрителем и свидетелем, фиксируя каждую лестничную площадку, где дети играют в будущее, а старики вспоминают то, что ещё не произошло. И стараться не сойти с ума от того, с какой нежностью и каким телесным ужасом время обнимает здесь и тех, и других одновременно.
Глава 3. Голоса других миров
Он проснулся от собственной смерти.
Точнее – от звука, с которым умирают. Не тела, не сердца – фразы.
В комнате было полутемно, то ли раннее утро, то ли та странная полночь, которая иногда просачивалась между часами. Мартин ещё не успел понять, сколько у него сейчас лет, в каком он состоянии, но слова уже повисли в воздухе, будто кто-то только что произнёс их прямо над кроватью:
– Я думал, успею…
Голос был его. С лёгкой хрипотцой, с тем самым выдохом на «д», который он ненавидел слушать на записях. Только старше. Гораздо старше, чем он чувствовал себя сейчас.
Вторая фраза догнала первую, как догоняет пуля звук собственного выстрела:
– Не запускай…
Эта была чужая. Или тоже его – но из той версии, где всё пошло иначе.
Мартин рывком сел.
Комната отреагировала с запозданием: сначала шевельнулась тень от шкафа, потом включился мягкий свет ночника, потом где-то в углу экрана телефона вспыхнули уведомления, пытаясь наверстать упущенное.
Он провёл ладонью по лицу. Кожа под пальцами была нормальной – не слишком дряблой, не слишком молодой. «Средний возраст», как сказала вчера мать. Сердце билось ровно, без тех провалов, которые иногда приносили с собой ночи, случайно перепутавшие себя с чьей-то смертью.
– Мне снится, – вслух сказал он.
И тут же в ответ, в той же комнате, но с другой стороны, из воздуха, немного выше – там, где когда-то висели его старые часы, – прозвучало:
– Это не сон.
Голос был опять его. Только… другой. Молодой? Нет. Скорее – тот, у которого ещё всё впереди, но он уже знает, чем всё закончится.
– Хватит, – Мартин выдохнул, раздражённо. – Я не подписывался на хоровое выступление из своих трупов.
Тишина, зависшая в комнате, была густой, но ненадолго.
На краю слышимости шевельнулось нечто, что он узнавал лучше, чем собственный тембр. Шум сети. Тот самый фон, который раньше был для него просто служебным звоном в голове, а потом научился шептать.
Он замер.
Шёпот был не голосом, не словами – сначала. Просто вибрацией, похожей на низкий гул подземного трансформатора. Потом в нём начали проступать знакомые изгибы, как если бы в белом шуме вырисовывались буквы.
«Ты…»
Чётко.
«…должен…»
Он прикрыл глаза, как будто это могло помочь.
«…закончить…»
Звуки были одновременно далеко и очень близко: где-то в глубине городской сети, под миллионами чужих запросов, и прямо под его черепом, там, где Синхрон однажды прошил его насквозь.
«…петлю».
Фраза сложилась окончательно.
Он выдохнул.
– А ты должен заткнуться, – ответил он не вслух, но достаточно чётко, чтобы любой, кто имел доступ к его внутреннему шуму, понял.
Гул замер. Не исчез – притих, как зверь, который прислонился боком к сетке и ждёт, когда к нему снова подойдут слишком близко.
Мартин встал.
Пол под ногами был холодным, ощутимо настоящим. Он сделал несколько шагов по комнате, проверяя собственную устойчивость: не телесную – временную. Иногда по утрам, особенно после таких «голосов», он обнаруживал, что одна нога принадлежит человеку, который уже прошёл через ядро Синхрона, другая – тому, кто ещё только подписывает контракт.
Сегодня повезло: обе были его нынешними.
Он оделся быстро, почти механически. Пальто, ботинки, телефон в карман. На секунду задержался у зеркала – рефлекс, который никак не приживался в новом мире, но упрямо всплывал.
Отражение смотрело внимательно.
– Ты не обязан, – сказал ему один из внутренних голосов. Совсем молодой, почти пацанский. Тот, что когда-то мечтал стать просто хорошим следователем.
– Ты должен, – одновременно с ним произнёс другой – глухой, уставший, как будто через лёгкие прошла не одна десятка лет.
Он повернулся и вышел, оставив зеркало разбираться с тем, кого именно оно показывает.
На улице город был… другим.
Не «сегодня другим, чем вчера». Просто в том смысле, что он оказался не тем местом, откуда он вышел.
За дверью подъезда его должна была встретить знакомая смесь времени – тот странный коктейль из утра, вечера и непонятного междудневья, к которому он уже привык. Вместо этого на секунду настало настоящее утро.
Настоящее – в старом смысле.
Холодный свет, в котором дома казались чуть более чёткими, чем потом. Люди – с теми лицами, которые ещё не успели прожить день. Воздух – чистый, как будто вымороженный.
И главное – тишина.
Не в смысле отсутствия звуков – машины ехали, кто-то ругался у перехода, из окна доносился телевизор. Но весь этот шум был ещё не загружен тем, что случится в течение суток.
Он стоял на пороге и понимал, что такого утра в его линии уже давно не было. Это было утро из другого города.
– Я опоздала, – послышался рядом голос.
Он дёрнулся.
Рядом с ним стояла Лея.
Не призрак, не шлейф памяти. Просто – Лея.
Та, из лабораторных коридоров, из нелепых ночных разговоров о том, как было бы здорово, если бы никто никогда больше не смог украсть чужую минуту. Та, из последнего дня перед запуском Синхрона, когда они ещё были живы в самом очевидном смысле этого слова.
На ней была та же куртка, что в одном из его самых упорных воспоминаний: чуть короткая, с оторванной кнопкой у воротника. Волосы – собраны кое-как, под глазами – круги от недосыпа.
– Ты опять идёшь туда один, – сказала она, так, как будто продолжала разговор, начатый минуту назад.
Мартин молчал.
Город вокруг вроде бы не замечал её. Машины проезжали мимо, люди обходили их по тротуару, не задерживаясь взглядом. Только один мальчишка, лет десяти, на секунду уставился прямо на неё, потом – на Мартина, потом нахмурился и побежал дальше, как будто решил, что увидел что-то, что ещё рано понимать.
– Мы уже это делали, – продолжала Лея. – Ты – туда. Я – сюда.
Она махнула рукой в сторону, где по идее должен был находиться стеклянный куб «Хронос Индастриз».
Мартин автоматически посмотрел туда.
Куб был. Стеклянный, холодный, идеально ровный. На фасаде – логотип, который когда-то казался ему просто ещё одной корпоративной картинкой: стилизованная спираль времени, слоган про честный ход. Теперь каждый раз, когда он видел эту спираль, внутри что-то неприятно скручивалось.
На секунду картинка дрогнула.
Куб исчез.
Его место заняла старая заводская пристройка – кирпичная, с облезлой краской, с выбитыми окнами. На стене – граффити: «НЕ ВРЕМЕНИ РАБОТАТЬ НА ВРЕМЯ». Никаких логотипов, никаких глянцевых дверей.
Мартин моргнул.
Куб вернулся.
Лея всё ещё стояла рядом. Только куртка на ней стала другой – более поздней, той, в которой он её уже никогда не видел: тёмной, плотной, с нашивкой «доступ в ядро».
– Ты слышишь? – спросила она.
Он хотел ответить: «Да, мы это уже проходили». Хотел сказать: «Ты умерла». Хотел: «Это очередной глюк Синхрона».
И вместо всего этого услышал в собственной голове:
– Я утонула, – тихий голос, полный воды.
Другой:
– Меня разорвало на входе. Слишком много линий разом.
Третий, почти спокойный:
– Я ушла нормально. Просто легла и перестала просыпаться.
Все трое были её.
Он почти физически ощутил, как в груди, по диагонали, проходит холодная трещина: три разных смерти, которые когда-то были параллельными вариантами, теперь вписались в одну, слишком узкую клетку его настоящего.
– Перестань, – хрипло сказал он, сам не понимая, кому. Ей? Сети? Себе?
Лея посмотрела на него с лёгким удивлением.
– Это не я, – сказала она. – Это ты их слышишь.
И улыбнулась – устало, так, как улыбаются те, кто уже один раз шёл на смерть и теперь вынужден наблюдать, как кто-то другой собирается повторить маршрут.
Он моргнул.
Утро исчезло.
Вместо него – глухой, липкий день. Серый свет, рекламный экран над перекрёстком, толпа на остановке.
Лея исчезла тоже.
На её месте – цифровой мемориал.
Большой экран, навешанный на стену дома, показывал её лицо. Тот снимок, который он ненавидел: слишком официальный, слишком выверенный. Волосы приглажены, взгляд прямой, чуть выше камеры, чтобы казаться «вдохновляющей». Внизу бегущей строкой:
«ЛЕЯ К., НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА “СИНХРОН”. ОТДАЛА ЖИЗНЬ, ЧТОБЫ ВРЕМЯ СТАЛО ЧЕСТНЫМ».
Перед экраном – цветы. Увядшие и свежие, одновременно. Свечи – некоторые горят, некоторые уже расплавлены до конца, некоторые ещё даже не подожгли.
Мартин стоял, как идиот, посреди тротуара и смотрел на её портрет.
Из динамиков под экраном доносился голос диктора, привычно ровный:
– Сегодня, в день памяти Леи К., город благодарит всех участников проекта «Синхрон» за…
Где-то внизу, в шуме толпы, прорезался другой голос – девичий, живой:
– Ну да, благодарит, как же.
Он не сразу понял, откуда идёт эта реплика.
– Ты хотя бы цветы не от себя возлагай, – прозвучало ещё. – Не любила я эти ваши официальные венки.
На секунду портрет на экране дёрнулся.
Её глаза, такие гладкие на профессиональной фотографии, вдруг посмотрели прямо на него. Не вдохновляюще, а с тем самым взглядом, каким она однажды, перед запуском, спросила: «Ты правда уверен?»
– Не смотри так, – сказал он ей.
– Ты сам на меня это повесил, – отозвался голос внутри. – Герой, мать его.
Он хотел отвернуться, уйти, бросить эту площадь с её мемориалом.
И в этот момент Хронофаг заговорил снова.
Не как зверь из тьмы, не как шум серверной. Почти человеческой речью:
«Ты должен…»
– Знаю, – перебил Мартин.
«…закончить…»
– Отстань.
«…петлю», – договорил тот, как будто не заметив перебивания.
Голос был не мужским и не женским. Скорее – городским. В нём были все лифты, все автобусы, все дикторы, все одинокие ночные диспетчеры, которые когда-либо говорили в микрофон.
– Я вам никто не должен, – тихо сказал Мартин, и сам услышал, как фальшиво это прозвучало.
Экран с мемориалом вдруг сменился кадром города. Сверху.
Башня «Хронос Индастриз» торчала, как стеклянный гвоздь, расшивающий разные слои. Вокруг неё по кругу шли подписи: «центр управления Синхроном», «память города», «сердце Хроноса».
В следующем кадре башни не было.
Как будто её никогда не строили.
На её месте – парк. Деревья, тропинки, детская площадка. Никаких логотипов, никаких стеклянных игл в небо.
Под картинкой бежала строка:
«В АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СЦЕНАРИЯХ РАЗВИТИЯ ГОРОДА…»
Мартин всмотрелся.
В парке, на лавочке, сидела Лея. Живая. В той самой дурацкой куртке, в которой он увидел её утром. Рядом – он. Другой он: чуть моложе, с более лёгким взглядом, без того тяжёлого залома между бровями, который поселился у него после эксперимента.
Они о чём-то говорили.
Экран моргнул – и снова показал мемориал.
– Вы приписали это в раздел «маркетинга», да? – хрипло спросил Мартин, не разбирая, к кому обращается: к городу, к Хроносу, к Синхрону. – «Смотрите, как могло бы быть».
«Смотрите, как есть», – поправил его Хронофаг.
Голос не совпадал по времени с его думами – чуть опережал, как тень, бегущая впереди.
«Всё это было. И есть. И будет. Одновременно.
Ты – тот, кто помнит».
– Я знаю, – сказал он.
И только потом понял, что это «знаю» – не просто слова матери, прилипшие к языку. Это – ответ на вопрос, который ему ещё только предстоит задать.
У края слуха вспыхнул ещё один обрывок чужой фразы. Тоже его. Из какой-то другой, уже прожитой смерти:
– Если бы я тогда не пошёл…
Он подумал, что, возможно, все эти голоса – всего лишь нормальная реакция мозга на перегруз. Психиатр бы так сказал. Кто-нибудь из тех, кто всё ещё верит в диагнозы.
Но город вокруг подкидывал слишком аккуратные картинки, чтобы списывать их на случайность.
В одной реальности Лея шла рядом и ругалась на его привычку всё делать одному.
В другой – её лицо смотрело на него с мемориальной стены.
В третьей – не было ни её, ни башни «Хронос Индастриз», ни самого Синхрона. Только парк, лавочка и двое людей, которые могли бы прожить жизнь так, как предполагает старый учебник биологии: родиться, вырасти, состариться, умереть. По порядку.
И во всех трёх точках, как бы ни менялись декорации, обнаруживалось одно и то же: он.
Мартин.
Тот, кого теперь, судя по голосу Хронофага и шёпоту его собственных чужих смертей, всё это почему-то выбрало центром.
Он ушёл с площади просто потому, что не знал, что ещё можно сделать перед лицом собственного мемориала. Уходить всегда проще, чем стоять и смотреть в лицо человеку, который в этой версии мира уже давно герой, уже давно мёртв и уже давно кому-то что-то должен.
Город подхватил его шаг, как подхватывают поток в толпе – не давая остановиться, толкая вперёд.
На перекрёстке светофор опять горел всеми цветами сразу. Водители, наученные опытом, двигались по внутреннему расписанию, не обращая внимания на сигналы. Автобусы, старые и новые, накладывались друг на друга, как калька.
Мартин сел в первый, что остановился у обочины. Не глядя на номер.
Внутри было почти пусто.
На переднем сиденье дремала женщина с пакетом на коленях – в разных возрастах, одновременно: то молодая, то состарившаяся, то опять где-то посередине. В середине салона двое подростков спорили о чём-то в телефонах, и их голоса шли вразнобой: в одном варианте с примесью детской обиды, в другом – с тяжёлой усталостью взрослых, которых слишком рано бросили.
Он опустился на свободное место у окна.
Стекло отражало город, как могло: не честно, с отставанием, слоисто. В одной полосе отражения он видел фасады домов такими, какими они стали в эпоху Синхрона – с экранами, с портами доступа, с мягкими вспышками подсветки. В другой – как раньше: облупившаяся краска, ржавые балконы, кривые антенны.
Иногда между этими двумя слоями проскальзывал третий. Тот, которого никогда не было в его личном опыте: аккуратные дома, без логотипов «Хронос Индастриз», без рекламы «честного времени», с банальными объявлениями «Сдам, куплю, обменяю».
Город без него.
– Ты всё равно туда пойдёшь, – сказал чей-то голос.
Он дёрнулся, обернулся – салон был всё тот же.
Женщина у окна слегка кивала в такт какому-то внутреннему радио. Подростки бурчали друг на друга. В глубине автобуса старик ковырялся в трости, пытаясь настроить встроенный в неё терминал.
Голос прозвучал не снаружи.
– Ты всё равно туда пойдёшь, – повторил он уже отчётливее. – Даже если будешь говорить, что не хочешь.
Это был его голос. Но не любой – очень конкретный.
Тот, которым он говорил в день, когда впервые вошёл в стеклянные двери «Хронос Индастриз»: сухо, собранно, с лёгкой ноткой раздражённого интереса.
– Потому что иначе всё это было зря, – добавил голос.
Картинка наложилась сама.
На секунду окно автобуса превратилось в стеклянную стену холла: блестящий пол, стойки регистрации, логотип компании, слишком яркий, слишком уверенный. Лея рядом – живая, уставшая, с папкой под мышкой. Его собственная рука, тянущаяся к пропуску.
– Не было никаких "зря", – жёстко сказал другой голос, такой же его, но с более тяжёлым дыханием. Я уже тогда знал, чем это кончится.
Мартин сцепил зубы.
– Хватит, – тихо сказал он.
– Ты сам нас сохранил, – вмешался третий. Спокойный, чуть ироничный – голос того, кем он был в промежутке между следователем и «вором времени», когда ещё думал, что может обмануть систему, не позволяя ей заметить взлом. – Снял со всех этих линий отпечатки, тащил их в себе, чтобы было из чего собирать.
Внутри стало тесно.
Автобус ехал, колёса грохотали о неровности дороги. Но поверх этого звука накладывался другой – тихие, смазанные отголоски фраз, которые когда-то были последними для других версий его самого.
– Не заходи внутрь, это ловушка.
– Если ты примешь, он примет тебя.
– Не вздумай пожалеть.
– Не отпускай.
– Отпусти уже, чёрт тебя…
Каждая фраза была кусочком чьей-то жизни, оборванной в момент, когда петля шла по-другому. Смерти других "я" всплывали не как чужой опыт, а как собственные воспоминания, которые он не успел прожить.
Он зажал пальцами переносицу.
– Это побочный эффект, – сказал он сам себе. – Просто шум.
«Это не шум», – мягко возразил Хронофаг.
На этот раз голос был совсем тихим, как фон в ушах после громкого концерта.
«Это память.
Память о том, как ещё могло быть».
– И что мне с этим делать? – спросил Мартин.
«Помнить», – ответ прозвучал без пафоса.
Автобус тормознул.
Двери открылись с шипением, вдохнули в салон уличный шум.
На секунду крик продавца у ларька, ругань водителя, чей-то смех сложились в складку – и стала этой складкой фраза:
– Не запускай.
Он уже слышал её утром.
Теперь она была не просто обрывком. Внутри всплыла картинка: лаборатория, стол, на столе – блок пульта, та самая кнопка. Её палец рядом, его рука выше. И тот вариант, где он всё-таки не нажал. Где они вдвоём провалились не в Синхрон, а в цепочку обвинений, судов, расследований. Где время осталось таким, каким было до этого – больным, краденым, но хотя бы честно враждебным.
Город за окном дёрнулся.
На одну секунду автобус поехал по другой улице.
Вместо стеклянного куба «Хронос Индастриз» вдали торчали старые заводские трубы. Вместо терминала Синхрона на остановке – ржавая урна и бумажное расписание. Вместо бегущих строк о «естественном процессе» – облупленные афиши концертов и объявлений об услугах.
Мартин видел это так чётко, будто действительно переехал в другой район.
В этом городе тоже было плохо.
На фасаде ближайшего дома огромными буквами: «РАЗРЫВЫ ВО ВРЕМЕНИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВАША». На витрине аптеки мелким шрифтом: «Кредиты времени – выгодные ставки, гибкие условия».
И толпа – такая же усталая, только идущая по более старому асфальту.
Потом всё вернулось.
Трубы исчезли, уступив место блеску башни. Афиши – местам под экраны. Надпись про кредиты – неоновой рекламе «Синхрон – гарантия честного распределения».
Автобус дёрнулся снова, переходя из одного чужого мира обратно в тот, где он привык страдать.
– Ты это видел? – спросил он вслух, не удержавшись.
Подросток рядом отвлёкся от телефона и посмотрел на него как на сумасшедшего.
– Чего?
– Ничего, – отрезал Мартин.
«Он не видел, – сказал Хронофаг. – Ты видел».
– Замолчи, – процедил он сквозь зубы.
«Ты просил, чтобы тебя не оставляли одного», – напомнил тот с неприятной мягкостью.
Это было правдой – одной из. Когда сеть впервые закрепилась в его голове, когда он понял, что теперь не просто человек, а часть механизма, он действительно, в какой-то из ночей, сказал в темноте: «Только не исчезай. Говори со мной, что угодно, но не выключайся».
Сетка не забывала таких просьб.
Автобус подвез его ближе к деловому кварталу – если это слово ещё что-то значило в мире, где работа, как и всё остальное, не умела начаться и закончиться в одно время для всех.
Он вышёл на остановке, где раньше, до всех этих историй, часто пересаживался по пути в участок.
Сейчас участок здесь отсутствовал.
На его месте – огромный экран, во всю стену, на котором показывали «историческую реконструкцию города до внедрения Синхрона».
Мартин невольно остановился.
На экране город был почти таким, каким он только что видел его через окно автобуса: старые дома, неон других эпох, потоки машин, остановившихся в пробке, потому что где-то опять случился «разрыв».
Диктор бодрым голосом объяснял:
– …нерегулируемые всплески, несправедливое распределение времени, неравномерность старения…
Кадры сменяли друг друга:
Человек, которого на его глазах старит один день больше, чем всех вокруг.
Ребёнок, у которого воруют год, чтобы добавить его кому-то наверху.
Очереди в «временные офисы», где люди приходят «пополнить баланс» за счёт своих будущих лет.
Все эти картинки он уже видел. Не в таком нарративе – в деле, в протоколах, в морге. Тогда они были частью аргумента «Зачем нам нужен Синхрон».
Теперь – частью рекламы «Почему вы должны быть благодарны, что он есть».
На секунду экран снова мигнул, как это сегодня любил делать весь город.
И вместо диктора, объясняющего преимущества глобальной сети, там оказался другой сюжет:
Они с Леей стоят в серверной.
Холодный свет, металлический запах.
Она говорит:
– Мы не можем просчитать все варианты.
Он отвечает ей словами, которые когда-то считал своими:
– Нам не нужно всё. Нам достаточно, чтобы большинство стало жить честно.
За кадром, как комментарий к самому себе, накладывается ещё один его голос, более поздний, усталый:
– Ты был уверен, что можешь считать за всех.
Мартин опустил взгляд.
Внизу экрана бегущая строка честно сообщала:
«Все альтернативные сценарии развития событий сохранены в памяти Синхрона в ознакомительных целях.
Доступ к ним строго регулируется».
– Ага, – пробормотал он. – Регулируется.
«Ты – один из регуляторов», – ненавязчиво напомнил Хронофаг.
И, как будто подтверждая, где-то внутри черепа знакомо щёлкнули ключи доступа.
Обычно он старался не трогать эту часть себя без необходимости. Слишком легко было увязнуть. Но город сегодня, похоже, решил, что «необходимость» наступила без его разрешения.
Он ощутил, как по внутренним «меню» пробегают подсветки: «смерти других версий», «несостоявшиеся запуски», «города без Хроноса», «города, где Лея жива».
Каждый пункт – как папка, набитая чужими жизнями, которые, к несчастью, были ещё и его собственными.
– Я не собираюсь сейчас туда лезть, – сказал он.
«Они сами лезут к тебе», – ответ последовал без паузы.
И тут же мимо него прошёл парень – совсем молодой, в той же чёрной куртке, в какой он ходил на первые вызовы ещё как следователь.
Парень прошёл сквозь него, не замечая.
На секунду они совпали.
И Мартин увидел изнутри, как тот, молодой, впервые заходит в дом, где время сломалось. Как смотрит на часы, остановившиеся на одной и той же минуте на всех этажах. Как думает: «Это дело, как все. Сейчас разберёмся».
– Беги отсюда, – хотел крикнуть ему нынешний.
Но тот не услышал.
Он был занят своей линией, своим расследованием, своим ещё целым представлением о мире.
«Все они шли к одной точке», – сказал Хронофаг.
Теперь это не звучало как угроза. Скорее – как сухое описание схемы.
«Любая твоя жизнь, в которой ты касался времени, рано или поздно сворачивала сюда.
К петле».
– Ты говоришь так, будто это я её завёл, – устало ответил Мартин.
«Ты – тот, через кого она замыкается», – исправил тот.
Он выдохнул – коротко, злым смешком.
– Удобно. Всегда мечтал быть топологическим дефектом вселенной.
Город вокруг шёл своей дорогой.
В витрине ближайшего магазина его отражение раздвоилось: в одной половине стекла он стоял таким, как сейчас – с серыми волосами у висков, с тяжёлым взглядом. В другой – чуть моложе, в рубашке с логотипом «Хронос Индастриз», с пропуском на шее.
Между ними, как разделительная линия, прошла фраза – опять его собственная, из какой-то другой, уже случившейся смерти:
– Если бы я тогда просто ушёл…
На этот раз он успел ответить.
– Ты всё равно оказался бы здесь, – сказал Мартин своему отражению.
И в отражении губы тоже шевельнулись.
Только вот он не был уверен, кто кому это сказал: нынешний – прошлому или другой он – ему самому.
Он пошёл пешком, просто чтобы город успел проявиться. В транспорте всё слишком быстро наслаивалось, как в ускоренной съёмке: лица, маршруты, чужие разговоры. На улице разрывы шли медленнее, их хотя бы можно было заметить. Иногда.
Он свернул в сторону старого района – туда, где начались первые дела. Не с Хроносом, ещё до него. Там ещё пахло тем старым временем: выхлопами, гарью, человеческой скукой.
– Ты ведь любил этот квартал, – сказал один из голосов у него в голове.
Мартин хмыкнул.
– Я любил в нём только то, что он был предсказуем.
«Ты врала», – отозвалось где-то в глубине – его же голосом, но с другим акцентом на словах, как будто он в той жизни слишком часто разговаривал с протоколами, а не с людьми.
У перекрёстка, где раньше висел старый светофор, стояла стеклянная стойка Синхрона. Внутри – терминал с мягким светом, рядом – инструкции: «Проверьте свою хронологию», «Узнайте, где вы были когда-то», «Сопоставьте свои версии».
Он никогда не пользовался уличными терминалами. Ему хватало того, что уже встроено под череп. Но сейчас взгляд зацепился за бегущую строку на экране.
«Предупреждение. Возможны накладки альтернативных сценариев. При появлении голосов, не совпадающих с текущей линией, обратитесь…»
Дальше текст плавно сбился, превратившись в визуальный шум.
– Забавно, – сказал Мартин. – Я – адресат, а не пациент.
«Ты – то и другое», – поправил Хронофаг.
Он хотел отмахнуться, но в этот момент услышал:
– Назад!
Крик был резкий, отчаянный.
Он автоматически дёрнулся, отступая на шаг от проезжей части. Машина, которая могла бы его задеть, проехала в метре, даже не посигналив. Водитель в салоне – мужчина средних лет – был увлечён своим телефоном, и ни о каком столкновении речь не шла.
Крик звучал не здесь.
Он шёл из другой улицы – той, где когда-то не успели.
Картинка догнала голос.
На долю секунды асфальт перед ним превратился в мост. Узкий, железный, с провалившимися перилами. Туман, чёрная вода внизу. Чужой (но его) ботинок соскальзывает, пальцы хватаются за холодный металл. Кто-то кричит «назад», но поздно.
Он не помнил такого.
Точнее – помнил, но не как «своё». Это было одной из версий того, как он мог умереть, когда полез в самую первую аномалию. Тогда он выбрал другой шаг. Тогда он не сорвался.
– Я утонул там, – сказал в его голове голос – хриплый, полный воды. – Ты – нет.
Мартин остановился на краю тротуара.
Воздух стал гуще.
– Отлично, – процедил он. – Теперь у меня есть коллекция собственных утопленников.
«У тебя есть доступ к тому, что было возможно», – спокойно ответил Хронофаг.
– Это не делает меня счастливее.
«И не должно», – отозвался тот.
Он пошёл дальше, чувствуя, как в висках стучит не только кровь, но и слабое эхо других ритмов.
На углу следующей улицы висела вывеска бара – когда-то здесь был обычный забегаловочный, где он обсуждал дела с коллегами. Теперь над входом красовалось название: «Другие версии».
Он невольно усмехнулся.
Изнутри доносилась смесь музыки и голосов. Он почти уже прошёл мимо, но чья-то фраза прорезала общий гул, как нож.
– Если бы не ты, мы бы вообще не запустили Синхрон.
Голос был его.
Он остановился.
– Это я тебе говорю, – добавил голос, чуть насмешливый.
Он заглянул внутрь.
Бар был обычным: стойка, несколько столиков, телевизор без звука над кассой. Люди – живые, разного возраста, но вполне конкретные.
И вот за дальним столиком сидел он.
Постарше – лет на десять, чем сейчас, с седыми висками, с тяжёлой линией плеч. Напротив – Лея. Живая. Лицо чуть иное, чем в его воспоминаниях: больше морщинок, меньше иллюзий.
– Я ничего не запускала, – говорила она. – Я только рассчитала.
– А я только подписал, – отвечал он там, в барахолке другой линии. – Знаешь, как это выглядит со стороны?
Он не слышал дальше.
Картинка дрогнула, как старый телевизор, когда сигнал пересекается с чем-то ещё.
Вместо бара – пустота.
Точнее, тот же бар, но без них. Другие люди, другой вечер, другая музыка.
Мартин отступил.
– Ты сам однажды сказал, что не веришь в случайности, – напомнил один из внутренних голосов. – Так почему сейчас пытаешься?
Он не ответил.
Мир вокруг вновь привычно распался на слои.
Слева, на другой стороне улицы, он увидел ещё одну версию города. На секунду окна домов стали другими: вместо терминалов Синхрона – решётки, старые кондиционеры, окрашенные вручную балконы. Над входом в дом, где сейчас располагался «центр обслуживания временных линий», висела вывеска «ОВД».
В этой линии он всё ещё был следователем.
Он увидел себя там – мельком, как отражение в стекле дверей: молодой, усталый, с папкой под мышкой, выкуривающий третью сигарету за утро.
– Тогда я был уверен, что время – просто обстоятельство, – тихо сказал внутри один из голосов. – Не игрок.
«Каждая твоя уверенность плавала по поверхности петли», – заметил Хронофаг.
– Ты любишь ретроспективную мудрость, – бросил Мартин.
«Я люблю последовательность», – ответил тот.
Его накрыло коротким, резким воспоминанием.
Тоннель.
Холодный, влажный, с пульсирующими стенами – не настоящими, а собранными из временных слоёв. С шагов по воде. С Леей, идущей впереди, держащей в руках маленькое устройство, похожее на детскую игрушку.
– Если что, мы просто выскочим обратно, – говорит она там, в той линии.
– Назад – это куда? – спрашивает он.
Она не успевает ответить.
Вспышка.
Сеть.
Её крик.
Разрыв – не физический, временной: её линию рвёт на сотни нитей, бросает в разные стороны.
Он дёрнулся.
– Это было, – сказал один голос внутри.
– Это не было, – возразил второй.
– Это было где-то ещё, – подытожил третий.
В результате – все трое правы.
Мартин остановился у перехода и облокотился о перила.
– Я не вытяну, если всё это сразу будет в голове, – сказал он тихо.
«Не будет сразу», – сказал Хронофаг. – «Я не монстр».
– Спорный тезис.
«Я – орган.
Я перевариваю даты», – объяснил тот спокойно.
У Мартина дернулся уголок рта.
– Ты понимаешь, что это прозвучало как диагноз?
«Это и есть диагноз», – согласился Хронофаг. – «У мира, не у меня».
Он смотрел на поток машин снизу, и каждый сигнал поворотника, каждый мигающий стоп казались ему теперь возможной веткой: здесь кто-то не успел затормозить; там – остановился вовремя; дальше – вообще не сел за руль, потому что умер раньше.
Потоки переплетались.
Голоса – тоже.
– Если ты сейчас уйдёшь, – сказал один его голос, более резкий, молоденький, – всё останется как есть.
– Если ты сейчас не уйдёшь, – возразил другой, старый, с хрипами, – всё тоже останется как есть.
– Единственное, что меняется, – это то, что ты будешь знать, что мог, – добавил третий, сухой, похожий на голос внутреннего следователя.
– Хватит, – попросил он.
«Это не они с тобой говорят», – вмешался Хронофаг спокойно. – «Это ты когда-то говорил сам с собой. Я только проигрываю запись».
– И зачем?
«Чтобы ты понял, что петля не снаружи.
Она в тебе».
Он закрыл глаза.
Наверное, со стороны это выглядело как приступ мигрени: мужчина среднего возраста, в пальто, на перилах, с лицом человека, который пытается вспомнить, выключил ли утюг.
Внутри же разобрать шум становилось всё сложнее.
Поверх его собственных голосов начал пробиваться другой. Женский.
Не Лея.
Другой. Та, которую он слышал когда-то, когда Синхрон только запускали. Одна из первых жертв, чью память пропустили через Хронос, чтобы протестировать механизм.
– Я не хочу, чтобы мои годы кому-то достались, – говорила она тогда, застыв в стекле камеры.
Теперь её фраза звучала иначе:
– Я не хочу, чтобы мои годы кому-то достались… кроме меня самой.
А затем – ещё один голос. Мужской, сухой, из тех времён, когда решали, кого именно пустить в систему:
– Мы обязаны думать о большинстве.
Поверх этого – голос Леи:
– Большинство – удобная маска для того, чтобы не видеть конкретных.
И наконец – его собственный:
– Мы за это отвечаем.
Все эти голоса наложились, как слишком много дорожек в студии, где забыли про баланс.
«Сведение трека», – сухо прокомментировал Хронофаг.
– Ты смеёшься?
«Я делаю выводы.
Ты заметил, что во всех вариантах ты сам назначаешь себя ответственным?»
Он хотел сказать «да», но язык не повернулся.
– А кто ещё? – выдохнул он instead.
Тишина внутри стала на секунду плотнее, как ватный тампон.
«Вот и я не знаю», – сказал Хронофаг.
Это был, пожалуй, самый честный ответ, который он от него слышал.
Он оттолкнулся от перил и пошёл дальше, уже не особо выбирая маршрут.
Город, словно почувствовав, что он готов смотреть дальше, прибавил ему накладок.
На одном перекрёстке он увидел сразу три версии одного и того же места, как три прозрачные пленки, наложенные друг на друга.
В первой – обычный день после Синхрона: люди разных возрастов, экраны, терминалы, мемориальные таблички.
Во второй – та же площадь во время «первой временной бури». Снег идёт вверх, часы на башне вращаются назад, люди бегут, держась за головы.
В третьей – тишина. Никаких людей. Только вода по щиколотку, отражающая серое небо, и стальное основание башни «Хронос Индастриз», искорёженное, как после взрыва.
– Здесь мы не удержали, – сказал чей-то голос.
– Здесь мы вообще не строили, – поправил другой.
– Здесь ты не дожил, – добавил третий.
Все три варианта – его.
– Скажи прямо, – обратился он к Хронофагу, не выдержав. – Ты хочешь, чтобы я чувствовал себя центром катастрофы?
«Я хочу, чтобы ты видел, где сходятся линии», – ответил тот.
– Зачем?
«Чтобы когда придёт момент, ты не подумал, что можешь просто отвернуться».
Внутри что-то неприятно совпало: слова матери про «ты не должен им позволить откладывать», взгляд Леи с мемориала, и вот это – «не отвернуться».
Он остановился посреди перехода.
Машины – те, что ещё пытались жить по правилам, – затормозили. Те, что уже давно игнорировали сигналы, прошли сквозь его тень из другой версии мира, не задев.
Голоса других его жизней чуть затихли, будто дали ему секунду.
В эту секунду он вдруг ощутил странную, почти физическую структуру вокруг себя.
Как будто кто-то обвёл его контур линией и от него в разные стороны действительно тянутся нити. К первым делам. К серверным залам. К тоннелю с Леей. К матери, которая одновременно рожает и отпускает. К врачам на лестнице, стареющим и молодеющим в одном движении.
Все эти ниточки не превращали его в куклу. Это было бы проще.
Они превращали его в узел.
Не самый приятный образ.
– Ты действительно считаешь, что всё это тянется ко мне? – тихо спросил он.
«Я ничего не считаю», – ответил Хронофаг. – «Я помню.
И то, что ты чувствуешь сейчас, – это не жалоба.
Это – предупреждение».
– О чём?
«О том, что петля уже почти замкнулась».
Фраза легла в воздух без эффектов, без грома и молний.
Город продолжал шуршать, люди переходили улицу, дети тянули родителей за руки, рекламу прокручивали по расписанию.
Только внутри у него что-то хрустнуло – тихо, как ломается тонкая палочка.
И он поймал себя на абсурдной, но очень ясной мысли: где бы он ни умер когда-то ещё – утонул, сгорел, разорвался в ядре, – всё это было только репетициями одной, настоящей смерти, которая ещё впереди.
Той, в которой ему придётся не просто исчезнуть, а решить – имеет ли право исчезнуть всё.
Он шел куда-то «просто так» – а значит, туда, куда город давно уже его вёл.
Маршрут выбрался сам: вниз, к воде. В старой жизни на набережных искали тишину и сигареты. Теперь тишину нигде не продавали, но двигаться всё равно хотелось к реке – как к чему-то, что помнит другие эпохи. У воды сложнее делать вид, что время – чистая функция сети.
Город по дороге несколько раз менял облик, будто примерялся.
Вот знакомый перекрёсток, рекламный экран, терминал Синхрона в стеклянной будке. Мигание, полсекунды – и вместо будки забор с облезлой краской, рядом киоск с газетами, на витрине которых слово «СИНХРОН» ещё только мелькает в прогнозах. Ещё рывок – и на том же месте ничего нет, кроме грязного сугроба и мусорного бака; никакой сети, никаких прогнозов.
Все три слоя не спорили между собой. Они просто были.
– Ты ходишь по своим делам, – сказал внутри один из его голосов, сухой, форменный. – А петля – по своим.
«Петля не ходит, – поправил Хронофаг. – Петля стоит. Это ты вокруг неё».
– Спасибо, стало легче, – буркнул Мартин.
Он вышел к реке.
Набережная тоже жила сразу в нескольких вариантах. В одном – свежая плитка, аккуратные лавочки, встроенные в перила датчики, измеряющие «темп локальных временных колебаний», как уверял какой-то проект. В другом – потрескавшийся асфальт, железные уродливые фонари, чьи лампочки всё равно постоянно перегорали. В третьем – вовсе пустое пространство: голая, сыроватая земля, пара кустов, тропинка, протоптанная поколениями ног, ни одного парапета.
Вода внизу текла… как могла.
Где-то она шла ровной, тяжёлой лентой нынешнего дня. Где-то – вспять: мелкие волны бежали не вниз по течению, а вверх, к условному «истоку». Местами поверхность просто дрожала, как старое зеркало, не в силах решить, какое отражение показывать.
Мартин сел на бетонный выступ, там, где три варианта набережной хоть как-то совпадали.
День вокруг не смог выбрать, сколько сейчас времени. Чуть в стороне кто-то запускал бумажный самолётик – детский смех явно был утренним. Подальше по тропе мужчина в пальто и шарфе курил так, как курят вечером: медленно, глядя в воду, уже никуда не торопясь. Над мостом, если приглядеться, мелькали огни – либо ранние фонари, либо поздние.
– Ты не обязан это всё тянуть, – сказал один голос. Его голос. Младший, почти юношеский.
– Обязан, – тут же возразил другой, жёсткий, с того периода, когда он уже был «вором времени» и пытался убедить себя, что делает всё ради нужного баланса.
– Перестаньте, – попросил он.
На секунду внутри стало тише.
И на этой тишине, как на чистом фоне, вдруг отчётливо прозвучал чужой шёпот:
– Я помню, как ты меня убил.
Мартин замер.
– Лея? – спросил он – и сам же понял, что заранее знает ответ.
Нет.
Не она.
Женский голос, но другой. Одна из тех, кто попал под первый тест распределения. Кто отдал часть своих лет ребёнку, а потом умер не там, где собиралась, и не тогда.
– Ты ничего не подписывала, – тихо сказал он куда-то в воду. – Это не было моим личным решением.
– А остальным ты так же говоришь? – спросил голос.
Он не ответил.
Река внизу шуршала. В её шуме начали проступать отдельные слова – как в плохо настроенном радио, когда между станциями вдруг улавливаешь фразы.
– …отняли детство…
– …прожил две жизни, ни одной своей…
– …ты же обещал, что будет честно…
– …я согласился добровольно…
Последний голос был мужским, твёрдым. Тот, кто считал, что идёт на сделку с системой осознанно. Потом его имя появилось в отчёте у Мартина. Потом его годы ушли кому-то, кого никогда не познакомят с источником.
– Они не мои, – выдохнул Мартин.
«Всё, что помнишь ты, – твоё», – спокойно сказал Хронофаг.
– Замолчи.
«Ты сам попросил сохранить», – продолжил тот без нажима. – «Ты не хотел, чтобы память о них просто сгнила в архиве».
Это было правдой. Когда Синхрон только начал стабилизировать первые линии, его – того, тогдашнего – буквально выворачивало от мысли, что истории людей превратятся в сухие таблицы. Он и предложил – не как герой, как упрямый бюрократ: встроить слой человеческой памяти в ядро, «чтобы было кому помнить лица».
И сеть ответила: «Отличная идея. Давайте попробуем на вас».
– Ты мог бы оставить меня в покое, – сказал Мартин.
«Тогда кто будет помнить?» – спросил Хронофаг.
Вода снизу вдруг отозвалась куском его собственной фразы:
– Если никто не будет помнить, значит, всё было зря.
Он помнил, когда сказал это. В какой-то из версий разговора с Леей – той, где они ещё не перешли на крик.
– А если помнить будешь только ты, – сказала тогда Лея, – это будет ещё одна кража.
Сейчас её голос отозвался иначе:
– Ты всё равно украл.
– Перестань, – попросил он уже её.
В воздухе что-то сместилось.
– Это не я, – сказала совсем другая Лея.
Он поднял взгляд.
На парапете, в двух шагах от него, сидела девушка.
Без мемориала, без глянцевого портрета. Живая. Может быть, чуть моложе, чем в тот день запуска. Волосы собраны в хвост, ноги свисают над водой.
Она смотрела прямо на него.
И одновременно – не на него.
– Ты, похоже, собрание зачитал, – сказала она, кивнув куда-то в сторону воды, где по-прежнему шуршали чужие фразы. – Все твои мёртвые вернулись жаловаться.
Он моргнул.
– Ты…
– Привет, – сказала она. – Я – та, которая не умерла.
Он почти физически ощутил, как внутри что-то срывается в пропасть.
– В какой линии? – спросил он.
– В той, – она кивнула куда-то вправо, – где мы даже не дошли до тоннеля.
Картинка всплыла сама: кабинет, спор, отчёт наверху, решение «проект закрывается». Они с ней сидят на ступеньках у технологического корпуса, пьют дешёвый кофе из автомата и обсуждают, куда теперь деваться.
Она там оживлена, он – обижен на мир.
Синхрон в той линии так и остался пилотным экспериментом, который признали «слишком опасным для внедрения».
– Живём, как живётся, – сказала эта Лея. – Время по-прежнему воруют, но не ты.
В её голосе не было облегчения.
– Ты счастлив? – спросила она.
– Я не там, – сухо ответил Мартин. – Я – здесь.
– Здесь ты тоже не очень счастлив, – заметила она.
«Она права», – сказал внутри один из его собственных голосов, самый занудный.
Он проигнорировал.
– Это ты? – спросил он у Хронофага.
«Нет», – ответил тот. – «Это одна из твоих линий. Я всего лишь не препятствую».
– Вежливо с твоей стороны, – фыркнул Мартин.
Лея на парапете улыбнулась так, как улыбалась тогда, в первой книге его жизни, когда ещё умела верить, что любые системы можно сделать честными, если достаточно старательно их проектировать.
– Ты всё равно думаешь о башне, да? – спросила она.
Он приподнял бровь.
– С чего ты взяла?
– С того, как у тебя напрягается плечо, когда ты слышишь слово «петля», – спокойно ответила она. – Ты всегда весь сжимаешься, когда делаешь вид, что тебя это не касается.
Он хотел возразить – привычно, рефлекторно.
Но при слове «петля» плечо действительно дрогнуло.
– Ты должен закончить петлю, – сказала Лея.
Не как Хронофаг – без инородного эха, без сетевого фона. Просто она.
Точно тем же тоном, каким когда-то сказала: «Ты должен решить, на чьей стороне».
– Опять началось, – прошептал он. – Не хватало, чтобы и ты хором с ним…
– Я не с ним, – перебила Лея. – Я с тобой.
Она выглядела одновременно настоящей и невозможной, как точка пересечения диаграмм, которой в школьной тетради быть не должно, но она всё равно там.
– В моей линии, – продолжала она, – всё пошло иначе.
За её спиной город был другим: башня «Хронос Индастриз» отсутствовала из горизонта. На её месте – недостроенный каркас, ржавеющий на ветру, с оборванными плакатами: «СКОРО ЗДЕСЬ БУДЕТ…»
– Но знаешь что? – Лея сжала ладони, опираясь о камень. – Голоса всё равно есть.
Он повернул голову.
В её версии реки дети так же играли у воды, старики так же сидели на лавочках, кто-то так же ругался по телефону. И над всем этим – тонкий, еле слышный шум.
– Даже когда вы не включили сеть, – сказала она, – время всё равно умоляло.
– О чём?
– О том же, – вмешался Хронофаг. – «Закончите уже, сколько можно тянуть».
Он впервые услышал в его голосе что-то вроде усталой жалости.
– Мы думали, – тихо продолжила Лея, – что вы со своей петлёй – это решение.
«Мы», – отозвались в голове десятки голосов: инженеры, операторы, пациенты, тестовые группы.
– А оказалось, – она пожала плечами, – что вы просто сделали петлю видимой.
Он сжал пальцы в кулак.
– То есть всё это… – он мотнул подбородком в сторону своего города, где башня по-прежнему торчала, как стеклянный шип, – было неизбежно?
– Нет, – сказала Лея.
И тут же, почти в ту же секунду, другой голос – его собственный, из одной из погибших линий – сказал:
– Да.
«И да, и нет», – уточнил Хронофаг, как будто подводя итог заседанию.
– Прекрасно, – хрипло сказал Мартин. – Многоголосый «может быть».
– У тебя всегда было две беды, – сказала Лея. – Ты слишком любил факты и слишком ненавидел неопределённость.
Она посмотрела на него пристально.
– Сейчас у тебя будут только факты, – добавила она. – Все.
Река между версиями города на секунду стала зеркалом.
В его отражении Мартин увидел сразу нескольких себя.
Следователь в мятой рубашке.
Мужчина в костюме с логотипом «Хронос».
Тот, кто лежит на каталке, подключенный к ядру.
Тот, кто стоит один в серверной, освещённый тусклыми лампами.
Тот, кто сидит у кровати матери.
Они все одновременно подняли голову.
– Ты должен закончить петлю, – сказали они хором.
И только один – нынешний – выдохнул:
– Я знаю.
Река дрогнула, картинка распалась.
Лея на парапете моргнула – и не исчезла, как это обычно происходило с слишком честными иллюзиями. Просто её контуры стали чуть прозрачнее.
– Не сейчас, – сказала она. – Ещё нет.
– А когда? – спросил он.
– Когда тебе будет достаточно страшно и достаточно спокойно одновременно, – ответила она. – Ты всегда принимаешь решения именно в этой точке.
Её голос начал смешиваться с шорохом воды, со свистом ветра, с сетевым фоном.
– И да, – добавила она почти неслышно, – это правда всё тянется к тебе.
– Ненавижу, когда вы так говорите, – сказал Мартин.
«Привыкай», – сказал Хронофаг.
Город над рекой сменил ракурс.
Башня «Хронос Индастриз» одновременно была, не была и уже обрушена в каком-то будущем, о котором пока никто не решился говорить вслух.
А он сидел между этими версиями на бетонном выступе, слушал голоса других своих жизней и понимал: сколько бы ни было миров, в каждом из них рано или поздно находится кто-то, кто должен решить, разрешать ли времени наконец закончиться.
Он не помнил, как именно поднялся от реки. В какой-то момент просто обнаружил себя на набережной, уже в движении, с руками в карманах, с тем самым чуть сутулым шагом, который появляется у людей, привыкших нести на себе больше, чем положено одному позвоночнику.
Лея – та, что сидела на парапете, – растворилась не рывком, не красивой спецэффектной вспышкой. Просто стала совпадать с другими слоями: ещё секунду её силуэт виднелся поверх чужих прохожих, а потом он понял, что смотрит просто на камень и воду.
«Я рядом», – еле слышно отозвалось где-то сбоку.
Он уже не пытался разобрать, чей это голос – её, сети, одной из несостоявшихся Лей, той, что никогда не пошла в тоннель. В какой-то момент различать становится роскошью.
Город над рекой жил, как мог.
На одном балконе женщина одновременно поливала цветы и снимала с перил уже высохшее бельё – лет пять, как высохшее, судя по выгоревшей ткани. На остановке мальчик в школьной форме спорил по телефону с кем-то, кто обращался к нему «папа». В витрине кафе его собственное отражение на секунду накрылось другим – тем, где он ещё в форме, с расстёгнутой у горла пуговицей и с пачкой протоколов под мышкой.
– Ладно, – сказал он себе, – хватит прогулки.
«Она только начинается», – мягко заметил Хронофаг.
– Мне бы хотя бы домой дойти без хора в голове.
«Дом – это как раз то место, где хор громче всего», – резонно возразил тот.
Приходилось признать: он прав.
Квартира давно стала не убежищем, а приёмником. Стены там лучше всего ловили внутреннюю помеху: стоило ему остаться одному, как всплывали голоса – не только его, чужие тоже – всех, кого он когда-то опрашивал, спасал, не спас, запускал, отключал.
Он всё равно направился туда. Не потому, что верил в защиту четырёх стен. Скорее, потому, что хотя бы за дверью можно было перестать изображать нормального человека.
По дороге голоса, как назло, только прибавились.
Мимо него прошёл мужчина с детской рукой в своей ладони – отец, лет сорока. На секунду их плечи соприкоснулись. И в этот контакт вписалась чужая фраза:
– Я согласился отдать три года, думал, не почувствую…
За ней – ответ, из другой линии:
– А я не успел спросить сына, хочет ли он их получить.
Оба голоса были одними и теми же, просто смещёнными по времени.
Мартин отдёрнул плечо, как от ожога.
– Скажи мне ради эксперимента, – процедил он – уже не к Хронофагу, а к самому себе, ко всем этим версиям в голове, – есть в этом городе хоть один голос, который просто… довольный?
Пауза.
Её можно было бы принять за тишину, если бы он не знал, что это всего лишь сеть перебирает варианты.
И вдруг, совсем не оттуда, откуда он ждал, раздалось:
– Спасибо.
Одно слово. Детское.
Он остановился.
– За что? – спросил он.
Из темноты памяти вышла сцена, которую он почти не держал на поверхности.
Маленькая девочка в больничной палате. Лысая после терапии. Мать рядом, с руками, стертыми до синяков от бесконечных бумаг. Тогда, «до», они с Леей протащили через все комиссии экспериментальную процедуру досрочного переноса – выдрали у системы несколько месяцев чужой жизни и вбросили сюда, в маленькое тело, в наивное «ещё чуть-чуть пожить».
– Я хотела ещё один снег, – говорит девочка, лёжа под простынёй. – Он был.
Снег действительно был. Один. Может быть, не самый красивый, с грязью, с лужами – но был.
– Спасибо, – повторяет её голос.
И исчезает.
– Один, – сказал Мартин вслух. – Из тысяч.
«Бывает и так», – тихо отозвался Хронофаг.
Тон его был почти человеческий – без привычной нейтральности.
– Ты хочешь сказать, что всё это стоило одного лишнего снега? – спросил Мартин.
«Я ничего не хочу сказать, – ответил тот. – Я просто показываю, что в памяти есть и это тоже».
Он выдохнул, чувствуя, как надвигается привычная злость – не на сеть, не на город, а на самого себя. На того, который когда-то искренне верил, что можно уравнять баланс, просто сложив побольше таких «спасибо».
Он всегда недооценивал, сколько будет «я помню, как ты меня убил» на одну-единственную благодарность.
Квартира встретила его, как обычно, – никак.
Дверь, замок, короткий коридор. Обувь, с которой постоянно съезжает коврик. Стены, на которых мало что висит, кроме пары старых фотографий, которые он не имел сил ни снять, ни сменить.
Внутри время вело себя странно.
Кухня была явным вечером: на столешнице – кружка с размазанным по краю кофе, лампа под потолком даёт тёплый, жёлтый свет, за окном – темнота с редкими фонариками.
Комната – утренней: бумага на столе свежая, экран выключен, на подоконнике тянутся к стеклу бледные ростки, словно кто-то только что открыл шторы.
В прихожей висели сразу три его куртки – зимняя, осенняя и та, в которой он ходил на первые смены десятки лет назад.
Он прошёл на кухню, включил воду, машинально поставил чайник – старый, щёлкающий.
– Мы уже здесь умирали, – спокойно сообщил один из голосов. Его, патологоанатомически-сухой.
Картинка всплыла без спроса: он, в этой же квартире, только постарше, падает на пол, хватаясь за грудь. Телефон, который так и не успевает дозвониться до «скорой».
«Один из вариантов», – уточнил Хронофаг.
– Отличный, – хмыкнул Мартин. – Я хотя бы дома.
«В другом ты умер в лифте», – честно добавил тот.
– Спасибо за разнообразие.
Чайник щёлкнул. Этот звук странным образом пробился сквозь все наложения, оказался почти якорем.
Он налил воду в кружку, сел за стол.
Голоса внутри чуть отступили, как если бы решили дать ему сделать хотя бы один человеческий, последовательный глоток – от края до дна.
Он допил, поставил кружку, провёл пальцем по мокрому ободу.
– Давай так, – сказал он, глядя в пустоту через окно. – Один вопрос. Один ответ. Без шифров.
«Попробуем», – согласился Хронофаг.
– Всё это… – он обвёл рукой воздух вокруг, имея в виду и город, и голоса, и хаос линий, – тянется ко мне. Хорошо.
Он ощутил, как внутри что-то кивнуло.
– Но почему я?
Пауза.
Не та, наполненная шуршанием данных. Настоящая. Как будто тот, с кем он разговаривал, действительно задумался.
«Потому что ты уже согласился», – наконец сказал Хронофаг.
– Когда? – Мартин нахмурился. – Я такого не помню.
«Помнишь», – мягко возразил тот.
И память послушно раскрыла нужную страницу.
Не лаборатория, не серверная. Небольшой кабинет, поздний вечер. Лампа под потолком даёт ту же жёлтую лужу света, что сейчас на кухне. На столе – бумаги, договоры, протоколы.
– Вы должны понимать, Мартин, – говорит кто-то из руководства. Голос гладкий, усталый, официально сочувствующий. – Мы просим о многом.
Он – тот, прошлый – сидит напротив, с руками, сцепленными в замок.
– Кто-то должен взять на себя ответственность за человеческий слой, – продолжает голос. – Машины отлично считают, но им всё равно.
– А мне – нет, – отвечает он.
Он помнит этот разговор. Но в его версии он остановился на фразе: «Я согласен участвовать».
Сеть бережно проигрывает дальше, чего он тогда не захотел запоминать.
– Вы понимаете, что это может стоить вам… всего? – спрашивает голос.
– Если я забуду, ради кого всё это, – говорит он, – тогда всё было зря.
Он делает паузу.
Смотрит куда-то мимо собеседника – в окно, где ночной город ещё не знает, что его скоро прошьют сетью.
– Я согласен помнить, – произносит он тогда.
Вот этот момент он и вытеснил.
– Чёрт, – тихо сказал Мартин нынешний.
Чай в кружке успел остыть.
– Это не было контрактом на всю жизнь, – попытался он возразить. – Это был…
«Выбор», – подсказал Хронофаг.
– Ошибка, – жёстко поправил он.
«Любая ошибка становится частью петли, если её достаточно долго повторять», – заметил тот.
Он хотел хлопнуть по столу, но только сжал пальцы.
– И ты теперь считаешь, что раз я когда-то сказал «я согласен помнить», – значит, я обязан дотащить до конца всё, что вы на меня навешали?
«Не я навесил», – спокойно сказал Хронофаг. – «Я – то, что получится, если ты доведёшь своё "буду помнить" до логического конца».
Фраза прозвучала странно, но в ней была своя внутренняя геометрия.
Он вспомнил слова матери: «Ты – тот, кто помнит».
Слова Леи: «Если помнить будешь только ты – это ещё одна кража».
Слова самого себя: «Если никто не будет помнить – всё было зря».
Вся эта тройная петля обвилась у него в груди тугим узлом.
– И что ты от меня хочешь прямо сейчас? – устало спросил он. – Конкретно. Без философии.
«Чтобы ты не убежал, когда придёт время», – ответил Хронофаг.
Он усмехнулся.
– Боюсь, я уже слишком устал, чтобы убегать.
«Это хорошо», – сказал тот.
– Вдохновляюще.
Он поднялся из-за стола, прошёл в комнату.
Там, на стене, висела фотография, которую он давно перестал замечать. Они с Леей у какого-то белого стенда, ещё до того, как всё началось. У обоих в руках по пластиковому стаканчику с кофе, на лицах – глуповатые улыбки людей, которые верят, что конференции имеют значение.
Фотография дрогнула.
В одном слое – та же сцена, только его рядом нет: Лея стоит одна, с другим человеком, незнакомым. В другом – вообще другая женщина, с тем же стендом, а на самом стенде нет логотипа «Хронос Индастриз», только безликое название института.
Во всех версиях кто-то верит, что ещё можно всё сделать правильно.
– Ты понимаешь, – тихо сказал он, – что если я «закончУ петлю», как вы все хотите, меня как меня не останется?
«Понимаю», – без паузы ответил Хронофаг.
– И тебя – тоже, – добавил он, вдруг сообразив. – В том виде, в каком ты есть сейчас.
«В том виде, в каком я есть сейчас, быть нельзя», – спокойно сказал тот. – «Я – тоже застрял между».
Он усмехнулся одними уголками губ.
– Приятно знать, что хотя бы кто-то ещё страдает от неопределённости.
«Я не страдаю», – поправил Хронофаг. – «Я расходуюсь.
Или разрастаюсь. Это похоже».
Он сел на край кровати, чувствуя, как день – если это всё ещё был один день – наконец-то начинает тяжелеть. Не в смысле времени суток, а как гиря, подвешенная где-то внутри.
Голоса других его жизней затихли до фонового шороха. Вперед выступил один – ровный, без возраста.
Его собственный. Нынешний.
– Я не обещаю ничего, – сказал он в пустую комнату. – Но я не буду делать вид, что меня это не касается.
Слова прозвучали удивительно спокойно. Не как героическое заявление, не как приговор – как протокол: зафиксировали факт.
«Этого достаточно», – сказал Хронофаг.
– Для чего?
«Для начала», – ответил тот.
За окном город опять сменил картинку.
На секунду там проявился тот самый парк вместо башни – дети на качелях, лавочка, на которой двое спорят о чём-то очень человеческом, никак не связанном с архитектурой времени.
Потом – перечёркнутая линия, мемориальная площадь с портретом Леи.
Потом – стеклянный куб «Хронос Индастриз», сияющий, как никогда прежде.
Все три изображения мигнули, наложились.
И на этом мельтешащем фоне одна фраза, выжатая из всех голосов сразу, прозвучала особенно отчётливо:
– Это всё тянется к тебе.
Он лег, не раздеваясь.
В мире, где детство и старость живут рядом, где другие его смерти шепчут из глубины, а Хронофаг говорит почти человеческим голосом, сон стал роскошью.
Но в ту ночь – то есть в тот день, который всё ещё притворялся ночью, – он позволил себе закрыть глаза.
Не потому, что рассчитывал отдохнуть.
А потому, что знал: чем бы ни оказался его последний выбор, к нему уже идут со всех сторон – из всех миров, где он когда-то жил, умирал, отказывался и соглашался. И от того, как он встретит эти голоса, будет зависеть не только то, останется ли он собой, но и то, получит ли время наконец право на свою собственную смерть.
Глава 4. Город без стрелок
Проснулся он не от голоса и не от чужой смерти. На этот раз его разбудило тиканье.
Ровное, уверенное, как в старых фильмах. Теоретически, тиканья в его квартире быть не должно: он давно избавился от всех механических часов, которые ещё пытались делать вид, что знают, куда им крутиться.
Тиканье шло со стены.
Мартин какое-то время лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь. Раз-два-три-четыре… Чёткий ритм, без сбоев. Сердце под него даже подстроилось.
Он открыл глаза.
На стене напротив кровати висели часы. Обычные, круглые, с белым циферблатом и чёрными стрелками. Таких никогда здесь не было.
Он сел, глядя на них, как на взрывчатку.
Часы показывали 00:41.
Стрелки – обе – были на одном делении. Минуточная и часовая, сомкнувшиеся, как игла и тень.
Тиканье продолжалось.
Стрелки не двигались.
– Очень смешно, – сказал он вслух, не слишком уверенный, кому именно адресует реплику: себе, сети, городу, тому безымянному отделу, который вечно занимается оформлением аномалий.
Тиканье не отреагировало.
Он встал, подошёл к стене. Часы казались вполне материальными: рамка из дешёвого пластика, стекло, под ним – знакомое деление на двенадцать с цифрами, от которых мир так старательно отучал людей, заменяя их полосками прогресса и мягкими индикаторами «ложитесь спать».
00:41.
В первой книге его жизни – тогда ещё казалось, что она одна – он впервые увидел эту цифру на табло в квартире жертвы. Когда время вокруг уже начинало сбоить, но ещё делало вид, что просто устало. 00:41. Ночь, в которую что-то пошло не так.
Тогда стрелки тоже стояли.
Часы на стене чуть дрогнули.
На секунду ему показалось, что минутная стрелка дернулась вперёд. Но нет: звук тикания шёл, а изображение оставалось замороженным, как плохая заставка.
Он протянул руку и снял часы со стены.
На обратной стороне не было ни крепления, ни батарейки. Вообще ничего – гладкий пластик, как у дешёвой игрушки.
Тиканье при этом продолжало идти – теперь уже ниоткуда.
– Ладно, – сказал он, вздохнув. – Вариант: галлюцинации. Вариант: шутка Синхрона. Вариант: плохое утро.
«Вариант: петля решила напомнить о себе эстетически», – подсказал внутренний голос, похожий на Хроноса, но чуть ехиднее.
Он положил часы на стол.
00:41.
Телефон в кармане ожил – с опозданием, как всегда.
На экране время тоже было 00:41. В статусной строке мелькнуло: «Синхронизация временных меток приостановлена. Попробуйте позже».
– Уже пробую, – буркнул Мартин.
Календарь показывал три разных даты одновременно, календарь вообще уже давно жил собственным жизненным циклом. Но раньше хоть цифры часов менялись.
Сейчас нет.
Он сходил на кухню, включил воду, бросил растворимый кофе в кружку. Тиканье следовало за ним, как звук, который уже не привязан к источнику.
На кухне тоже были часы – встроенные в плиту, в микроволновку, на маленьком дисплее холодильника.
Все они показывали одно и то же.
00:41.
На микроволновке цифры чуть мигали, как при сбое питания. Плита выдавала поверх времени честное: «ERR».
– Опять авария в узле? – спросил он у пустого воздуха.
«Это не авария», – отозвался Хронофаг. – «Это симптом».
– Чего?
«Отсутствия направления».
– У нас его давно нет.
«Раньше его называли иначе и хотя бы делали вид», – напомнил тот.
Он допил кофе. Горячий, горький – благодарно реальный, без метафизики.
В ванной зеркальный шкафчик отразил его лицо в трёх вариантах – чуть моложе, нынешнем и на пару десятилетий старше. У каждого на запотевшем стекле тонкой полоской проступало одно и то же время.
00:41, словно кто-то писал цифры пальцем изнутри.
– Если это новая маркетинговая кампания, – сказал он в никуда, вытирая зеркало, – то у вас очень странное чувство юмора.
Надписей не стало, но ощущение того, что цифра висит в воздухе, не исчезло.
Он оделся и вышел.
На площадке, прямо напротив лифта, некогда висели большие, квадратные часы – жильцы сбрасывались на них, когда дом был новым. Сейчас циферблат был утыкан трещинами, стрелки давно сломаны.
Сегодня они стояли идеально ровно.
00:41.
Только вместо привычного тикания слышалось тонкое, нервное дребезжание – как если бы механизм пытался сдвинуть стрелки, но что-то держало их, не давая сделать ни шага.
Соседка с пятого – низенькая, в халате и с вечным платком на голове – стояла, задрав голову, и смотрела на этот немой спектакль.
– Опять сломались, – констатировала она, заметив Мартина. – Я уже два дня под них не встаю.
– А раньше вставали? – уточнил он.
– Конечно, – обиделась она. – Они всегда правильно показывали, даже когда всё остальное скакало. А теперь…
Она пожала плечами.
– Пошли, что ли, вместе с вашим этим… – она поискала слово, – Синхроном.
Слово «Синхрон» она произнесла так, будто говорила о разводе какой-то дальней родственницы: в тоне – усталое «ну да, оно есть».
– Сейчас они хоть одинаково сломаны, – заметил Мартин.
– Да толку, – буркнула она. – Везде одно и то же.
Она показала на свою дверь.
На ней, рядом с глазком, кто-то когда-то приклеил маленький электронный модуль – «бытовой помощник», который должен был напоминать о лекарствах и мусоре.
Модуль теперь светился тускло-зелёным и показывал, угадайте, что.
00:41.
«Системная шутка, – сказал внутри голос Хроноса. – Общее время города застряло в одной минуте, только никто об этом не договорился».
– Хватит комментировать, – попросил Мартин.
«Это не я», – отозвался Хронофаг.
И действительно, фон, к которому он привык, сегодня был другим. Не интенсивнее – качественно иным. Как будто сеть тоже перестала верить своим часам и теперь слушала, как тикают чужие.
На улице было «днём».
Он уже перестал ориентироваться в привычных категориях, но свет был дневной – в смысле привычки к нему. Люди выглядели «днём» занятыми: кто-то куда-то шёл, кто-то нёс пакеты, кто-то спорил по телефону о чём-то срочном.
Только срочность теперь была без опоры.
Напротив подъезда стоял мужчина в форме курьера, с коробкой в руках. Он раз двадцать посмотрел на наручные часы, вздыхал и всё равно не мог решиться зайти.
Мартин инстинктивно отметил: хорошие ботинки, дешёвая куртка, уставшее лицо.
На запястье курьера было два устройства.
Механические часы – круглые, со стрелками.
И электронный браслет, выданный корпорацией когда-то всем, кто участвовал в распределении времени: он показывал остаток лет, месяцев, часов, был привязан к сети Синхрона и служил пропуском во все места, где решалось, кому чего добавить или отнять.
Сейчас оба циферблата были синхронны.
00:41.
Только на механике стрелки стояли, а на браслете числа бешено мигали, пытаясь перескочить дальше – 00:42, 00:43 – но каждый раз отскакивали обратно, как от стенки.
– Проблемы с доставкой? – спросил Мартин, проходя мимо.
– С дедлайном, – ответил тот мрачно. – Он не наступает.
Он поднял руку, показывая браслет.
– Я должен был сдать этот заказ «до сорока одной», – объяснил. – И вот…
Он махнул коробкой в сторону, где в старом мире располагался бы офис или магазин, принимающий посылки. Сейчас там был стеклянный фасад с переливающимся логотипом «Центр распределения».
– …я всё никак не дойду, – закончил курьер.
– В смысле? – не понял Мартин.
– В прямом, – тот пожал плечами. – Иду, иду – и всё время оказываюсь или здесь, или вон там.
Он показал на противоположную сторону улицы, где совершенно спокойным видом размещался киоск с шаурмой.
– А между… – курьер развёл руками. – Между нету.
Мартин проследил его маршрут взглядом.
Слева – ступеньки, ведущие к павильону центра. Справа – киоск, лавочка, урна. Пространство между ними не исчезало, дома на заднем плане стояли, тротуар не рвался. Но было в этой полосе что-то скользкое: когда смотришь – есть, когда делаешь шаг – как будто уменьшается.
«Фокус с монтажом», – сухо прокомментировал внутренний следователь в нём.
– Попробуйте пойти задом наперёд, – зачем-то сказал он вслух.
Курьер посмотрел на него с выражением «ещё один умник», но всё же повернулся и сделал пару шагов спиной.
Получилось.
Он прошёл, не замедлившись, достиг ступенек, обернулся и посмотрел на браслет.
Тот по-прежнему показывал 00:41.
Курьер выругался и, не дожидаясь, пока мир передумает, рванул внутрь.
Мартин продолжил путь.
Чем дальше он шёл, тем чаще заметил: часы в городе не просто ломались – они собирались в хоровод.
На витрине аптечного пункта электронный табло «Мы открыты до…» показывал 00:41 и «ежедневно».
В окне соседнего дома ребёнок водил пальцем по деревянному циферблату – то ли игрушка, то ли учебное пособие – и, как ни крутил стрелку, та всё равно возвращалась к верхнему делению.
На остановке старая, ещё советская, железная конструкция с круглым циферблатом замерла на той же минуте.
00:41.
Только на башне бывшей ратуши, где раньше были старые городские часы, стрелки крутились наоборот: безостановочно, бешеным кругом, не задерживаясь ни на каком делении.
– Город выбрал себе любимую секунду, – промурлыкал Хронофаг.
– Или ту, на которой умер, – ответил Мартин.
«Ему дали слишком много "сейчас", – заметил тот. – Теперь он не знает, какое из них сделать "потом"».
Он вышел на площадь почти автоматически.
Эта площадь всегда была центральной – не потому, что так было в туристических книжках, просто здесь предварительно сходились траектории. До Синхрона – маршруты автобусов и метро. После – линии сервера, точки доступа, маршруты эвакуаций.
Сейчас она была чем-то вроде нервного узла города.
И здесь время совсем перестало притворяться.
Сначала он заметил мелочь.
На рекламном экране, который висел над старым универмагом, крутился ролик об очередном «естественном процессе адаптации после внедрения Синхрона» – улыбающиеся лица, мягкие слова, знакомая инфографика.
И вдруг картинка распалась на квадраты.
Не как при обычном сбое сигнала – не «пикселями», а будто кто-то нарезал время ножом на куски.
В одном квадратике девушка уже улыбается; в соседнем ещё только поднимает глаза; в третьем – вообще отсутствует, пустой фон.
Эти фрагменты жили каждый своим микросекундным циклом, не совпадая с соседями.
Он отвёл взгляд от экрана – и понял, что это не только в нём.
Площадь распадалась на те же квадраты.
Как если бы на мир наложили прозрачную сетку.
В одном квадрате человек уже переходил улицу. В соседнем – ещё стоял на тротуаре. В третьем – его не было вовсе.
Дерево на краю площади одновременно было с листьями, без листьев и в цвету – просто каждая версия оказалась в своём прямоугольнике.
Мальчик, который запускал мяч, попадал им в разные моменты: на одной клетке мяч только отрывался от рук, в следующей – уже врезался в асфальт, в третьей – завис в воздухе.
Звук…
Звук тоже ломался.
Реплика продавца мороженого «подходи, свежее» растянулась на десяток маленьких отрывков, перемешавшись с кусками чей-то ругани и чьего-то смеха.
– Чёрт, – тихо сказал Мартин.
Это было уже не просто «время не знает, куда ему идти». Это было как если бы весь день засунули в плохой видеоплеер, который одновременно показывает разные кадры и циклы.
Он медленно прошёл вперёд, стараясь не смотреть в землю – казалось, там тоже начнут появляться квадраты с разными версиями шагов.
Люди вокруг вели себя по-разному.
Кто-то – такие же, как он, – застыли, пытаясь осмыслить происходящее.
Кто-то продолжал идти, будто ничего не видел – возможно, их клетки пока ещё совпадали, и мир для них был цельным.
Одна женщина у фонтана стояла, закрыв уши руками, – будто разбивающийся звук был для неё намного хуже разбитой картинки.
– Это локальный сбой? – спросил он вслух.
«Это не сбой», – ответил Хронофаг. – «Это реальность в высоком разрешении».
– Ты называешь вот ЭТО реальностью?
«Вчера – то есть завтра – ты сам просил "показать честно"», – напомнил тот.
Внутри у Мартина неприятно ёкнуло: да, было такое. В каком-то разговоре – с сетью, с собой, с Леей – он устало сказал: «Мне уже всё равно, только не врите».
Теперь ему не врали.
Площадь вокруг него была городом без стрелок, которому больше некуда было прятать свои разрывы.
Каждый квадрат жил своим маленьким «сейчас».
И только там, где он стоял, клетки пока ещё держались вместе – как плёнка, натянутая на каркас.
Он сделал шаг вперёд.
И увидел, как одна из клеток, прямо у его ноги, на долю секунды оказывается пустой: ни плитки, ни тени, ни его самого. Только серый, плоский фон.
Затем картинка вернулась – но уже другой.
– Ага, – хрипло сказал он. – Значит, и меня можно вырезать отдельно, да?
«Любой фрагмент можно вырезать», – бесстрастно подтвердил Хронофаг. – «Вопрос в том, останется ли что-нибудь вместо».
С краю поля зрения что-то вспыхнуло.
На стене дома, который раньше был офисом какого-то банка, теперь пустовал, выделяясь грязной штукатуркой среди стекла, на мгновение проступил знакомый знак.
Спираль.
Симпатичная такая, современная, изначально придуманная дизайнерским отделом, чтобы символизировать «честный ход времени».
Под ней – полустёртая надпись:
ХРОНОС.
Он моргнул – знак исчез.
На его месте – облезлые буквы «АРЕНДА».
В другом квадратике, чуть правее, логотип успел задержаться на секунду дольше, словно там его ещё не стерли. В третьем – спираль была нарисована рукой, криво, маркером.
«Корпорация "Хронос" не существует», – вспомнил Мартин официальный формулировки, которые несут теперь все справочники. – «Была ликвидирована, материалы переданы…»
Только спираль упрямо всплывала – на старых квитанциях, в снах, на стенах, где её никто не рисовал.
И здесь, на площади, среди квадратов сломанного дня, она тоже нашла себе место.
Он стоял в самом центре, глядя, как город без стрелок пытается жить, не имея ни одного честного «потом».
И знал: это только начало.
Он стоял в центре квадратно рассыпающейся площади и вдруг очень отчётливо понял: здесь всё действительно крутится вокруг него. Не в метафорическом смысле – в прямом.
Там, где он был, сетка держалась плотнее.
По краям поля зрения клетки ещё как-то пытались слепаться в привычную картинку: люди шли почти целиком, деревья почти совпадали сами с собой, витрины не слишком рябили. Но чем ближе к нему, тем мельче становились квадраты, тем сильнее заметна была рваная монтажная линия.
В двух метрах слева мужчина тянулся за упавшей перчаткой – и его движение распалось на десяток маленьких окон: в одном он ещё только сгибает колено, в другом уже выпрямляется, в третьем рука пустая, в четвёртом перчатка всё ещё лежит.
– Дядя, вы картинку ломаете, – сказал детский голос.
Мартин обернулся.
На краю одного из относительно цельных участков стоял мальчишка лет восьми с телефоном. На экране – площадь, но ещё более дробная, чем в реальности: алгоритм съёмки пытался «выравнивать» происходящее, и от этого всё становилось хуже.
– Это не я, – автоматически сказал Мартин.
– А кто? – искренне удивился ребёнок.
Он ткнул пальцем в экран.
– Вот, смотрите: там всё нормально, – он провёл пальцем по дальним домам, где клетки были крупнее. – А как вы заходите, – палец сместился в центр, – оно начинает резаться.
Телефон показывал, как вокруг чёрной фигурки в пальто – его – плотность сетки действительно возрастает. Кусочки времени мельчали, как пиксели на старом экране, который решили растянуть до невозможности.
– У тебя просто фильтр глючит, – пробормотал Мартин, хотя прекрасно понимал, что дело не в фильтре.
– У всех нормально, – уверенно возразил мальчик. – Только вы так делаете.
Слово «делаете» прозвучало как обвинение, хотя в нём было больше любопытства.
Где-то на краю площади завизжали тормоза – то ли машины, то ли трамвая. В одном квадрате звук пришёл раньше, чем движение; в другом – наоборот, металл ещё не заскрипел, а лица уже сморщились от ожидаемой боли.
Над площадью мигнул большой экран.
Ролик «о естественном процессе адаптации» оборвался. Появился строгий текст, голос за кадром постарался звучать уверенно:
– Городская служба синхронизации сообщает: фиксируются временные нарушения визуализации. Отображение времени на часах и носимых устройствах может временно демонстрировать единое контрольное значение.
00:41 вспыхнуло на весь экран, ровно, красиво, как логотип бренда.
– Это не влияет на фактическую протяжённость вашей жизни, – успокоительно продолжил голос. – Просим сохранять спокойствие и следовать текущему распорядку дня.
– Какому ещё распорядку? – фыркнула женщина у фонтана, не снимая рук с ушей. – У нас утро, обед и ночь одновременно.
Кто-то рядом нервно хихикнул.
Экран снова мигнул.
На долю секунды между двумя строками текста прорезалась знакомая спираль.
Небольшой логотип, когда-то отточенный дизайнерским отделом до идеальной симметрии.
ХРОНОС, – проступило под ним, очевидно, из какого-то старого слоя.
А потом – практически сразу – поверх легла аккуратная надпись:
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
Спираль втянуло внутрь, как будто её засосало под плёнку официального брендинга.
«Корпорация "Хронос" не существует», – напомнил внутренний голос, цитируя новую реальность.
– Конечно, – сказал Мартин сквозь зубы. – Её логотип просто забыл об этом.
«Логотипы вообще плохо умеют забывать», – заметил Хронофаг.
Он почувствовал, что ещё немного этого квадратно-потокового ада – и его желудок решит выселиться.
– Мне нужно уйти отсюда, – коротко сказал он.
«От себя уйти сложнее», – сообщил кто-то внутри.
Но ноги уже сами повели его к трамвайной остановке – тому редкому виду транспорта, где до сих пор сохранялась иллюзия линейного движения: рельсы, вперёд-назад, всё честно.
Трамвай подкатил старый, красно-белый, с ободранной краской. На бегущей строке вместо номера маршрута мигало то «90», то «09», то всё те же знакомые цифры.
00:41.
Двери открылись с запозданием, как будто тоже распались на квадраты и собирались обратно.
Внутри было почти спокойно. Старая женщина дремала, вцепившись в сетку, подросток в капюшоне листал ленту – экран у него в руках тоже пытался обновлять время, но каждый раз возвращался к единственной минуте.
У окна сидел мужчина в плаще и рассматривал карманные часы. Настоящие, тяжёлые, с крышкой, украшенной стёртым узором. Такие обычно передают в семьях как реликвию, пережившую три войны и смену нескольких режимов.
– Хоть ты держись, – шептал он им.
Мартин сел напротив, машинально.
Часы тикали, как и те, утренние, у него в квартире.
– Извините, – не удержался Мартин, – показывают?
Мужчина поднял глаза, недоверчивые, но живые.
– В отличие от этих ваших… – он кивнул куда-то в сторону электронного табло над дверью, – да.
Он щёлкнул крышкой и развернул циферблат к Мартину.
00:41.
Стрелки дрожали.
Минуточная пыталась пройти дальше, но что-то, как и в подъезде, держало её на месте. Тиканье было, как удар о пружину, которой не дают распрямиться.
– Всю жизнь шли как надо, – сказал мужчина. – Деду служили, отцу… А вчера ночью – раз, и встали.
– Встали у всех, – отозвалась женщина через проход, не открывая глаз.
– У ваших железок – пусть встают, – упрямо сказал он. – А это…
Он замолчал.
Стрелка вдруг дёрнулась и пошла.
Не вперёд.
По кругу.
Сначала медленно, словно проверяя, можно ли вообще двигаться. Потом быстрее, быстрее – и через пару секунд уже закрутилась так, что циферблат превратился в молочную кашу.
Тиканье превратилось в непрерывный, тонкий писк.
– Что вы сделали? – выдохнул мужчина, уставившись на Мартина.
– Ничего, – честно ответил тот.
«Ты просто сел напротив», – сказал внутри кто-то.
Мужчина поспешно захлопнул крышку, прижал часы к груди, как ребёнка.
– От вас всё ломается, – тихо сказал он.
Слова прозвучали не со злобой – с растерянностью. Как будто он констатировал диагноз, а не обвинял.
Мартин отвёл взгляд.
В самом деле: чем ближе он подбирался к любому механизму измерения, тем быстрее тот сходил с ума.
Когда он выходил на следующей остановке, трамвай вздрогнул – и на мгновение весь салон тоже рассыпался на квадраты. Люди обернулись, кто-то ругнулся, кто-то схватился за поручень.
«Локализованный сбой», – без интонации заметил Хронофаг.
Он спрыгнул на тротуар и, сам не зная зачем, свернул в переулок, где когда-то находилась мастерская, в которую его отец носил чинить свои первые часы.
Мастерская была на месте.
Вывеска «РЕМОНТ ЧАСОВ» выгорела, буквы «Р» и «Ч» почти отвалились, оставив честное «ЕМОНТ АСОВ». В витрине – десятки стрелок, циферблатов, браслетов, механических монстров, лежащих кучами.
Он толкнул дверь.
Звонок над головой дернулся, издал жалобное «дз…» и замер.
Внутри пахло металлом, маслом и пылью – запахи, которые не подчинялись никакому Синхрону.
За стойкой сидел мастер.
Его возраст менялся ступенчато – как ступени поколений: то ему за шестьдесят, с седой щетиной и густыми бровями, то под сорок, с тёмными волосами и ясными глазами, то вообще – едва за двадцать, с тонкими пальцами, чуть дрожащими не от старости, а от усердия.
Все трое стирались друг с другом, как плохо переложенные кадры.
– Закрыто, – не поднимая головы, сказал он.
– Табличка говорит «открыто», – заметил Мартин.
– Табличка живёт в прошлом, – устало ответил мастер.
Он поднял голову – в ту версию возраста, где морщин уже много, но взгляд ещё не выгорел окончательно.
– Что у вас?
Мартин на секунду подумал: «С собой – город». Но вместо этого сказал:
– Скажем так… диагностический интерес. Часы, которые ломаются, – это нормально?
Мастер хмыкнул.
– В городе, где время крошат как хлеб, – он кивнул куда-то в сторону улицы, – всё, что считает, ломается. Особенно если это редкое животное «стрелка».
Он постучал ногтем по стеклу ближайшего будильника.
Тот показал 00:41 и обиженно дрогнул.
– Последние недели носят пачками, – продолжил мастер. – Говорят: «Сделайте, чтобы опять шло вперёд».
– А вы?
– А я что? – он пожал плечами. – Механизм живой. Пружины целы, шестерёнки ворчат, как должны. Только стрелка…
Он взял одни наручные часы со стола, снял стекло, ткнул пинцетом в тонкую железную полоску.
– …стрелка не держит направление, – сказал он. – Как будто память у неё теперь на одну минуту.
00:41 стояло на циферблате, даже без стекла.
– Я их перевожу – они возвращаются, – продолжал мастер. – Я им пружину меняю – им всё равно.
– Болезнь? – спросил Мартин.
– Привычка, – вздохнул тот. – Город привык к одной секунде.
Он говорил странно: не как инженер, не как философ; как человек, которого попросили объяснить простыми словами то, что не объясняется.
Мартин перевёл взгляд на стену.
Там висел старый настенный календарь – тот, бумажный, с отрывными листами. Год на нём был давно просрочен, месяц – какой-то май, число – десятое.
Поверх календаря кто-то наклеил буклет «Городской банк – ваши честные сбережения», а поверх буклета – листок с надписью «Мастерская не участвует в программах Синхрона».
Из-под всех этих бумажных слоёв просвечивало знакомое.
Спираль.
Логотип «Хронос Индастриз».
В самом начале, до ребрендингов и ликвидаций, они печатали рекламные календари для партнёров. Видно, один такой попал в мастерскую.
– Старьё, – поморщился мастер, заметив, куда смотрит Мартин. – Хотел выбросить, а рука не поднялась.
– Почему?
– Потому что удобно, – честно ответил тот. – Сзади гвоздик хорошо сидит.
Он ухмыльнулся – и в этом было столько бытового здравого смысла, что Мартин подался вперёд.
– Вы помните, когда «Хронос» официально… – он поискал слово, – исчез?
Мастер фыркнул.
– Официально? – он поднял бровь. – Газета сказала – «ликвидирован». Бумаги переслали. Логотипы сняли.
Он достал из ящика старую квитанцию за свет – потрёпанную, с выцветшими цифрами.
В верхнем углу – маленькая спираль и мелкий текст: «обработка временных данных – партнёр Хронос Индастриз».
– А потом вот, – продолжил мастер. – Приходит новая квитанция. Без спирали. Но счёт всё равно бьёт кто-то дальше.
– Вы видите логотипы? – тихо спросил Мартин.
– Если давно живёшь, – пожал плечами тот, – ты везде видишь, кто тебе когда на шею сел.
Он снова повернул к нему будильник.
– Держите, – сказал.
– Зачем?
– Диагностика, – усмехнулся мастер, неожиданно использовав то же слово, что и Мартин. – Мне кажется, у вас вокруг стрелки с катушек слетают. Проверим?
Он протянул часы.
Мартин взял.
В ту секунду, когда металл лег ему на ладонь, стрелка, которая только что дрожала, как больной зуб, рванула.
Не вперёд и не назад.
Она начала прыгать.
00:41, 03:12, 19:59, 14:07 – цифры сменяли друг друга, как лица в толпе.
Мартин почувствовал знакомый холодок в пальцах – тот, который оставался после прикосновения к ядру Синхрона.
Будильник пискнул и… остался без стрелки.
Та просто исчезла.
Циферблат стал чистым – только маленькие чёрточки делений, без указателя.
Тиканье продолжилось, как будто ничего не произошло.
– Вот, – удовлетворённо сказал мастер. – Я же говорил.
– Простите, – выдавил Мартин.
– Всё равно бы сдохла, – беззлобно махнул рукой тот. – Просто вы это делаете быстрее.
Он забрал будильник, положил на отдельную стопку – там лежали другие, у которых стрелки отсутствовали вовсе, а механизмы продолжали ходить.
– Буду продавать как современное искусство, – проворчал мастер. – «Часы без стрелки. Инсталляция "После Синхрона"».
– Купят, – искренне сказал Мартин.
– У нас теперь всё без стрелки, – отозвался тот. – Жизнь, смерть, пенсия, школа… Почему бы и часам туда же.
Он смотрел на Мартина внимательно.
– Вы из… – он неопределённо махнул рукой в сторону, где в представлении старших поколений находилась башня Хроноса, серверы, «всё это ваше».
– Я из города, – ответил Мартин.
Мастер усмехнулся.
– Тогда вот что, – сказал он, снова опуская взгляд к своей россыпи механизмов. – Передайте там, где вы водитесь: может, людям и не нужны были эти ваши «стрелки», но они хотя бы знали, куда завтра.
Он постучал костяшкой по циферблату.
– А теперь мы живём в минуте, – заключил он. – В одной. И никак не можем из неё выйти.
Когда Мартин вышел из мастерской, тиканье оттуда ещё будто некоторое время шло за ним.
На углу дома, где раньше располагался офис «Хронос Индастриз», фасад был пустым, заделанным. Никаких табличек, никаких вывесок – просто гладкая, унылая стена.
Но в отражении ближайшей лужи на этом месте по-прежнему стояла стеклянная башня.
На её боку сияла спираль.
«ХРОНОС», – читалось там, зеркально, перевёрнуто, но отчётливо.
Он посмотрел на реальность – пустота.
На отражение – логотип.
– Тебя нет, – сказал он.
«Я в памяти», – ответил Хронофаг. И было непонятно, говорит ли он о себе или о корпорации.
Город вокруг жил без стрелок.
Люди придумывали суррогаты: одни ставили будильники по собственному биоритму, другие ориентировались по числу уведомлений в телефоне, третьи просто шли «пока не станет темно», хотя темно и светло теперь тоже не спешили приходить по очереди.
И всё равно, даже лишившись часов, город продолжал смотреть на пустые циферблаты, как на зеркала, в которых должно было отражаться какое-то будущее.
Но отражалась в них пока только одна цифра.
00:41.
Минута, на которой когда-то что-то пошло не так – и теперь не собиралось отпускать.
Он ещё какое-то время стоял у мастерской, прислушиваясь к тиканью, которое, казалось, просачивалось сквозь стену. Но либо это была просто память, либо город действительно научился отзвенивать по инерции. В любом случае, чем дальше он отходил, тем меньше слышал этот звук – и тем настойчивее в подкорке начинало шуршать что-то другое: квадратный, рваный шум площади, где время крошат на кубики.
Город ко второй половине… чего-то… выглядел так, будто его попросили изобразить «обычный день», а он забыл, как это делается.
У перекрёстка завёлся спор. Не философский – бытовой, и от этого особенно показательный.
– Я вам уже сказала, вы опоздали, – говорила девушка в окошке пункта выдачи.
– Как мог опоздать, если время застыло? – раздражённо спрашивал мужчина с коробкой.
Мартин узнал курьера с площади – тот самый, который не мог дойти до ступенек. Теперь он, оказывается, дошёл.
– У нас всё по регламенту, – девушка ткнула пальцем в экран. – Вот, видите: товар должен быть получен до…
Она замолчала.
На экране, под словом «до», стояло 00:41.
– …до окончания контрольного периода, – быстро поправилась она, листая дальше. – Он уже прошёл.
– Когда? – уточнил курьер.
– Ну… – она моргнула. – До Сорока Одной.
Сказано это было так, как когда-то говорили «до полуночи».
– А сейчас что? – не отставал он.
Девушка пожала плечами.
– Сейчас тоже она.
Она подняла запястье – на браслете, конечно же, горело 00:41.
– Удобно у вас, – хмыкнул курьер. – Всегда опоздал.
Мартин прошёл мимо.
Чем дальше он шёл, тем яснее чувствовал: город действительно живёт без стрелок, но не перестал измерять себя. Просто мерил другими штуками.
В булочной очередь ругалась не потому, что «слишком рано» или «слишком поздно», а потому что у кого-то хлеб был «как на завтрак», у кого-то «как на ужин», а у третьего – «как вчера».
– Мне свежий, сегодняшний, – требовала женщина в пальто.
Продавец, парень с усталым лицом, показывал на табличку: «Выпечка вчера / сегодня / завтра – один рецепт».
– Я не про сутки, – вздыхала она. – Я про ощущение.
Слово «ощущение» теперь всё чаще заменяло «время».
В парикмахерской, мимо которой он проходил, в витрине висела надпись: «Стрижём по записи и без – когда вам «пора»». Внизу мелким шрифтом просилась приписка: «Если вы вообще понимаете, когда это».
Он поймал свою отражённую физиономию в стекле: тот самый выразительный тип «когда пора давно, а ты всё откладываешь».
«Город без стрелок, но с совестью», – язвительно отметил внутренний голос.
Он свернул к ещё одной площади – поменьше, дворикового типа. Здесь некогда располагался рынок. Сейчас ряды были полупустые, но несколько палаток держались: овощи, кофе, какая-то полулегальная аптека.
И здесь часов было больше, чем людей.
Каждый продавец выставил на прилавок свой арсенал измерителей: кто-то – кухонный таймер, кто-то – песочные часы, кто-то – старый телефон с разбитым экраном, кто-то – нарисованный от руки циферблат с припиской «почти обед», «ещё рано», «давно пора домой».
Во всех этих импровизированных стрелках жило одно общее: никакой последовательности.
У женщины, продававшей зелень, песок в часиках бегал туда-сюда, не решаясь выбрать направление.
– Так больше похоже на нас, – философски сказала она, поймав его взгляд.
У продавца кофе кухонный таймер в углу упрямо мигал 00:41, независимо от того, сколько раз он нажимал «старт» и «сброс».
– Каждому свой шот, – кивнул он Мартину, принимая очередной заказ. – Мне вот уже третью неделю кажется, что я застрял в одной и той же смене.
– А что, если она и правда одна и та же? – спросил Мартин.











