Читать онлайн Бал под чёрным флагом
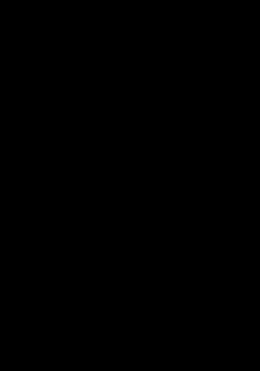
Первый вальс и последняя клятва
Дыхание остановилось где-то между легкими и горлом, запертое сталью и китовым усом. Корсет, это безупречное орудие пытки, обхватил ее ребра ледяными тисками, предписывая не только осанку, но и самый ритм жизни. Вдох – неглубокий, осторожный. Выдох – контролируемый, бесшумный. Он превращал женщину в изваяние, прекрасное и неживое, и Эвелина Вольская как никто другой ценила это сходство. Маска начиналась не с лица, а с тела, закованного в броню приличий.
Горничная, юная ирландка с испуганными глазами, затянула последнюю шелковую ленту, и Эвелина коротко кивнула своему отражению в высоком зеркале. Оттуда на нее смотрела незнакомка. Фарфоровая кожа, тронутая лишь легчайшим румянцем, гладко зачесанные пепельные волосы, открывающие тонкую шею, и платье цвета полуночи, расшитое мириадами крошечных бусин, что вспыхивали при каждом движении, словно осколки далеких, холодных звезд. В серо-стальных глазах незнакомки не было ничего, кроме спокойного ожидания. Ни тени девушки, что несколько часов назад, одетая в мужские брюки и грубую куртку, перемахивала через гнилые заборы в Уайтчепеле, вдыхая смрад нищеты и грядущего бунта. Той девушки больше не существовало. Она утонула в шелесте шелка и блеске фальшивых бриллиантов.
– Вы будете ослепительны, мадемуазель, – прошептала горничная, отступая на шаг.
Эвелина позволила уголкам губ едва заметно дрогнуть в подобии улыбки. «Ослепительна» – хорошее слово. Оно подразумевало свет, который мешает видеть. Именно это ей и было нужно.
Леди Бошан, дальняя родственница, согласившаяся ввести «бедную сироту с континента» в свет за весьма щедрое вознаграждение от анонимного покровителя, ждала ее внизу. Она окинула Эвелину цепким взглядом торговки лошадьми, оценивая каждый дюйм – от идеального пробора до мыска атласной туфельки.
– Превосходно, дитя мое, – вынесла она вердикт. – Выглядишь достаточно благородно, чтобы вызвать интерес, и достаточно бедно, чтобы не вызывать зависти. Запомни главное: говори меньше, слушай больше. Улыбайся, даже если тебе наступят на ногу, и ни в коем случае не принимай шампанское от баронетов младше сорока. Сегодня твоя цель – произвести впечатление. Тихое, но неизгладимое.
Эвелина покорно склонила голову. Она знала свою цель, и она не имела ничего общего с поиском выгодной партии. Сегодняшний вечер был не дебютом, а боевым крещением.
Кэб, нанятый леди Бошан, катился по улицам Мейфэра, оставляя позади серые тени респектабельных особняков. Газовые рожки выхватывали из темноты мокрый от недавнего дождя булыжник, блестящий, как антрацит, и редкие фигуры прохожих, спешивших укрыться от ночной прохлады. Лондон был театром, и сегодня Эвелина играла главную роль на его самой блестящей сцене. Особняк герцогини Ричмондской сиял, словно выброшенный на берег бриллиантовый галеон. Свет лился из каждого окна, музыка Штрауса просачивалась сквозь тяжелые портьеры, смешиваясь с приглушенным гулом сотен голосов и стуком копыт подъезжающих экипажей.
Внутри воздух был густым и тяжелым. Он пах воском сотен свечей, увядающими розами в огромных вазах и сложной смесью французских духов, пудры и едва уловимого запаха мужского пота под накрахмаленными воротничками. Толпа колыхалась единым организмом, сверкая драгоценностями, шелестя шелками и переливаясь атласом. Это был человеческий океан, и Эвелине предстояло погрузиться в него, не утонув.
Она двигалась в vleku леди Бошан, изображая застенчивость и почтительный интерес, в то время как ее взгляд, быстрый и острый, как игла, сканировал пространство. Она не искала лиц, она искала власть. Власть не всегда была на виду. Она пряталась в том, как расступаются перед человеком, как замолкают разговоры при его приближении, как даже самые чванливые пэры склоняют голову чуть ниже, чем того требует этикет.
И она нашла его.
Лорд Аластер Блэквуд, граф Стерлинг, не стоял в центре зала. Он находился у стены, в тени массивной колонны, держа в руке бокал с виски, лед в котором, казалось, не таял от его прикосновения. Он не участвовал в общем разговоре, он наблюдал. В его фигуре была хищная неподвижность пантеры, затаившейся перед прыжком. Темные волосы с едва заметной сединой на висках, резкие, словно высеченные из камня черты лица, и глаза… Эвелина почувствовала, как по спине пробежал холодок, хотя он даже не смотрел в ее сторону. Она видела его на литографии в досье, но ни одно изображение не передавало этой ауры холодной, сосредоточенной силы. Казимир говорил о нем как о «пауке в центре паутины». Сейчас Эвелина видела, что это неверное сравнение. Паук ждет, когда жертва попадется. Этот человек сам был охотником.
Леди Бошан, заметив направление ее взгляда, неодобрительно поджала губы.
– Граф Стерлинг. Держись от него подальше, дитя. Говорят, его сердце холоднее, чем дно Темзы в декабре. К тому же, он не танцует.
Идеально. Цель, которая не танцует, к которой не подобраться под предлогом светской любезности. Задача усложнялась, а значит, становилась интереснее.
Она позволила увести себя в круг молодых офицеров, чьи комплименты были столь же стандартны, как пуговицы на их мундирах. Она отвечала односложно, улыбалась уголками губ, но все ее существо было натянуто, как струна, обращенная в сторону той самой колонны. Она чувствовала его взгляд на себе задолго до того, как осмелилась поднять глаза. Он больше не смотрел на толпу. Он смотрел на нее. Не оценивающе, как другие мужчины, не с любопытством. Это был взгляд аналитика, изучающего неизвестный экземпляр под микроскопом. Он разбирал ее на части: осанку, холодность, едва заметное напряжение в плечах, которое выдавало ее чужеродность в этом мире.
И тогда он двинулся. Неспешно, с ленивой грацией, которая была обманчива, как тихая вода над омутом. Он прошел сквозь толпу, которая расступалась перед ним, словно вода перед килем корабля, и остановился прямо перед ней и ее растерянным кавалером.
– Прошу прощения, лейтенант, – его голос был низким, с бархатными нотками, но лишенным всякой теплоты. – Боюсь, вы должны уступить мне даму. Герцогиня настаивает, чтобы я исполнил свой долг перед обществом.
Молодой офицер побагровел, пролепетал что-то невразумительное и ретировался. Лорд Блэквуд протянул Эвелине руку в безупречно белой перчатке.
– Мадемуазель Вольская, не так ли? Весь Лондон шепчется о загадочной красавице с континента. Я счел своим долгом лично удостовериться в правдивости слухов.
Его пальцы, сомкнувшись на ее, оказались неожиданно теплыми и сильными. Она вложила свою руку в его, чувствуя себя так, словно добровольно ступила в капкан.
– Слухи, милорд, – ее голос прозвучал ровно, без единой дрогнувшей ноты, – часто бывают более занимательными, чем действительность. Боюсь, вы будете разочарованы.
– Разочарование – это роскошь, которую я редко себе позволяю, – он повел ее в центр зала как раз в тот момент, когда оркестр заиграл первые такты вальса. – Оно предполагает наличие предварительных ожиданий. А я предпочитаю иметь дело с фактами.
Его рука легла ей на талию, на то самое место, где корсет сжимал ее сильнее всего. Прикосновение было формальным, но властным. Они закружились в танце. Мир превратился в калейдоскоп размытых лиц, бликов света и шуршания платьев. Существовали только они двое, музыка и невысказанное напряжение между ними. Он вел уверенно, его шаги были точны и выверены, как ходы в шахматной партии.
– Вы сказали, что не танцуете, лорд Стерлинг, – проговорила она, глядя ему куда-то в область галстука. Смотреть в его глаза было слишком опасно.
– Я сказал, что не танцую. Я не говорил, что не умею. Есть разница между отсутствием способности и отсутствием желания. Сегодня, как видите, желание появилось.
Они сделали еще один круг. Ее тело двигалось автоматически, следуя за его ведением. Годы тренировок – не в бальных залах, а на тренировочных площадках, где учили падать, не ломая костей, и наносить удар, не выдавая намерения, – давали о себе знать. Она держала корпус идеально прямо, не позволяя себе ни на миллиметр прижаться к нему.
– Континент, – произнес он задумчиво, словно пробовал слово на вкус. – Такое широкое понятие. Париж? Вена? Или, может, что-то восточнее? В вашем акценте есть нотки, которые трудно отнести к Франции.
Это был первый укол, первая проверка ее легенды. Она была к этому готова.
– Моя семья много путешествовала, милорд. Мой акцент – это сувенир из тех мест, где мне довелось жить.
– А теперь вы в Лондоне. В поисках… чего, мадемуазель Вольская? Стабильности? Защиты, которую может дать доброе английское имя?
Его слова были облечены в форму светской любезности, но по сути являлись допросом. Он хотел знать ее мотивы, ее цену.
– Я ищу место, которое смогу назвать домом, – ответила она, вкладывая в голос ровно столько сиротливой печали, сколько требовалось. – Это такое странное желание для женщины?
Он усмехнулся, но глаза его остались холодными.
– Вовсе нет. Это самое распространенное желание. Странно то, что вы ищете его здесь, в этом аквариуме, где каждый готов съесть другого, лишь бы получить место поближе к кормушке. Вы не похожи на золотую рыбку, мадемуазель. Скорее на щуку, которая притворяется плотвой.
Ее сердце пропустило удар. Он видел. Он видел ее насквозь, или ему хотелось, чтобы она так думала. Это была его тактика – выбить из равновесия, заставить защищаться и тем самым выдать себя. Она не поддалась. Она подняла на него глаза, встречая его пронзительный взгляд своим, таким же холодным и непроницаемым.
– Возможно, милорд, вы просто привыкли видеть во всех хищников, потому что сами являетесь охотником. Говорят, это профессиональная деформация.
На мгновение в его глазах что-то мелькнуло. Не удивление. Скорее, признание равного противника. Он чуть сильнее сжал ее талию, притягивая ближе. Теперь она чувствовала тепло его тела сквозь тонкие слои шелка и перчаток. Запах его одеколона – терпкий, с нотами сандала и кожи – смешивался с запахом воска и духов, создавая интимную, почти удушающую ауру.
– А что говорят о вашей профессии, мадемуазель? Роль скорбящей сироты, ищущей покровительства… Она вам идет. Но любая роль требует полной отдачи. Один неверный жест, одна фальшивая нота – и зритель перестает верить. А в нашем театре неверующих зрителей съедают первыми.
Музыка достигла крещендо и оборвалась. Они замерли в центре зала. На мгновение показалось, что весь мир затаил дыхание, наблюдая за ними. Он не отпускал ее. Его большой палец медленно, почти невесомо, провел по линии ее корсета. Это был жест на грани приличия, жест собственнический и провокационный.
– Благодарю за танец, милорд, – сказала она, высвобождаясь из его рук с усилием, которое стоило ей всей ее выдержки. – Вы были правы. Слухи оказались интереснее.
Она развернулась и пошла прочь, не оглядываясь, чувствуя его взгляд, как физическое прикосновение к своей спине. Каждый шаг давался с трудом. Ей хотелось бежать, скрыться, сорвать с себя это лживое платье и этот удушающий корсет, но она заставила себя идти медленно, с достоинством, направляясь к уединенному балкону.
Ночной воздух был холодным и влажным. Он остудил ее горящие щеки. Внизу, в саду, тихо журчал фонтан. Эвелина прижалась лбом к холодному камню перил. Ее руки в перчатках сжимали веер с такой силой, что хрупкие пластины угрожающе затрещали.
Она провалила задание. Нет, она выполнила его. Она привлекла его внимание. Но какой ценой? В этом коротком танце, в этом поединке взглядов и полунамеков, она почувствовала нечто, к чему не была готова. Опасность, да. Но не только. Она почувствовала узнавание. Словно два волка из разных стай, встретившись на нейтральной территории, признали друг в друге одну и ту же породу. Это было недопустимо.
Она закрыла глаза, и перед ее внутренним взором встало другое лицо. Лицо Казимира, аскетичное, с горящими фанатизмом глазами, в тускло освещенной задней комнате паба. Его слова, сказанные на прощание, звучали в ее ушах, заглушая звуки бала.
«Он не человек, Лина. Он – символ. Столп системы, которая перемолола твою семью, твою родину, твою жизнь. Когда будешь смотреть на него, видь не мужчину, а тюремную стену. Твоя задача – найти в этой стене трещину и заложить туда динамит. Никаких сомнений. Никакой жалости. Ты дала клятву».
Да, она дала клятву. На могиле, которой у нее не было. Перед призраками, которых она носила в своем сердце. Эта клятва была единственным, что осталось у нее от прошлого, и единственным, что определяло ее будущее.
Лорд Аластер Блэквуд не был для нее мужчиной. Он был целью. Мишенью. Тюремной стеной. А то, что она почувствовала в его объятиях… этот мимолетный, предательский трепет, это ледяное пламя узнавания – было просто слабостью. Трещиной в ее собственной броне.
Она выпрямилась, глубоко вдохнув холодный ночной воздух. Веер в ее руке перестал дрожать. Когда она вернется в зал, на ее лице снова будет безупречная маска спокойствия и скромности. Танец окончен. Игра началась. И она поклялась себе, здесь, на этом балконе, под взглядом равнодушных лондонских звезд, что выйдет из этой игры победительницей. Даже если для этого придется вырвать собственное сердце и заменить его осколком льда. Это была не первая клятва в ее жизни. Но она станет последней.
Шепот в тумане
Карета, пахнущая выцветшим бархатом и лошадиным потом, была коконом, переносившим ее из одного мира в другой. За окном проплывали, теряя свой надменный блеск, фасады Белгравии, газовые фонари становились реже, их свет – желтее и болезненнее. Вскоре они и вовсе растворились, уступив место редким масляным лампам, чей тусклый свет едва пробивал плотную пелену тумана. Здесь, на границе двух Лондонов, Эвелина заплатила кэбмену и сошла на скользкий булыжник. Он посмотрел на нее с плохо скрываемым подозрением – слишком хорошо одета для этих мест, слишком бледна для ночной прогулки, – но звон монет перевесил его любопытство. Он щелкнул кнутом, и стук копыт быстро заглох, поглощенный серой ватой, окутавшей город.
Она осталась одна. Туман был не просто погодой, он был состоянием. Он проникал под одежду ледяной сыростью, оседал на ресницах, приглушал звуки, превращая далекий гудок речного судна на Темзе в стон утопленника. Он стирал очертания, делая мир призрачным и ненадежным. В этом мире Эвелина чувствовала себя органичнее, чем в ослепительном сиянии бальных зал. Туман был ее союзником, он скрывал ее так же надежно, как и шелковая маска.
Скинув с плеч одолженную у леди Бошан накидку из дорогого кашемира и спрятав ее в заранее приготовленной нише за мусорными баками, она осталась в простом, темном дорожном платье, которое было надето под бальным нарядом. Еще одно перевоплощение, еще одна сброшенная кожа. Из маленького ридикюля она извлекла грубый шерстяной платок и покрыла им голову, пряча тщательно уложенные волосы. Теперь она была одной из многих теней, скользящих по этим улицам. Ее походка изменилась: из плавной и размеренной она стала быстрой, почти бесшумной. Она больше не была мадемуазель Вольской. Она была агентом по имени «Лина».
Паб «Корона и Якорь» встретил ее волной спертого тепла, запахом прокисшего эля, дешевого табака и чего-то еще – кислого, человеческого, запаха безнадежности. Грубые голоса сливались в нестройный гул, кто-то бил кулаком по столу, кто-то надсадно кашлял в углу. Никто не обратил на нее внимания. Женщина в темном платке, заказавшая у стойки кружку воды и немедленно прошедшая в коридор, ведущий во двор, была здесь обычным явлением.
Дверь в заднюю комнату не была заперта. Она скрипнула, как сустав старика. Внутри было холодно и сыро. Единственная керосиновая лампа на шатком столе отбрасывала на стены дрожащие, уродливые тени. В углу, на стопке старых газет, сидел Казимир. Он не поднялся ей навстречу, лишь оторвал взгляд от какой-то брошюры и кивнул. Его лицо в слабом свете казалось вырезанным из старого дерева – одни углы и впадины. Только глаза жили своей, отдельной, напряженной жизнью. В них была непоколебимая уверенность человека, который давно вынес приговор всему миру и теперь лишь приводил его в исполнение.
– Ты опоздала, – сказал он вместо приветствия. Голос его был сухим, безэмоциональным, как шелест осенних листьев.
– Бал затянулся, – Эвелина прикрыла за собой дверь. Сквозь щели все еще доносился гул паба, но здесь, в этой промозглой каморке, он казался звуком из другой вселенной. – Герцогиня упивалась своим триумфом.
Она подошла к столу и села на единственный стул напротив него. Лампа стояла между ними, разделяя их лица на свет и тень.
– Триумф… – Казимир усмехнулся, но это была лишь гримаса, не затронувшая его глаз. – Они все упиваются им. Пируют на палубе тонущего корабля. Рассказывай.
Эвелина начала свой отчет. Сухо, по-военному четко, она перечисляла имена тех, с кем ей удалось переговорить, обрывки фраз, подслушанных у буфетной стойки, наблюдения о настроениях в правительственных кругах. Она говорила о политике, о слухах про новые налоги, о беспокойстве по поводу ирландских волнений. Она говорила обо всем, кроме главного. Она не описывала, как рука графа Стерлинга лежала на ее талии, как его голос, казалось, вибрировал где-то внутри нее, и как его взгляд заставлял трещать по швам ее выстроенную годами оборону. Это были не факты. Это была ересь.
Казимир слушал не перебивая, его пальцы неподвижно лежали на столе. Он был похож на паука, ощущающего малейшую вибрацию паутины.
– И он? Граф? – спросил он, когда она закончила.
– Он танцевал со мной, – ровным голосом ответила Эвелина. – Задавал вопросы. О моем происхождении, о целях моего приезда в Лондон. Он проницателен. Опасен. Он сравнил меня со щукой, которая притворяется плотвой.
На лице Казимира впервые отразилось что-то похожее на интерес.
– Хорошее сравнение. Он увидел в тебе хищника. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что он заинтригован. Плохо, потому что он будет следить за каждым твоим движением. Он будет ждать, когда ты покажешь зубы.
Он помолчал, изучая ее лицо в полумраке. Эвелина выдержала его взгляд, не дрогнув. Ей казалось, что он пытается заглянуть ей прямо в душу, найти там ту самую трещину, о которой говорил сам.
– Что ты почувствовала, когда он был рядом?
Вопрос застал ее врасплох. Она ожидала вопросов о его охране, о его привычках, о его контактах. Но не этого.
– Ничего, – солгала она. – Холод. Уверенность противника.
– Ложь, – сказал Казимир тихо, но его слово ударило, как хлыст. – Не мне, Лина. Себе можешь лгать сколько угодно, но не мне. Я видел, как люди смотрят на дуло пистолета. В их глазах страх, ненависть, покорность. Но никогда – ничего. «Ничего» – это защита. Что ты скрываешь за ней?
– Я выполняю задание, – отрезала она, и в ее голосе звякнул металл. – Мои чувства не имеют к нему отношения.
Казимир долго смотрел на нее, и Эвелине показалось, что он видит ее насквозь – и смятение после танца, и отчаянную клятву на балконе. Но он не стал давить. Вместо этого он пододвинул к ней тяжелую папку из грубого картона, перевязанную тесьмой.
– Это тебе. Все, что нам удалось собрать на него за последние пять лет. Читай внимательно. Не то, что там написано, а то, что между строк. Его привычки, его маршруты, его слабости. Мы должны найти его Ахиллесову пяту.
Эвелина взяла папку. Она была тяжелой, плотной, наполненной чужой жизнью, сведенной к отчетам и донесениям.
– Мне нужно больше, – сказала она, открывая папку. Верхний лист представлял собой подробную карту его лондонского особняка, начерченную от руки. – Разговоры на балах – это дым. Мне нужен доступ к его бумагам. К его кабинету.
Казимир кивнул, словно только этого и ждал.
– Именно. Это твой следующий шаг. Он заинтригован тобой. Используй это. Сделай так, чтобы он сам пригласил тебя в свой дом. Не как гостью на один вечер, а как… доверенное лицо. Как женщину, в присутствии которой он ослабит бдительность.
– Это может занять недели. Месяцы.
– У нас нет месяцев, – Казимир наклонился вперед, и его лицо оказалось в круге света. Теперь оно выглядело изможденным, почти фанатичным. – Колесо истории набирает ход. В Париже наши братья готовят акцию, которая заставит содрогнуться всю Европу. В Петербурге затягивают гайки. Здесь, в Лондоне, рабочие готовы выйти на улицы. Нам нужен катализатор. А Блэквуд – это тормоз. Он предвидит наши шаги, он думает на три хода вперед. Пока он на доске, наша игра под угрозой. Твоя задача – убрать эту фигуру. А для этого ты должна знать, как он мыслит. Его кабинет – это его мозг. Ты должна проникнуть в него.
Он говорил об этом так, как хирург говорит об ампутации. Никаких эмоций, лишь холодная необходимость. Но Эвелина вдруг почувствовала, как воздух в комнате сгустился, стал тяжелым для дыхания. Одно дело – соблазнять врага на светском рауте, вести с ним словесную дуэль. И совсем другое – вторгнуться в его личное пространство. Кабинет – это не просто комната с бумагами. Это святилище. Место, где человек снимает свою публичную маску. Это было нарушением неписаного закона, почти интимным насилием. И эта мысль вызвала в ней странное, тревожное чувство. Смесь отвращения и порочного любопытства.
– Я поняла, – сказала она, закрывая папку.
– Нет. Ты не поняла, – Казимир поднял руку, останавливая ее. – Ты думаешь, это просто шпионская игра. Флирт, украденные письма… Это не игра, Лина. Это война. И на войне бывают жертвы. Ты должна быть готова ко всему. Он попытается сломать тебя, использовать, перевербовать. Он будет искать твои слабости. Убедись, что у тебя их нет.
Он замолчал и посмотрел на ее руки, лежащие на папке. Руки аристократки, с тонкими пальцами и ухоженными ногтями.
– Помни, кто ты. Помни Варшаву. Помни фургон, увозивший твоих родителей в снежную пустоту. Он, Блэквуд, – один из тех, кто строит эти фургоны. Он – архитектор тюрьмы, в которой живет полмира. Его безупречный фрак сшит из страданий тысяч таких, как твои отец и мать. Каждый раз, когда будешь смотреть ему в глаза, видь за ними решетку.
Его слова были точны и безжалостны, как удар скальпеля в старую рану. Он всегда так делал. Когда чувствовал в ней малейшее колебание, он доставал из прошлого самый острый осколок и вонзал его поглубже. И это работало. Образ графа, мужчины с усталыми глазами, который говорил о щуках и золотых рыбках, начал меркнуть, уступая место безликому символу тирании.
– Я помню, – сказала она глухо.
– Хорошо. – Он откинулся назад, снова уходя в тень. – А теперь иди. Скоро рассвет. Тебе еще нужно успеть превратиться обратно в невинную сироту.
Эвелина поднялась. Папка под мышкой казалась куском свинца. В дверях она на миг обернулась.
– Казимир.
– Да?
– Что, если он… не пригласит меня? Что, если сегодняшний вечер был лишь мимолетной прихотью?
– Тогда, – в его голосе не было ни капли сочувствия, – ты заставишь его это сделать. Ты умна, Лина. Ты красива. Для них это единственное оружие, которое есть у женщины. Так используй его. Безжалостно. Как мы используем динамит.
Она вышла, не прощаясь, и снова окунулась в гул паба. Ничего не изменилось. Те же пьяные голоса, тот же кислый запах. Но теперь ей казалось, что все они – и пьяницы за столами, и она сама, и Казимир в своей каморке – лишь пешки в чьей-то огромной, непонятной игре. И цена этой миссии, цена, которую она должна будет заплатить, измерялась не только риском разоблачения. Она измерялась чем-то большим. Чем-то, что она рисковала потерять внутри себя.
Обратная дорога казалась длиннее. Туман сгустился, превратившись в холодный, моросящий дождь. Эвелина забрала свою накидку и, дождавшись редкого ночного кэба, вернулась в тишину и покой Мейфэра. Она вошла в дом через дверь для прислуги, поднялась по черной лестнице в свою комнату и заперлась.
Не раздеваясь, она села за маленький письменный стол и при свете единственной свечи открыла досье. Листы были заполнены убористым почерком и вырезками из газет. Биографические данные, сухие, как пыль: родился, учился в Оксфорде, служил в Индии, в Судане. Вышел в отставку после гибели младшего брата, Эдварда. Причина смерти – несчастный случай при обращении со взрывчатыми веществами. Краткая заметка из «Таймс» сообщала об этом без подробностей. Дальше шли отчеты агентов. Список клубов, которые он посещал. Имена людей, с которыми встречался. Расписание его дня, выверенное до минуты. Это был портрет машины, а не человека. Безупречного, эффективного механизма на службе Империи.
Но между строк, как и говорил Казимир, сквозило другое. Он никогда не посещал скачки, но держал двух лошадей и каждое утро совершал долгую прогулку в Гайд-парке, всегда один. Раз в месяц он инкогнито посещал приют для мальчиков в Бетнал-Грин, основанный на деньги его семьи. Он был искусным шахматистом и иногда играл по переписке с одним русским гроссмейстером.
Эти детали не вязались с образом безжалостного палача. Они создавали объем, глубину, делали его… человеком. И это было опаснее всего. Человека можно было понять. Понять – значит, простить. А прощение было роскошью, которую она, так же как и он разочарование, не могла себе позволить.
Она закрыла досье и спрятала его под половицей. Затем разделась, смыла с лица следы усталости и притворства и легла в холодную постель. Сон не шел. В голове звучали два голоса. Один – низкий, с бархатными нотками, говорил о щуках и золотых рыбках. Другой – сухой, как шелест бумаги, требовал помнить о тюремных решетках. И между этими двумя голосами она пыталась найти свой собственный, но он тонул в шуме их противоборства.
Утром, за завтраком, леди Бошан была в превосходном настроении.
– Вы произвели фурор, дитя мое! Сам лорд Стерлинг, этот ледяной истукан, удостоил вас танцем! Леди Абингтон чуть не подавилась своим парфе. Весь свет только об этом и говорит.
Эвелина изобразила смущенный румянец. Она взяла со стола перо и лист дорогой гербовой бумаги.
– Я, право, не знаю, что и думать, – пролепетала она, опуская глаза. – Он был так… настойчив. Я должна написать благодарственную записку герцогине за вчерашний вечер. Как вы думаете, будет ли уместно вскользь упомянуть о любезности графа? Просто из вежливости…
Леди Бошан просияла.
– Уместно? Дитя мое, это будет гениально!
Эвелина склонилась над листом. Ее рука с пером не дрожала. Она выводила изящные, округлые буквы, сплетая слова в вязкую, липкую сеть вежливых формулировок и тонких намеков. Первый узел был завязан. Паутина начала расти. И она, Эвелина, сидела в самом ее центре, ощущая себя одновременно и пауком, и первой мухой, попавшей в собственную ловушку.
Приглашение в змеиное гнездо
Дни после бала тянулись, словно нити расплавленного сахара, – блестящие, липкие и пустые. Эвелина оказалась в плену безупречной рутины, предписанной леди Бошан. Утренние визиты, дневные прогулки в парке под бдительным оком компаньонки, вечера за вышивкой или скучным романом в гостиной, где тиканье дедовских часов отмеряло не время, а степень удушья. Она играла свою роль с методичной точностью автоматона: улыбалась, когда положено, вставляла вежливые реплики, восхищалась акварелями хозяйских дочерей. Но под этой гладкой, отполированной поверхностью ее сознание работало с лихорадочной, холодной интенсивностью. Она ждала.
Это ожидание было пыткой, несравнимой с физической болью. Каждый стук в дверь, каждый скрип колес экипажа на улице заставлял внутренности стягиваться в тугой, ледяной узел. Она прокручивала в голове их танец с графом Стерлингом сотни раз, анализируя каждое слово, каждую паузу, каждый оттенок его взгляда. Была ли это просто игра скучающего аристократа, укол в самолюбие которого заставил его заметить ту, что держалась особняком? Или это было нечто большее – начало поединка, первый ход в партии, правила которой знала только одна сторона? Тишина была его ответом, и эта тишина была оглушительной, полной насмешки. Возможно, она переоценила свой эффект. Возможно, она была для него лишь мимолетным развлечением, уже забытым. Эта мысль была оскорбительнее и страшнее прямого обвинения.
Ответ пришел на четвертый день, в серый, промозглый полдень, когда Лондон казался выцветшей дагерротипной фотографией самого себя. Дворецкий, бесшумный, как призрак в ливрее, внес почту на серебряном подносе. Среди счетов и светских приглашений лежал один конверт, который, казалось, поглощал весь скудный свет в комнате. Плотная, кремовая бумага, почти картон. Адрес, выведенный каллиграфическим почерком, был лишен витиеватости, каждая буква – уверенный, четкий штрих. А в углу, оттиснутая в алом воске, красовалась печать: голова волка в профиль, увенчанная графской короной. Герб рода Блэквудов.
Леди Бошан издала звук, похожий на сдавленный визг чайки. Ее пальцы, унизанные кольцами, затрепетали, прежде чем она решилась взять письмо. Конверт был адресован мадемуазель Эвелине Вольской.
– Вскрывайте же, дитя мое, не тяните! – прошипела она, и ее глаза горели алчным огнем.
Эвелина взяла письмо. Бумага была теплой, словно хранила отпечаток руки отправителя. Она медленно, с показным спокойствием, сломала восковую печать. Нож для бумаг вошел в сгиб с сухим, хищным щелчком. Внутри был один лист, сложенный вдвое. Текст был краток, лишен всяких светских реверансов.
«Мадемуазель Вольская,
В грядущую субботу я имею честь принимать в своем загородном поместье Стерлинг-холл нескольких гостей для охоты и бесед у камина. Я был бы рад, если бы Вы согласились украсить наше скромное общество своим присутствием. Экипаж будет ожидать Вас в полдень.
Искренне Ваш,
Стерлинг».
Никаких «милорд будет счастлив», никаких «надеюсь, Ваше расписание позволит». Это было не приглашение. Это был приказ, облеченный в форму вежливости. Он не спрашивал, он сообщал. И это «украсить наше скромное общество» звучало откровенной издевкой. Эвелина знала, что гости в Стерлинг-холле – это не щебечущие дебютантки и не охотники за фазанами. Это будут люди, чьи имена шепотом произносили в министерствах и посольствах. Люди, которые вершили судьбу Империи.
– Боже милостивый! – выдохнула леди Бошан, заглядывая ей через плечо. – Уик-энд у графа! Эвелина, это… это триумф! Это больше, чем я могла мечтать! Вам немедленно нужно новое дорожное платье! И платье для ужина! И амазонка!
Эвелина сложила письмо, и ее пальцы были холодны как лед. Триумф. Для леди Бошан это было вершиной светской карьеры ее подопечной. Для Казимира это будет ключом к вражеской цитадели. А для нее самой? Что это было для нее? Она чувствовала себя приманкой, которую хищник небрежно бросил в воду, желая посмотреть, какая рыба на нее клюнет. Или, что хуже, он уже знал, какая рыба, и теперь просто подтягивал леску, наслаждаясь ее беспомощными рывками.
– Я… я не уверена, что мне стоит принимать это приглашение, – произнесла она тихо, тестируя реакцию. – Лорд Стерлинг показался мне… человеком сложным. Я боюсь оказаться не к месту в столь высоком обществе.
– Глупости! – отрезала леди Бошан. – От таких приглашений не отказываются! Отказ будет расценен как оскорбление. Вы поедете, дитя мое. И вы будете там блистать. Мы напишем ответ немедленно.
Сопротивление было бесполезно. Да и не нужно. Решение уже было принято за нее – и здесь, в этой гостиной, и там, в промозглых трущобах Ист-Энда. Ей оставалось лишь следовать сценарию.
Передать сообщение Казимиру оказалось сложнее, чем обычно. Она не могла рисковать, используя обычные каналы. Пришлось прибегнуть к крайним мерам. Под предлогом покупки новых лент, она отпросилась в лавку на Оксфорд-стрит, ускользнула от горничной и, затерявшись в толпе, наняла кэб до Челси. Там, в маленькой полуподвальной типографии, пахнущей свинцовой пылью, типографской краской и сыростью, она оставила условный знак – купила свежий выпуск анархистской газеты «The Commonweal», заплатив за него не шиллингом, а кроной, и не взяв сдачи. Это был сигнал тревоги, требующий немедленной встречи.
Место было назначено в тот же вечер. Не паб, не конспиративная квартира. Кладбище. Старое, заброшенное кладбище в районе Бромптон, где покосившиеся надгробия, поросшие мхом, торчали из земли, как гнилые зубы. Туман здесь был гуще, он цеплялся за голые ветви деревьев, превращая их в призрачные руки, тянущиеся к ней из мрака.
Казимир ждал ее в тени склепа с отбитым крылом у ангела-хранителя. Он был частью этого пейзажа – такой же серый, неподвижный и холодный, как надгробный камень. Рядом с ним стоял еще один человек, коренастый, безликий, чья рука не покидала кармана плаща. Охрана. Значит, дело серьезное.
Эвелина подошла, не говоря ни слова, и протянула ему письмо графа. Казимир достал из кармана спичку, чиркнул ею о гранит склепа. Короткая, дрожащая вспышка осветила его лицо и лист бумаги в его руках. Он читал быстро, его глаза бегали по строчкам, впитывая каждое слово. Когда он дочитал, пламя почти добралось до его пальцев. Он небрежно бросил спичку, и она погасла с тихим шипением на мокрой земле.
– Змея приглашает птичку в свое гнездо, – произнес он тихо. Тишина кладбища делала его голос неестественно громким. – Слишком быстро, Лина. Слишком просто. Это ловушка.
– Я тоже так думаю, – подтвердила Эвелина. Ее голос был ровным, но внутри все вибрировало от напряжения.
– Он играет с тобой. Он хочет вырвать тебя из привычного окружения, поместить на свою территорию, где каждый слуга – его уши, каждая стена – его глаза. Он будет наблюдать за тобой. Изучать. Искать изъяны в твоей легенде.
Он сделал шаг, вышел из тени. Теперь он стоял так близко, что она чувствовала запах мокрой шерсти его пальто и табака.
– Ты боишься?
Она встретила его взгляд.
– Я опасаюсь. Это разные вещи.
– Хорошо, – кивнул он. – Страх парализует. Опасение заставляет думать. Так что ты думаешь?
– Я думаю, что это наш единственный шанс. Каким бы ни был его мотив, он открывает мне дверь. Если я откажусь, он поймет, что я не та, за кого себя выдаю. Бедная сирота не посмеет отвергнуть графа. А если я приму… я окажусь внутри. Рядом с ним. Рядом с его кабинетом.
Казимир молчал, обдумывая ее слова. Человек в плаще за его спиной не шевелился, сливаясь с темнотой. Ветер прошелестел в голых ветвях, звук был похож на шепот мертвецов.
– Ты права, – сказал он наконец. – Риск огромен. Но и ставка высока. Ты поедешь.
Он повернулся и сделал знак своему спутнику. Тот подошел и протянул Эвелине небольшой, тяжелый сверток из промасленной ткани.
– Это для тебя.
Эвелина развернула его. Внутри, на куске бархата, лежало несколько странных предметов. Тонкая стальная пластина, похожая на перочинный нож, но с набором крошечных, замысловатых отмычек. Маленький флакон с прозрачной жидкостью без запаха. И брошь. Изящная серебряная камелия, чьи лепестки были выполнены с невероятным искусством.
– Отмычки замаскированы под пилку для ногтей. Жидкость – специальный состав. Нанеси на бумагу, и через час любой текст, написанный невидимыми чернилами на основе лимонного сока, проявится. А брошь… – он взял камелию в свои грубые пальцы. – Поверни центральный лепесток против часовой стрелки.
Эвелина сделала, как он сказал. Раздался тихий щелчок, и из сердцевины цветка выдвинулась игла, тонкая и острая, как у осы.
– На кончике – доза яда. Не тот, что я давал тебе раньше. Этот действует мгновенно. Контакт с кожей, и через десять секунд – паралич дыхательных путей. Смерть, неотличимая от сердечного приступа. Это твой последний довод. Если тебя раскроют, если не будет пути к отступлению… Ты знаешь, что делать. Ты не должна попасть к ним живой. Они умеют развязывать языки.
Он вложил брошь ей в ладонь. Холодный металл обжег кожу. Это была не просто брошь. Это был приговор. И ей самой предстояло решить, кому его вынести – врагу или себе.
– Твоя задача, – продолжал Казимир, снова переходя на свой безжалостно-деловой тон, – не привлекать внимания. Будь тихой, скромной, восхищенной. Пусть они видят в тебе лишь красивую безделушку. Но слушай. Запоминай имена, обрывки разговоров, союзы и противоречия. И найди способ проникнуть в его кабинет. Сфотографируй все, что сможешь. У нас есть человек на станции в деревне рядом с его поместьем. Начальник станции. В воскресенье, в три часа пополудни, он будет в своей конторе. Ты должна передать ему пленку. Любой ценой.
– Как я выйду из дома? – спросила Эвелина. – Он будет следить за мной.
– Придумай. Ты должна. Скажись больной, устрой истерику, подожги занавеску. Сделай все, что потребуется. На карту поставлено слишком многое. Провал недопустим.
Он смотрел на нее, и в его глазах не было ни сочувствия, ни сомнения. Он посылал ее на задание, с которого она, скорее всего, не вернется, с такой же легкостью, с какой отправлял письмо. Она была для него не человеком, не Линой, которую он знал с детства. Она была функцией. Оружием. И это было правильно. Это придавало ей сил. Эмоции были роскошью, предательством.
– Я поняла, – сказала она, пряча сверток в потайной карман плаща.
– Помни, ради чего ты это делаешь, – сказал он на прощание, в последний раз вонзая в нее иглу памяти. – Они будут пить свое вино, смеяться в своих креслах. А ты смотри на их руки и думай о том, сколько на них крови. Крови наших братьев. Крови твоих родителей.
Она кивнула и, не оборачиваясь, пошла прочь, лавируя между могил. Шепот мертвых, казалось, следовал за ней по пятам.
Следующие два дня превратились в сюрреалистический спектакль. Пока леди Бошан и ее горничные впадали в ажиотаж, перебирая наряды, Эвелина вела свою, тайную подготовку. Она часами упражнялась с отмычками, пока ее пальцы не научились чувствовать малейший щелчок внутри замочного механизма. Она прикрепила брошь-камелию к воротнику своего дорожного платья, превратив орудие смерти в изящный аксессуар. Она смотрела на свое отражение, и ей казалось, что глаза незнакомки, глядящей на нее из зеркала, стали темнее, а на дне их застыл холодный блеск полированной стали.
В субботу, ровно в полдень, к дому подкатил экипаж. Не наемный кэб, а безупречная частная карета, запряженная парой вороных лошадей, чья шерсть лоснилась даже под скупым лондонским солнцем. На дверце красовался тот же герб – волчья голова. Кучер в строгой ливрее, не говоря ни слова, принял ее саквояж.
Прощание с леди Бошан было коротким.
– Веди себя достойно, дитя. И помни, ты представляешь не только себя, но и мой дом.
Эвелина покорно кивнула. Она садилась в карету, чувствуя себя так, словно ступает на плаху. Дверца захлопнулась с глухим, окончательным стуком, отрезая ее от мира, который она знала.
Путь из Лондона был переходом из одной реальности в другую. Грязные, перенаселенные улицы, фабричные трубы, изрыгающие черный дым, сменились аккуратными пригородами, а затем – бескрайними просторами английской сельской местности. Зеленые, неестественно идеальные луга, разделенные живыми изгородями, словно разлинованный лист бумаги. Одинокие дубы, раскинувшие свои могучие ветви. Каменные ограды, поросшие плющом. Все здесь дышало покоем, порядком, многовековой уверенностью в собственной незыблемости. И эта пасторальная красота была для Эвелины более чуждой и враждебной, чем самые грязные трущобы Уайтчепела. То был честный, открытый враг. А это – враг, скрывающий свою хищную суть под маской идиллии.
Она не знала, сколько прошло времени. Она сидела, глядя в окно, но не видя пейзажа. Она готовилась. Она возводила внутри себя стены, укрепляла бастионы, расставляла часовых на всех подступах к своей душе. Когда карета замедлила ход и свернула с главной дороги, въехав в кованые ворота, увенчанные двумя каменными волками, ее сердце билось ровно и холодно, как маятник.
Стерлинг-холл показался в конце длинной, обсаженной вязами аллеи. Это было не готическое чудовище, не помпезный дворец. Здание было строгим, элегантным, построенным из серого камня, который, казалось, впитал в себя все дожди и туманы столетий. Оно не давило своим размером, но внушало уважение своей основательностью, своей симметрией, своей холодной, неприступной красотой. Оно было точным архитектурным воплощением своего хозяина.
Карета остановилась у парадного входа. Прежде чем кучер успел соскочить с козел, высокая дубовая дверь открылась, и на верхней ступени показался сам граф Стерлинг. Он был одет неформально, в твидовый пиджак и брюки для верховой езды. Без цилиндра, без перчаток. Он сам спустился по ступеням и открыл ей дверцу кареты. Этот жест, неожиданный и нарушающий все каноны, сбил ее с толку на долю секунды.
– Мадемуазель Вольская, – его голос звучал так же ровно, как и в бальном зале, но на свежем воздухе в нем, казалось, было меньше металла. – Добро пожаловать в Стерлинг-холл. Надеюсь, дорога не слишком вас утомила.
Он подал ей руку, чтобы помочь выйти. Его ладонь была сухой и теплой, хватка – сильной. Она подняла на него глаза. В дневном свете его лицо казалось уставшим, а в уголках глаз залегли тонкие морщинки, которых она не замечала при свечах. Он смотрел на нее все тем же изучающим, пронзительным взглядом, но в нем не было насмешки. Было что-то другое. Серьезное, почти мрачное любопытство.
– Благодарю за приглашение, милорд, – произнесла она, высвобождая руку. – Ваше имение… оно прекрасно.
– Оно старое, – ответил он, поворачиваясь к дому. – А все старое хранит слишком много секретов. Прошу вас.
Он повел ее внутрь. Когда тяжелая дубовая дверь закрылась за ее спиной, звук эхом прокатился по огромному холлу, отделанному темным деревом. Этот звук был похож на щелчок замка. Эвелина сделала вдох, втягивая прохладный воздух, пахнущий воском, кожей и едва уловимым ароматом увядающих листьев. Она была внутри. В самом сердце змеиного гнезда. И теперь ей оставалось только одно – не дать себя укусить первой.
Карты, виски и секреты
Внутреннее убранство Стерлинг-холла оказалось обманчиво скромным. Здесь не было позолоты и лепнины, кричащих о богатстве, как в лондонских особняках. Лишь темное, почти черное дерево панелей, отполированное поколениями слуг до тусклого, глубокого блеска, в котором смутно отражались высокие окна, выходившие в парк. Воздух был неподвижен и прохладен, пропитан запахом старых книг и пчелиного воска. Эвелину проводила в ее комнату экономка, женщина с лицом, высеченным из гранита, и фигурой, затянутой в такой жесткий корсет, что, казалось, она не дышит, а лишь пропускает сквозь себя отмеренные порции воздуха.
Комната для гостей находилась в западном крыле, и она была безупречна. Кровать с балдахином из тяжелого зеленого бархата, письменный стол из карельской березы, камин, в котором уже потрескивали поленья. Все было правильно, выверено до дюйма, и от этой правильности веяло холодом склепа. Эвелина подошла к окну. Под ним простирался идеально подстриженный газон, который упирался в темную стену древнего тисового лабиринта. Она смотрела на путаные, мрачные коридоры из зелени и чувствовала, что это не просто элемент паркового дизайна, а метафора всего этого места. Войти легко. Найти выход – невозможно.
Ужин был испытанием иного рода. Гостей оказалось всего трое, но каждый из них стоил дюжины обычных аристократов. За столом, помимо нее и графа, сидел сэр Артур Уэзерби, постоянный заместитель министра иностранных дел, – маленький, сухой человек с глазами старой ящерицы, которые, казалось, никогда не моргали. Рядом с ним – генерал-майор Колдстрим, грузный мужчина с багровым лицом и усами, похожими на два замерзших водопада. Он командовал полком в последней афганской кампании и говорил о туземцах так, словно речь шла о вредных насекомых. Третьим был самый молодой, лорд Эшворт, восходящая звезда дипломатического корпуса, недавно вернувшийся из Петербурга. Его лицо было гладким и красивым, как у античной статуи, но в углах губ пряталась брезгливая складка.
Эвелина была единственной женщиной, единственным ярким пятном в этом сумрачном мужском мире. Она выбрала для ужина платье из дымчато-серого шелка, скромное, но подчеркивающее ее хрупкость. Она была украшением стола, экзотическим цветком, привезенным с континента. И она это знала. Она говорила мало, больше слушала, склонив голову, позволяя ресницам отбрасывать тень на щеки. Она задавала лишь самые невинные вопросы – о суровости русской зимы лорду Эшворту, о красоте индийских шелков генералу. Она была той самой тихой, восхищенной безделушкой, какой велел ей быть Казимир.
Но под маской почтительной скромницы ее мозг работал, как хронометр. Она фиксировала все: как сэр Артур незаметно подливает себе херес, хотя врач, очевидно, запретил ему; как генерал, говоря о стратегии, бросает быстрые, оценивающие взгляды на графа, словно ища одобрения; как лорд Эшворт, рассказывая анекдот о русском дворе, на долю секунды встречается глазами с Блэквудом, и в этом взгляде читается нечто большее, чем просто светская любезность, – понимание, общий секрет. Они не были просто гостями. Это был военный совет. А она, Эвелина, сидела в самом его центре, невидимая в своей очевидности.
Блэквуд почти не участвовал в общей беседе. Он был дирижером этого странного оркестра, короткими репликами направляя разговор в нужное ему русло. Он наблюдал за ней. Эвелина чувствовала его взгляд физически, как прикосновение холодного металла к коже. Он не смотрел на ее лицо или платье. Он смотрел ей в глаза, словно пытался прожечь тонкую оболочку и увидеть механизм, что тикал внутри. Каждый раз, когда их взгляды встречались над хрусталем бокалов, в воздухе повисало напряжение, тонкое, как паутина, и такое же липкое.
После ужина мужчины переместились в библиотеку. Это было сердце дома, огромное помещение с высокими, до самого потолка, стеллажами, уставленными тысячами книг в кожаных переплетах. В камине ревел огонь, отбрасывая на стены пляшущие тени. В воздухе густо пахло старой бумагой, кожей, сигарным дымом и виски. Генерал Колдстрим предложил сыграть в вист.
– Мадемуазель Вольская, вы составите нам компанию? Или предпочитаете музыку? – спросил Блэквуд. В его голосе звучал вежливый вызов. По правилам приличия, она должна была отказаться, оставив мужчин с их игрой и разговорами.
– Я буду рада сыграть, милорд, если мое скромное умение не покажется вам слишком дилетантским, – ответила она мягко, принимая вызов.
Ее партнером по игре стал лорд Эшворт. Против них играли граф и генерал. Карты легли на сукно карточного столика. Первые несколько партий Эвелина играла осторожно, предсказуемо, делая очевидные ходы и позволяя своему партнеру вести игру. Она проигрывала с очаровательной улыбкой, вызывая у генерала снисходительное умиление. Она создавала образ. Убаюкивала их бдительность.
А потом она изменила тактику. Это случилось во время решающей сдачи. Генерал вел игру, уверенный в своей победе. Лорд Эшворт уже почти сдался. Ход был за Эвелиной. У нее на руках была слабая карта, но она помнила каждую вышедшую из игры взятку. Она знала, что у графа на руках остался старший козырь, и знала, что генерал рассчитывает именно на него. Любой разумный игрок на ее месте скинул бы ненужную масть. Но Эвелина сделала нечто иное. Она пошла с предпоследнего козыря, сознательно отдавая взятку графу, но тем самым разрушая всю стратегию генерала и лишая его возможности забрать последнюю, самую важную взятку.
За столом на секунду повисла тишина. Генерал уставился на карты, его багровое лицо стало еще темнее. Лорд Эшворт поднял на нее брови в изумлении. Он понял ее маневр – жертва пешки ради спасения партии. Но только Блэквуд оценил всю глубину игры.
– Неожиданный ход, мадемуазель, – произнес он медленно, и в его черных глазах блеснул огонек. – Почти… безрассудный. Вы рисковали всем.
– Иногда, милорд, – ответила Эвелина, спокойно глядя ему в глаза, – чтобы выиграть войну, нужно проиграть битву, которая кажется решающей. Особенно если противник уверен, что вы будете играть по его правилам.
Ее слова повисли в густом сигарном дыму. Она говорила о картах, но все присутствующие поняли, что речь идет не только о них. Сэр Артур, дремавший в кресле у камина, открыл один глаз. Генерал хмыкнул, перестал видеть в ней хорошенькую куклу. А Блэквуд смотрел на нее долго, изучающе, и в его взгляде уже не было холодного любопытства. Было нечто новое – острое, как лезвие, уважение к равному противнику. И это было куда опаснее.
Они доиграли партию в молчании. Эвелина и лорд Эшворт выиграли.
Позже, когда гости разошлись по своим комнатам, она знала, что у нее есть лишь несколько часов. Несколько хрупких, драгоценных часов, пока дом спит. Она не стала раздеваться. Сидела в кресле, прислушиваясь к звукам ночи. Старый дом вздыхал и поскрипывал, словно живое существо. За окном ухал филин. Пробили часы в холле – два удара. Пора.
Она переоделась во все темное, волосы собрала в тугой узел на затылке. Дверь своей комнаты она оставила чуть приоткрытой, подперев ее клинышком, чтобы не пришлось возиться с замком на обратном пути. Коридор был погружен во тьму, лишь полоски лунного света падали из высоких окон, разрезая мрак на куски. Она двигалась бесшумно, как тень, прижимаясь к стене, ее босые ноги не издавали ни звука на холодных каменных плитах. Каждый портрет на стене казался шпионом, каждая скрипнувшая половица – сигналом тревоги. Сердце не билось – оно отстукивало тяжелые, глухие удары, как похоронный барабан.
Кабинет графа находился на первом этаже, в самом конце коридора. Дверь из массива дуба, с тяжелой бронзовой ручкой. Эвелина замерла перед ней, прислушиваясь. Тишина. Она достала из потайного кармана тонкую стальную пластинку с отмычками. Пальцы похолодели и плохо слушались. Она сделала глубокий вдох, выдохнула, отгоняя страх. Казимир был прав: страх парализует. Ей нужна была холодная ярость. Она представила лицо отца, измученное и седое, каким видела его в последний раз. Ярость вернула ей контроль над телом.
Отмычка вошла в замочную скважину. Замок был старый, английский, сложный. Она работала в полной темноте, наощупь, полагаясь только на чувствительность пальцев. Минута, другая. Пот стекал по ее вискам. Внутри механизма что-то щелкнуло. Еще один щелчок, глухой, маслянистый. Дверь поддалась.
В кабинете пахло так же, как и в библиотеке – кожей и табаком, но к этому запаху примешивался еще один, едва уловимый – остывающего металла и оружейной смазки. Лунный свет падал на огромный письменный стол, заваленный бумагами. Это было логово зверя.
Эвелина не стала зажигать свечу. Она достала из кармана коробок фосфорных спичек, которые давали слабое, призрачное свечение на несколько секунд. Первая вспышка. Она осмотрелась. Стены были увешаны картами. Не охотничьи угодья. Карты Индии, Судана, Афганистана, испещренные красными и синими флажками, линиями передвижения войск. На каминной полке стояли в ряд оловянные солдатики, выстроенные в боевом порядке. На кресле была небрежно брошена сабля в потертых ножнах. Это было рабочее место солдата, стратега.
Она подошла к столу. Вторая спичка. Бумаги, лежавшие сверху, были отчетами о поставках фуража, расписаниями движения поездов, донесениями о настроениях в портах. Ничего секретного. Она начала выдвигать ящики. Один за другим. Счета, контракты на аренду земли, родословная его лошадей. Все было продумано. Он знал, что сюда могут залезть. Он оставил на виду лишь то, что не имело значения.
Ее пальцы скользнули по нижней части столешницы. Дерево было гладким, но в одном месте она нащупала крошечную неровность. Нажала. Раздался тихий щелчок, и часть резной панели под столом отошла в сторону, открывая потайной ящик. Сердце подпрыгнуло. Вот оно.
Третья спичка. В ящике лежало всего несколько предметов. Револьвер «Вебли» – тяжелый, вороненой стали. Стопка писем, перевязанных черной лентой. И книга. Небольшой томик в простом кожаном переплете без названия. Эвелина взяла его. Бумага была старой, страницы пожелтели по краям. Она открыла его наугад. Это были не донесения и не шифры. Это были стихи. Нет, не стихи. Это был дневник. Почерк был неровный, страстный, совершенно не похожий на четкие, уверенные буквы графа.
Четвертая спичка, последняя. Она поднесла ее к странице.
«…16 октября. Сегодня говорил с Аластером. Он не понимает. Он называет это «юношеским идеализмом». Он говорит о долге, о порядке, об Империи, словно это священные идолы, которым нужно приносить кровавые жертвы. А я вижу лишь цепи, которые эта Империя накладывает на весь мир, на каждого из нас. Он говорит, что я читаю не те книги. Но разве Шартье не прав, говоря, что «тирания – это не власть одного, а молчание всех»? Мы молчим, пока наши братья в Ирландии голодают, пока рабочие в Манчестере задыхаются в угольной пыли ради прибылей тех, кто сидит в своих клубах. Аластер не видит этого. Он видит лишь карту, фигуры, стратегию. Он не видит людей. Но я верю, что придет день, когда люди перестанут быть пешками в его игре. Грядет буря, которая сметет этот прогнивший мир, и я хочу быть не зрителем, а самим ветром…»
Спичка догорела, обжигая пальцы. Эвелина замерла в темноте, сжимая в руках дневник. Это был не его дневник. Это был дневник его покойного брата. Того самого, что, по слухам, погиб при невыясненных обстоятельствах. Того самого, увлекшегося революционными идеями.
Она нашла не компромат на врага Империи. Она нашла его самую глубокую, самую сокровенную рану. Этот человек, этот холодный, безжалостный стратег, каждый день сидел за столом, под которым хранил дневник, полный тех самых идей, с которыми он так яростно боролся. Он не уничтожил его. Он хранил его, как реликвию. Или как вечное напоминание.
Внезапно все встало на свои места. Его одержимость борьбой с радикализмом, его цинизм, его презрение к идеалам. Это была не просто верность короне. Это была личная вендетта. Война с призраком собственного брата, которого он, возможно, любил и которого, несомненно, не смог спасти. Образ графа-палача, такой ясный и цельный, рассыпался на куски, как разбитое зеркало. А в осколках она увидела нечто гораздо более страшное: не монстра, а человека, сломленного той же трагедией, что и она сама, только с другой стороны баррикад.
В этот момент в коридоре за дверью скрипнула половица.
Звук был тихим, почти неуловимым, но в ночной тишине он прозвучал, как выстрел. Эвелина застыла, превратившись в камень. Ее кровь, казалось, замерзла в жилах. Кто-то был там. Стоял прямо за дверью. Слуга? Охрана? Или он сам? Она медленно, стараясь не дышать, задвинула потайной ящик на место. Книга осталась у нее в руках. Выхода не было. Окно выходило на открытый газон. Ее поймали. Брошь-камелия на воротнике ее платья вдруг показалась невыносимо тяжелой. Это был ее последний довод.
Она прижалась к стене рядом с дверью, в самой густой тени, сжимая в одной руке тяжелый том, а другой нащупывая лепесток на броши. Дверная ручка медленно, без единого скрипа, начала поворачиваться.
Поцелуй под дождем
Дверная ручка повернулась с мучительной, выверенной медлительностью, которая была страшнее любого резкого звука. Это не был слуга, спешащий по ночному делу. Это был хищник, наслаждающийся моментом перед тем, как захлопнуть пасть. Эвелина не дышала. Воздух в ее легких превратился в стекло, готовое расколоться на тысячи осколков. Она вжалась в стену, дневник брата Блэквуда был ледяным, тяжелым прямоугольником в ее руке, бесполезным щитом. Другая рука застыла на броши, большой палец нащупал крошечный рычажок лепестка. Один поворот. Десять секунд.
Дверь отворилась, и на пороге, в прямоугольнике лунного света, вырос силуэт графа Стерлинга. Он был в халате из темного шелка, босой. Он не сделал ни шага в комнату. Он просто стоял, и его неподвижность заполняла все пространство.
– Потеряли дорогу, мадемуазель? – его голос был тихим, почти бархатным, лишенным всякого удивления. В нем не было вопроса, лишь констатация факта, облеченная в саркастическую вежливость.
Эвелина молчала. Любое слово было бы ложью, и любая ложь была бы сейчас оскорбительно глупой. Она чувствовала, как его взгляд обшаривает темноту, и была уверена, что он видит ее так же ясно, как если бы в комнате горели все свечи. Он знал, где она стоит. Он, вероятно, слышал биение ее сердца сквозь дубовые панели.
Он сделал шаг вперед, и лунный свет упал на его лицо. Оно было спокойным, почти скучающим. Затем его взгляд опустился на ее руку, сжимавшую книгу.
– А, – протянул он так же тихо. – Нашли что-то занимательное для чтения? Боюсь, в нашей библиотеке есть куда более достойные образцы. Это всего лишь сборник довольно посредственных стихов и наивной философии. Мой брат не обладал талантом ни к тому, ни к другому.
Он говорил о дневнике так, словно это была случайная книга, забытая на столе. Но каждое слово было точным, выверенным ударом. Он не обвинял ее во взломе. Он сразу перешел к сути, к тому, что она держала в руках, к самому сердцу его тайны, показывая ей, что вся ее игра в кошки-мышки окончена. Он поймал ее не у двери. Он поймал ее с поличным, с душой его брата в ее руках.
Эвелина заставила себя сделать шаг из тени. Скрываться больше не имело смысла. Она подняла подбородок. Ее лицо было бледной маской в полумраке.
– Поэзия может быть опаснее любого оружия, милорд. Особенно если она говорит правду.
Он медленно кивнул, словно соглашаясь с очевидной истиной.
– Именно поэтому ее пишут только очень юные или очень глупые люди. Остальные предпочитают оружие. Оно честнее. Верните книгу, мадемуазель Вольская.
Это был приказ. Она колебалась всего мгновение. Затем медленно подошла к столу и положила дневник на полированную поверхность. Он не двинулся с места, наблюдая за ней. Расстояние между ними сократилось до нескольких шагов. Она чувствовала исходящий от него жар, видела, как вздымается и опадает шелк халата на его груди.
– Завтра утром мы едем верхом, – сказал он, меняя тему с той же легкостью, с какой перевернул бы страницу. – В восемь. Экономка позаботится, чтобы вам подобрали амазонку. Вы ведь ездите верхом?
Она не успела ответить.
– Разумеется, ездите, – закончил он за нее. – Спокойной ночи.
Он повернулся и вышел, прикрыв за собой дверь так же бесшумно, как и вошел. Щелчок замка, который он повернул снаружи, прозвучал для Эвелины громче выстрела. Он не запер ее. Он просто вернул все на свои места, словно ничего не произошло. Но это простое действие было высшей формой унижения. Он показал ей, что может открыть и закрыть любую дверь в этом доме, включая ту, что она считала своей. Он не видел в ней угрозы. Он видел в ней лишь фигуру на своей доске, которую он передвинул, куда хотел, и теперь оставлял до следующего хода.
Она стояла посреди кабинета еще несколько минут, чувствуя, как адреналин сменяется ледяной, парализующей пустотой. Она провалила задание. Хуже – она попалась. Но вместо допроса и разоблачения он пригласил ее на конную прогулку. Эта игра была сложнее и страшнее, чем она могла себе представить.
Утро встретило ее небом цвета разбавленного молока и воздухом, острым и чистым, пахнущим влажной землей и прелыми листьями. Эвелина почти не спала, но на ее лице не было и следа усталости. Дисциплина, вбитая годами, взяла верх. Она облачилась в идеально подогнанную амазонку из темно-синего сукна. Строгий костюм сидел на ней как вторая кожа, как униформа, возвращая ей чувство контроля.
Блэквуд ждал ее у конюшен. Он уже был в седле, на высоком вороном жеребце, который нетерпеливо переступал с ноги на ногу, выдыхая облачка пара. Для нее была оседлана изящная гнедая кобыла с умными, влажными глазами.
– Она спокойна, но с характером, – сказал он вместо приветствия, кивком указывая на лошадь. – Думаю, вы поладите.
Он не упомянул о ночном происшествии ни словом, ни взглядом. Он вел себя так, словно они были обычными гостями, наслаждающимися утром в поместье. Эта нормальность была оглушительной. Эвелина приняла поводья из рук конюха и легко вскочила в седло. Она выросла в седле, и знакомое чувство – живое тепло под коленями, скрип кожи, натянутые поводья в руках – придало ей уверенности.
Они ехали молча. Сначала шагом по парковой аллее, потом рысью через поля, покрытые серебристой росой. Тишину нарушали лишь фырканье лошадей да глухой стук копыт по мягкой земле. Эвелина ехала чуть позади, наблюдая за его спиной – прямой, сильной, напряженной. Он был частью этого пейзажа, этого мира, которым владел по праву рождения. А она была здесь чужой, самозванкой, призраком из другого мира, мира подвалов и заговоров.
– Вы боитесь высоты? – спросил он неожиданно, не оборачиваясь.
– Нет, – ответила она.
– А должны бы, – он натянул поводья, останавливая коня на вершине невысокого холма, с которого открывался вид на всю долину. – Именно на вершине проще всего потерять равновесие. Внизу, в грязи, все гораздо устойчивее.
Он смотрел не на нее, а вдаль, на аккуратные квадраты полей, на дымки, поднимавшиеся из труб фермерских домов. Его слова снова были двусмысленны, снова били мимо цели и попадали точно в нее.
Она подъехала и остановилась рядом.
– Возможно, те, кто внизу, просто не стремятся на вершину, милорд. Им достаточно твердой земли под ногами.
– О, они стремятся, – усмехнулся он, наконец повернувшись к ней. – Еще как. Только они хотят не взобраться на вершину, а сровнять ее с землей, чтобы все вокруг превратилось в одну большую, ровную грязь. Они называют это равенством.
В его голосе не было злости, лишь бесконечная, холодная усталость. Он говорил о ее товарищах, о ее деле. И она вдруг поняла, что он не просто повторяет заученные фразы своего класса. Он говорил о своем брате. О том юношеском идеализме, который привел к трагедии.
– А может, они просто хотят, чтобы с вершины перестали кидать камни в тех, кто внизу? – ее голос прозвучал резче, чем она хотела.
Он посмотрел на нее долгим, пронзительным взглядом.
– Камни кидают с обеих сторон, мадемуазель. Поверьте мне. Разница лишь в том, что те, кто наверху, делают это открыто. А те, кто внизу, – из-за угла, пряча лицо. Скажите, что из этого честнее?
Она не нашла ответа. Ветер трепал выбившиеся из-под шляпки пряди ее волос. На горизонте, там, где небо сливалось с землей, собиралась темная, лиловая туча. Она росла быстро, пожирая бледную синеву утра.
– Похоже, будет дождь, – сказал он так же спокойно. – Нужно возвращаться.
Но было уже поздно. Погода изменилась с пугающей, неестественной быстротой, словно кто-то невидимый повернул гигантский рубильник. Небо потемнело, стало цвета свежего синяка. Первый порыв ветра пронесся по холмам, пригибая траву к земле и принося с собой запах озона и мокрой пыли. Первая капля была аномалией, одинокой темной монетой, ударившей ее по перчатке. Следующая была уже залпом.
Ливень обрушился на них не стеной, а потопом, мгновенно промочив тонкое сукно амазонки до нитки. Лошади занервничали, запряли ушами. Мир сузился до серой, хлещущей пелены, в которой едва можно было различить силуэт в нескольких шагах от себя.
– Сюда! – крикнул Блэквуд, перекрывая шум дождя. – Я знаю место!
Он развернул коня и пустил его галопом вдоль кромки леса. Эвелина последовала за ним, низко пригибаясь к шее лошади. Холодные струи били в лицо, слепили глаза. Она не видела, куда они скачут, доверяясь лишь темной тени впереди.
Они вылетели на небольшую поляну, в центре которой стояло полуразрушенное строение из потемневшего от времени камня и дерева. Старый охотничий домик. Крыша из дранки прохудилась в нескольких местах, одно из окон было заколочено досками. Блэквуд спешился, быстро привязал поводья своего жеребца к кольцу у входа и подошел к ней, чтобы помочь спуститься.
Ее платье намокло и стало неимоверно тяжелым. Она почти соскользнула с седла ему на руки. На мгновение он удержал ее, и она почувствовала сквозь мокрую ткань его твердые, как сталь, мышцы и жар его тела. Это длилось не дольше удара сердца, но этого было достаточно, чтобы по ее телу прошла дрожь, не имеющая отношения к холоду. Он тут же отпустил ее, и они, привязав вторую лошадь, ввалились под защиту ветхой крыши.
Внутри было темно и пахло сыростью, гниющей древесиной и призрачным ароматом давно погасших костров. Единственная комната была почти пуста: грубый стол, две скамьи и огромный, заваленный мусором камин. Сквозь дыры в крыше сочилась вода, образуя на земляном полу темные, блестящие лужи. Дождь барабанил по крыше с яростью обезумевшего барабанщика. Они оказались в ловушке. Вдвоем. В маленьком, замкнутом пространстве, отрезанные от всего мира ревущей стихией.
Эвелина стояла, обхватив себя руками, пытаясь унять дрожь. Ее волосы растрепались, вода стекала по лицу и шее, холодными ручейками забираясь под воротник. Вся ее выверенная маска аристократки, вся ее броня из вежливости и манер – все было смыто этим безжалостным ливнем. Она стояла перед ним такая, какая есть: промокшая, замерзшая и, к своему ужасу, напуганная.
Он тоже был мокрым насквозь. Темные волосы прилипли ко лбу, делая черты его лица еще более резкими, хищными. Он снял свой пиджак и, выжав его, бросил на скамью. Под тонкой белой рубашкой, ставшей почти прозрачной, угадывались контуры широких плеч и мускулистой груди. Он подошел к камину и начал разгребать старую золу, отбрасывая в сторону гнилые ветки.
– Нужно развести огонь, иначе мы заработаем воспаление легких, – сказал он деловито, не глядя на нее.
Он нашел в углу несколько сухих поленьев, оставшихся с прошлого сезона, достал из кармана брюк непромокаемый портсигар, а из него – спички. Через несколько минут в камине заплясал слабый, нерешительный огонек. Он разгорался медленно, неохотно, чадя и шипя от влаги, но постепенно пламя окрепло, и по комнате поползло живое, спасительное тепло.
Эвелина подошла ближе к огню, протягивая к нему окоченевшие руки. Она смотрела на танец пламени, на то, как оно отбрасывает на стены их искаженные, пляшущие тени. Молчание между ними стало плотным, осязаемым, оно давило на уши сильнее, чем шум дождя.
– Кто вы, Эвелина Вольская? – спросил он тихо, но его голос прорезал это молчание, как нож.
Она вздрогнула. Он впервые назвал ее по имени, без «мадемуазель». И вопрос был задан не для того, чтобы услышать заученную легенду.
– Я та, кем вы меня считаете, милорд. Сирота с континента, ищущая покровительства.
– Нет, – он шагнул к ней, встал так близко, что она почувствовала запах мокрой шерсти и тепло его тела. Он был выше ее, и ей пришлось поднять голову, чтобы встретить его взгляд. В его глазах, темных, как ночное озеро, отражались отблески пламени. – Сирота с континента не играет в вист, как стратег, готовящийся к битве. Она не взламывает замки с точностью медвежатника. И в ее глазах нет столько… – он запнулся, подыскивая слово, – столько застарелой ярости. Я видел такую ярость раньше. В глазах людей, у которых отняли все. В глазах тех, кто готов сжечь весь мир, чтобы согреться у костра.
Ее сердце остановилось, а потом забилось с бешеной силой. Разоблачение. Вот оно. Не в кабинете, не на допросе, а здесь, в этом заброшенном домике, под шум дождя. Ее палец невольно дернулся к броши.
Он заметил это движение. Его взгляд скользнул к ее воротнику, и на губах появилась едва заметная, горькая усмешка.
– Не стоит. Это было бы слишком простым решением. И для вас, и для меня.
Он протянул руку и коснулся ее щеки. Его пальцы были холодными, но ее кожа под ними горела. Он не погладил, не приласкал. Он просто держал руку, словно изучая контуры ее лица, словно пытаясь понять, что скрывается под этой бледной, фарфоровой маской.
– Вы носите свою боль, как броню, – прошептал он. – Но я вижу трещины. Я знаю, каково это – жить с призраком, который ходит за тобой по пятам и шепчет о долге и мести. Я знаю, как этот шепот отравляет все.
Он говорил о себе. О своем брате. Но каждое слово было и о ней. Он видел ее насквозь. Он не осуждал. Он… понимал. И это понимание было страшнее любой угрозы. Оно разрушало стену ее ненависти, кирпичик за кирпичиком. Эта стена была всем, что у нее было, всем, что определяло ее жизнь. Без нее она была ничем. Пустотой.
Слезы, горячие и злые, выступили у нее на глазах. Слезы ярости на него – за то, что он посмел увидеть, и на себя – за эту минутную, непростительную слабость. Она попыталась отстраниться, но он не дал, его вторая рука легла ей на талию, притягивая ближе.
– Ненависть – это самый простой путь, – его голос стал глуше, – но она сжигает изнутри дотла. Однажды ты просыпаешься и понимаешь, что от тебя осталась только оболочка, наполненная пеплом.
И тогда он поцеловал ее.
Это не было похоже ни на один из тех поцелуев, о которых она читала в романах. Это не было нежностью или соблазнением. Это был акт отчаяния. Взрыв. Столкновение двух одиночеств, двух миров, обреченных на вечную войну. Его губы были жесткими, требовательными, они не просили, а брали. В его поцелуе была вся его боль, вся его горечь, все его подавленное годами желание найти хоть кого-то, кто поймет.
На мгновение Эвелина застыла, парализованная шоком. А потом она ответила. Ответила с той же яростью, с тем же отчаянием. Она вцепилась пальцами в его мокрую рубашку, словно утопающий, хватающийся за обломок мачты посреди шторма. Это был не поцелуй любви. Это был поцелуй ненависти, поцелуй узнавания, поцелуй прощания с той, кем она была до этой минуты. Она целовала своего врага, палача, цель своего задания. И в этом поцелуе она чувствовала не отвращение, а страшное, запретное родство. Китсбитовые пластины ее корсета впились в ребра, острое напоминание о клетке, в которой она жила, о роли, которую играла. Но сейчас, в его объятиях, эта клетка, казалось, вот-вот разлетится на куски.
Он оторвался от ее губ так же внезапно, как и начал. Они стояли, тяжело дыша, в нескольких дюймах друг от друга, в оглушительной тишине, нарушаемой лишь треском огня и затихающим шумом дождя за стеной. Шторм снаружи утихал. Шторм внутри только начинался.
Он смотрел на нее, и выражение его лица изменилось. В нем больше не было ни цинизма, ни усталости. Лишь растерянность, такая же глубокая, как и ее собственная. Он, гениальный стратег, мастер манипуляций, сделал ход, которого не было ни в одном его плане. Он потерял контроль.
Он отступил на шаг, потом еще на один, разрывая эту невыносимую близость. Он провел рукой по волосам, словно пытаясь привести в порядок не только их, но и свои мысли.
– Дождь почти кончился, – сказал он хрипло, глядя в сторону двери. – Нам пора.
Обратная дорога прошла в полном молчании. Неловком, тяжелом, наполненном тем, что было сказано, и тем, что было сделано. Мир вокруг казался другим. Цвета стали ярче, воздух – прозрачнее. Эвелина смотрела на мокрую, блестящую листву, на низкие, рваные облака, бегущие по небу, и чувствовала, что смотрит на них другими глазами.
Что-то в ней сломалось. Или, наоборот, родилось. Что-то terrifying и неконтролируемое. Ее ненависть, такая ясная, такая чистая, ее путеводная звезда в мире лжи, вдруг потускнела, замутненная воспоминанием о вкусе его губ, о тепле его рук, о боли в его глазах, так похожей на ее собственную. Фундамент, на котором она строила всю свою жизнь, дал трещину. Она ехала рядом с человеком, которого поклялась уничтожить, и единственное, о чем она могла думать, – это о том, что еще никогда в своей жизни она не чувствовала себя менее одинокой, чем в том заброшенном домике, в его объятиях.
Впервые с тех пор, как она дала свою клятву над холодной могилой, она боялась не того, что ее раскроют. Она боялась не человека, которого ее послали уничтожить. Она боялась той женщины, которой становилась рядом с ним.
Цена информации
Поездка обратно в Лондон была переходом через серую, безликую пустошь, лежавшую между двумя полями сражений. В грохоте колес, отбивавших по рельсам лихорадочный, рваный ритм, Эвелина слышала отголоски биения собственного сердца в охотничьем домике. Пейзаж за окном – мокрые поля, понурые деревья, редкие фермы с дымками, похожими на предсмертные вздохи, – сливался в единое смазанное полотно, лишенное цвета и смысла. Она смотрела на него, но видела лишь отражение своего лица в стекле: бледный овал, темные провалы глаз. Незнакомка.
Воспоминание о поцелуе жило в ней отдельной, паразитической жизнью. Оно не было мыслью, которую можно отогнать; оно было фантомным теплом на губах, призрачным давлением его пальцев на талии, эхом его голоса, говорившего о трещинах в броне. Он не просто поцеловал ее. Он дал имя тому, что она так тщательно скрывала даже от самой себя. Он увидел ее, и в этом акте узнавания было и спасение, и окончательное, безоговорочное поражение.
Всю дорогу она готовилась ко встрече с Казимиром. Она репетировала слова, выстраивала интонации, оттачивала выражение лица перед своим отражением в оконном стекле. Это было похоже на работу реставратора, пытающегося заделать пробоину в старинной картине. Она брала яркие, грубые краски своей легенды – ненависть, долг, месть – и пыталась замазать ими тончайший, едва проступивший на холсте новый образ, написанный дождем, огнем и отчаянием. Она должна была лгать. Но впервые в жизни эта ложь была направлена не вовне, а внутрь. Она должна была вырезать часть своей собственной памяти, ампутировать несколько часов, которые изменили все, и представить Казимиру аккуратно препарированный, стерильный отчет.
Условный знак ждал ее, засунутый за водосточную трубу в условленном переулке близ Флит-стрит. Сложенный вчетверо листок дешевой бумаги с одним-единственным словом: «Переплетчик». И время. До встречи оставался час. Этого было достаточно, чтобы сбросить одну кожу и облачиться в другую. В грязной уборной на задворках какой-то типографии она переоделась в серое, невзрачное платье, спрятав дорожный костюм в саквояж. Она убрала волосы под простой чепец, стерла с лица последние следы аристократической бледности, слегка испачкав щеку сажей. Трансформация была завершена. Элегантная гостья графа Стерлинга умерла, уступив место незаметной городской тени.
Переплетная мастерская пряталась в глубине двора-колодца, куда почти не проникал дневной свет. Воздух здесь был густым, тяжелым, пропитанным запахами старой бумаги, клея на рыбьей кости и выделанной кожи. Запах тлена и мудрости. Вдоль стен громоздились до потолка стеллажи, забитые книгами в разных стадиях своего существования: разрозненные, растрепанные листы, сшитые блоки, фолианты в тисненых кожаных переплетах, похожие на надгробные плиты. В центре комнаты стоял огромный пресс, напоминавший орудие пытки.
Казимир сидел за рабочим столом в дальнем углу, при свете зеленой лампы. Он не переплетал книгу. Он чинил ее. Его длинные, сухие пальцы с ювелирной точностью прошивали иглой пожелтевшие страницы. Он казался неотъемлемой частью этого места, таким же древним, высушенным временем, как и фолианты вокруг него. Он поднял голову, когда она вошла, и его глаза в тени абажура блеснули, как два осколка обсидиана.
– Ты принесла вести, дитя, или только запах аристократических духов? – спросил он, не прекращая работы. Игла мерно входила и выходила из ветхой бумаги.
– Я принесла факты, – Эвелина подошла и положила на стол небольшой сверток. – И они пахнут не духами, а пылью и выцветшими чернилами.
Она развернула сверток. Внутри лежали несколько листов, исписанных ее убористым почерком. Это были скопированные страницы из дневника Эдварда Блэквуда. Она решила, что эта информация, реальная и осязаемая, станет лучшим дымовым занавесом для ее умолчаний.
Казимир отложил шитье и взял листы. Он читал медленно, внимательно, его губы беззвучно шевелились. Эвелина стояла напротив, чувствуя себя подсудимой, ожидающей приговора. Она рассказала ему все, что решила рассказать: о гостях в поместье, о разговорах за ужином, о структуре дома. И, наконец, о ночном визите в кабинет. Она описала это как рискованную, но успешную вылазку. Она ни словом не обмолвилась о том, что Блэквуд застал ее. В ее версии она была призраком, скользнувшим и исчезнувшим незамеченным.
– «Свобода – это не отсутствие цепей, а состояние духа, не знающего оков», – прочел Казимир вслух одну из цитат и усмехнулся. – Возвышенная чушь. Мальчишка начитался Руссо и вообразил себя поэтом. Это все, что ты нашла? Юношеские бредни?
– Это – ключ к его брату, – ровным голосом возразила Эвелина. – А брат – это его рана. Его слабость.
– Слабость? – Казимир поднял на нее взгляд, и в его глазах не было ничего, кроме холодной оценки. – Ты принесла мне стихи, Лина. А я просил у тебя ключи от его сейфа. Ты принесла мне психологический портрет покойника, а мне нужны маршруты патрулей Особого отдела. Эта информация бесполезна. Она не остановит ни одной пули, не вскроет ни одного замка.
Его слова были как мелкие, острые камни. Он был недоволен. Хуже – он был разочарован. Она ожидала этого, но все равно почувствовала укол холода в груди.
– Я получила доступ в его кабинет. Это только начало, – попыталась защититься она. – Он начинает мне доверять. Я видела план дома, расположение комнат…
– Ты видела то, что он позволил тебе увидеть, – перебил он ее. – Не будь наивна. Этот человек не оставляет на столе ничего, что не предназначено для чужих глаз. Ты думаешь, ты обвела его вокруг пальца? Скорее, он водил тебя на поводке, как ручную борзую, любуясь твоим изяществом и зная, что в любой момент может сжать ошейник.
Каждое его слово било в цель, потому что было правдой. Он не знал, что произошло, но интуиция фанатика, его звериное чутье на любую фальшь, подсказывала ему, что что-то не так. Он видел перед собой не ту Лину, которую отправлял в это змеиное гнездо. Та была из стали и льда. В этой же появилось что-то новое – хрупкость, неуверенность, которую она отчаянно пыталась скрыть.
– Что еще? – он отложил листы в сторону. – Кроме этих сантиментов. Что ты почувствовала? Каков он вблизи?
Вот он, тот же вопрос, что и в прошлый раз. Вопрос-щуп, проникающий под ребра.
– Он умен. Наблюдателен. И очень устал, – сказала она, решив, что доля правды сделает ложь убедительнее. – Он играет свою роль так же, как и я. Под маской цинизма скрывается…











