Читать онлайн Сердце эмигранта
- Автор: Маргарита Корвин
- Жанр: Исторические любовные романы, Исторические приключения, Исторические детективы
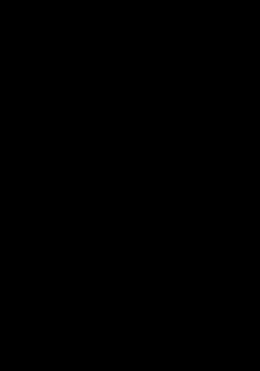
Чернила на шелке
Сырой парижский ноябрь сочился сквозь неплотно прикрытую раму, принося с собой запах мокрого камня и гниющих листьев из сада Тюильри. Этот запах, въедливый и меланхоличный, стал для Елены запахом ее новой жизни – жизни, выкроенной из чужих лоскутов, сшитой наспех грубыми стежками необходимости. В гостиной особняка де Валуа на рю де Риволи пахло иначе: вощеной древесиной, увядающими в японской вазе хризантемами и едва уловимой нотой дорогих сигар мсье Этьена. Здесь воздух был густым и неподвижным, как вода в заросшем пруду, и дышать им Елене всегда было трудно.
«А теперь, Софи, покажи мне на карте реку, которую называют сердцем Франции», – произнесла она ровным, бесцветным голосом, тем самым голосом, который она выработала для этого дома. Голосом гувернантки. Мадемуазель Элен.
Восьмилетняя Софи, живое, порывистое создание с глазами цвета фиалок, ткнула тонким пальчиком в синюю извилистую линию, пересекавшую глянцевую поверхность карты. «Сена! C'est la Seine, Mademoiselle!»
«Верно, – кивнула Елена, и ее отражение в полированном дереве стола кивнуло в ответ: строгая фигура в темно-сером платье с белым воротничком, гладко зачесанные темные волосы, собранные в тугой узел на затылке. Лицо-маска, безупречное и непроницаемое. – А теперь найди город, где Сена впадает в море».
Ее собственный город лежал далеко отсюда, за тысячами верст лживых границ и пролитой крови. Он стоял на другой реке, скованной льдом по полгода, и его гранитные набережные помнили стук копыт и шелест бальных платьев. Иногда по ночам, когда тишина в мансарде становилась особенно оглушительной, она слышала плеск невской воды, темной и тяжелой, как расплавленный свинец. Воспоминания приходили без спроса, острые, как осколки разбитого зеркала, и каждое ранило по-своему.
Софи что-то лепетала про Гавр, про большие корабли, уходящие в Америку, но Елена уже не слушала. Ее взгляд скользил по золотому тиснению на корешках книг в застекленном шкафу. Мольер, Расин, Корнель. Французская классика, незыблемая, как своды Нотр-Дама. В ее прошлой жизни, в отцовской библиотеке, тоже стояли эти тома, только рядом с ними соседствовали Пушкин и Лермонтов, Достоевский и Толстой. Там книги пахли кожей, пылью и ее детством. Здесь они не пахли ничем. Они были частью интерьера, как и она сама.
Дверь гостиной бесшумно отворилась, и на пороге возник мсье Этьен де Валуа. Высокий, сухой, с лицом, будто высеченным из желтоватого мрамора. Он не вошел – он занял пространство, и воздух в комнате тотчас уплотнился, стал еще более разреженным.
«Софи, твоя мать ждет тебя. Урок окончен», – его голос был подобен звуку закрывающегося сейфа.
Девочка встрепенулась, бросила на Елену быстрый, извиняющийся взгляд и выскользнула из комнаты. Мсье де Валуа задержался на мгновение, его холодные глаза, цвета старого серебра, впились в Елену.
«Мадемуазель, – начал он, и в его тоне не было вопроса, лишь констатация факта, – я надеюсь, вы помните, что жалованье прислуги не предполагает использования каминного отопления в ваших комнатах. Ноябрь в этом году выдался теплый».
Он не ждал ответа. Он просто вынес приговор, обозначил ее место. Бесправная тень, согреваемая лишь милостью хозяев. Елена склонила голову в безмолвном согласии. Слова застревали в горле, колючие, как еловые иглы. Слова о том, что ночами в ее каморке под самой крышей ледяные сквозняки гуляют так, что зуб на зуб не попадает, а вода в кувшине под утро покрывается тонкой пленкой льда. Но такие слова здесь были неуместны. Они принадлежали другому миру, миру, где холод был не просто погодой, а состоянием души.
Когда его шаги затихли в коридоре, она медленно подошла к окну. Париж тонул в лиловых сумерках. Внизу зажигались огни – тысячи золотых искр, рассыпанных по бархату вечера. Город огней, джаза и потерянного поколения. Для нее он был городом теней, городом, где ее собственная тень становилась все длиннее и прозрачнее с каждым днем. Она смотрела на проезжающие автомобили, на спешащих под зонтами прохожих, и чувствовала себя запертой в аквариуме, отделенной от этой кипучей, чужой жизни невидимым стеклом.
Ужин в доме де Валуа был ритуалом, отточенным до мелочей. Серебро тускло поблескивало на накрахмаленной скатерти, в хрустальных бокалах дрожали рубиновые отсветы вина. Мадам Колетт де Валуа, хрупкая, как севрская статуэтка, говорила о новой выставке в галерее «Бернэм-Жён», мсье Этьен отвечал односложно, не отрываясь от своего супа-консоме. Софи, сидевшая рядом с Еленой, ерзала на стуле. Елена ела медленно, механически, не чувствуя вкуса. Она была здесь лишь для того, чтобы следить за манерами девочки, быть частью безмолвного антуража. Ее присутствие было таким же естественным и незаметным, как присутствие фарфоровой супницы на столе. Она слушала их французскую речь, плавную и отточенную, и думала о том, как коверкают этот язык русские таксисты на стоянках у оперá, как они вставляют в него русские слова, создавая странный, уродливый гибрид, язык изгнания.
Наконец, пытка закончилась. Уложив Софи спать и пожелав ей спокойной ночи, Елена поднялась по узкой винтовой лестнице для прислуги в свою мансарду. С каждой ступенькой она сбрасывала с себя оцепенение дня. Здесь, под самой крышей, среди гулких сквозняков и запаха пыли, она переставала быть мадемуазель Элен. Она снова становилась Еленой Волковой. И кем-то еще.
Ее комната была крошечной, со скошенным потолком, в который почти упиралась железная кровать. Единственное окно выходило на лабиринт мокрых парижских крыш. Она зажгла огарок свечи, и по стенам заплясали уродливые тени. Первым делом она распустила волосы. Тяжелая темная волна упала ей на плечи, и это было похоже на освобождение. Она сняла серое платье-униформу и надела старую, заштопанную фланелевую кофту.
Под кроватью, в пожелтевшем картонном чемодане, хранилось ее единственное достояние. Не фамильные драгоценности, проданные за бесценок еще в Константинополе, не уцелевшие фотографии, от которых слишком больно щемило сердце. Там лежала толстая стопка исписанных листов.
Она достала их с благоговением, как священник достает дароносицу. Села за шаткий столик, пододвинула свечу. На верхнем листе твердым, угловатым почерком, совсем не похожим на ее собственный бисерный, было выведено имя: Игорь Воронов.
Игорь. Ее щит. Ее свобода. Ее проклятие.
Он родился из боли и одиночества той первой страшной зимой в Париже, когда голод был не метафорой, а ледяными тисками, скручивавшими желудок. Когда она, бывшая княжна Волкова, читавшая в подлиннике Вергилия, мыла полы в грязном бистро за тарелку лукового супа. Тогда слова начали приходить сами, как бред, как лихорадка. Жесткие, горькие, мужские слова. О потерянной чести, о снегах, пропитанных кровью, о небе Родины, которое видишь, лишь закрыв глаза. Елена, воспитанная в Смольном, не могла писать так. А Игорь Воронов – мог. Бывший офицер, прошедший ад Гражданской войны, разочарованный, надломленный, но не сломленный. Он был квинтэссенцией всего того, что она видела в глазах русских мужчин на улицах Парижа. Он был их общим голосом.
Она взяла перо, обмакнула его в дешевые фиолетовые чернила. Холод пробирал до костей, пальцы коченели, но она не замечала этого. Свеча бросала на бумагу дрожащий свет. И началось таинство. Строки ложились на бумагу, одна за другой, ровные, чеканные. Это был не ее голос, тихий и подавленный. Это был голос Игоря – хриплый, сильный, не боящийся ни боли, ни правды.
…И город сей, чужой гранитный рай,
Мне шепчет: «Сдайся, прошлое забудь».
Но каждый камень здесь кричит: «Вставай!» —
И в сердце бьет заснеженную муть…
Она писала, забыв о времени, о холоде, о завтрашнем дне, который снова принесет уроки, равнодушные взгляды и унизительную зависимость. Здесь, в этом крохотном мирке, освещенном пламенем свечи, она была всемогуща. Она творила миры, она воскрешала мертвых, она говорила с Богом и с дьяволом от имени целого поколения, выброшенного на обочину истории.
Когда последняя строчка легла на бумагу, она откинулась на спинку стула, совершенно опустошенная. Пламя свечи заколебалось от ее дыхания. На столе лежала готовая рукопись. «Пепел и снег». Она перебирала листы, и ей казалось, что она держит в руках свое собственное сердце, еще теплое, вырванное из груди. В этих стихах была вся она: ее тоска, ее гордость, ее невыплаканные слезы.
И тут ее взгляд упал на обрывок вчерашней газеты «Le Figaro», в который была завернута купленная на рынке луковица. Маленькое объявление в разделе культурной хроники. «Молодое издательство «Éditions Moreau», возглавляемое Жаном-Люком Моро, ищет новые имена, способные отразить дух нашего времени. Мы открыты для смелых и бескомпромиссных голосов».
Сердце пропустило удар, а затем забилось часто-часто, как пойманная птица. «Éditions Moreau». Она слышала это имя. Говорили, что этот Моро – чудак, идеалист, ищущий не выгоду, а гениев. Говорили, что он готов рисковать.
Безумная, отчаянная мысль, до сих пор таившаяся в самых темных глубинах ее сознания, вдруг вырвалась на поверхность. Отправить. Отправить рукопись. Не для славы, нет. А просто чтобы узнать – имеет ли ее боль, переплавленная в слова, хоть какую-то ценность в этом мире? Существует ли она на самом деле, или все это лишь бред замерзающей женщины в холодной мансарде?
Страх ледяной волной прокатился по телу. Кто она такая? Гувернантка. Русская эмигрантка с нансеновским паспортом, документом, который был скорее клеймом, чем удостоверением личности. А если раскроется обман? Если они узнают, что Игорь Воронов – это она? Позор, скандал, потеря места… Потеря всего того ничтожного, что у нее еще оставалось.
Но потом она посмотрела на рукопись. На эти листы, пропитанные ее жизнью. И поняла, что страх потерять это – сильнее. Оставить их здесь, в картонном чемодане, где они истлеют вместе с ней, – это было бы настоящим предательством. Предательством Игоря, который дал ей силы выжить.
Решение пришло внезапно, как вспышка молнии. Она не дала себе времени на раздумья, на сомнения. Движения ее стали быстрыми и точными. Она выбрала лучшие, самые чистые листы, аккуратно сложила их. Написала сопроводительное письмо. Короткое, сухое, от лица Игоря Воронова. «Милостивый государь. Предлагаю вашему вниманию рукопись моих стихов. С уважением, И. Воронов». Ни адреса, ни просьб. Лишь гордое и отчаянное предложение.
Она нашла большой конверт из плотной бумаги, вложила туда рукопись. Написала адрес издательства, который запомнила из газеты. Теперь нужно было его отправить. Не завтра, не послезавтра. Сейчас. Пока не вернулся страх.
Тихо, как мышь, она выскользнула из своей комнаты. Лестница для прислуги скрипела под каждым ее шагом, и звуки эти казались ей оглушительными в ночной тишине дома. Она затаила дыхание, миновала кухню, где пахло остывшим ужином и мышами. Засов на задней двери поддался с тяжелым стоном.
Ночь встретила ее влажным холодом. Улицы были пустынны, лишь редкие фонари выхватывали из темноты мокрую брусчатку, блестевшую, как чешуя гигантской рыбы. Она шла быстро, почти бежала, прижимая к груди драгоценный конверт, словно боялась, что его вырвут у нее из рук ночные призраки. Она чувствовала себя заговорщицей, преступницей, идущей на самое дерзкое дело в своей жизни.
Почтовый ящик нашелся на углу улицы. Синий, металлический, он казался в свете фонаря каким-то зловещим истуканом, требующим жертвы. Елена на мгновение замерла. Это была последняя граница. За ней – неизвестность. Она могла еще повернуть назад, вернуться в свою каморку, спрятать рукопись и жить дальше своей тихой, беспросветной жизнью.
Но она посмотрела на свои руки, державшие конверт. Тонкие, с обломанными ногтями, испачканные чернилами. Руки аристократки, научившиеся работать. И руки поэта. Она вспомнила холодное лицо мсье де Валуа, его слова о камине. И поняла, что больше так не может. Эта рукопись была не просто стихами. Это был ее бунт. Ее единственный выстрел в равнодушное лицо судьбы.
С резким выдохом она опустила конверт в щель. Он провалился внутрь с глухим, окончательным стуком. Все. Пути назад не было.
Она стояла еще несколько минут, вслушиваясь в тишину. Ничего не изменилось. Париж спал. Мир не перевернулся. Но она знала, что для нее этой ночью изменилось все.
Возвращаясь обратно, она уже не бежала. Она шла медленно, вглядываясь в темные окна домов. Она совершила поступок. Впервые за долгие годы она не просто выживала – она действовала. Что будет дальше, она не знала. Может быть, ничего. Может быть, ее рукопись выбросят, не дочитав. А может быть…
В своей комнате она подошла к окну. Вдали, над крышами, занимался бледный, болезненный рассвет. Город медленно проступал из ночного мрака. Она поднесла пальцы к губам. Они все еще пахли сургучом и дешевыми чернилами. Чернилами на шелке ее истерзанной души. И в этом запахе была горечь, страх и крошечная, почти безумная надежда.
Золотая клетка на рю де риволи
Утро после ее ночной вылазки ничем не отличалось от сотен других. Тот же опалесцентный свет, просачивающийся сквозь муслиновые занавеси, тот же отдаленный гул просыпающегося города, тот же условный стук горничной в дверь. Мир не заметил ее преступления. Но когда Елена спускалась по парадной лестнице, касаясь кончиками пальцев холодной, отполированной до блеска меди перил, она чувствовала, как изменилась сама. Словно внутри нее теперь был натянут невидимый нерв, тонкая струна, вибрирующая от каждого звука, каждого взгляда. Ее тайный поступок не оставил следов на мокрой брусчатке, но выжег клеймо на ее душе.
Завтрак в доме де Валуа проходил в малом обеденном зале, выходившем окнами в сад. Тишина здесь была не умиротворяющей, а звенящей, наполненной невысказанными упреками и застарелым раздражением. Мсье Этьен читал финансовую газету, и шелест переворачиваемых страниц звучал громче, чем звон серебряных ложечек о тонкий лиможский фарфор. Мадам Колетт, бледная и отстраненная, крошила круассан на мелкие кусочки, но почти не ела, ее взгляд блуждал где-то поверх идеально подстриженных тисовых изгородей. Софи, сидевшая рядом с Еленой, сосредоточенно выкладывала изюминки из своей булочки в геометрический узор.
Елена чувствовала себя призраком за этим столом. Ей полагался кофе и простой хлеб с маслом – диета, подобающая ее положению. Роскошь этого дома была для нее декорацией, в которой она исполняла свою роль. Запах свежесваренного кофе, аромат апельсинового джема, блеск фамильного серебра – все это было частью мира, к которому она не имела доступа. Это был тщательно выстроенный спектакль о благополучии, и ее задача была проста: не нарушать мизансцену. Она пила свой кофе мелкими, размеренными глотками, ощущая на себе тяжелый, оценивающий взгляд мсье де Валуа. Он не смотрел на нее прямо, но она чувствовала его внимание, как физическое давление, как холодный сквозняк у затылка. Он был хозяином этой золотой клетки, и каждый прутик в ней был выкован из его воли.
«Софи, – произнес он, не опуская газеты, и его голос разрезал тишину, как скальпель, – я надеюсь, мадемуазель объяснила тебе разницу между Меровингами и Каролингами. В твоем возрасте уже пора понимать основы истории собственной страны».
«Да, папа, – пискнула Софи, роняя изюминку. – Хлодвиг крестился, а Карл Великий стал императором».
«Превосходно, – сухо обронил мсье де ВалуА. – Значит, уроки мадемуазель не проходят впустую».
В его словах не было похвалы, лишь едва прикрытое сомнение, тонкий яд, рассчитанный на то, чтобы напомнить Елене о ее подотчетности, о том, что ее пребывание здесь – не право, а милость, которую в любой момент могут отнять. Елена ничего не ответила, лишь слегка сжала под столом свои холодные пальцы. Она знала эту игру. Каждое утро он находил способ уколоть ее, утвердить свою власть, провести невидимую черту между своей семьей и наемной прислугой. И каждый раз она проглатывала унижение, сохраняя на лице маску бесстрастного спокойствия. Эта маска была ее единственной броней.
После завтрака они с Софи поднялись в классную комнату. Это было самое светлое помещение в доме, с высоким окном и белой мебелью, но для Елены оно было таким же узилищем, как и весь особняк. Здесь она должна была вкладывать в голову французской девочки знания, которые в ее собственной жизни оказались бесполезным балластом.
Сегодня по расписанию была география. Они разложили на столе большую карту Европы. Границы на ней были новыми, перекроенными Версальским договором, рубцами, оставшимися после великой войны.
«Вот это Франция, видишь? – вела Елена указкой по знакомым очертаниям. – Наша страна. А это – Англия, отделенная проливом. А это – Германия…»
Ее голос был ровным, но внутри все сжималось. Она смотрела на огромное пятно на востоке, залитое блекло-розовой краской и подписанное четырьмя буквами: U.R.S.S. Союз Советских Социалистических Республик. Чужое, уродливое, казенное название, похожее на тюремный номер. Там, под этой лживой аббревиатурой, была похоронена ее страна, ее Россия. Там остались заснеженные поля под Псковом, где стояло их имение, остались гранитные набережные Петербурга, могилы ее отца и брата. Для Софи это была просто часть карты, абстрактное пространство. Для Елены – незаживающая рана, фантомная боль ампутированной души.
«А почему Россия такая большая? – спросила Софи, обводя пальчиком громадную территорию. – Там живет много людей?»
Елена на мгновение замолчала, подбирая слова. Как объяснить этому безмятежному ребенку, что такое Россия? Что это не просто земля, а целая вселенная, стихия, где метель может завывать неделями, где лето пьянит ароматом луговых трав, где люди умеют любить и ненавидеть с одинаковой, испепеляющей силой.
«Да, Софи. Очень много. И земля там… другая. Не такая, как здесь. Там огромные леса, где можно заблудиться, и реки, такие широкие, что не видно другого берега. И снег зимой лежит так глубоко, что дома утопают в нем по самые крыши».
Она говорила, и перед ее внутренним взором вставали картины прошлого. Зимний вечер в Волкове. Огромный, гудящий пламенем камин. Отец читает вслух Диккенса, его низкий голос смешивается с воем вьюги за окном. Мать вышивает на пяльцах, и серебряная игла порхает в ее тонких пальцах, как мотылек. Старший брат, Алексей, чистит охотничье ружье, и в комнате пахнет порохом и оружейным маслом. Мир, казавшийся вечным, незыблемым, как гранитные устои Троицкого моста. Мир, который рассыпался в прах за несколько страшных дней.
«Мадемуазель? Вы плачете?» – тихий голос Софи вернул ее в действительность.
Елена коснулась щеки. Она была влажной. Она даже не заметила, как по лицу скатилась одинокая слеза.
«Нет, милая, – она торопливо смахнула ее. – Просто что-то попало в глаз. Давай вернемся к нашему уроку. Столица Франции – Париж. А столица…» – она запнулась, язык не поворачивался произнести новое, чужое имя. «…столица России – Москва».
Она заставила себя продолжить урок, но слова казались ей пустыми, выхолощенными. Она говорила о реках и горах, а думала о том, что ее собственная жизнь превратилась в пустыню, где редкие оазисы воспоминаний лишь подчеркивали бескрайность окружающего ее песка. Роскошь дома де Валуа была миражом в этой пустыне. Бархат портьер, прохлада шелковых простыней, изысканность подаваемых блюд – все это было ненастоящим, чужим. Ее истинным достоянием была нищета ее внутреннего мира, выжженного потерей, и богатство памяти, которое никто не мог у нее отнять.
После обеда у Софи был урок музыки с приходящей учительницей, и у Елены выдался свободный час. Она поднялась в библиотеку, чтобы взять для девочки книгу. Библиотека в доме де Валуа была гордостью хозяина. Идеальные ряды корешков в кожаных переплетах с золотым тиснением стояли за стеклянными дверцами, как солдаты на параде. Это была не живая коллекция, собиравшаяся поколениями, а тщательно подобранное вложение капитала. Здесь не было потрепанных томиков, зачитанных до дыр, не было случайных книг, купленных по велению сердца. Только выверенная классика, только имена, прошедшие проверку временем.
Елена отперла один из шкафов и принялась искать что-нибудь из Жюля Верна. Ее пальцы скользили по гладким, холодным корешкам. Расин, Корнель, Вольтер, Руссо. И вдруг она замерла. Среди безупречного строя французских классиков она увидела знакомое имя, вытисненное кириллицей. Лермонтов. «Герой нашего времени». Книга была на русском, в старом дореволюционном издании.
Как она сюда попала? Может быть, подарок кого-то из русских клиентов мсье де Валуа? Елена с трепетом, словно боясь обжечься, достала том. Она открыла его наугад и вдохнула едва уловимый, почти исчезнувший запах русской типографской краски.
«…Я был готов любить весь мир, – меня никто не понял: и я выучился ненавидеть».
Строки ударили ее, как пощечина. Она стояла посреди этой чужой, холодной роскоши и держала в руках осколок своего мира, голос своей Родины. Она так жадно впилась глазами в знакомые буквы, что не услышала, как дверь библиотеки бесшумно отворилась.
«Находите что-то интересное, мадемуазель?»
Голос Этьена де Валуа заставил ее вздрогнуть. Она обернулась. Он стоял на пороге, заложив руки за спину, и смотрел на нее своим непроницаемым взглядом. В его глазах не было ни удивления, ни гнева – лишь холодное, препарирующее любопытство.
Елена почувствовала, как кровь отхлынула от ее лица. Она была застигнута врасплох, с поличным. Не в краже серебряной ложки, нет, в чем-то гораздо худшем в глазах этого человека – в проявлении своей сущности, своей русскости, которую она так тщательно скрывала под маской безупречной французской гувернантки.
«Простите, мсье, – пролепетала она, торопливо ставя книгу на место. – Я искала книгу для Софи и случайно…»
«Случайно наткнулись на варварскую литературу в моем доме?» – он медленно подошел ближе. Он не повышал голоса, но его тихие слова звенели угрозой. Он взял с полки тот самый том Лермонтова, повертел его в руках, словно какую-то диковинную, но потенциально опасную вещь. «Я смотрю, вы читаете по-русски. Впрочем, это неудивительно».
Он открыл книгу, брезгливо перелистал несколько страниц, словно боясь испачкаться. «Ах, эта знаменитая славянская меланхолия. Вечные страдания, поиски смысла, вселенская тоска. Очень утомительно. Мы, французы, предпочитаем ясность и логику. Разум превыше чувств. Это то, что создало нашу цивилизацию».
Он говорил не ей, а скорее самому себе, вынося приговор целому миру, о котором не имел ни малейшего понятия. Для него ее прошлое, ее культура, ее боль были лишь экзотическим курьезом, не более.
«Я держу эту книгу как пример, – продолжал он, ставя том на место с отчетливым стуком, – пример того, к чему приводит избыток души и недостаток дисциплины. К хаосу и разрушению. К революциям». Он повернулся к ней, и его глаза, цвета замерзшего пруда, впились в нее. «Ваше прошлое, мадемуазель, – это ваше личное дело. Но в стенах этого дома я требую от вас одного – полного соответствия французским стандартам поведения и мышления. Софи должна вырасти настоящей француженкой, свободной от… чужеродных влияний. Вы меня понимаете?»
Это был не вопрос. Это был приказ. Ультиматум. Он требовал, чтобы она отказалась от себя, чтобы ампутировала свою память, свою душу, и стала безупречным механизмом для воспитания его дочери.
«Да, мсье, – прошептала Елена, опустив глаза. – Я понимаю».
«Вот и хорошо, – он кивнул, удовлетворенный. – Возьмите для Софи «Вокруг света за восемьдесят дней». Это полезное чтение. Оно учит предприимчивости и точности, а не бессмысленному самокопанию».
С этими словами он вышел, оставив за собой шлейф холодного одеколона и звенящей тишины. Елена еще долго стояла не в силах пошевелиться. Унижение было таким острым, таким концентрированным, что у нее перехватило дыхание. Он не просто указал ей на ее место. Он вторгся в ее святая святых, в ее внутренний мир, и растоптал там все своими лакированными ботинками. Он показал ей, что даже ее мысли, ее чувства, ее память ему не принадлежат, пока она живет в его доме. Она была вещью, частью обстановки, и если эта вещь проявляла признаки самостоятельной жизни, ее немедленно ставили на место. Золотая клетка захлопнулась с оглушительным лязгом.
Она механически взяла с полки Жюля Верна и вышла из библиотеки. Ей нужно было на воздух. Она спустилась в сад. Сад был безупречен, как и все в этом доме. Ровные дорожки, посыпанные гравием, геометрически правильные клумбы, фонтан в центре, где пухлый амур тщетно пытался поймать каменную рыбу. Ни одного лишнего листка, ни одной дикой травинки. Природа, укрощенная, подчиненная человеческой воле. Здесь даже воздух казался дистиллированным.
Она села на холодную мраморную скамью и закрыла глаза. И тут же, как всегда, пришло спасение. Память. Она увидела другой сад, запущенный, одичавший, в их имении. Заросли сирени и жасмина, крапива в человеческий рост, старые яблони, скрюченные, как старухи. И в этом запустении было больше жизни, больше правды, чем во всей этой выхолощенной парижской красоте. Она вспомнила, как они с Алексеем детьми прятались в этих зарослях, как ели с куста кислый, недозрелый крыжовник, как лежали в высокой траве, глядя в бездонное русское небо, по которому плыли облака, похожие на сказочных зверей.
Эта память была ее единственной свободой. Мсье де Валуа мог запретить ей читать русские книги, он мог заставить ее говорить по-французски без акцента, он мог контролировать каждый ее шаг. Но он не мог отнять у нее это. И он не мог знать о рукописи, которая сейчас лежала в синем почтовом ящике где-то на улицах Парижа. О голосе Игоря Воронова, который был ее бунтом, ее местью за все унижения.
Мысль о рукописи обожгла ее. Что с ней стало? Ее уже прочли? Или выбросили в корзину, как и тот том Лермонтова, который мсье де Валуа считал образцом дурного вкуса? Прошли всего сутки, но ожидание уже превратилось в тихую пытку. Каждый раз, когда в холле раздавался звонок, ее сердце замирало. Каждый раз, когда она видела проходящего по улице почтальона, у нее перехватывало дыхание. Она жила в двух реальностях. В одной она была бесправной гувернанткой, мадемуазель Элен. В другой – она была автором рукописи, бросившей вызов этому миру. И эти две реальности вот-вот могли столкнуться.
Она открыла глаза. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо в нежные акварельные тона. В окнах особняка зажегся свет. Пора было возвращаться в клетку. Пора было идти помогать Софи готовиться к ужину, улыбаться, говорить правильные слова, снова надевать свою маску.
Поднимаясь по лестнице, она думала о том, что мсье де Валуа был прав в одном. Избыток души в его мире был опасен. Он был болезнью, которую нужно было скрывать, как постыдный недуг. Но ее душа, душа Елены Волковой, не желала умирать. Она пряталась, она затаилась, она надела мужское имя, как кольчугу. И она ждала. Ждала ответа из того, другого Парижа, который жил за стенами этого дома. Парижа поэтов, художников и мечтателей. Парижа, где, может быть, ее голос все-таки будет услышан.
Письмо с неизвестным адресом
Неделя сменилась другой, ноябрь перетек в декабрь, роняя на парижские тротуары ледяную изморось. Надежда, та отчаянная и дерзкая искра, что заставила ее бросить письмо в темную пасть почтового ящика, давно угасла, оставив после себя лишь горький привкус золы. Молчание издательства было красноречивее любого отказа. Оно было холодным, безразличным, как взгляд мсье де Валуа. Оно говорило ей то, что она и так знала: ее боль, ее слова, ее вымышленный Игорь Воронов – все это лишь пыль, невидимая и никому не нужная. Жизнь в особняке на рю де Риволи вошла в свою привычную колею, размеренную и удушливую, как тиканье часов в пустой комнате.
Елена научилась измерять дни не датами, а оттенками серого неба за окном классной комнаты. Она объясняла Софи спряжение неправильных глаголов, а сама спрягала в уме глагол «забыть» – в прошедшем, настоящем и будущем времени. Забыть снег, забыть дом, забыть лицо матери. Ничего не выходило. Прошлое жило в ней, как хроническая, ноющая болезнь, обострявшаяся по ночам. Разговор в библиотеке с мсье де Валуа стал невидимой стеной между ними. Теперь он следил за ней с удвоенным, бдительным вниманием, словно опасаясь, что русская тоска заразна и может инфицировать его дочь или, что хуже, его безупречный паркет.
Приближалось Рождество. Витрины на Больших бульварах вспыхнули гирляндами огней, запахло жареными каштанами и хвоей. Для Елены этот чужой, сияющий праздник был лишь очередным напоминанием об утрате. Она вспоминала Рождество в Волкове: огромную ель в белом зале, запах восковых свечей и апельсинов, смех и гомон гостей. Здесь, в Париже, мадам Колетт уже начала составлять списки подарков и обсуждать меню для рождественского ужина, а Елена чувствовала, как ледяное кольцо одиночества сжимается вокруг ее сердца все туже. Ее единственной отдушиной оставалась Софи. Девочка, с ее непосредственной привязанностью и живым любопытством, была тем тонким лучиком, что пробивался сквозь свинцовые тучи ее существования.
В тот день почту принесли, как обычно, во время завтрака. Батист, пожилой дворецкий с лицом, похожим на печеное яблоко, разложил на серебряном подносе письма и газеты перед мсье де Валуа. Елена механически отпила глоток остывшего кофе, глядя, как хозяин дома вскрывает конверты своим перламутровым ножом. Деловые бумаги, счета, приглашения. Ничего, что могло бы ее касаться. Она уже давно перестала ждать.
«Мадемуазель», – голос Батиста прозвучал неожиданно близко.
Она подняла глаза. Дворецкий стоял рядом с ней, протягивая ей один-единственный конверт.
«Это вам».
На мгновение мир замер. Все звуки – звон ложечки мадам Колетт, шелест газеты в руках мсье Этьена, даже щебетание воробьев за окном – смолкли. Елена смотрела на прямоугольник плотной кремовой бумаги в руках Батиста, и ей казалось, что она видит не письмо, а какой-то опасный, неведомый предмет, выброшенный на берег из другого мира.
Ее имя, «Mademoiselle Hélène Volkova», было выведено каллиграфическим, но энергичным почерком. А под ним, строчкой ниже, почти как приписка: «pour M. Igor Voronoff». Для господина Игоря Воронова.
Кровь отхлынула от ее лица так стремительно, что в ушах зазвенело. Она почувствовала, как на нее устремился взгляд мсье де Валуа, острый, как острие того самого перламутрового ножа.
«У вас есть корреспонденция, мадемуазель? – спросил он с холодным любопытством. – От кого же, позвольте узнать?»
Паника, липкая и холодная, подступила к горлу. Мозг лихорадочно искал ответ, правдоподобную ложь.
«Я… я не знаю, мсье, – прошептала она, и ее собственный голос показался ей чужим. – Возможно, из комитета помощи русским беженцам. Я оставляла им свои данные».
Это было слабо, неубедительно, но лучшего она придумать не могла. Она взяла конверт. Пальцы не слушались, они были деревянными, чужими. Бумага была теплой, почти живой. На обратной стороне, на клапане, стоял оттиск: витиеватые буквы «É. M.» – Éditions Moreau. Сердце, до этого замершее, сделало отчаянный, болезненный рывок и забилось в горле, мешая дышать.
Мсье де Валуа хмыкнул и вернулся к своим бумагам. Опасность миновала, но Елена чувствовала его взгляд на себе до конца завтрака. Она не смела поднять глаз. Письмо лежало у нее на коленях, под салфеткой, обжигая сквозь тонкую ткань платья. Оно было тяжелым, словно было наполнено не бумагой, а свинцом.
Она не помнила, как закончился завтрак, как они с Софи поднялись в классную комнату. Она двигалась как во сне, в густом, вязком тумане. Все ее существование сузилось до этого прямоугольника бумаги. Она спрятала его в карман своего передника, и он лежал там, как потаенная рана, как неопровержимая улика ее двойной жизни. Весь урок арифметики она отвечала невпопад, ее мысли путались, и Софи смотрела на нее с удивлением.
«Мадемуазель, с вами все в порядке? Вы такая бледная».
«Все хорошо, милая, – выдавила из себя Елена. – Просто немного болит голова».
Наконец, пытка закончилась. Наступил час послеобеденной прогулки, который Елена обычно проводила с Софи в саду Тюильри. Но сегодня она под предлогом мигрени попросила другую гувернантку подменить ее. Ей нужно было остаться одной. Ей нужно было прочесть это письмо.
Она заперлась в своей мансарде. Днем комната выглядела еще более жалкой и убогой, чем при свете свечи. Серый, безжалостный свет из окна выхватывал все детали ее нищеты: трещины на потолке, потертое одеяло на кровати, единственный покосившийся стул. Она прислонилась спиной к холодной двери, все еще не решаясь достать конверт. Что там? Вежливый отказ? Сухая констатация того, что стихи «не соответствуют издательской политике»? Или, может быть, что-то худшее? Обвинение в плагиате, в графомании? Страх был почти физическим. Этот конверт мог окончательно уничтожить ту последнюю, тайную часть ее души, которая еще верила в себя.
Дрожащими руками она достала его. Села на край кровати. Конверт был из дорогой бумаги верже, с водяными знаками. Она медленно, с хирургической точностью, вскрыла его кончиком шпильки для волос. Внутри оказался один-единственный лист, сложенный вдвое.
Она развернула его. Тот же размашистый, уверенный почерк.
«Господину Игорю Воронову.
Милостивый государь,
Прошу простить мне мое долгое молчание, причиной которому были не небрежение, но потрясение. Я получил Вашу рукопись „Пепел и снег“ почти месяц назад, и с тех пор я живу с Вашими стихами. Вернее, они живут во мне.
Я не буду утомлять Вас банальными комплиментами. Скажу лишь одно: со времен последних стихов Рембо и проклятых прозрений Лотреамона я не читал ничего, что обладало бы такой первозданной, яростной силой. Вы не пишете, милостивый государь, Вы сдираете кожу с эпохи, чтобы показать ее кровоточащие нервы. В Ваших строках – вся боль, вся гордыня и вся нежность изгнанной России. Это не просто стихи – это документ человеческой души, прошедшей через ад и не утратившей способности видеть звезды сквозь тюремную решетку.
…И в сердце бьет заснеженную муть…
Эта строка преследует меня. Кто Вы, господин Воронов? Откуда в Вас эта бездна отчаяния и эта высота духа?
Издательство «Éditions Moreau» почтет за величайшую честь опубликовать Вашу книгу. Мы готовы предложить Вам самые выгодные условия, аванс и, что важнее, полную творческую свободу. Мы сделаем все, чтобы голос Вашей поэзии прозвучал над Парижем, как набат.
Я понимаю Ваше желание оставаться в тени – гений всегда одинок. Но я должен, я обязан увидеть Вас. Не как издатель – как читатель, нашедший своего Поэта. Прошу Вас, назначьте мне встречу в любое удобное для Вас время и в любом месте. Моя жизнь не будет прежней после Ваших стихов, и я должен пожать руку человеку, который их написал.
С глубочайшим восхищением и нетерпением,
Жан-Люк Моро».
Елена дочитала до конца, и лист выпал из ее ослабевших пальцев. Она сидела не двигаясь, глядя в одну точку. Комната плыла перед глазами. В ушах стоял гул, как после взрыва. Потрясение. Яростная сила. Голос, как набат. Пожать руку…
Сначала она не почувствовала ничего, кроме оглушающей пустоты. Словно все чувства разом отключились. А потом пришло оно. Не радость. Не триумф. А что-то огромное, стихийное, похожее на приливную волну, которая сбивает с ног и тащит в открытое море. Она закрыла лицо руками, и из ее груди вырвался странный, сдавленный звук – не то рыдание, не то смех. Она смеялась и плакала одновременно, беззвучно, сотрясаясь всем телом, как в лихорадке.
Ее услышали. Ее боль, отлитая в слова, нашла отклик. Ее заметили. Она, бесправная тень, прислуга, беженка с бесполезным паспортом, оказалась автором, чьи стихи сравнивают с Рембо. Восторг был таким острым, таким всепоглощающим, что казался болью. Это была минута абсолютного, чистого триумфа. Игорь Воронов, ее фантом, ее щит, ее выдумка – победил. Он покорил Париж.
Она подобрала с пола письмо, прижала его к груди. Бумага хранила тепло ее пальцев. Она перечитывала строки снова и снова, впиваясь в них глазами, запоминая каждое слово. «…документ человеческой души…», «…бездна отчаяния и высота духа…». Этот человек, Жан-Люк Моро, он увидел все. Он заглянул ей прямо в душу, не зная ее лица. Он понял ее так, как никто и никогда ее не понимал. И в этот момент она почувствовала к нему прилив острой, болезненной благодарности, почти нежности.
Она встала и подошла к маленькому, мутному зеркалу, висевшему на стене. На нее смотрела бледная женщина с огромными, лихорадочно блестевшими глазами и растрепанными волосами. Мадемуазель Элен, гувернантка. И где-то за этим испуганным лицом, за этой хрупкой оболочкой скрывался он – Игорь Воронов, поэт с яростной силой, человек, которому хотел пожать руку влиятельный парижский издатель.
И тут волна восторга схлынула так же внезапно, как и нахлынула, оставив после себя ледяной, парализующий ужас.
«Я должен… увидеть Вас».
«…пожать руку человеку, который их написал».
Реальность обрушилась на нее, как свод рухнувшего здания. Что она наделала? Ее ложь, ее игра, ее спасительный вымысел – все это перестало быть ее личным делом. Оно вырвалось на свободу, оно обрело плоть и кровь в словах этого письма. Игорь Воронов больше не был ее тайной. Он стал реальным человеком для Жан-Люка Моро. Человеком, которого ждут. Человека, с которым хотят встретиться.
Паника сжала ее горло ледяными пальцами. Как? Как она сможет встретиться с ним? Что она скажет? Она, женщина, притворявшаяся мужчиной? Она, гувернантка, выдававшая себя за ветерана Белого движения? Это был конец. Разоблачение. Позор. Скандал, который уничтожит не только ее жалкое существование, но и репутацию этого доверчивого, восторженного издателя.
Она заметалась по крохотной комнатке, как птица, попавшая в силки. Ловушка, которую она сама себе расставила, захлопнулась. Ее триумф обернулся катастрофой. Она заглянула в бездну, и бездна потребовала ее явиться лично.
Ее мозг, до этого парализованный шоком, заработал с отчаянной скоростью. Отказаться? Написать, что Воронов не встречается с издателями? Но это вызовет подозрения. Моро, судя по тону его письма, был человеком настойчивым, страстным. Он начнет искать. И что потом? Она представила себе унизительную сцену разоблачения. Холодную усмешку мсье де Валуа, когда ее с позором выгонят на улицу. Презрение в глазах этого Жан-Люка Моро, который из восхищенного поклонника превратится в обманутого простака.
Нет. Этого она не переживет.
Значит, нужно продолжать игру. Но как? Нанять кого-то на роль Воронова? Какого-нибудь спившегося русского офицера с Монпарнаса? Мысль была дикой, но на мгновение показалась спасительной. А потом она поняла всю ее абсурдность. Где она возьмет деньги? И как она сможет доверять этому человеку? Нет, это был путь к еще более быстрому провалу.
Она снова села на кровать, совершенно опустошенная. В ее голове шла битва. Одна ее часть, Елена, трепетала от ужаса, хотела сжечь это письмо, забиться в самый темный угол и молить Бога, чтобы о ней все забыли. Но другая часть, та, что принадлежала Игорю, была пьяна успехом. Он не хотел прятаться. Он хотел, чтобы его книга вышла. Он хотел, чтобы его голос был услышан. Этот внутренний раскол был мучительным. Победа Игоря означала смертельную опасность для Елены.
Она посмотрела в окно. Сумерки сгущались над Парижем. Город зажигал свои огни, тысячи обманчивых, холодных звезд. Там, внизу, в этом огромном, равнодушном городе, был человек, который ждал ее. Человек, который поверил в ее вымысел. И она должна была дать ему ответ.
Она снова взяла письмо. Ее пальцы коснулись подписи. «Жан-Люк Моро». Она прошептала это имя вслух. Оно прозвучало странно в тишине ее каморки. Имя человека, который одним росчерком пера изменил всю ее жизнь, превратив ее тайную мечту в смертельно опасную реальность.
Нужно было что-то делать. Прятаться было поздно. Бежать – некуда. Оставалось только одно: лгать дальше. Лгать изощренно, расчетливо, выстраивая вокруг своего призрачного поэта стену из тайн и недомолвок. Она должна была стать не только его голосом, но и его тенью, его кукловодом.
Снизу донесся приглушенный удар гонга, созывавшего к ужину. Этот звук вернул ее на землю. Пора было снова становиться мадемуазель Элен. Она аккуратно сложила письмо, спрятала его в единственную книгу, которую держала у себя – потрепанный томик Блока, – и засунула книгу глубоко под матрас. Она оправила платье, пригладила волосы. Посмотрела в зеркало. Из зазеркалья на нее смотрели глаза заговорщицы.
Спускаясь по лестнице для прислуги, она чувствовала, как внутри нее рождается холодная, отчаянная решимость. Радость и страх сплелись в тугой, вибрирующий узел. Ее вымысел обрел плоть. И теперь ей предстояло вести самую опасную игру в своей жизни, где ставкой была не просто репутация, а сама ее душа. Она шла на ужин в золотую клетку, но знала, что отныне ее настоящая жизнь будет протекать там, в переписке с человеком, который никогда не должен был узнать ее имени.
Голос из прошлого
Редкий выходной, выпрошенный у мадам де Валуа под предлогом необходимости посетить русскую церковь, был для Елены подобен глотку воздуха для утопающего. Воздуха спертого, пропитанного запахами угля и сырости, но все же своего. Поездка в метро была переходом через невидимую границу, делившую Париж на два враждебных государства. Она покидала шестнадцатый округ, мир прямых проспектов, вышколенных консьержей и тяжелых дверей с начищенной медью, и погружалась в чрево четырнадцатого. Здесь, на Монпарнасе, воздух становился плотнее, звуки – громче, а лица прохожих теряли свою гладкую, непроницаемую маску.
Здесь жила настоящая Россия. Не та, которую она оставила, а ее призрак, ее изломанное, кричащее отражение. Россия, сосланная в вечную эмиграцию, ютившаяся в дешевых отелях и на чердаках, говорившая на ломаном французском в булочных и препиравшаяся до хрипоты о судьбах монархии в прокуренных залах кафе «Ротонда» и «Куполь». Для Елены приходить сюда было и пыткой, и необходимостью. Пыткой – потому что каждое русское слово, каждый знакомый жест, каждая мелодия, доносившаяся из открытого окна, вскрывали едва затянувшиеся раны. Необходимостью – потому что только здесь она могла дышать. Только здесь ее внутренняя сущность, подавленная и закованная в корсет гувернантки, могла расправить плечи. Здесь она собирала материал для Игоря Воронова. Она вслушивалась в обрывки разговоров, вглядывалась в лица, отмеченные печатью невосполнимой потери, и ее сердце, обычно глухое и замерзшее, отзывалось на эту общую боль тупым, ноющим эхом.
Письмо Жан-Люка Моро уже четвертый день лежало, спрятанное в томике Блока, как неразорвавшийся снаряд. Оно обжигало ее по ночам, оно лишало ее сна. Эйфория первого часа сменилась глухой, изматывающей тревогой. Она составила ответ. Переписывала его десятки раз при свете огарка, подбирая слова, как сапер, работающий с часовым механизмом. Письмо получилось сдержанным, полным достоинства и – лжи. Игорь Воронов благодарил издателя за высокую оценку его скромного труда и давал согласие на публикацию. Но о встрече не могло быть и речи. «Тяжелая болезнь, последствие фронтовых ранений, – выводила она чужим, угловатым почерком, – приковывает меня к четырем стенам и делает всякое появление на людях невозможным. Моим единственным собеседником остаются бумага и прошлое». Это была хрупкая, ненадежная стена, но единственная, которую она могла возвести между собой и этим страстным, настойчивым человеком. Сегодня она должна была его отправить. Поставить точку. Или многоточие, которое могло оказаться еще опаснее.
Бульвар Монпарнас встретил ее гомоном, запахом крепов и сигаретного дыма. Она шла, плотнее кутаясь в свое простое темное пальто – униформу ее нынешней жизни, – стараясь быть незаметной, стать частью серой толпы. Она миновала террасу «Ротонды», где за столиками сидели люди, чьи лица были ей смутно знакомы. Бывшие соседи по Петербургу, сослуживцы отца, дальние родственники. Теперь они были просто «русскими», единой массой изгнанников. Она опустила голову, надвинула шляпку на глаза. Узнать кого-то означало быть узнанной. А этого она боялась больше всего. Ее жизнь держалась на анонимности, на том, что Елена Волкова умерла где-то по дороге из Крыма в Константинополь. Осталась лишь мадемуазель Элен, тень без прошлого.
Она нашла небольшое почтовое отделение на боковой улочке. Внутри пахло сургучом и казенной тоской. Несколько минут она стояла, сжимая в руке конверт. Адрес издательства, имя Жан-Люка Моро. Это был шаг в пропасть. Она опустила письмо в щель ящика. Металлическая заслонка щелкнула с окончательностью гильотины. Все. Теперь пути назад не было. Она вышла на улицу, чувствуя одновременно и облегчение, и новую волну страха. Игра началась.
Оставалось еще несколько часов свободы. Она не хотела возвращаться в золоченую тюрьму на рю де Риволи раньше времени. Бесцельно, как лунатик, она побрела по улицам, позволяя потоку уносить себя. Она остановилась у витрины книжной лавки, где были выставлены русские издания. «Последние новости», «Возрождение». На обложке одного из журналов она увидела фотографию поэта, которого смутно помнила по литературным вечерам у матери. Теперь его лицо казалось изможденным, постаревшим на двадцать лет. Все они здесь старели быстрее. Время эмиграции текло иначе, съедая годы и надежды.
Она отвернулась от витрины, и в этот момент кто-то окликнул ее. Голос был незнакомым, но интонации, эта ленивая, чуть гнусавая растяжка гласных, ударили по нервам, как разряд тока.
«Не может быть… Княжна? Елена Андреевна, это вы?»
Она замерла, не оборачиваясь. Ее тело окаменело. Этого имени, произнесенного вслух на парижской улице, было достаточно, чтобы весь ее хрупкий мир пошел трещинами. Княжна. Титул, который теперь звучал как издевка, как клеймо. Медленно, с огромным внутренним усилием, она обернулась.
Перед ней стоял мужчина лет тридцати пяти, хотя выглядел он старше. Высокий, когда-то, должно быть, статный, но теперь его плечи были опущены, а дорогое, хотя и сильно поношенное пальто висело на нем мешком. Лицо, которое она смутно припоминала – правильные черты, высокий лоб, – было одутловатым, нездорового, сероватого цвета. Но глаза… Глаза она узнала сразу. Светлые, почти прозрачные, с тяжелыми веками. И взгляд – цепкий, оценивающий, лишенный всякой теплоты. Взгляд игрока, прикидывающего шансы.
Дмитрий Орлов. Поручик лейб-гвардии Семеновского полка. Он бывал у них в доме. Танцевал с ней на балу в Зимнем дворце. Последний раз она видела его в Крыму, в последние дни перед эвакуацией. Он был худ, черен от пороха и горя, но в его глазах еще горел огонь. Теперь огня не было. Остался лишь пепел.
«Орлов? – ее голос прозвучал глухо, как будто из-под воды. – Вы?»
«Собственной персоной, – он усмехнулся, но усмешка вышла кривой, не затронув глаз. Он окинул ее быстрым, скользящим взглядом с головы до ног. Она почувствовала себя вещью на аукционе. Он отмечал все: простое пальто, отсутствие перчаток, стоптанные туфли, шляпку без единого украшения. – Не ожидал встретить вас здесь, Елена Андреевна. В этом… русском Вавилоне. Я думал, Волковы давно и прочно обосновались где-нибудь в Лондоне или на Ривьере. Ваш батюшка всегда умел держать нос по ветру».
В его словах сквозила ядовитая ирония. Он прекрасно знал, что ее отец был расстрелян в восемнадцатом. Эта фраза была не вопросом, а уколом, проверкой.
«Мой отец мертв, Дмитрий Павлович, – ровно ответила она, чувствуя, как внутри все холодеет. – Как и вся моя семья».
На его лице промелькнуло нечто похожее на сочувствие, но оно тут же исчезло, сменившись прежним расчетливым выражением.
«Примите мои соболезнования. Проклятое время. Все смешалось, все перевернулось. Князья метут улицы, а комиссары заседают в наших дворцах, – он достал из кармана портсигар, серебряный, с помятым углом и стертой монограммой. Щелкнул крышкой. Внутри была одна-единственная, криво скрученная папироса. – Не угостите огнем, княжна?»
Она покачала головой. «У меня нет».
Он не смутился. Повертел папиросу в тонких, пожелтевших от никотина пальцах и убрал обратно. «Не беда. Привычное дело. А вы… как вы здесь? Чем живете?»
Вопрос был задан небрежно, но Елена почувствовала в нем стальную хватку. Это был допрос. Она выпрямила спину, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно более безразлично.
«Я живу. Как все. Работаю».
«Работаете? – он вскинул бровь. В этом движении было что-то от прежнего, гвардейского снобизма. – Вы? Волкова? Не могу себе представить. Вы же, помнится, и веера тяжелее ничего в руках не держали. Уж не модисткой ли? Или, боже упаси, манекенщицей у Поля Пуаре? Говорят, наши княгини там нарасхват».
Каждое его слово было мелкой, отравленной шпилькой. Он намеренно бередил прошлое, чтобы подчеркнуть пропасть между тем, кем она была, и тем, кем стала. Он хотел увидеть ее смятение, ее унижение. Но Елена смотрела на него прямо, не отводя взгляда.
«Я гувернантка, Дмитрий Павлович. В приличной французской семье».
«Гувернантка, – протянул он, словно пробуя слово на вкус. Он снова оглядел ее, и теперь в его взгляде появилось нечто новое. Холодный интерес сменился чем-то похожим на… удовлетворение. Он словно нашел то, что искал. – Гувернантка. Что ж, это даже благородно. Воспитывать чужих детей. Почти миссионерство. И живут эти… приличные французы, надо полагать, не здесь, на Монпарнасе?»
«Нет», – коротко ответила она.
«Я так и думал, – он кивнул. – Здесь живут те, кто проиграл. Окончательно. А вы, значит, еще держитесь на плаву. Это хорошо. Это очень хорошо, Елена Андреевна. Я искренне за вас рад».
Эта фраза, «я искренне за вас рад», прозвучала как скрытая угроза. В его глазах не было и тени радости. Там был холодный, трезвый расчет. Он увидел в ней не бывшую знакомую, не сестру по несчастью. Он увидел ресурс. Возможность. Она не знала, чего он хочет, но всем своим существом чувствовала исходящую от него опасность. Этот человек был сломлен, но не раздавлен. Он был хищником, выброшенным из привычной среды обитания, голодным и злым, готовым вцепиться в любую добычу, что окажется слабее.
«Мне пора идти, – сказала она, делая шаг в сторону. – Меня ждут».
«Конечно, конечно, – он тут же сделал шаг ей наперерез, преграждая дорогу. Движение было плавным, почти изящным, но оттого не менее пугающим. – Всего один момент. Я ведь тоже, знаете ли, пытаюсь как-то устроиться. Кручусь. Старые связи, знаете ли… это единственный капитал, который у нас остался. Вы ведь не откажете в любезности старому знакомому?»
«Что вы хотите, Орлов?» – спросила она прямо, отбросив последние остатки вежливости.
Он улыбнулся, и в этой улыбке она увидела всю гниль его души. «Какой вы стали резкой, княжна. Жизнь в Париже закаляет. Я всего лишь хотел попросить ваш адрес. Мало ли, вдруг понадобится помощь. Или, наоборот, я смогу быть вам чем-то полезен. Мы, русские, должны держаться вместе».
Мысль о том, чтобы дать ему адрес дома де Валуа, была чудовищной. Она представила, как этот человек появляется на пороге их особняка, как он разговаривает с мсье Этьеном… Это было бы концом всего.
«У меня нет постоянного адреса, – солгала она, глядя ему в глаза. – Я часто меняю места».
Он слушал ее, слегка склонив голову набок, и его светлые глаза сузились. Он не поверил ни единому ее слову. Он знал, что она лжет.
«Какая жалость, – протянул он с деланым сожалением. – Но ничего. Париж, как оказалось, – большая деревня. Особенно для нас, соотечественников. Думаю, мы еще непременно встретимся. Не пропадайте, Елена Андреевна».
Он слегка склонил голову в подобии поклона, развернулся и пошел прочь, не оглядываясь. Его фигура в поношенном пальто быстро растворилась в толпе.
Елена стояла на месте еще несколько минут, не в силах сдвинуться. Ноги стали ватными, а сердце колотилось где-то в горле. Встреча с Орловым была подобна падению в ледяную воду. Хрупкая надежда, зародившаяся после письма Моро, тот призрачный, волнующий свет – все было затоплено мутной, холодной волной реальности. Игорь Воронов мог покорять издателей, но Елена Волкова была всего лишь беззащитной гувернанткой, которую на улице мог остановить любой призрак из прошлого.
И этот призрак был не просто воспоминанием. Он был живым, голодным и опасным. Она видела это в его глазах. Он не просто узнал ее. Он взвесил ее, оценил и, кажется, нашел ей применение. Фраза «Париж – большая деревня» звучала в ее ушах как приговор. Он найдет ее. Она не сомневалась в этом ни на секунду. И когда он ее найдет, он придет не с пустыми руками. Он придет за своей долей.
Она побрела в сторону метро, не разбирая дороги. Краски Монпарнаса поблекли. Шумные кафе, яркие витрины, оживленные толпы – все это превратилось в угрожающие, враждебные декорации. Город, который еще утром казался ей просто чужим, теперь стал ловушкой. Она думала, что ее главная опасность – это Жан-Люк Моро, человек, который мог невольно разоблачить ее обман из лучших побуждений. Теперь она поняла, как ошибалась. Настоящая угроза пришла оттуда, откуда она ее не ждала. Из их общего, проклятого прошлого. От человека, который знал, кем она была, и которому было абсолютно наплевать, кем она стала. Ему нужно было лишь то, что он мог с нее получить.
Вернувшись в свою каморку под крышей, она долго сидела в темноте, не зажигая свечи. Комната, ее единственное убежище, больше не казалась безопасной. Стены давили, а тишина звенела от невысказанных угроз. Она достала из-под матраса томик Блока. Письмо Моро, которое она отправила всего несколько часов назад, теперь казалось актом безумной, непростительной неосторожности. Она сама открыла дверь, за которой ее ждали. И теперь в эту дверь мог войти не только восторженный издатель, но и человек с мертвыми глазами и кривой усмешкой, несущий с собой весь смрад и всю грязь того мира, от которого она так отчаянно пыталась убежать. Тень прошлого упала на ее настоящее, и Елена с ужасом поняла, что эта тень была намного длиннее и темнее, чем она могла себе представить.
Требование на гербовой бумаге
Зима вцепилась в Париж костлявыми пальцами. Дни стали короткими и серыми, словно выцветшие дагерротипы. Для Елены время превратилось в вязкую, тягучую субстанцию, где каждая минута была наполнена ожиданием звука шагов на лестнице или незнакомого голоса в холле. Встреча с Орловым изменила саму природу ее страха. Раньше он был абстрактным, умозрительным – боязнь разоблачения перед Жан-Люком Моро, страх позора. Теперь он обрел плоть и кровь. У него было осунувшееся лицо, бегающие глаза и кривая усмешка. Он был угрозой не гипотетической, а реальной, хищной, выжидающей в лабиринте парижских улиц. Каждый раз, когда Батист докладывал о посетителе, сердце Елены совершало сухой, болезненный скачок, и она замирала, прислушиваясь, пока не убеждалась, что пришедший – всего лишь поставщик вин или гость мадам де Валуа. Она жила на натянутом нерве, и этот нерв звенел от любого прикосновения.
Ее ответ Игоря Воронова, полный туманных намеков на болезнь и затворничество, ушел в пустоту. Прошла неделя, другая. Молчание издательства было гнетущим, многозначительным. Возможно, ее отговорка показалась Моро неубедительной, обидной. Возможно, он, как человек дела, счел таинственного поэта-затворника слишком хлопотным активом и решил отказаться от публикации. Эта мысль приносила странное, уродливое облегчение, смешанное с горечью поражения. Игорь Воронов, едва родившись, мог умереть, так и не увидев света, и это спасло бы Елену от катастрофы. Она почти смирилась с этим. Почти убедила себя, что так будет лучше.
А затем, одним дождливым декабрьским утром, в дом доставили небольшой, но тяжелый пакет, обернутый в плотную коричневую бумагу. Батист, принимая его у посыльного, недоуменно вертел его в руках. Адресат был указан лаконично: «M. Igor Voronoff, aux bons soins de Mademoiselle Volkova», с припиской «лично в руки».
Елена, спускавшаяся в этот момент по парадной лестнице, увидела пакет и застыла на полпути. Кровь медленно отхлынула от ее щек. Мсье де Валуа, стоявший в холле и застегивавший перчатки, обернулся на ее заминку.
«Что это, Батист?» – спросил он, не обращаясь к Елене напрямую, словно она была предметом мебели.
«Посылка, мсье. На имя мадемуазель… вернее, для некоего господина Воронова, но через мадемуазель».
Взгляд банкира, холодный и острый, как скальпель, впился в Елену. Тот же самый вопрос, что и в прошлый раз, повис в воздухе, но теперь он был тяжелее, насыщеннее подозрением. Кто этот таинственный корреспондент, который шлет посылки гувернантке?
«Это… это книги, мсье, – нашлась Елена, и ее голос прозвучал на удивление ровно. – Из комитета помощи. Они присылают русскую литературу для беженцев, чтобы мы не забывали язык. Я попросила доставить их сюда».
Ложь была наспех слепленной, хрупкой, но мсье де Валуа, спешивший в свой банк, лишь презрительно скривил губы. Русские и их вечные комитеты. Он махнул рукой и вышел, хлопнув тяжелой дверью.
Елена почти бегом спустилась по оставшимся ступеням и забрала пакет у дворецкого, стараясь не встречаться с ним взглядом. Он был тяжелее, чем она думала. Она унесла его в свою мансарду, как вор уносит украденное. Там, заперев дверь, она дрожащими пальцами разорвала обертку.
Внутри лежали десять экземпляров небольшой книги в строгой серой обложке. Никаких иллюстраций, никакой мишуры. Только два слова, выведенные черными буквами: «Пепел и снег». А под ними, чуть мельче: «Игорь Воронов».
Она взяла один экземпляр в руки. Он был настоящим. Плотные, шероховатые страницы, пахнущие свежей типографской краской и клеем. Вес бумаги. Четкий, чуть вдавленный шрифт. Ее слова, ее боль, ее тайная жизнь обрели физическую форму. Они больше не были строчками, нацарапанными при свете свечи. Они стали объектом, вещью, которую можно было взять в руки, купить, прочитать. Доказательством. Уликой.
Она открыла книгу на случайной странице. «Мой город спит под саваном тумана, / И в окнах – лед, как бельма на глазах…» Она смотрела на знакомые строки, и они казались ей чужими, напечатанными, отделенными от нее непреодолимой преградой. Это написал некто Игорь Воронов. А она, Елена, была всего лишь хранителем его тайны. Чувство было непередаваемо сложным: острая, почти материнская гордость смешивалась с паническим ужасом. Она создала монстра, прекрасного и опасного, и выпустила его в мир.
Успех пришел не сразу. Он просачивался в дом де Валуа тонкими, едва заметными ручейками. Сначала – короткая заметка в «Le Figaro», которую Елена увидела, убирая газеты со стола в библиотеке. Анонимный рецензент отмечал «мрачную силу и подлинный трагизм» стихов неизвестного русского автора, называя сборник «поэтическим реквиемом по ушедшей империи». Затем, через неделю, в «Les Nouvelles littéraires» появилась развернутая статья известного критика Рене Лало. Он был более восторженным. «В парижской литературе, уставшей от игр дадаистов и самолюбования сюрреалистов, прозвучал новый, суровый голос. Голос с берегов Невы, закаленный огнем и льдом истории… Игорь Воронов – это не просто поэт. Это диагност, ставящий беспощадный диагноз нашему „потерянному поколению“, как русскому, так и французскому».
Елена читала эти строки, спрятавшись в своей каморке, и ее щеки горели. Голос с берегов Невы. Диагност. Каждое хвалебное слово было одновременно и бальзамом для ее истерзанного самолюбия, и новым витком затягивающейся петли. Они хвалили мужчину. Сильного, закаленного, прошедшего войну. Они создавали легенду, в которой ей, Елене, не было места.
Однажды вечером, прислуживая за ужином, она стала невольной свидетельницей разговора. Мсье де Валуа принимал у себя какого-то важного чиновника из министерства финансов. Речь зашла о модных новинках.
«Вы читали этого русского, Воронова? – спросил гость, промокая губы салфеткой. – Весь Париж о нем говорит. Невероятная тоска, конечно. Но какая мощь! Говорят, его издатель, молодой Моро, нашел настоящее сокровище».
Елена, стоявшая за спиной гостя с соусником в руках, замерла. Ее пальцы так сильно сжали холодный фарфор, что костяшки побелели.
Мсье де Валуа фыркнул. «Русская тоска. Лучший товар на экспорт после икры и большевиков. Не понимаю, что все в этом находят. Вечное самокопание и жалобы на судьбу. У меня в банке работает бывший князь Гагарин – двери открывает. Вот это я понимаю – настоящая драма, а не стишки».
Гость рассмеялся. «Вы, как всегда, прагматичны, Этьен. Но поверьте, в салоне у моей жены дамы зачитывают его стихи до слез. Особенно вот это: „Мы проиграли всё, кроме чести, / Но честь – единственный груз, / Что тянет на дно…“ Очень сильно».
Елена отступила в тень, к буфету, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Ее слова. Ее самые сокровенные, выстраданные слова, произнесенные чужим сытым голосом за богато накрытым столом. Их обсуждали, цитировали, ими восхищались. Игорь Воронов входил в парижские салоны, в то время как Елена Волкова подавала соус к рыбе. Пропасть между ней и ее творением разверзалась с каждым днем, грозя поглотить ее.
Даже мадам де Валуа, обычно погруженная в свои меланхоличные мечты, однажды спросила ее за уроком музыки для Софи: «Элен, вы ведь русская. Вы не слышали об этом поэте, Игоре Воронове? Говорят, он живет в Париже, но никто его не видел. Наверное, очень гордый и несчастный человек».
«Я… я что-то слышала, мадам», – пролепетала Елена, чувствуя, как краска заливает ей шею.
«Надо будет купить его книгу, – задумчиво произнесла Колетт де Валуа. – Мне кажется, только русские умеют так красиво страдать».
Книга лежала у Елены под матрасом, как бомба с часовым механизмом. Слава Игоря росла, и вместе с ней росла ее тревога. Орлов затих. Он не появлялся, не давал о себе знать, и это молчание было страшнее любых угроз. Она понимала: он ждет. Ждет, когда плод созреет, когда ее тайна станет более ценной, более дорогой. Он был опытным охотником, умеющим высидеть свою добычу.
А потом пришло второе письмо.
Оно появилось на том же серебряном подносе, но выглядело иначе. Не личное послание, а официальный документ. Плотный конверт из бумаги верже, а в левом верхнем углу – тисненый золотом герб издательства «Éditions Moreau». Это было письмо, которое не могло прийти из комитета помощи беженцам. Это было письмо от бизнеса, от власти, от успеха.
Сердце пропустило удар, а затем забилось тяжело и гулко, как церковный колокол, возвещающий о беде. Она забрала его под тем же пристальным взглядом мсье де Валуа. На этот раз он ничего не сказал, но в его глазах читалось ледяное любопытство. Эта русская гувернантка определенно вела какую-то свою, непонятную ему жизнь.
В своей комнате она вскрыла конверт с ощущением неотвратимости. Бумага была плотной, дорогой, с водяными знаками. Текст был напечатан на машинке, что придавало ему еще большую официальность и безжалостность. Только подпись внизу, широкая и энергичная, была выведена от руки: «Жан-Люк Моро».
«Дорогой и глубокоуважаемый господин Воронов!
Спешу поделиться с Вами новостями, которые, я уверен, Вас порадуют, сколь бы далеки Вы ни были от мирской суеты. Первый тираж Вашего сборника „Пепел и снег“ (1200 экземпляров) полностью распродан. Это неслыханный успех для поэтической книги, тем более для дебюта. Мы срочно допечатываем еще 3000. Ваше имя у всех на устах. Критики единодушны, читатели – в восторге. Вы не просто написали книгу – Вы создали событие. Мои самые смелые ожидания были превзойдены.
В связи с этим я вынужден вновь вернуться к вопросу, который я уже поднимал в своем первом письме. Вопросу нашей личной встречи. Поймите меня правильно, я безмерно уважаю Ваше желание оставаться в уединении. Однако успех налагает определенные обязательства, как на Вас, так и на меня, Вашего издателя.
Нам необходимо обсудить будущее. Речь идет не просто о переиздании. Мне поступают предложения о переводе Ваших стихов на английский и немецкий языки. Крупнейшие литературные журналы Европы просят у меня права на публикацию Ваших новых произведений. Мы стоим на пороге Вашего всеевропейского признания, господин Воронов!
Для заключения столь серьезных контрактов, для выработки долгосрочной стратегии нашего сотрудничества требуется Ваше личное присутствие. Мы должны составить и подписать полноценный договор, который защитит Ваши интересы и обеспечит Вам солидный и, что немаловажно, стабильный доход на годы вперед. Ваше здоровье, на которое Вы ссылались, я искренне надеюсь, пошло на поправку. Но даже если это не так, я готов пойти на любые уступки. Я приеду к Вам сам, в любое место, в любое время, с нотариусом, с врачом, если потребуется. Мы можем встретиться на нейтральной территории. Ваше инкогнито будет полностью сохранено. Но встреча должна состояться.
Молчание и переписка через третьих лиц больше не могут служить основой для дела такого масштаба. Речь идет о Вашем будущем, о судьбе Вашего таланта. Я взял на себя смелость подготовить проект долгосрочного контракта, и я должен передать его Вам лично.
Прошу Вас, не сочтите мою настойчивость дерзостью. Это голос не только издателя, но и человека, который верит в Ваш гений и считает своим долгом служить ему. Я буду ждать Вашего ответа с указанием даты и места нашей встречи в течение ближайшей недели.
Искренне преданный Вам и Вашему таланту,
Жан-Люк Моро».
Елена опустила письмо на колени. Комната медленно вращалась вокруг нее. Машинописные строчки плясали перед глазами, сливаясь в сплошную черную массу. Каждое слово в этом письме было выверено, вежливо, корректно. Но за этой вежливостью скрывалось стальное, непреклонное требование. Это был ультиматум, облеченный в изысканную форму.
«Молчание и переписка больше не могут служить основой…»
«Встреча должна состояться…»
«Я буду ждать… в течение ближайшей недели…»
Все. Игра окончена. Ее хрупкая стена из лжи о болезни и затворничестве рухнула, сметенная ураганом успеха. Он не поверил ей. Или поверил, но счел это препятствие незначительным по сравнению с открывающимися перспективами. Он был бизнесменом, триумфатором, который не собирался позволить капризам или болезни своего автора помешать делу. Он шел напролом, сметая все на своем пути, ведомый лучшими побуждениями. Он хотел осыпать ее золотом, увенчать лаврами, но для этого ему нужно было увидеть ее лицо.
Паника, которую она испытывала раньше, была детским страхом по сравнению с тем ледяным, всепоглощающим ужасом, что охватил ее сейчас. Она посмотрела на свои руки. Руки гувернантки, с мозолью от пера на среднем пальце. Руки женщины. Эти руки написали «Пепел и снег». Но человек, чье имя стояло на обложке, был мужчиной. Ветераном. Затворником.
Она встала и подошла к окну. Внизу, в саду, Софи играла с мячом под присмотром младшей гувернантки. Мирная, упорядоченная жизнь, которая была ее тюрьмой и ее спасением. Письмо в ее руке было ключом от этой тюрьмы, который вел не на свободу, а на эшафот.
Что ей делать? Исчезнуть? Написать, что Игорь Воронов умер? Но тогда права на книгу перейдут к его наследникам. А кто они? Она сама. И все начнется сначала. Признаться во всем? Отправить Моро письмо, где будет стоять подпись «Елена Волкова»? Она представила его лицо. Шок. Разочарование. Гнев. И, что хуже всего, – жалость. Он увидит в ней не гения, а хитрую обманщицу, несчастную женщину, решившуюся на аферу от отчаяния. Он никогда не простит ей обманутых надежд. Он никогда не увидит за Еленой Волковой того Игоря Воронова, в которого он так страстно поверил.
Нет, только не это. Ее гордость, единственное, что у нее осталось, не переживет такого унижения.
Оставался только один путь. Продолжать ложь. Но как? Как можно встретиться с ним? Ее маскарад был чисто литературным. Она не могла воплотить его в жизни.
Она снова и снова перечитывала письмо. «Я приеду к Вам сам… в любое место…» Эти слова, написанные из лучших побуждений, звучали как смертный приговор. Он был охотником, идущим по следу. А она была добычей, забившейся в угол, из которого не было выхода.
Неделя. У нее была всего неделя, чтобы придумать что-то. Семь дней, чтобы совершить невозможное. Семь дней, чтобы найти лицо для своего призрака. Ловушка захлопнулась. И ключ от нее был в руках человека, который восхищался ею больше всех на свете. Человека, который, сам того не зная, вел ее к неминуемой гибели. Сердце эмигрантки, познавшее миг триумфа, теперь стояло перед выбором между позором и забвением. И оба пути вели в пропасть.
Цена молчания
Неделя, отпущенная ей письмом Жан-Люка Моро, подходила к концу. Семь дней превратились в сто шестьдесят восемь часов, каждый из которых был отмерен глухим, нарастающим стуком в висках. Время утратило свою линейность, оно сгустилось вокруг нее, как парижский туман, липкий и непроницаемый. Она двигалась, говорила, выполняла свои обязанности в доме де Валуа с точностью хорошо смазанного механизма, но внутри, за решеткой ребер, металась в панике душа. Ее тело стало чужим, оболочкой, безупречно исполняющей роль мадемуазель Элен, в то время как ее истинное «я» было заперто в темной камере сознания, где на стене висели два экспоната: элегантное письмо на бумаге верже и ухмыляющееся лицо Дмитрия Орлова. Два палача, один из которых действовал из лучших побуждений, а другой – из худших. И было неясно, кто из них страшнее.
Каждый день она выводила Софи на прогулку в Люксембургский сад. Эта осенняя рутина, прежде приносившая ей подобие покоя, теперь превратилась в пытку. Идеально подстриженные газоны, симметрия аллей, строгие ряды каштанов – весь этот упорядоченный, рациональный мир французского парка казался ей насмешкой над хаосом, царившим в ее голове. Она шла по хрустящему гравию, и каждый шаг отдавался в ней мыслью: «Что делать? Что ему ответить?». Она составляла в уме десятки писем Моро. Письма-признания, письма-прощания, письма, полные новой, еще более изощренной лжи. Но чернила засыхали, не коснувшись бумаги. Любое слово было шагом в бездну.
В этот день небо было особенно низким, свинцовым, оно давило на город, делая краски тусклыми, а звуки – приглушенными. Софи, в своем синем пальто и берете, была единственным ярким пятном в этой серой акварели. Она гоняла по аллее большой красный обруч, и ее смех, звонкий и беззаботный, долетал до Елены, вызывая в ней острую, почти физическую боль. Боль от соприкосновения с миром, где еще существовала чистая, незамутненная радость.
Елена сидела на чугунной скамье у фонтана Медичи, наблюдая за девочкой и механически поправляя складки на своем платье. Она заставляла себя сосредоточиться на деталях: на том, как ветер треплет ленты на шляпке Софи, как темнеет от влаги камень старого фонтана, как медленно кружатся в зеленоватой воде последние палые листья. Но ее взгляд то и дело скользил по лицам редких прохожих, выискивая в толпе одну-единственную фигуру. Она ждала Орлова. Не то чтобы она хотела его видеть – нет, она молилась, чтобы никогда больше не встретить его, – но инстинкт, обостренный страхом, подсказывал ей, что он не исчез, что он где-то рядом, выжидает, как паук в углу паутины.
Он появился так, как появляются призраки – бесшумно и из ниоткуда. Она просто подняла глаза и увидела его. Он стоял в нескольких шагах от нее, у подножия статуи Полифема, и смотрел прямо на нее. На нем было то же поношенное пальто, но сегодня он был гладко выбрит, а в петлице красовалась увядшая гвоздика. Эта жалкая попытка сохранить фасон была страшнее любой небрежности. Он не приближался, просто стоял и смотрел, давая ей время осознать его присутствие. Это был жест хищника, демонстрирующего жертве свое превосходство.
Холод, не имеющий ничего общего с ноябрьской погодой, пополз вверх по ее позвоночнику, стягивая кожу на затылке. Она хотела вскочить, схватить Софи за руку и бежать прочь, не оглядываясь. Но ноги словно приросли к земле. Она сидела неподвижно, глядя на него в ответ, и ее лицо превратилось в бесстрастную маску. Единственным ее оружием была гордость, и она призвала на помощь все ее остатки.
Софи, не заметив ничего, подкатила свой обруч к скамейке. «Мадемуазель, смотрите, я научилась его крутить на одном месте!» – прокричала она.
Орлов улыбнулся. Улыбка обнажила неровные, пожелтевшие зубы. Затем он медленно, неторопливо подошел к ним. Он снял шляпу, и этот жест, отточенный годами в петербургских гостиных, выглядел здесь, в промозглом парижском саду, как цитата из давно забытой книги.
«Добрый день, Елена Андреевна, – его голос был тихим, почти вкрадчивым, но в нем слышались стальные нотки. – Какая очаровательная у вас воспитанница. Настоящий ангел».
Он говорил по-русски. Здесь, рядом с Софи, которая не понимала ни слова, но с любопытством смотрела на незнакомого мсье. Этот переход на родной язык был первым ходом в его игре. Он мгновенно создавал между ними тайный, интимный мир, отгороженный от всего остального. Мир, в котором они были сообщниками.
«Что вам нужно?» – спросила Елена так же тихо, не меняя выражения лица. Ее французский, на котором она думала и говорила последние годы, казался ей сейчас надежным щитом, но он заставил ее отбросить его.
«Право, какая неприветливость, – он покачал головой, но глаза его оставались холодными и внимательными. – Я просто гулял. Наслаждался, так сказать, видами Парижа. И случайно увидел вас. Я же говорил, что Париж – большая деревня. Нельзя ли мне присесть на минутку? Ноги, знаете ли, уже не те, что в восемнадцатом под Царицыном».
Он не дождался ответа и опустился на другой конец скамьи, соблюдая видимость приличий, но само его присутствие было нарушением всех мыслимых границ. Софи, видя, что мадемуазель разговаривает с господином, отошла в сторону и снова принялась за свой обруч, время от времени поглядывая на них.
«Ваши нынешние хозяева… они ведь французы?» – начал он издалека, глядя на темную воду фонтана.
Елена молчала. Любой ответ был бы ошибкой.
«Должно быть, славные люди, – продолжил он, не обращая внимания на ее молчание. – Старая французская буржуазия. Они ценят порядок, репутацию, хорошие манеры. Они не любят сюрпризов. Не любят, когда вещи оказываются не тем, чем кажутся. Например, когда их гувернантка, скромная мадемуазель Элен, на самом деле – княжна Волкова, дочь того самого Волкова, советника государя. Это ведь может создать… неловкость, не правда ли?»
Он произнес это так спокойно, почти буднично, словно рассуждал о погоде. Но каждое слово было крошечным осколком льда, впивавшимся ей под кожу. Он знал. Он не просто предполагал. Он знал, и он пришел заявить о своих правах на это знание.
«Не понимаю, о чем вы говорите, – произнесла она, и голос ее был ровным, как поверхность замерзшего пруда. – Вы меня с кем-то путаете».
Орлов усмехнулся. «Не стоит, Елена Андреевна. Не унижайте ни мой, ни свой интеллект. Я навел справки. Это было несложно. Среди наших, знаете ли, есть люди, готовые за пару франков вспомнить все генеалогическое древо Романовых, не то что ваше. Банкир Этьен де Валуа, рю де Риволи, дом семнадцать. Очень респектабельное место. Очень солидный господин. Таким господам очень не нравится, когда в их доме появляются люди с… туманным прошлым. А ваше прошлое, княжна, оно не туманное. Оно ослепительное. И опасное. Для них, разумеется».
Он сделал паузу, давая яду впитаться.
«Представьте себе, – заговорил он снова, теперь уже с оттенком мечтательности в голосе, – приходит к мсье де Валуа некий доброжелатель. И рассказывает ему трогательную историю. О том, как дочь одного из самых ненавистных для большевиков царских сановников, чью семью вырезали подчистую, скрывается у него в доме под чужим именем. Воспитывает его единственную дочь. Внушает ей… кто знает, какие идеи? Ведь кровь – не вода. А вдруг вы связаны с какими-нибудь монархическими заговорщиками? Или, наоборот, вас шантажируют красные агенты? Для такого человека, как де Валуа, сама мысль об этом – кошмар. Скандал, полиция, газеты… Его репутация, построенная на незыблемости и предсказуемости, рассыплется в прах. Он вышвырнет вас на улицу в тот же день. Без рекомендации. Без единого су».
Елена слушала его, и мир вокруг нее сужался до этой скамейки, до его тихого голоса и красного обруча, который катился по гравию. Он был прав. Он был дьявольски прав. Он понял самую суть психологии мсье де Валуа – его панический страх перед всем, что могло нарушить гладкую поверхность его буржуазного благополучия. Ее аристократическое происхождение в его глазах было не достоинством, а заразной болезнью, грязной тайной, которую она пронесла в его стерильный дом.
«Чего вы хотите, Орлов?» – спросила она, переходя на «ты». Формальности были кончены. Они стояли друг перед другом не как бывшие знакомые, а как шантажист и его жертва.











