Читать онлайн Сто пуль в революцию: критика марксизма, коммунизма и социализма
- Автор: Михаил Смолин
- Жанр: Публицистика, Историческая литература, Критика
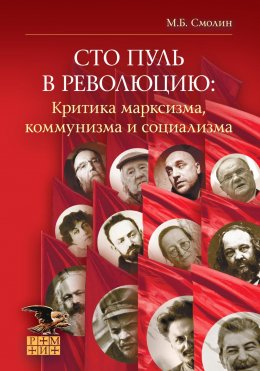
Предисловие. Справедливость без жалости
Часто можно услышать, что справедливость – главное желание, основное устремление современного российского общества. Жажда справедливости, мол, самое неутолённое чувство нашего человека, глубоко обиженного творящимися в нашем обществе несправедливостями.
Но что считать справедливым, а что нет? Вопрос значительно более сложный, чем легкомысленные призывы к абстрактной социальной справедливости.
В Священном Писании слово «справедливость» чаще всего употребляется в отношении суда или правления. Сам Бог называется Справедливым Судьёй, так как в конце веков будет судить все народы справедливо.
Часто библейское понимание справедливости стоит рядом со словом «праведность». Поступайте справедливо и праведно, судите справедливо и праведно, правьте справедливо и праведно. Таким образом, настоящая христианская справедливость невозможна без праведности, без любви к ближнему, без милосердия.
Но существуют и нехристианские подходы.
Так, дохристианский подход к справедливости лучше всего был выражен принципом «око за око и зуб за зуб».
Современные внехристианские взгляды на справедливость носят ещё более жёсткий посыл. Они могут исходить из классового, расового или какого-либо другого репрессивного посыла. Поощряя одних и, напротив, сдерживая других из чисто идеологических принципов. Это может происходить под лозунгом радикального равенства, но приводящего к жёстким репрессиям тех, кто не соответствует критериям принятого «равенства». Революционное «грабь награбленное» на самом деле значительно тотальнее и в нравственном плане нисколько не справедливее самого грабежа, тем более что под него неизбежно попадает и вовсе не награбленное.
Так или иначе, поиск и достижение справедливости безусловно связан с судом, с рассмотрением дел человеческих с точки зрения закона либо государственного, либо нравственного.
И здесь встаёт весьма неудобный вопрос, а действительно ли люди, требующие справедливости, готовы сами пройти нелицеприятный суд своих человеческих дел?
Как правило «искатели справедливости» к этому не готовы, в стиле «а нас-то за что», мы ведь выступаем «за народное благо».
Видя себя изначально несправедливо обиженными, обойдёнными, они видят себя судьями не над собой, а над другими. Над теми, которых они считают изначально виновными.
Такое стремление к справедливости (в свою пользу) рождает ещё больше несправедливости, чем даже при обычном течении дел. Оно разжигает страсти, оно мстительно и способно дойти до революционных потрясений целого общества.
Наибольшее количество голосов про справедливость традиционно раздаётся в левом политическом спектре. Именно там призывают взять в свои «мозолистые» революционные руки борьбу за права «угнетённых». И недрогнувшей железной рукой карать, карать и карать «угнетателей», пока никого не останется.
Проблема состоит в том, что постепенно с развитием карательной практики, как это и было при большевиках, «врагами народа» становится почти весь народ, все слои населения. Начинают с царей, военных, духовенства и самых богатых. Далее репрессируют средние слои и даже самый многочисленный слой – крестьянство.
Сегодня революционная борьба за «социальную справедливость» словесно легко окрашивается в любые внешние тона, от ярко интернационально-коммунистических до национально-социалистических.
Общепатриотическая риторика легко уживается с революционными призывами и шовинистически советскими ожиданиями. При этом ленинско-сталинская террористическая практика борьбы со своими противниками нравится как членам КПРФ, так и всевозможным заправдистам, прохановцам и неоевразийцам.
Левый радикализм и политический экстремизм всегда сопровождают пропаганду «социальной справедливости». Это прекрасно отработанное прикрытие всех людей, стремящихся к власти через революционные потрясения.
Здесь лозунг «за социальную справедливость» выбирается как революционный таран.
Вот здесь и лежит глубокая и непереходимая разница между различными вариантами левых идеологий и правым консерватизмом в вопросе о справедливости.
В этом смысле постулаты Ивана Ильина «неодинаковое обхождение с неодинаковыми людьми», «предметно-обоснованное неравенство» и «справедливость есть искусство неравенства» значительно более близки поиску идеальной справедливости в земных условиях, чем все равенства, социализмы и либерализмы, вместе взятые.
Прочтите рассуждения Ивана Ильина о справедливости – и вы поймёте, что между левым и правым подходами к справедливости нет никакого сходства.
«На самом деле люди неравны от природы и неодинаковы ни телом, ни душою, ни духом. Они родятся существами различного пола; они имеют от природы неодинаковый возраст, неравную силу и различное здоровье; им даются различные способности и склонности, различные влечения, дары и желания; они настолько отличаются друг от друга телесно и душевно, что на свете вообще невозможно найти двух одинаковых людей. От разных родителей рожденные, разной крови и наследственности, в разных странах выросшие, по-разному воспитанные, к различным климатам привыкшие, неодинаково образованные, с разными привычками и талантами – люди творят неодинаково и создают неодинаковое и неравноценное. Они и духовно неодинаковы: все они – различного ума, различной доброты, несходных вкусов; каждый со своими воззрениями и со своим особым правосознанием. Словом, они различны во всех отношениях. И справедливость требует, чтобы с ними обходились согласно их личным особенностям, не уравнивая неравных и не давая людям необоснованных преимуществ. Нельзя возлагать на них одинаковые обязанности: старики, больные, женщины и дети не подлежат воинской повинности. Нельзя давать им одинаковые права: дети, сумасшедшие и преступники не участвуют в политических голосованиях. Нельзя взыскивать со всех одинаково: есть малолетние и невменяемые, с них взыскивается меньше; есть призванные к власти, с них надо взыскивать строже и т. д.».
Как видим, правый консерватизм смотрит на социальную справедливость совершенно не так, как левые идеологии. Они противоположны, как революция и христианство. И противоположность прежде всего в отношении к человеку. Разница определений: «злые бесхвостые обезьяны» (Троцкий) и «сыны Божии» (Священное Писание) очевидна.
Со «злыми бесхвостыми обезьянами» можно и даже нужно поступать жёстко и насильственно. Многомиллионные колхозы без зарплат и пенсий, прикрепление к предприятиям без права смены места работы, широкомасштабный ГУЛАГ, регулярные репрессии, тотальный контроль за всеми сферами общественной жизни, гонения на религию абсолютно естественны если вы исходите из того, что человек – это «злая бесхвостая обезьяна» и больше ничего. Отрицание образа Божия, по сути, расчеловечивание, разрешает левым относиться к людям совершенно бесчеловечно, как к бессловесным скотам, проделывая над ними любые эксперименты.
Добродетель справедливости, на самом деле, состоит вовсе не в том, чтобы всех социально и материально уравнять. А в том, чтобы мы всем и каждому отдавали должное, ни в чем, не нарушая их прав.
Вопрос о справедливости значительно более сложный вопрос, чем об этом говорят левые. Практика левых в поиске справедливости глубоко порочна, разрушительна для общества. Даже и якобински настроенные современные формальные патриоты в этом плане идут в фарватере левых идеологий. Принцип радикального равенства совершенно не работает. Он несправедлив и приводит лишь к уравниловке, грабежу и репрессиям.
Левая справедливость появляется в обществах через кровавые революции и гражданские войны и устанавливает свои антихристиански безжалостные и глубоко античеловечные классовые правила, практикуя массовый террор и общественные репрессии.
Не нужно соблазняться левой пропагандой, а то живые вновь позавидуют мёртвым. Собственно, об этом эта книга.
I. КРИТИКА МАРКСИЗМА И КОММУНИСТИЧЕСКИХ ВОЖДЕЙ (МАРКС, ЭНГЕЛЬС, ЛЕНИН, ТРОЦКИЙ, СТАЛИН)
-–
1. Марксизм как опиум для народов
Советской власти нет уже более 30 лет, но сам марксистский идеологический «опиум» не выведен из обращения, коммунистические дилеры продолжают свою деятельность и ищут новые пути сбыта своего смертоносного дурмана.
Левые идеологи, особенно на Западе, часто говорят о том, что советский большевизм является сильным извращением марксизма.
Это было характерно для европейских марксистов типа Парвуса, критиковавших Ленина ещё в 1918 году:
«Если марксизм является отражением общественной истории Западной Европы, преломленной сквозь призму немецкой философии, то большевизм – это марксизм, выхолощенный дилетантами и преломленный сквозь призму русского невежества»1.
Или для марксистов-радикалов типа Троцкого, обвинявших Сталина в бонапартизме и бюрократическом предательстве революции. Троцкого не устраивало даже смягчение борьбы с семьёй в СССР.
«Революция сделала героическую попытку, – писал Троцкий, – разрушить так называемый «семейный очаг», то есть архаическое, затхлое и косное учреждение… Место семьи… должна была, по замыслу, занять законченная система общественного ухода и обслуживания»2.
Эта неправда говорится для того, чтобы обелить Маркса и марксизм, обвинив во всех практических зверствах только якобы «русскую» большевистскую практику, опять же якобы «извратившую» великие идеи.
Человеконенавистнические идеи марксизма могли породить только человеконенавистническую практическую большевистскую реализацию. Советские большевики ничего не извращали, а были самыми последовательными, буквальными идейными «начетчиками» марксистской догмы.
Марксизм был революционным опиумом для народов, а большевики были лучшими дилерами, распространителями этой отравы для себя и других народов. Все их социальные иллюзии, одурманивающие мечтания, их идеологический «героин» были целиком синтезированы ещё Марксом в его «Манифесте», коммунисты лишь усердно распространяли его страшные формулы по всему миру.
Марксовский «Коммунистический манифест» был буквально скопирован Лениным в его практике «военного коммунизма» и далее в сталинской политике вплоть до его смерти. Здесь и «классовая борьба между буржуазией и пролетариатом», и оценка крестьянства как нереволюционного, консервативного и реакционного класса, «стремящегося повернуть назад колесо истории». Здесь же и реализация «диктатуры пролетариата» совершенно по Марксу, для которого он, «пролетариат, этот низший слой нашего современного общества, не может двинуться, не может подняться без того, чтобы высшие слои официального общества целиком не взлетели на воздух». Русское общество было буквально взорвано большевиками, чтобы все нижние слои этого общества могли «всплыть» на поверхность и развязать кровавую классовую войну в масштабах всего Русского мира, а далее с прицелом на мировое господство.
Прямо по пунктам «Манифеста» ленинская партия требовала признать право, мораль и религии «буржуазными предрассудками, за которыми скрывается так много буржуазных интересов». Изречение Маркса «Религия – это опиум для народа» стало смыслом отношения советского государства к религии.
Здесь же и экспроприация ценностей, и национализация, для того чтобы сделать пролетариат правящим классом. Опять же по Марксу, всё это «не может быть осуществлено иначе, как посредством деспотического посягательства на право собственности и условия буржуазного производства». При этом здесь нет никакого отмирания государства, напротив, оно у Маркса предельно тоталитарно и деспотично, как и на практике у большевиков.
И наличие широко практиковавшегося большевиками террора было уже прописано у Маркса в его «Манифесте»:
«Пусть правящие классы дрожат перед коммунистической революцией и насильственностью переворота и прихода к власти тоже: цели могут быть достигнуты только насильственным ниспровержением всех существующих социальных условий».
В советской практике не получилось лишь перманентной революции и столь же бесконечно продолжающейся коммунистической диктатуры просто в силу того факта, что одурманивающие свойства коммунистического «опиума» имеют свои пределы. Сколько ни делай социальных «инъекций» – революций, общество, как и природа, начинает, как после пожара, восстанавливать ровно ту же социальную структуру, какую революционеры так яростно желали уничтожить. Социальная неизбежность внемарксистской структуры общества, как её ни уничтожай, будет вырастать вновь и вновь из национальной психологии.
Именно следование и даже определённое буквоедское следование марксовым идеям привела Ленина и его партию на грань краха советского хозяйства, показала самим коммунистам неприменимость жёсткого марксистского подхода к реальной жизни. Именно экономический тупик «военного коммунизма» привёл к необходимости отказаться от проведения жёсткой марксистской догмы в жизнь советского общества и перейти к НЭПу. Но как только общество начало возвращаться к естественным собственническим инстинктам, партия ликвидировала НЭП как политически опасный для своей власти. И марксизм в практике Сталина возвращается к своим догмам, к «построению социализма и перехода к коммунизму».
Интересно, что такая марксистская практика привела не к уничтожению капитализма, а его огосударствлению, то есть построению жестокого, тоталитарного государственного капитализма.
Маркс, как и большевики, был приверженцем террора. Так, после убийства Императора Александра II он писал своей дочери Дженни, что террор «был исторически неизбежным способом действия, обсуждать моральность или неморальность которого так же бесполезно, как обсуждать моральность или неморальность землетрясения на хиосе».
Так что алиби у Маркса, якобы идейно не виновного в большевистских практиках, нет и быть не может. Большевики были последователями, буквально «верующими» в Маркса, которым не приходило в голову проводить какую-либо ревизию его учения. Они, напротив, жестоко карали всякого, кто позволял себе сомневаться или даже просто трактовать иначе учение Маркса. Это было величайшим преступлением против советской власти, ревизионисты и уклонисты всех мастей кончали жизнь в концлагерях и у расстрельной стенки.
Часто любят ссылаться на слова Маркса, сказанные им как-то Лафаргу по поводу французских марксистов: «Если что несомненно, то это то, что я не марксист». Но эта фраза относилась к его тактическим расхождениям с геддистами, представителями Французской рабочей партии, последователями Жюля Геда. Теоретиком этой партии и был Лафарг.
Нет никакой возможности говорить о двух Марксах. Одном – революционном, написавшем «Коммунистический Манифест», а другом – эволюционном, авторе «Капитала».
Социализм и коммунизм для Маркса и для советских большевиков были лишь этапами одного и того же коммунизма. Социализм был лишь низшей фазой коммунизма, стремившейся к высшей.
Вся разница между фазой социализма и коммунизма в разрыве фазы вознаграждения на труд. В социалистической фазе распределения по «труду» вознаграждение связано с трудом. В коммунистической фазе распределения «по потребностям» вне зависимости от выполненного «труда» марксистам казалось возможным разорвать прямую связь вознаграждения с выполненным трудом. И каким-то невообразимым способом стимулируя труд формулой «от каждого по его способностям», заявить о построении коммунистического общества.
Ужас марксизма и его большевистской практики в том, что эти люди, одурманенные своим тяжёлым идеологическим «героином», стремились к власти не для того, чтобы усовершенствовать то общество, в котором они жили. Они делали революцию, чтобы имеющееся общество со всей его исторически сложившейся социальной сложностью взорвать изнутри, а затем полностью утилизировать.
Эти классовые террористы были «патологоанатомами», проводившими вскрытие живых социальных организмов, неся им смерть.
У Маркса, как и далее у большевиков, вся сложная социальная структура общества упрощалась до двух враждебных лагерей: пролетариата и буржуазии, под именем которой понималось всё остальное общество.
«Научность» подобного подхода марксизма сродни «законности» воров в законе. Такая «научность» научна только внутри марксистского партийного сообщества, как и «законность» воров в законе законна только в их воровских группах.
Обещание полной социальной справедливости при апелляции к самым низменным инстинктам масс ближе к бандитским сообществам или своеобразным псевдорелигиозным сектантским группам.
Марксизм и его порождение большевизм является социальной антирелигиозной религией, псевдорелигией. Вытравливая из своих адептов подлинно религиозные чувства, эта воинствующая религия атеизма имеет многие «священные» атрибуты: своих пророков (вождей и идеологов), свои иконы (плакаты вождей), свои священные гробницы (мавзолей), свои священные тексты (труды классиков марксизма-ленинизма), свои жития (описание жизни революционеров), даже своих еретиков (уклонисты и ревизионисты всех мастей) и т. д. Эта жестокая антирелигиозная секта гордилась тем, что в её обществе нет безработицы, забывая, что и в рабовладельческом хозяйстве, и на каторге тоже не бывает безработицы.
Маркс и большевики обещали всему миру создать общество свободных людей. В реальности же коммунисты смогли создать коротковременное советское общество, разбитое на правящую партию и сбитый для лучшего партийного руководства в рабочие коллективы «советский народ». «Советский народ», который, как только увидел очередное перестроечное брожение в партийных правящих слоях, пожелал разбежаться по национальным квартирам и вернулся из «опиумного» интернационального дурмана к национальной жизни.
Советской власти нет уже более трёх десятилетий, но сам марксистский идеологический «опиум» не выведен из обращения. Нашему обществу нужно излечиться от этой опиумной советской зависимости, и светлое русское будущее станет возможным.
2. Карл Маркс: атеизм, революция, расовая нетерпимость
Вначале был атеизм
Карл Маркс сформировал своё мышление при громадном влиянии философии Гегеля. В молодости пройдя через младогегельянское движение, Маркс так никогда и не смог преодолеть влияние этой немецкой системы.
Левые гегельянцы отличались от правых своим взглядом на религию, который был радикально атеистичен. Поводом к разделению на левых и правых гегельянцев послужила книга Давида Штрауса «Жизнь Иисуса» (1835 г.), воинственно-рационалистически трактующая начальную историю христианства. По сути, крайний рационализм этой книги способствовал появлению на свет не только левых гегельянцев, но и радикальной Тюбингенской школы в лютеранском богословии. Кстати, Тюбингенскую семинарию в рамках одноименного университета окончил и сам Гегель.
«Неизбежный» рукотворный коммунизм
Для молодого Маркса было важно переформатировать гегельянство в рационально-атеистическую философию и придать ей практическую действенность.
Как он писал ещё в 1844 году: «Идеи вообще ничего не могут осуществить. Для осуществления идей требуются люди, которые должны употребить практическую силу»3.
Марксизм с его провозглашенной «неизбежной» победой в будущем коммунизма есть мировоззренческая и одновременно практическая система, которая через партийное строительство стремится «сотворить» на практике то, что теоретически провозглашается как «неизбежное».
То есть марксистское «неизбежное» будущее должно твориться в современности руками марксистской партии, что само по себе, мягко говоря, не лишено двусмысленности. Если что-либо неизбежно, то оно и так материализуется в этом мире, и для его появления не нужно организовывать революции и проливать моря крови. Если же коммунистическое светлое будущее не неизбежно, а значит, не является естественным ходом развития человечества, то стоит ли его «рукотворно» добиваться, не считаясь ни с каким количеством принесенных человеческих жертв? Ведь никто этого «коммунистического рая» не видел.
Но многие пожили в его крайне бесчеловечных социалистических «предбанниках» под названием СССР, КНР, Социалистическая республика Вьетнам, Камбоджа «красных кхмеров» и некоторых других.
Интересно, что сам Маркс особо подчеркивал, что он не является изобретателем ни понятия классов, ни идеи борьбы между ними. Он гордился своими утверждениями о том, что борьба классов связана с определенными фазами развития производства, что классовая борьба должна привести к установлению диктатуры пролетариата, и что эта диктатура уничтожит все классы и приведет к бесклассовому обществу.
Это «неизбежное», с точки зрения Маркса, светлое будущее тем не менее рукотворно, и должно достигаться через революцию и диктатуру пролетариата.
Расистская теория о «контрреволюционных» и «неисторических» народах
Карл Маркс и Энгельс были идеологами «революционной нетерпимости», которая выросла из национальной нетерпимости немецкой философии.
По Гегелю, идеальным и наивысшим воплощением объективного духа было само прусское государство. Гегель был радикальным немецким этатистом и даже называл государство Богом и абсолютной самоцелью. Именно в немецком государстве он видел осуществление свободы каждого в единстве всех немцев.
Хотя Маркс не был по своему темпераменту, по своему психологическому типу и по своему происхождению немцем, по своей умственной выработке, по своей осознанной цивилизационной «прописке» он, безусловно, немцем стал. Маркс смотрел на окружающий мир во многом глазами немца. И в этом мире наиболее нелюбимым для него, как и для среднестатистического немца того времени, был мир славянства, а среди славянских народов самым нелюбимым был русский. Нелюбимым потому, что именно он построил Российскую империю, боровшуюся с революцией Маркса и его единомышленников. Славян Маркс называл не историческими народами, а народами контрреволюционными. Революция по Марксу должна будет окончательно решить судьбу этих славянских народов.
Его товарищ Энгельс в статье 1849 года по поводу венгерского восстания даже утверждает, что миссия всех славянских племен Австро-Венгрии «заключается, прежде всего, в том, чтобы погибнуть в революционной мировой буре. И потомуто они теперь контрреволюционны… Все эти маленькие тупоупрямые (stierkoepfigen) национальности будут сброшены, устранены революцией с исторической дороги»4.
Шовинистическое лицемерие «апостола» интернационализма
Интересно, что немецкие взгляды Маркса особо обострялись во время серьезных противостояний немецких государств с соседями. Так было накануне и во время франко-прусской войны 1870–1871 годов.
В письме Энгельсу от 20 июля 1870 года Маркс на фразу французского революционера Шарля Делеклюза (1809–1871 гг.), что «Франция – единственная страна идей», дает следующий свой комментарий. «Это чистейший шовинизм! – восклицает он. – Французов надо вздуть (die Franzosen brauchen Pruegel). Если пруссаки победят, то… преобладание немцев перенесет центр тяжести европейского рабочего движения из Франции в Германию. Германский рабочий класс выше французского как с точки зрения теоретической, так и организационно. Преобладание на мировой арене немецкого пролетариата над французским будет в то же время преобладанием нашей теории над теорией Прудона»5.
Такой вот был лицемерный взгляд у марксистского «апостола» интернационализма. Даже французские товарищи по движению вызывали ненависть, когда речь шла о его первенстве, первенстве его теории, его немецкого пролетариата, его пруссаков.
Маркс как русофоб и расист
Культ Маркса в Советском Союзе был безграничен, но даже в собрании сочинений своих классиков коммунисты не решались опубликовать его русофобские тексты. Например, такие как «Разоблачения дипломатической истории XVIII века», напечатанные впервые в 1856–1857 гг., были опубликованы на русском языке только в 1989 году.
Четвертая глава этого сочинения Маркса даёт яркие образчики его русофобской ненависти. Вот несколько хотя и длинных, но для людей непредвзятых должных быть весьма вразумляющими цитат из классики марксизма.
О Русском государстве в целом: «Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов. А современная Россия есть не что иное, как преображенная Московия»6.
О русских князьях: «Именно в этой постыдной борьбе московская линия князей в конце концов одержала верх».
О святом благоверном Великом князе Иоанне Калите: «Ни обольщения славой, ни угрызения совести, ни тяжесть унижения не могли отклонить его от пути к своей цели. Всю его систему можно выразить в нескольких словах: макиавеллизм раба, стремящегося к узурпации власти. Свою собственную слабость – своё рабство – он превратил в главный источник своей силы».
Особенно досталось Великому князю Иоанну III, создателю единого русского государства: «хотя огромная опасность, которую он на себя навлек, не смогла заставить его проявить даже каплю мужества, его удивительная победа ни на одну минуту не вскружила ему голову. Действуя крайне осторожно, он не решился присоединить Казань к Московии, а передал её правителям из рода Менгли-Гирея, своего крымского союзника, чтобы они, так сказать, сохраняли её для Московии. При помощи добычи, отнятой у побежденных татар, он опутал татар победивших. Но если этот обманщик был слишком благоразумен, чтобы перед свидетелями своего унижения принять вид завоевателя, то он вполне понимал, какое потрясающее впечатление должно произвести крушение татарской империи на расстоянии, каким ореолом славы он будет окружен, и как это облегчит ему торжественное вступление в среду европейских держав. Поэтому перед иностранными государствами он принял театральную позу завоевателя, и ему действительно удавалось под маской гордой обидчивости и раздражительной надменности скрывать назойливость монгольского раба, который ещё не забыл, как он целовал стремя у ничтожнейшего из ханских посланцев. Он подражал, только в более сдержанном тоне, голосу своих прежних господ, приводившему в трепет его душу. Некоторые постоянно употребляемые современной русской дипломатией выражения, такие как великодушие, уязвлённое достоинство властелина, заимствованы из дипломатических инструкций Ивана III».
О «исторической» нелюбви России к республикам: «Стоит ещё отметить те изощрённые усилия, которые Московия, так же, как и современная Россия, постоянно прилагала для расправы с республиками. Началось с Новгорода и его колоний, затем наступила очередь казачьей республики, завершилось все Польшей. Чтобы понять, как Россия раздробила Польшу, нужно изучить расправу с Новгородом, продолжавшуюся с 1478 по 1528 год».
О православной доминанте Москвы: «Православное вероисповедание служило вообще одним из самых сильных орудий в его действиях. Но кого избрал Иван, чтобы заявить претензии на наследие Византии, чтобы скрыть под мантией порфирородного клеймо монгольского рабства, чтобы установить преемственность между престолом московитского выскочки и славной империей святого Владимира, чтобы в своём собственном лице дать Православной церкви нового светского главу? Римского папу. При папском дворе жила последняя византийская принцесса. Иван выманил её у папы, дав клятву отречься от своей веры, клятву, от которой приказал своему собственному примасу освободить себя».
О «монгольском рабстве», о России и Западе: «Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала virtuosa в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира… Так же как она поступила с Золотой Ордой, Россия теперь ведет дело с Западом. Чтобы стать господином над монголами, Московия должна была татаризоваться. Чтобы стать господином над Западом, она должна цивилизоваться… оставаясь Рабом, т. е. придав русским тот внешний налет цивилизации, который бы подготовил их к восприятию техники западных народов, не заражая их идеями последних».
Вся русская история характеризуется как «рабство», колыбелью которой было по Марксу «кровавое болото монгольского рабства», князья и цари именуются «монгольскими рабами», страна в польском стиле называется не иначе, как «Московией».
Чем отличается эта марксистская русофобия и революционный расизм от взглядов идеологов национал-социализма? Да ничем, общеевропейский взгляд что тамошних нацистов, что марксистов, что русофобских представителей любых других идеологических измов.
Вот цитата из книги «Моя борьба» Гитлера: «Не государственные дарования славянства дали силу и крепость русскому государству. Всем этим Россия обязана была германским элементам – превосходнейший пример той громадной государственной роли, которую способны играть германские элементы, действуя внутри более низкой расы…»
Поменяйте словосочетание «германский элемент» на «монгольский», а «низкую расу» на слово «раб», и вы получите текст Маркса. Такая же ненависть и такое же расовое пренебрежение, почти общеевропейское…
В 1865 году Маркс предложил на Лондонской конференции набросок программы для Женевского конгресса Интернационала, где в разделе «Международная политика» педалировал только один вопрос: «О необходимости уничтожения московитского влияния в Европе путём осуществления права наций на самоопределение и восстановление Польши на демократических и социальных основах»7.
22 января 1867 года Маркс, выступая на польском митинге в Лондоне, вопрошал: «Я спрашиваю вас, что же изменилось? Уменьшилась ли опасность со стороны России? Нет! Только умственное ослепление господствующих классов Европы дошло до предела… Путеводная звезда этой политики – мировое господство – остаётся неизменной. Только изворотливое правительство, господствующее над массами варваров, может в настоящее время замышлять подобные планы… Итак, для Европы существует только одна альтернатива: либо возглавляемое московитами азиатское варварство обрушится, как лавина, на её голову, либо она должна восстановить Польшу, оградив себя таким образом от Азии двадцатью миллионами героев».
Опасность со стороны России, «азиатское варварство», обвинения в стремлении к «мировому господству» – каких только русофобских напраслин ни сочинял Карл Маркс о нашей стране.
Как можно, зная эти марксовы тексты, быть русским и одновременно марксистом? Не понимаю. Впрочем, так же не понимаю, как можно быть русским и одновременно исповедовать какую-нибудь из других многочисленных западнических идеологий. Тоже не меньший нонсенс.
Русское тысячелетнее государство потому и отдельное, и суверенное, и независимое образование, что оно и есть самое яркое составляющее исторического факта – русского национального обособления, которое было реализовано нашими предками в далёком прошлом древнерусского государства. Обособление от соседей есть уяснение того, что мы – не они, а они – не мы. И это – абсолютно не переходимая религиозная, психологическая и политическая грань Русского мира, дожившего до сего дня. И строить будущее Русского мира с любой идеологией из-за этой внерусской грани – только подрывать народные силы и тратить безвозвратно русское время, как бы эта западная идеология ни называлась.
Кто финансировал революционную ненависть Карла Маркса?
В литературе существует множество свидетельств по поводу финансирования деятельности Карла Маркса. Кроме его «карманного» друга, фабриканта Энгельса, всю жизнь на свои средства тянувшего семью Маркса, есть ещё несколько составляющих безбедного существования борца с мировым капитализмом.
Первым, по крайней мере, как курьера, называют работорговца и пирата Жана Лаффита (1782–1854 гг.). Еврей по происхождению, закончивший свою карьеру приватизатора и контрабандиста, он стал доверенным лицом у финансистов Уолл-стрит в Нью-йорке. Такие финансовые воротилы, как Дюпон, Пибоди, и политики, как Линкольн и другие, поручали ему проворачивать самые темные дела.
В 1848 году Лаффита послали в Европу. В его дневнике об этой поездке написано так: «Никто не знал истинных причин моего пребывания в Европе. Я открыл счёт в парижском банке – кредит на хранение для финансирования двух молодых людей: господ Маркса и Энгельса. Им нужно помочь в осуществлении революции во всём мире. Они сейчас над ней работают».
Не меньше помогала Марксу крупнейшая ежедневная американская газета «Нью-йорк Трибьюн», принадлежавшая крупному финансисту хорасу Грили (1811–1872 гг.). Маркс напечатал в ней более пятисот статей в 1851-1861 годах, получая немалые деньги.
Вообще, надо сказать, борец с капитализмом неплохо уживался с самыми серьезными «акулами» из этого мира. Да и аристократические связи его жены эксплуатировались Марксом по полной программе.
Сводным братом жены «ниспровергателя старого порядка» был барон Фердинанд фон Вестфален, занимавший пост министра внутренних дел Пруссии в 1850–1858 годах и бывший доверенным лицом многих германских банкирских домов.
На протяжении всей жизни Маркса доходы с нескольких поместий семьи Вестфаленов были в его распоряжении.
В связи с этим интересна версия известного американского экономиста Энтони Саттона (1925–2002 гг.) о цели финансирования Маркса: «цель финансирования Маркса была одна – всей мощью марксистской философской канонады обрушиться на средний класс и таким образом добиться господства элиты. Марксизм – это средство для упрочения власти элиты. Он не ставит своей задачей облегчить страдания бедных или способствовать прогрессу человечества. Это всего лишь план элиты, как та утопия, “наивная и незамысловатая”».
Огромная помощь, осуществляемая западными странами СССР при Ленине, Сталине и Хрущеве, вполне вписывается в эти размышления и неплохо доказана Саттоном в его трехтомном исследовании «Западные технологии и развитие Советской экономики» (1917–1965 гг.) (1968 г., 1971 г., 1973 г.).
Пора изживать марксистское мировоззрение, если мы хотим жить дальше
Маркс в «Манифесте коммунистической партии» (1848 г.) утверждал, что «коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности». Это стремление к всеобщему насильственному обобществлению собственности в руках коммунистической партии усиливается в «Манифесте…» ещё и выступлением за «отмену права наследования».
И «уничтожение частной собственности», и «отмена права наследования», как мы видели в России XX столетия, происходили кровавыми диктаторскими методами, без всякого согласия со стороны репрессируемого населения.
Ужас марксизма и его революционной практики в том, что они происходят в тех обществах, которые Западу не жалко. Все марксистские кровавые эксперименты проводились вне Запада. В России, в Китае, в Индокитае, в тех странах, которые с помощью марксизма нужно было полностью утилизировать, списать с мировой исторической сцены.
Классовые террористы никогда не добирались до реальных финансовых центров Великобритании и США и почемуто всегда устраняли тех, кто вставал на пути этих стран.
Марксистский западнический идеологический дурман выветривается трудно. Он даёт всевозможные побочные синкретические отравления то разновидностями национал-большевизма, то невообразимым «зельем» типа православного сталинизма или другими вариантами политических снадобий на основе левоправых идеологических «бледно-белых поганок».
Но сегодня в России у марксизма нет будущего. Или если конкретизировать, то сегодня дилемма выглядит следующим образом: либо Россия, либо снова марксизм вместо России.
Сам Маркс нам – не отец и не учитель, а злобный дальний родственник тех красных вождей, которые кроваво правили нами во времена коммунистического ига. А потому пускай славу Марксу, русофобу и расисту, воздают только в узких кругах левых потребителей его идеологического «опиума», без которого они уже не могут представить своей жизни.
3. Фридрих Энгельс: марксистский генерал от русофобии
Фридрих Энгельс (1820–1895) родился в семье фабриканта. Его отец, а затем и сам Фридрих владели хлопкопрядильной фабрикой Ermen & Engels вместе со своим партнёром Эрменом. Учился в гимназии, но по настоянию отца её не окончил. Продолжил образование в Бремене на торгового работника. Затем слушал лекции по философии в Берлине, но так и не получил университетского диплома.
Фридрих Энгельс и классовый взгляд на семью
Фридрих с молодых лет любил породистых лошадей и хорошеньких женщин, этаких «гризеток» из простых и не сильно социально ответственных. Эти интересы он пронёс через всю жизнь. На склоне лет, в 1893 году, в одном из писем своему брату Герману Энгельсу он в шутливой форме писал: «Я никогда не прощу Бисмарку, что он исключил Австрию из состава Германии, хотя бы из-за одних венок»8.
Венок он ставил на одну доску с парижанками, а вот северных немок считал менее ветреными и оттого более скучными.
К институту брака Энгельс относился отрицательно. В одном из своих наиболее известных сочинений «О происхождении семьи, частной собственности и государства» он пытался доказать, что единобрачие является лишь одной из эксплуататорских форм семьи. Ему казалось, что изначально в человеческом обществе господствовали беспорядочные половые связи. Они ему казались более свободными, а оттого и более симпатичными и не вызывающими никакого отторжения.
Моногамная семья для Энгельса была столь же классово неприемлема, как общество и государство. «Семья, – утверждал классик марксизма, – даёт нам в миниатюре картину тех же противоположностей и противоречий, в которых движется общество, разделённое на классы со времени наступления эпохи цивилизации, и которые оно не способно ни разрешить, ни преодолеть»9.
Как коммунист он, естественно, отрицал и христианский брак, открыто живя сначала с Мэри Бёрнс (1821–1863), которая работала с девятилетнего возраста на отцовской фабрике, а затем (или не совсем затем) с её сестрой Лиззи (1827–1878). Расписался официально с обоими поочерёдно он только перед самой их смертью. Сожительство с этими ирландками не останавливало влюбчивого Энгельса от других романов так часто, что это даже беспокоило жену Маркса, которая небезосновательно боялась такого скверного примера для своего мужа. Тот также отрицал брак, что однажды привело к беременности их служанки. Чтобы не расстраивать супругу Маркса, родившегося ребёнка пришлось признать своим Энгельсу. После рождения Энгельс отправил родившееся дитя с глаз долой… в детдом.
Мировая революция, диктатура пролетариата, счастье всего человечества, коммунизм – ничего не должно было отвлекать двух закадычных друзей от этих «высоких» гуманистических идей.
Продав в 1870 году свою долю буржуазного бизнеса, Энгельс жил в Лондоне, состоял членом разных элитных клубов и предавался весьма дорогим удовольствиям, например, охоте на лис.
Какие же человеческие качества сам Энгельс считал особенно характерными для себя?
Судя по анкете в дневнике дочери Маркса Женни Маркс, главным своим качеством Энгельс почитал «относиться ко всему легко». Счастье ему виделось в образе «Шато Марго» 1848 года розлива. Любимым занятием он почитал «дразнить и быть дразнимым», «всё полузнать» и не заморачиваться особыми принципами.
Как истовый борец с частной собственностью и прочими буржуазными пережитками Энгельс к моменту своей смерти имел в Лондоне огромный дом, немалые деньги и многочисленные «ценные бумаги»10 «в виде государственных бумаг, акций»11, приносивших ему всю жизнь приличные проценты. Судя по завещанию, он имел своих постоянных маклеров – «господа Клейтон и Астон»12, повара и секретаря.
Но всемирно известен Фридрих Энгельс стал не типично буржуазной личной жизнью, а тем, что со своим другом Карлом Марксом создал одноимённое политическое учение и организовывал коммунистическое движение. Здесь он был непререкаемым, настоящим марксистским вождём.
Отношение Фридриха Энгельса к России
Энгельс считал себя военным знатоком и написал огромное количество статей по различным войнам своего времени. В кругу знакомых за многочисленные статьи по военным вопросам Фридриха Энгельса даже стали звать «генералом».
А поскольку Россия вела во время его жизни активную внешнюю политику и вынуждена была участвовать во многих войнах, то от Энгельса ей доставались постоянные марксистские журналистские пинки.
Основатели марксизма преподносились нам всегда как последовательные интернационалисты. Но именно марксистские взгляды не позволяли Энгельсу взглянуть на Российскую Империю и славян спокойным отстранённым взглядом аналитика. Как немец и революционер Энгельс был ужасно испуган венгерским походом русской армии в революционную Венгрию в 1848 году. Русская армия и славянское ополчение, подавлявшее венгерское восстание, создало в голове Фридриха неустраняемый страх перед панславизмом.
Немецкие и мадьярские цивилизаторы в глазах Энгельса втягивали славянских «варваров» в европейское движение13. И он искренне негодовал на их «варварскую» неблагодарность.
Идеолог марксизма, даже в семьях видевший классовую вражду, разделял нации на революционные и на контрреволюционные. «На стороне революции, – писал Энгельс, – оказались немцы, поляки и мадьяры; на стороне контрреволюции – остальные, то есть все славяне, кроме поляков… Откуда появилось это разделение наций, какими причинами оно объясняется? Это разделение соответствует всей прежней истории данных народностей… Среди всех больших и малых наций Австрии только три были носительницами прогресса, активно воздействовали на историю и ещё теперь сохранили жизнеспособность; это немцы, поляки, мадьяры. Поэтому они теперь революционны. Всем остальным большим и малым народностям и народам предстоит в ближайшем будущем погибнуть в буре мировой революции. Поэтому они теперь контрреволюционны»14.
Фридрих видел большую заслугу Австрии перед славянами в том, что те не превратились «в турок». И считал, что славянам «за неё стоит заплатить даже переменой своей национальности на немецкую или мадьярскую»15. Он предлагал им ассимилироваться в знак «благодарности».
Интересно, что роль России в том, что славяне не отуречились, наш теоретик не видел напрочь. В его глазах славянам нужно было бы совершенно правильно омадьяриться или онемечиться, а, например, вовсе не русифицироваться. Последнее ему приходило в голову только как страшный европейский панславистский сон. А ведь к тому моменту Российская Империя вела уже более ста пятидесяти лет русско-турецкие войны, в том числе и для того, чтобы славяне не отуречились.
Панславизм для него изначально был реакционен. хотя, например, для другого революционера, идеолога анархизма, русского по происхождению Бакунина он был, напротив, прогрессивен, как освободительное движение.
Но для Энгельса как немца ужас перед Русским царём первичен, хоть и завуалирован. Он писал: «Непосредственной целью панславизма является создание славянского государства под владычеством России от Рудных и Карпатских гор до Чёрного, Эгейского и Адриатического морей – государства, которое, помимо немецкого, итальянского, мадьярского, валашского, турецкого, греческого и албанского языков, охватывало бы приблизительно ещё дюжину славянских языков и основных диалектов. Всё это вместе взятое связывалось бы не теми элементами, которые до сих пор связывали Австрию и способствовали её развитию, а абстрактными качествами славянства и так называемым славянским языком, разумеется, общим для большинства населения»16.
Почему Австрия лучше России как объединяющая сила для Энгельса? Да только потому, что она немецкая и европейская. И он грозит России, славянам, что «при первом же победоносном восстании французского пролетариата… австрийские немцы и мадьяры освободятся и кровавой местью отплатят славянским варварам. Всеобщая война, которая тогда вспыхнет, рассеет этот славянский Зондербунд и сотрёт с лица земли даже имя этих упрямых маленьких наций. В ближайшей мировой войне с лица земли исчезнут не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы. И это тоже будет прогрессом»17.
Такой вот нескрываемый марксистский интернационализм, который и в советском изводе главной целью себе ставил борьбу с «великорусским шовинизмом». И, надо признаться, сильно в этом преуспел…
В другом своём сочинении «Германия и панславизм» наш мстительный культуртрегер заявляет, что «славяне… путём постепенного распространения панславизма впервые заявляют теперь о своём единстве и тем самым объявляют смертельную войну романо-кельтским и германским народам, которые до сих пор господствовали в Европе. Панславизм – это не только движение за национальную независимость, это движение, которое стремится свести на нет то, что было создано историей за тысячелетие; движение, которое не может достигнуть своей цели, не стерев с карты Европы Турцию, Венгрию и половину Германии, а добившись этого результата, не сможет обеспечить своего будущего иначе, как путём покорения Европы… Он ставит Европу перед альтернативой: либо покорение её славянами, либо разрушение навсегда центра его наступательной силы – России».
Интересно, что в своей статье Энгельс ещё не знает никаких украинцев, об освобождении которых потом будет столь сильно радеть марксист Ульянов-Ленин. Говоря о численности славян в Австрии и перечисляя славянские нации, он говорит о том, что русская представлена: «Тремя миллионами малороссов (русинов, рутенов) в Галиции и на северо-востоке Венгрии – единственной русской народностью, находящейся за пределами Российской империи».
Тогда даже враждебно настроенные к России писатели ещё понимали, что галичане – часть русского народа. И Энгельса эта этническая связь пугала. Ему грезилось, что «целый панславистский заговор грозит основать своё царство на развалинах Европы».
Энгельс о Польше как опоре против России
Для Фридриха Энгельса не все славянские народы были варварскими. Поляков он выделял. Потому что те, по его мнению, не связывали свою судьбу со славянским братством, с идеями панславизма, а тяготели больше к свободе и революции. В европейском стиле.
Он даже заявлял, что для рабочего класса «его внешняя политика с самого начала выражалась в немногих словах – восстановление Польши…»18. А само восстановление Польши было необходимостью как «отпор русской угрозе Европе»19.
Россия обвинялась Энгельсом в поглощении Польши. Тогда как в реальности Речь Посполитая была разделена между Россией и любимыми Фридрихом Пруссией и Австрией. Но к последним у немца претензий нет. «Что же касается России, – по мнению Энгельса, – то её можно упомянуть лишь как владелицу громадного количества украденной собственности, которую ей придётся отдать назад в день расплаты»20.
День расплаты – это день революции.
Энгельс приписывал России совершенно сумасбродные действия. Якобы используя принцип национальности и идеи панславизма, Россия ведёт дело к уничтожению Германии, Австрии и Турции. А также ведёт пропаганду по разрушению Швеции во имя «варварских» финских лапландцев. «В настоящий момент русское правительство, – утверждал он без всяких на то оснований, – имеет агентов, разъезжающих среди лапландцев Северной Норвегии и Швеции для агитации среди этих кочующих дикарей в пользу идеи «великой финской национальности»… под протекторатом России»21. Редчайшая антиисторическая чушь…
При этом надо отдать должное проницательности Энгельса. В отличие от очень многих европейцев, он правильно понимал часть русских устремлений. «Едва только Константинополь попал в руки турок, – писал он, – как великий князь московский вписал в свой герб двуглавого орла византийских императоров, объявив себя таким образом их преемником и мстителем в будущем; с тех пор, как известно, русские стремились завоевать царьград, царский город, как они называют Константинополь на своём языке»22.
И «первое и главное притязание России – объединение всех русских племён под властью царя, который называет себя самодержцем всея Руси (Samodergetz vseckh Rossyiskikh), в том числе Белоруссии и Малороссии»23.
Не выходя из шор классового сознания, Энгельс даже в покорении Польши видел классовую войну: «Россия начала подобную войну в Польше ещё около 100 лет тому назад, и это был превосходный образчик классовой войны, когда русские солдаты и малоросские крепостные вместе шли и сжигали замки польских аристократов лишь для того, чтобы подготовить русскую аннексию»24.
Но и «классовая война» в исполнении русских Фридриху не нравилась. Она была не искренней… а завоевательной.
Россия – не европейская страна
Почему же Энгельс был так критичен по отношению к Российской Империи? Да, это была монархия, а Энгельс был республиканцем. Да, Россия была традиционным обществом, а Энгельс проповедовал его разрушение. Да, Русские Самодержцы боролись с революциями в Европе, а ему хотелось революции по всему миру.
Но было и нечто другое, как мне кажется, по-настоящему определяющее позицию Энгельса.
В своей статье «Эмигрантская литература» он выразил её очень чётко: «Как ни развилась Россия со времени Петра Великого, как ни возросло её влияние в Европе… всё же она по существу оставалась такой же внеевропейской державой, как, например, Турция»25.
Чужеродность России для Европы, её «варварство» в глазах европейца – глубочайшее убеждение Энгельса. Его стремление «избавиться от русской реакции и русской армии»26 не исчерпывалось его революционизмом. Оно было глубже, это было цивилизационное неприятие России средним европейцем, каковым был Энгельс по своим бытовым и интеллектуальным стереотипам. Стереотипам глубоким, многовековым, германским, откровенным…
Но у этой откровенности есть, как ни странно, и положительная сторона. Энгельс хоть что-то понимал в психологии своего врага.
И дальнейшие слова – лучшее тому подтверждение: «Русский народ, этот «революционер по инстинкту», – писал Энгельс, – устраивал, правда, бесчисленные разрозненные крестьянские восстания против дворянства и против отдельных чиновников, но против царя – никогда, кроме тех случаев, когда во главе народа становился самозванец и требовал себе трона. Последнее крупное крестьянское восстание при Екатерине II было возможно лишь потому, что Емельян Пугачёв выдавал себя за её мужа, Петра III… Наоборот, царь представляется крестьянину земным богом. «Bog vysok, Car daljok, до бога высоко, до царя далеко», – восклицает он в отчаянии»27.
Этот исторический характер русского народа подмечен очень верно. царистская психология, автократичность восприятия власти, её религиозная неприкосновенность – это те качества, которые действительно создали Русское величие. Величие, которое всеми своими силами стремился подорвать Фридрих Энгельс. И подорвать которое удалось его последователям.
4. Сказки о Ленине и «метиловый коммунизм»
Современные коммунистические пропагандисты, когда говорят о Ленине, обычно понимают, что со старыми большевистскими подходами заново «продать» обществу этот лежалый советский товар не получиться. А потому в своей политической рекламе рисуют новый, и от того совершенно фантастический образ Ленина, где он предстаёт как государственник, сумевший остановить «революцию и реставрировать Российское государство».
Не всё в этой рекламе подвергается ревизии, так неизбежность революции продолжает позиционироваться как вещь объективная, как сила тяготения или сила трения. Революция объявляется безликой силой природы, наподобие урагана или цунами, в разрушениях от которых винить никого не приходит в голову.
Пробольшевистские писатели научились разводить руками и говорить, что они не разрушали Российскую Империю. Мол это всё на совести либералов-февралистов. Это «демократы Керенского развалили армию, разогнали полицию, парализовали хозяйство и транспорт», а Ленин был, мол, не у дел, то в Швейцарии, то в Финляндии.
Ленинская политика объявляется спасительной в ситуации, когда революционная стихия разбушевалась столь мощно, что только жесточайшими мерами Ленину и ленинской гвардии удалось загнать её в подчиненное положение Советскому государству.
Все потери населения во времена Ленина превращаются в туманные, но «объективные» жизненные обстоятельства революции, с неким безликим и «невидимым палачом», лишившим людей средств к жизни, и как результат приведшим к голоду, болезням, эпидемиям и разнообразным общественным насилиям.
Иначе говоря, в современных большевистских сказках Ленин со своей партией предстаёт главой своеобразного коммунистического министерства по чрезвычайным ситуациям, приехавшим в Россию, объятую революцией, и спасшим её от полного краха, не дав стране утонуть в океане неизвестно кем пролитой русской крови.
Внутри этой политической сказки все стройно и логично. Мораль сказки следующая: никто не виноват, Ленин национальный герой и можно приступать к проекту Советский Союз 2.0.
Реальная история Ленина никак не похожа на этот фантомный белоснежный фартук гимназистки. Реальный вождь революционных масс был духовным и нравственным дальтонистом, видевшим мир только в черном свете марксизма. Ненависть к исторической действительности делала Ленина наиболее точным, и от того наиболее страшным, зеркалом русской революции.
Всю жизнь Ленин проповедовал ненависть к тому миру, в котором он родился. Террор для него был способом общения с этим миром. В начале своей политической карьеры, в 1901 году он писал: «Принципиально мы никогда не отказывались и не можем отказаться от террора»28.
Через двадцать лет, на закате своей жизни, в 1922 году Ленин уже требовал узаконить террор. В письме наркому юстиции Курскому он писал: «Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире, ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого»29.
Слева нас всё время пытаются убедить, что Ленин и советская власть это естественное продолжение хода русской истории. На самом деле советская власть относилась к русской истории так же, как генно-модифицированные организмы к экологически чистым продуктам. Война между ними велась не на жизнь, а на смерть.
Коммунизм это политический «метиловый спирт», даже в малых дозах приводящий к ослеплению и летальному исходу. А мы хлебнули этого «метилового коммунизма» в XX столетии полноценный граненый стакан.
Если уж мы выжили после первого стакана «метилового коммунизма» и до сих пор никак не можем отойти от его ядовитого действия, может не стоит тянуть руки ко второму стакану этой политической сивухи?
5. Был ли Ленин русским государственником?
За какие государственные заслуги перед нашей Родиной, останки этого человека лежат в центре нашей страны, на главной площади её столицы?
Левые «патриоты» уверяют нас, что Ленин продолжатель традиций русской власти, вливший новое идеологическое вино в новые меха советской государственности.
На деле же большевицкое вино оказалось кислым уксусом, а меха были сшиты из столь непрочного для истории материла, что не выдержали и семидесяти лет использования.
Часто говорят, что Ленин подобрал власть, вывалившуюся из рук Временного правительства. Но тогда зачем было устраивать Октябрьское вооруженное восстание, государственный переворот?
Самое удивительное, где левые находят государственный гений Ленина?
Первым делом после взятия власти большевики провозгласили Декларацию прав народов России. После чего начался парад суверенитетов на основе провозглашенного в этой декларации права на свободное самоопределение вплоть до отделения и создания самостоятельных государств.
Эта декларация стала роковой не только для первых лет большевицкого правления, но и для конца их правления, уничтожившего Советский Союз.
Не меньшую разрушительную роль сыграла и другая большевистская идея – идея федеративного союза. Из единого государства русского народа – Российской Империи – коммунисты искусственно создали Федерацию национальных образований как изначальную базу для броска в Мировую революцию.
Независимыми государствами стали и Великое княжество финляндское, и царство Польское, и прибалтийские территории, белорусские и малорусские губернии, кавказские и среднеазиатские народы.
Но вскоре оказалось, что большевики, говоря о свободе, стремятся лишь к мировой революции и уничтожению всех национальных государств. Все дарованные народам свободы, Ленин практически сразу же попытался у них отобрать. Были проведены две войны с Финляндией, по одной с Польшей, с Эстонией, с каждой кавказской республикой, долгие годы Красная Армия воевала в Туркестане.
Здесь виною был жесткий догматизм Ленина и его ближайшего марксистского окружения. Все силы завоеванной России были брошены на разжигание мировой революции.
Вот характерное стихотворение, появившееся в 1920 году в газете «Правда»:
- «Бойцы рабочей революции! Устремите свои взоры на Запад.
- На Западе решаются судьбы мировой революции.
- Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару.
- На штыках понесем счастье
- и мир трудящемуся человечеству».
Такая ленинская политика не могла дать серьезного государственного результата. Идея мировой революции так и осталась марксистской мечтой. А о своих поражениях при Ленине от Германии, Финляндии, Польши и даже Эстонии коммунисты очень не любят вспоминать.
И никаким коммунистам не приходило в голову ни наследовать Российской Империи, ни уж тем более продолжать русскую государственную традицию, как нам сегодня говорят левые патриоты. Само имя России было стерто в названии СССР – этого нового государственного образования, призванного поглотить весь мир.
Советский глобализм не удался. Огромные силы были потрачены зря. Ленин из разрушителя русской государственности никакими усилиями левых «патриотов» не станет заново символом страны. А потому, не имея заслуг перед нашим Отечеством, тело Ленина, как объект поклонения поверженного советского культа, должно быть убрано с Красной площади.
Пускай проигравшие в холодной войне коммунисты хоронят сами своего мертвого вождя.
6. Сумасшедшая «смердяковщина» и нравственный идиотизм Ленина
Он был типичным экстравертом, для которого Российская Империя не соответствовала его мечтательным конструкциям, и тем активнее он стремился уничтожить эту русскую реальность.
Формально, будучи дворянином, Владимир Ульянов был идеальным антисистемным типом, в жилах которого по линии отца текла калмыкская и чувашская кровь, а со стороны матери шведская, немецкая и еврейская кровь. Воспитание он получил в стиле немецкой аккуратности и дисциплины. Мать постоянно твердила о пагубности «русской обломовщины», о том, что нужно учиться у немцев. Мальчик вырос, что называется, себе на уме, необщительный и закрытый.
Ульянов-Ленин имел весьма подвижную психику, периодически его поведение было более чем своеобразным. Так по воспоминаниям людей его знавших он был подвержен депрессиям и мог целый месяц ничего не делать. Но затем как писала Крупская: «Володя впадал в раж…» и им овладевала бурная деятельность.
Врач А.А. Богданов, бывший одно время вице-лидером большевиков, говорил небезызвестному Николаю Валентинову (Вольскому): «Наблюдая в течении нескольких лет некоторые реакции Ленина, я как врач пришел к убеждению, что у Ленина бывали иногда психические состояния с явными признаками ненормальности».
Сложно признать психически адекватными призывы Ленина из Швейцарии к молодежи в 1905 году обливать кислотой полицейских, использовать гвозди для вывода из строя лошадей, лить с верхних этажей кипяток на солдат и забрасывать улицы «ручными бомбами». Это скорее похоже на истерические призывы к ненависти сумасшедшего человека.
Здесь интересно мнение такого тонкого психолога, каким был русский писатель Александр Куприн. Видевший Ленина на выступлениях и в жизни, он характеризует его как «мыслящий камень», у которого была только одна цель – «падая – уничтожить». Куприн в 1919 году так описывал Ильича: «Убийство и кровь не только не смущали Ленина, но они его радовали… С развязностью умалишенного он развязывал толпы от страха убийства. Убивайте, грабьте, берите, насилуйте, уничтожайте – все ваше, все принадлежит вам. В нем сидел демон убийства».
Ленин ненавидел Российскую Империю не просто как республиканец ненавидит монархию или социалист – буржуазию, а ещё с оттенком личной ненависти и горделивого европейского пренебрежения. В начале Первой Мировой войны Ленин писал: «не может подлежать ни малейшему, абсолютно никакому сомнению, что наименьшим злом было бы теперь и тотчас – поражение царизма в данной войне. Ибо царизм во сто раз хуже кайзеризма»30.
Это рабское презрение к своему из мира антигероев Достоевского, подметившего эту «смердяковскую» родовую черту наших доморощенных русофобов.
Ленинское отношение к России сродни знаменитой «философии пораженчества» Павла Смердякова из романа «Братья Карамазовы». «Я всю Россию ненавижу, – говорил Павлуша… В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы, умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе».
Ленин стремился к поражению именно нашего «царизма», потому что был убежден, что «умная нация покорила бы весьма глупую-с», потому что чужой «кайзеризм» не вызывал у него столь же яркой ненависти, какая у него была к Российской Монархии. Для Ленина Россия не только проклятый «царизм», но и эмоционально ненавидимая цивилизация.
Отсюда же из «смердяковского» отношения к своему и большевистское бесчестное отношение к финансированию революции из любых источников. Созданный Лениным «Большевистский центр» пополнял свою кассу путем вооруженных ограблений («эксов» Тер-Петросяна-Сталина), захвата финансов богатых людей, как было с наследством Николая Шмита. Большевики Таратута и Андриканис женились на наследницах Шмита и присвоили для партии 280 тысяч золотых рублей. Крупская в своих «Воспоминаниях», после операции с наследством, даже отметила: «В это время большевики получили прочную материальную базу».
Такая беспринципность в деньгах (тем более что деньги имеют свойство кончаться) легко объясняет и сотрудничество большевиков с немцами. Уже после большевистского переворота, 3 декабря 1917 г. статс-секретарь (министр) иностранных дел Германской империи Кюльман констатировал в письме кайзеру: «Лишь тогда, когда большевики стали получать от нас постоянный приток фондов через разные каналы и под разными ярлыками, они стали в состоянии поставить на ноги свой главный орган „Правду“, вести энергичную пропаганду и значительно расширить первоначально узкий базис своей партии». Разоривший величайшую в мире страну, Ульянов-Ленин должен остаться в нашей истории как государственный преступник и «нравственный идиот» (выражение Ивана Бунина), способствовавший неприятелю отнять у России победу в Первой Мировой войне и виновный в многомиллионном кровавом геноциде своих соотечественников.
Коммунистическая и любая революционная политическая идеология должна стать вне закона и должна быть осуждена на вечное проклятие в памяти русского народа.
7. Посланные углублять революцию: Ленин и «пломбированные поезда»
Хорошо известно выражение «пломбированный вагон» – вагон, в котором Ульянов-Ленин со своими партийными товарищами был переправлен немецкими властями через территорию Германии, на тот момент уже третий год воевавшей с Российской Империей.
Менее известно, что вагонов, переправлявших левых революционеров – эмигрантов из Швейцарии, в апреле 1917 года было много – они составили целых три поезда.
Ленин ехал в первом из них. С официальной женой Надеждой Крупской и со своей пассией Инессой Арманд.
Всего, согласно списку Бурцева, в трёх «пломбированных поездах» ехало, не считая детей: в «ленинском вагоне» 29 революционеров, в других вагонах членов РСДРП – 65, Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше, России (БУНД) – 33, Социал-демократии королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ) – 1, Латышской социал-демократической рабочей партии – 2, Литовской социал-демократической партии – 1, Польской социалистической партии (ПСП) – 3, Партии социалистов-революционеров (эсеров) – 17, анархистов-коммунистов – 14, Еврейской социал-демократической рабочей партии «Поалей цион» (ЕСДРП ПЦ) – 3, Сионистско-социалистической рабочей партии (ССРП) – 1, и не присоединившихся ни к одной из групп – 18.
Из более-менее широко известных революционных деятелей через Германию в Россию ехали Зиновьев (Радомысльский), Сокольников (Бриллиант), участник убийства Николая II Войков, Луначарский, Мануильский, лидер меньшевиков Мартов (Цедербаум), знаменитый социалист-бундовецэмигрант Рафаил Абрамович (Рейн), член польской партии Феликс Кон, лидер левых эсеров Марк Натансон и знаменитая во всём мире социалистка Анжелика Исааковна Балабанова.
Всего, не считая детей, примерно 187 человек. По национальному составу это были процентов на 65–70 – евреи; кавказцы – примерно 6%; может быть, 10–12% – условно русские; остальные – другие национальности.
У социалистов, позиционирующих себя интернационалистами, национальную самоидентификацию определить, конечно, сложно. Но всё же.
Вот, например, кто был по своей национальной идентификации Феликс Кон? По рождению он был евреем, но, как сам вспоминал: «Шестилетним мальчиком я мечтал о том, чтобы стать вождём повстанцев, драться за отчизну и освободить Польшу от „москалей“ и „швабов“».
Кон состоял в польской террористической организации, в польской социалистической партии, исключил, кстати, из партии будущего диктатора Речи Посполитой Юзефа Пилсудского. После 1917 года стал большевиком и работал в ЦК Коммунистической партии Украины. От имени социалистической Украины Кон подписывал договор с Литвой. А потом в Москве был главным редактором журнала «Мурзилка».
Или, например, кем себя считала Балабанова Анжелика Исааковна (1878–1965), бывшая с 1912 года членом ЦК итальянской социалистической партии и содействовавшая карьере Муссолини, ставшего с её помощью одним из лидеров социалистов? После революции она вступила в РСДРП(б), была близка к Ленину, но в 1922 году уехала и стала одним из лидеров Социнтерна. В интернете гуляет милая совместная фотография Балабановой с первым премьер-министром Израиля Бен-Гурионом, с большим уважением пожимающим её революционную руку (1962).
Скорее всего, все эти люди из «пломбированных вагонов» были, как у нас любят говорить, «гражданами мира», но мира особенного – мира революции. Всякий раз, когда революция вспыхивала в той или иной стране, эти «граждане» ощущали влечение ехать на эту свою новую «родину» и углублять революцию. Перманентная революция, тяга к разрушению была их профессией, паталогической страстью, второй натурой.
Все они потянулись в Россию не потому, что любили её, как страну, как особый Русский мир – нет. Это было им абсолютно чуждо.
Они потянулись в Россию даже не потому, что они были агентами германского генштаба, что тоже не совсем так. Конечно, германские власти, через Парвуса, помогали большевикам реализовать революцию. Но это был союз вполне равноправных врагов России. Германия хотела через революционный хаос и развал армии вывести Россию из мировой войны, чтобы не бороться на два фронта.
Революционеры же стремились дальше, к цели, которую указывал Ленин: «превращение национальной войны в гражданскую»31.
Германцы как военные враги взяли большевиков лишь во временные союзники по разрушению Российской Империи.
В меморандуме, составленном германским послом в Дании Брокдорф-Ранцау, одним из инициаторов пломбированной затеи, так и было написано: «Я считаю, что, с нашей точки зрения, предпочтительнее поддержать экстремистов, так как именно это быстрее всего приведёт к определённым результатам. Со всей вероятностью месяца через три можно рассчитывать на то, что дезинтеграция достигнет стадии, когда мы сможем сломить Россию военной силой».
Канцлер Германской Империи Т. Бетман-Гольвег донёс до Ставки Вильгельма II это варварское предложение, и государственная машина заработала. По просьбе МИДа германское казначейство выделило на пропаганду в России 3 млн марок, и дело углубления революции получило регулярное денежное финансирование.
3 апреля деньги были заказаны, а уже 9 апреля первые 32 большевика выехали из цюриха до пограничной германской станции Готтмадинген. Там их посадили в «опломбированный вагон», который сопровождали два офицера германского генерального штаба, говорившие по-русски, и швейцарский коммунист Платтен.
Вагон с революционерами благополучно проследовал через всю Германию до станции Засниц, где они пересели на пароход, следовавший в Швецию. Там между Парвусом и Радеком, доверенным лицом Ленина, прошли окончательные переговоры о финансировании.
Далее был железнодорожный путь до городка Хапаранда, на границе Швеции и Великого княжества Финляндского. И Ленин с товарищами попал в революционную Россию.
Уже 21 апреля из Стокгольма телеграфировали в МИД Германии: «Приезд Ленина в Россию успешен. Он работает совершенно так, как мы этого хотели бы».
Подготовив Октябрьский переворот, партия Ленина в марте 1918 года заключила позорнейший Брестский мир, который лишил Россию победы в мировой войне.
В конце июня 1918 года советская делегация вела переговоры с немецкой стороной уже о заключении дополнительного финансового соглашения к Брестскому миру, так как Германия продолжала захват южных земель, включая Крым. По сути дела, большевики хотели откупиться от немцев – царским золотом.
Интересно, что со стороны немцев в переговорах участвовал Парвус, а со стороны большевиков – друзья Парвуса: Якуб Ганецкий и Адольф Иоффе.
Адольф Иоффе был полпредом РСФСР в Германии и подписал этот добавочный протокол к Брест-Литовскому миру на 5 млрд марок в пользу немцев.
Характерно, что многие участвовавшие в этом грязном деле кончили свою жизнь либо расстрелом, либо какой-то другой формой убийства или самоубийства.
Император Вильгельм II, рывший России революционную яму, потерял власть чуть больше чем через год, в ноябре 1918го, также вследствие революции. Став, по сути, политическим трупом.
Маттиас Эрцбергер, руководивший пропагандой Германии во время мировой войны и посвящённый в эти «пломбированные планы», был в результате второго покушения убит немецкими офицерами в 1921 году.
Швейцарский коммунист Платтен, сопровождавший Ленина в поездке по Германии, позже был расстрелян в сталинском лагере, аккурат в день рождения Ильича, 22 апреля 1942 года. Творец истории часто проводит интересные параллели в личной жизни людей.
Большевик Вацлав Воровский, сотрудник Парвуса, был убит в 1923 году – кстати, швейцарцем по происхождению Морисом Конради.
Другой большевик Якуб Ганецкий, бывший одной из ключевых фигур в финансировании революции, был расстрелян в 1937 году.
Адольф Иоффе застрелился сам в 1927 году.
Ехавшие в поезде вместе с Лениным: Усиевич был убит в 1918 году, Войков застрелен в 1927-м, Зиновьев расстрелян в 1936-м, Бронштейн (Семковский) расстрелян в 1937-м, Рязанов (Гольдендах) расстрелян в 1938-м, Абрам Гитерман расстрелян в 1938-м, Сокольников (Бриллиант) убит в 1939-м, Сафаров расстрелян в 1942-м, Моисей Харитонов умер в лагере в 1948 году и т. д.
Божий суд есть, и не всегда только на небесах. Возмездие часто настигает предателей и кровопийц ещё в этом мире. И многие из них получают заслуженное воздаяние уже в этой жизни.
8. Настоящий Ленин: классовая ненависть, предательство Отечества и разжигание Гражданской войны
Коммунизм и Ульянов (Ленин) обрели друг друга и стали настоящими близнецами-братьями. А долго «рыскавший и маячивший в отдаленьи» западный коммунизм был притащен в Россию. И, как ядовитый борщевик, эпидемически распространился на русской почве.
Девиантность революции, отклонение от нормы
Конечно, в России начала XX столетия было довольно много всевозможных марксистов, социалистов и прочих девиантных полуинтеллигентских разночинцев. В отличие от своих старших оппозиционных собратьев либералов, марксисты были более последовательным революционным отклонением от человеческой нормы. Менее последовательные в процессе делания революции периодически отвлекались от главной цели на размышления, чего им больше хочется – «конституции» или «севрюжинки».
Либералам после Февраля не хватило революционной ненормальности. Свергнув царя и получив «конституцию», они в дальнейшем не ставили целей дальше продолжения поглощения «севрюжины». Девиантность марксистов не могла удовлетвориться ни «конституцией», ни «севрюжиной», их интересовал «мировой пожар», в котором даже Россия играла роль только подходящего расходного материала для европейской Гражданской войны.
Почему я называю революционеров девиантами, людьми с нравственными отклонениями в поведении? Прежде всего, потому что революционерам свойственно аномичное, беззаконное, ненормальное поведение в отношении общества. Революция – это радикальное беззаконие, сознательный разрыв цивилизационных и этических связей с обществом. Нигилистическое отрицание всех традиционных устоев общества, стремление к их насильственной утилизации. Революционный Октябрь стал преступным стремлением разрушить не столько власть (это сделал Февраль), сколько разрушить уже само русское общество, которое гипертрофированно воспринималось как варварское «тёмное царство» и реакционное «исчадие ада». Революция и предлагаемые марксизмом социальные потрясения реально угрожали социальному и физическому выживанию русского человека. Предлагаемые коммунистами решения социальных конфликтов были социальной патологией. В свою очередь, естественное поведение для любой здоровой личности, связанное с христианскими заповедями, коммунистами отрицалось как отжившее и враждебное. Вера становилась гонима, семью пытались разрушить, частную собственность и её наследование отменить. Отрицались даже такие базовые, свойственные любому гражданину чувства, как любовь к Родине, защита Отечества во время войны.
Особая нелюбовь именно к Русскому миру, к русской Монархии
Ленин, как и литературный герой Достоевского (Смердяков), не любил Россию по-особенному, идейно и лично. Все монархии были плохими, но для Ульянова (Ленина) русская была «особенно варварская», «особенно подлая», дикая и «самая реакционная», а великороссы были по-особенному «откровенные рабы», «холуи», «хамы», вызывающие «законное чувство негодования, презрения и омерзения».
Русофобские и расистские взгляды Маркса и Энгельса воспитали в Ленине стойкое неприятие Российской Империи, Русского мира и русских как его национальной основы.
Во время Мировой войны Ленин упрекал французских и бельгийских социалистов, что «они превосходно разоблачают германский империализм, но, к сожалению, поразительно слепы относительно английского, французского и особенно варварского русского империализма!»32.
Он не устаёт ненавидеть «особенно подлый и варварский русский царизм (более всех реакционен)… Русские социалдемократы были правы, говоря, что для них меньшее зло – поражение царизма, что их непосредственный враг – больше всего великорусский шовинизм»33.
Вопреки реальным историческим данным, Ульянов (Ленин) прямо обвиняет Россию в том, что именно она напала на Германию: «буржуазия на свои миллиарды давно уже нанимала и готовила к нападению на Германию войска русского царизма, самой реакционной и варварской монархии Европы… «передовые», «демократические» нации помогают дикому царизму еще более душить Польшу, Украину»34.
Какую «Украину» Россия «душила»? В некоторых местах Ленин уточняет и говорит о занятии русскими войсками Галиции. Предательский курс ленинских социал-демократов оправдывается крайней демонизацией России, расчеловечиванием русской власти. Стремление к поражению своего Отечества объясняется наличием в России «самого реакционного и варварского правительства, угнетающего наибольшее количество наций и наибольшую массу населения Европы и Азии»35.
Здесь интересно, что у России колоний как таковых практически не было, в отличие от Великобритании. Но Англию, с её величайшей колониальной державой, Ленин, как правило, обходит молчанием.
«Жизнь идет, – писал Ленин, – через поражение России к революции в ней, а через эту революцию, в связи с ней, к гражданской войне в Европе»36.
9. Как Ленин пустился в плавание, не зная куда: Отмирание государства и путь к коммунизму
Куда Ленин вёл Россию? Может ли марксизм достичь своих целей? Проповедь конца государства и построения коммунистического общества по книге Ленина «Государство и революция», впервые опубликованной в 1918 году.
Сломанный в феврале 1917 года корабль русской государственности революционными усилиями Ульянова (Ленина) и большевиков в октябре того же года был поведён по марксистским идеологическим картам к «светлому будущему», в плавание к новым, неизведанным коммунистическим берегам.
О коммунистической «земле обетованной» было известно из теоретических писаний отцов-основателей марксизма – Маркса и Энгельса. Доплывшим обещался настоящий рай на земле, где не было ни насилия, ни эксплуатации, ни денег, ни государства, а каждый работал по степени своей возможности, а получал по своим личным потребностям. То есть вполне себе вариант русских сказочных «молочных рек и кисельных берегов» и библейских приглашений «в землю, кипящую млеком и медом» (Исход, 3, 8).
«Рекламно-пропагандистское» соблазнение отправиться в столь далёкое и никем не изведанное плавание было поставлено на широкую ногу не без помощи «тёмных сил» мировой закулисы. К дышавшей на ладан в начале 1917 года газетке «Правда» уже к лету того же года большевики прибавили не менее 46 своих изданий (есть сведения и о 75), в том числе 17 ежедневных газет и самую современную типографскую базу.
Официально всё это пропагандистское богатство, по утверждениям коммунистов, появилось, естественно, исключительно «из партийных взносов» обездоленных рабочих и солдат, без всякой иностранной помощи. К этому вполне можно прибавить сотню-другую газет меньшевистских, эсеровских и прочих революционных фракций. Поскольку в стране вводилась демократия и свобода революционному слову, страшно не терпимому к любым альтернативным мнениям, противостоять этому апокалиптическому хору было некому. Все правые, монархические издания Временное правительство сразу же после февральской революции закрыло и уничтожило.
Неизбежные марксистские приключения после октябрьской революции
В таком идеологическом гвалте взбаламученные массы Петрограда если уж куда-то и хотели идти, то точно не на фронт защищать Отечество. И потому предложение большевиков плыть к «светлому будущему», подкреплённое к тому же вооружённым переворотом и установлением диктатуры, было воспринято как неизбежное приключение. Авось доплывём, жрать всё равно нечего и хуже не будет. А зря.
На мостике нашего государственного корабля за последние сто лет в основном были люди, никак не связанные с государственным «мореплаванием». И если и использовали какие-либо идеологические, «мореплавательные» карты, то чаще всего рисованные диванными теоретиками, ни разу не стоявшими за государственным штурвалом и ходившими «по морям и океанам» только в своих фантазийных мечтаниях.
Ульянов (Ленин) и его большевистская команда, взявшая на абордаж русский государственный корабль, уже преизрядно приведённый к бардаку предыдущими верховодившими революционными командами, имели опыт хождения только по эмигрантским швейцарским и германским кафешкам и пивнушкам. А их «морская картография» строго ограничивалась мечтами Маркса и Энгельса, предлагавшим к тому же во время плавания к далёким и необитаемым берегам архипелага коммунизма… планомерно уничтожать сам корабль, государство. Мол, как только увидим «берега обетованные», коммунистические, сразу же надобность в государстве и отпадёт. Жги всё вокруг.
А пока, для начала, ленинская гвардия взялась за расстрел старорежимной судовой команды, начав с Августейшего капитана и его семьи, а также – за разгон бюрократии и армии, чтобы не сопротивлялись увлекательному революционному плаванию. Не забыли и так называемых угнетателей-капиталистов, владевших на государственном корабле средствами производства, вплоть до самых мелких. А трюмные команды, не пролетарское крестьянство, решили загнать на «нижние палубы», для планомерной нещадной эксплуатации. Путь к коммунизму долгий – нужно же, чтобы кто-то работал и кормил «джентльменов марксистской удачи», захвативших корабль.
Чтобы лучше понять всю залихватскость коммунистических временщиков, что рулили нашим государственным кораблём в те годы, лучше всего читать написанные ими первоисточники, те планы, по которым они предполагали взяться за штурвал в длительном путешествии, закончившемся в 1991 году и так не приведшем наш государственный корабль к несуществующим коммунистическим «землям обетованным».
«Государство и революция» – памятник глубокой государственной неадекватности Ленина
Есть книги, слава которых держится на феноменальном рекламном шуме вокруг них самих и вокруг авторов, их написавших. Такова недописанная книга Ульянова (Ленина) «Государство и революция», которую советская партийная идеологическая машина перепечатывала после 1918 года в сотнях переизданий.
Чем она интересна для нас после почти тридцатилетнего ухода в небытие самого СССР? Прежде всего она показывает мировоззрение главы тех людей, которые нами правили с 1917го по 1991 год. Ульянов (Ленин) привёл на русский государственный корабль команду не мореходов, а стихийных «судоутилизаторов» и фанатичных фантастов-мечтателей.
Книга Ульянова (Ленина) демонстрирует, во-первых, реальное разрушительное отношение марксизма к институту государства, а во-вторых, даёт понимание, насколько институт государства живуч и естественен для развитых человеческих обществ. Несмотря на всю применявшуюся к нему за последние 100-150 лет изуверскую идеологию демонтажа со стороны марксизма.
Фантастическое отношение марксизма к институту государства
Автор книги ставил для себя задачу восстановления «истинного учения Маркса о государстве», защищая от всевозможных искажающих его трактовок оппортунистов. Именно поэтому мы можем ориентироваться на этот текст, изобилующий цитатами из Маркса и Энгельса, как на аутентичный и ортодоксальный для марксистского представления о государстве.
В самом начале брошюры Ульянов (Ленин) даёт следующую марксистскую характеристику государству: «Государство есть продукт и проявление непримиримости классовых противоречий. Государство возникает там, тогда и постольку, где, когда и поскольку классовые противоречия объективно не могут быть примирены. И наоборот: существование государства доказывает, что классовые противоречия непримиримы»37.
Изначально выдвигается глубоко спорное положение. Действительно, государство становится нужным и появляется при выявляющихся противоречиях разных социальных слоёв. А если говорить точнее, то появляется не государство, а Верховная власть. Именно она создаёт государство, объединив разные социальные слои или родовые племена, прекращая их внутренние трения, не дающие далее развиваться.
Так вот, если признавать, что Верховная власть организует государство как объединяющая сила при разных социальных противоречиях, то логично признать, что этой властной силой эти противоречия и приводятся к какому-то более или менее согласованному единению. Само государство, не примирив эти противоречия, не только не может развиваться, но и даже просто существовать. Если же вослед за марксистами и Лениным утверждать, что «существование государства доказывает, что классовые противоречия непримиримы», то для чего же появилось государство? Марксисты говорят – для эксплуатации. Но концентрация в руках Верховной власти инструментов военных (для отпора внешним врагам) и репрессивных (для ограждения законопослушных граждан от всевозможного девиантного поведения) – это и есть задача государства. И появление его умиротворяет, в том числе и под страхом уголовного наказания, не только межсоциальные противоречия, но и внезаконное поведение асоциальных личностей.
Фантастичность марксизма в том, что он утверждает: психологические установки человека перестанут воспроизводить эгоистические страсти, если поменять экономические взаимоотношения. Понятие «угнетения» марксистами рассматривается очень по-либертариански, по-анархистски. То есть как вообще наличие какого-либо надобщественного института, который властно регулирует отношения в обществе. Марксизм мечтает и одновременно требует строить общество, «коммуну» саморегулируемую, безвластную, с абсолютно равными правами, неизвестно насколько неравную по работе («от каждого по способностям») и неизвестно насколько неравную по потреблению («и каждому по потребностям»). хотя Ленин неоднократно заявляет, что «какими этапами, путём каких практических мероприятий пойдёт человечество к этой высшей цели, мы не знаем и знать не можем»38.
На протяжении стостраничной чуть ли не главной марксистской книги о государстве Ильич неоднократно признаётся, что ни он, ни другие классики марксизма не знают, как это коммунизм может окончательно появиться на свет Божий. То есть они призывали к тому будущему, которое самим марксистам было непонятно…
На самом деле если государство появляется в жизни общества и умиротворяет эгоизмы, страсти, то оно же и умиряет и ту же самую «эксплуатацию» человека человеком. Если же государство уходит, «отмирает», то это вовсе не означает развития общества, наступления коммунизма и прекращения «эксплуатации». А скорее всего, совершенно напротив. Общественные противоречия выходят из-под контроля, общественные силы сваливаются в анархическое состояние и взрывают изнутри государство, свергают ту власть, которая единственно способна не допускать ада на земле.
Марксисты же предлагают нам слепо опираться на некий «авторитет» Маркса и Энгельса. В ленинском стиле: «учение Маркса всесильно, потому что оно верно» («Три источника и три составных части марксизма»). Если бы оно было всесильно, то весь мир уже был бы в составе Мировой советской социалистической республики или даже, при отмирании МССР, в некоей самоуправляющейся «коммуне». Но даже при таком несбыточном варианте оно ещё не доказывало бы гарантированно утверждение о том, что оно верно. МССР или «коммуна» могли бы быть столь тоталитарно невыносимы для человеческой личности, что и с этого этапа общество могло бы вернуться к классическому институту государства, как третейского судьи социальных отношений и усмирителя преступного эгоизма.
Марксистские «авторитет» и идеологические мечтания – это лишь область марксистской социальной веры. А эта социальная вера не только не обязательна, но и принципиально еретична и даже сатанистична, разрушительна в отношении человека и общества.
Для марксистов насильственная революция должна уничтожить бюрократический и подавляющий аппарат государства, чтобы создать свой аппарат подавления в лице вооружённой диктатуры пролетариата.
Государство в марксистской доктрине должно умереть вместе со смертью классов в социалистическом государстве. Экспроприация средств производства и концентрация их в государственной собственности, по мнению марксистов, должны уничтожить все классы, а вслед за этим привести и к отмиранию государства. Государство должно отмереть якобы потому, что все функции контроля и распределения возьмёт на себя общество. И даже не собственно общество, а каждый в отдельности индивид. При этом утверждается, что предполагаемая равная зарплата при пока ещё неравной работе создаст обстоятельства, когда сами люди (поочередно) будут отправлять бюрократические функции (но не превращаясь в бюрократов). И какая-то неопределённая временная длительность так функционирующей «коммуны» якобы создаст предпосылки для появления коммунистического общества, в котором все будут работать уже без всякой платы максимально эффективно по способностям и брать для личного пользования максимально удовлетворительно по потребностям.
Диктатура пролетариата и отмирающее государство
Кроме фантазийности, на пути к мечтательному будущему есть и существенные проблемы, возникающие до этих коммунистических окончательных стадий. С одной стороны, марксистская догма требует «отмирания» государства, а с другой стороны, после революции требуется уникально тоталитарное и мощное государство вооружённого пролетариата, которое жёсткой рукой подавила бы всякие бывшие «угнетающие» классы. Социалистическое государство по Ленину – это «организованный в господствующий класс пролетариат».
При этом Ульянов (Ленин), тогда ещё не пришедший к власти, писал, что «все прежние революции усовершенствовали государственную машину, а её надо разбить, сломать. Этот вывод есть главное, основное в учении марксизма о государстве»39.
Что «чиновничество и постоянная армия, это – «паразит» на теле буржуазного общества, паразит, порождённый внутренними противоречиями, которые это общество раздирают»40.
Ленин призывает революцию ««концентрировать все силы разрушения» против государственной власти», «поставить задачей не улучшение государственной машины, a разрушение, уничтожение ее»41.
По Ленину, только тот настоящий марксист, кто одновременно и революционер. И только тот, кто борьбу классов использует на практике для низвержения государства и установления диктатуры пролетариата.
Ульянов (Ленин) настаивает, что при диктатуре пролетариата угнетать меньшинство «эксплуататоров» будет большинство народа.
«А раз большинство народа само подавляет своих угнетателей, то «особой силы» для подавления уже не нужно! В этом смысле государство начинает отмирать. Вместо особых учреждений привилегированного меньшинства (привилегированное чиновничество, начальство постоянной армии) само большинство может непосредственно выполнять это, а чем более всенародным становится самое выполнение функций государственной власти, тем меньше становится надобности в этой власти»42.
При этом «всенародное» выполнение функций угнетающей государственной власти предполагалось на фоне сведения «платы всем должностным лицам в государстве до уровня «заработной платы рабочего»»43.
Парижская коммуна 1871 года здесь была примером для марксистов в их размышлениях о новой социалистической государственности.
«Коммуна, – писал Маркс, – сделала правдой лозунг всех буржуазных революций, дешёвое правительство, уничтожив две самые крупные статьи расходов, армию и чиновничество».
Марксисты предстают здесь радикальными либертарианцами, в теории стремящимися максимально уйти от регулирующей и репрессивной роли государства и свести к исчезающему минимуму государственный аппарат.
Что же коммунистам удалось на практике?
Желание уничтожить государство на деле, после прихода к власти, обернулось у них жесточайшей пролетарской диктатурой, огромным аппаратом подавления, управления (сама партия, Красная армия, органы ЧК, многочисленные комиссариаты, профсоюзы) и закабаления большинства населения в трудовых повинностях разного рода.
В социалистическом государстве угнетателем стало не народное большинство, а партийное меньшинство.
Пролетарское по декларации, а на деле партийное государство занялось перевариванием крестьянства в городской пролетариат, следуя марксистской догме о «сглаживании» разницы между городом и деревней. Вследствие проводимой классовой эксплуатации, эпидемий массового голода, колхозного бесправия и обеднения крестьяне стали бежать из деревни в город и становиться рабочими и служащими. Коммунисты этой политикой думали получить власть над большинством, которым должен был стать пролетариат, вбиравший в себя лишённое профессионального земельного труда и убежавшее в город крестьянство. При этом искусственно формируемом «большинстве» коммунисты думали, что функции репрессивные и классово-эксплуатационные прекратятся и государство отомрёт. История сыграла злую для них и добрую для нас шутку. Государство коммунистическое действительно отмерло, но не вследствие перехода к коммунистическому обществу, а вследствие попыток очеловечить социализм, придать ему вместо революционного – человеческое лицо.
Перед тем как государство отмерло бы, по коммунистической теории, оно должно было стать дешёвым. Эти либертарианские мысли марксизма на практике были жестоко опровергнуты. Советская партийная, бюрократическая и милитаристская машина была значительно более дорогой, чем имперская.
Заменить чиновников народными «надсмотрщиками и бухгалтерами», как мечталось марксистам, не вышло, да и платить партийной и советской номенклатуре «заработную плату рабочего» также не получилось. Аппетиты партийцев были значительно выше «рабочей зарплаты».
«Функции надсмотра и отчётности», которые предполагалось в теории выполнять «всем по очереди»44 пролетариям, в реальности стали выполняться всё возрастающей армией, чекистской и советской чиновничьей номенклатурой.
Наивные мечтания Ленина, вослед за Марксом и Энгельсом, превратились в сногсшибательный рост бюрократического аппарата, дублирующего управленческие функции первого «аппарата» – партии. Партийный и раздутый бюрократический аппараты – вот реальный результат стремления сломать государственную машину и создать «дешёвое государство». Партийная номенклатура стала новым правящим классом в СССР и сожрала это государство, поскольку аппетиты свои не сдерживала никакими нравственными ограничениями.
Борьба с традиционным русским государством, называемым марксистами «паразитом», и партийная борьба с «великорусским шовинизмом», якобы главным угнетателем «угнетённых наций», угробили и без того слабые силы социалистического государства. Проповедуемый интернационализм парадоксально способствовал, напротив, формированию национальных сепаратистских элит в союзных республиках, которые по-настоящему восприняли единое государство СССР, по-марксистски, как «паразита». И разорвали Советский Союз на национальные клочки, заодно покончив и с коммунистическими призраками.
У коммунистов из марксистских мечтаний получились коммуналки
Вся моя семья на протяжении трёх поколений в советские времена прожила в питерских коммуналках. Мне особенно «близки» слова Энгельса, приводимые Ильичом, о том, «что уже теперь в больших городах достаточно жилых зданий, чтобы тотчас помочь действительной нужде в жилищах при разумном использовании этих зданий» и что «как только пролетариат завоюет политическую власть, подобная мера, предписываемая интересами общественной пользы, будет столь же легко выполнима, как и прочие экспроприации и занятия квартир современным государством».
Вот откуда идёт это чудное изобретение советской власти – коммуналки! Из дурацкой немецкой башки Энгельса, в одном лице сочетавшего и успешного «угнетателя» – потомственного фабриканта, и успешного идеолога «угнетаемого» пролетариата.
Вся эта социальная чушь очень похожа на «добычу кирпича по способу Ильича», описываемую одним русским консерватором, оставшимся в советской стране. «Большой дом, – писал Н.В. Болдырев, – разлагается на кирпичики, и кирпичики складываются в штабеля. целое превратилось в сумму, но сумма не равна целому. По какому же способу нужно расположить кирпичи, чтобы из штабелей опять получить дом? Увы, Ильич умер и унёс с собой в могилу этот второй способ».
В реальности эти социальные мечтатели не знали ничего о том, как из добытых кирпичей старого общества создать своё новое здание коммунизма.
Как нивелировать разницу между городом и деревней. Сделайте жизнь в деревне невозможной и невыносимой. Эксплуатируйте её в хвост и гриву, отбирайте весь хлеб и коллективизируйте всю собственность. Пускай она голодает, вымирает и бежит в город. Уничтожьте деревню, и тогда марксистская догма о необходимости уничтожения противоположности города и деревни будет выполнена.
Хотите обеспечить жильём бедных – экспроприируйте его у богатых и запихайте десятки людей в квартиры, в которых нормально могла жить только одна семья. Из которых потом будете ещё целое столетие переселять людей, переставших там размножаться.
Всё остальное проводилось в жизнь такими же простыми, но безумными методами.
При этом марксисты прекрасно отдавали себе отчёт, что занимались величайшим насилием.
Так, Ульянов (Ленин) цитирует такие строки Энгельса: «Революция есть, несомненно, самая авторитарная вещь, какая только возможна. Революция есть акт, в котором часть населения навязывает свою волю другой части посредством ружей, штыков, пушек, т.е. средств чрезвычайно авторитарных. И победившая партия по необходимости бывает вынуждена удерживать своё господство посредством того страха, который внушает реакционерам её оружие»45.
Борьба с «угнетением» с помощью революционной радикальности «какая только возможна», посредством «ружей, штыков и пушек», и удержание своего господства «посредством страха». И одновременно со всем этим Ленин называет такой режим отмирающим «неполитическим государством», «коммуной»46, отступлением «от государства в собственном смысле»47.
Если государство эксплуатирует меньшинство «эксплуататоров», то оно, мол, уже не государство, а «коммуна». Смешно. В тюрьме эксплуатируют также меньшинство – значит, тюрьмы и есть коммуна и одновременно образец коммунистического общества?
Действительно, вся эта «марксо-ленинщина» – отступление от «государства в собственном смысле». Действительно, это не нормальное государство, а либо революционный бардак, либо революционный ГУЛАГ.
Единственное, в чём отошёл Ленин от марксистской формы «единой и неделимой республики» (Энгельс)48, так это в том, что построил СССР как федерацию, а не как централизованную республику.
Любое социалистическое государство, выстроенное коммунистами, пока оно государство, а не коммуна (не осуществимая в реальности), есть государство эксплуататорское (для всех, кроме пролетариата и некоего «беднейшего крестьянства») и занимается уничтожением классовых врагов.
Как и сегодняшние революционеры, коммунисты уговаривали обывателей тем, что при переходе от капитализма к коммунизму «подавление меньшинства эксплуататоров большинством вчерашних наёмных рабов – дело настолько, сравнительно, лёгкое, простое и естественное, что оно будет стоить гораздо меньше крови, чем подавление восстаний рабов, крепостных, наёмных рабочих, что оно обойдётся человечеству гораздо дешевле»49.
В реальности социалистическое государство решилось на значительно большие репрессии, чем несоциалистическое. Именно из-за диктатуры партии и её идеологии подавления.
Предполагалось, что репрессии «эксплуататоров» «будет делать сам вооружённый народ с такой же простотой и лёгкостью, с которой любая толпа цивилизованных людей даже в современном обществе разнимает дерущихся или не допускает насилия над женщиной».
Ленин искренне считал, что «коренная социальная причина эксцессов, состоящих в нарушении правил общежития, есть эксплуатация масс, нужда и нищета их. С устранением этой главной причины эксцессы неизбежно начнут «отмирать». Мы не знаем, как быстро и в какой постепенности, но мы знаем, что они будут отмирать. С их отмиранием отомрёт и государство»50.
Опять Ульянов (Ленин) не знает как. Но это нисколько не влияет на его твёрдое убеждение, что человек обязательно поменяется согласно марксистским установкам, стоит только расстрелять ненужных для нового общества людей. Архиутопично и по-детски наивно-глупо.
Без воспитания, без культивирования нравственности, а только при уничтожении всех «эксплуататоров». Можно подумать, «эксплуатируемые» никогда не совершали уголовных преступлений. Нет государства – нет и тюрем. Как отомрут всегда возможные и разнообразнейшие преступления? Граждане каждый раз будут совершать суды Линча сами? Будут, как в Ветхом Завете, брать каменья в руки и коллективно убивать ими преступника?
Куда денется жажда власти, бывшая внутренним мотором у всех революционеров? Человеческие желания, страсти, как они отомрут, сами собой? Одному нужно только сытное трёхдневное питание. А другому и владения всем миром будет недостаточно, чтобы удовлетворить свои страсти. Отстреливать людей с сильными страстями и с чрезмерными желаниями? Как определить эту силу и эту чрезмерность? Тогда первыми надо пустить в расход самих революционеров?!
Унылый идеал коммунистического общества
Первая фаза коммунистического общества описывается у марксистов так. Все средства производства экспроприированы, и «каждый член общества, выполняя известную долю общественно необходимой работы, получает удостоверение от общества, что он такое-то количество работы отработал. По этому удостоверению он получает из общественных складов предметов потребления соответственное количество продуктов. За вычетом того количества труда, которое идёт на общественный фонд, каждый рабочий, следовательно, получает от общества столько же, сколько он ему дал»51.
Но и этим унылым сборищем колхозных биороботов Маркс не удовлетворён. Эксплуатации человека человеком не будет, но останется «несправедливость» в том, что «при равном труде, – заключает Маркс, —…один получит на самом деле больше, чем другой, окажется богаче другого и т.д. Чтобы избежать всего этого, право, вместо того чтобы быть равным, должно бы быть неравным…», не «по работе», а по потребностям.
Интересно, что при печаловании марксистов об эксплуатации человека человеком они совершенно не задумываются об эксплуатации и несправедливости такой «коммуны» по отношению к тому, кто будет лучше работать. Тем более что в «высшей» фазе коммунистического общества предполагается ещё больше «эксплуатировать» тех, кто работает лучше, поскольку продукты производства там будут распределяться «по потребностям» в том числе и плохо работающих. А «потребности» у них могут быть вполне себе большими.
Самое фантастическое, конечно, начинается в этой «высшей» фазе. Чудесным образом пропадёт разделение на умственный и физический труд, вырастут производительные силы, источники общественного богатства, индивидуумы необыкновенно разовьются по неизвестным ни нам, ни марксистам причинам. А сам «труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни»52.
«Как это возможно?» – вопрошает читатель. Ульянов (Ленин) холодно замечает: «этого мы не знаем и знать не можем»53.
Реально коммунисты сотворили революцию, устроили диктатуру пролетариата, развязали Гражданскую войну, произвели экспроприацию частной собственности, отменили наследование, стали жесточайше подавлять инакомыслящих и классово неполноценных граждан, начали проводить свои социально-экономические эксперименты, не зная, как должен появиться коммунизм в человеческом обществе. Они просто верили своим «апостолам» на слово и лили кровь за некое мечтательное «светлое будущее» исходя из своей веры в коммунизм. Это фантастический и изуверский фанатизм. А ещё и изумительная интеллектуальная наивность и несостоятельность.
В реальной социалистической истории получилось государство не вооружённых рабочих, а государство вооружённой партии. В процессе «строжайшего контроля» баснословно увеличившее свой бюрократический аппарат. И за этим государством зорко следила партия со своим аппаратом. Функций у этого социалистического государства становилось всё больше, и оно само становилось всё дороже и дороже.
Удивительные мечтатели, готовые ради эфемерных эфиров своей мысли распоряжаться миллионами жизней конкретных людей, разрушать целые общества и стремиться к завоеванию всего мира. Что это, как не социальная одержимость некими идеями людей, не останавливающихся ни перед чем.
Эти фанатики заявляли о том, что они стремятся к коммунистическому обществу, где любое насилие и любая эксплуатация для них неприемлема. На своём пути к этому «светлому завтра» они заливали целые страны морями крови. Прямо по Достоевскому: Раскольников убивает старуху-процентщицу, мечтая о будущих своих добрых делах. Этими «добрыми» делами действительно устлана дорога в ад. Осуществиться, естественно, им не удаётся, зато «недобрые» дела всё разрастаются и разрастаются. Врагов всё больше и больше. Палачей, а не «вооружённого народа», нужно всё больше и больше. Замкнутый круг.
А абсолютно слепой в своей марксистской вере Ульянов (Ленин) продолжает утверждать, что «при социализме все будут управлять по очереди и быстро привыкнут к тому, чтобы никто не управлял»54.
Все будут по очереди управлять сантехническими уборными, руководить академическими разработками, друг за другом назначать медицинское лечение, организовывать общественное питание, по очереди воспитывать детей (потому что все дети будут коммунально общими), видимо, по очереди будут совокупляться между собою по своим сексуальным потребностям (во всём многообразии однополых и многополых вариаций). А также по очереди будут руководить космическими полётами, добычей полезных ископаемых, станкостроением, эстрадным пением, руководить писателями и поэтами, а ещё и разработкой психологически корректирующих лечений и профилактик, чтобы человеческая личность не слишком часто кончала бы свою жизнь самоубийством в этом «самом лучшем» земном рае для людей. Людей, потерявших все естественные человеческие черты, о которых мы знаем, в погоне за призраками коммунизма.
10. Виноват ли Ульянов-Ленин в развязывании Гражданской войны
«Революция есть самая острая, бешеная, отчаянная классовая борьба и гражданская война» (В.И. Ульянов-Ленин). Гражданская война – самое ужасное, что может произойти с нацией. Внутринациональная, братоубийственная война —наиболее страшное историческое событие в жизни народа. Никакая Гражданская война невозможна без предваряющей её потери национального чувства единства, взаимной любви и ощущения ценности национальной целостности и мировоззренческой идентичности. И с той, и с другой стороны в гражданском противостоянии погибают русские люди, по-разному понимающие будущее своей национальной общности.
Мнения древних мудрецов о Гражданской войне
С самой древности междоусобные Гражданские войны считались величайшим бедствием для народа.
«Победитель все равно будет хуже побежденного», – писал древнеримский историк Тацит о междоусобной войне.
«Гражданская война… и для победителей, и для побежденных… одинаково гибельна», – утверждал древнегреческий философ Демокрит.
Но наиболее образно катастрофические последствия описывал древнеримский оратор цицерон.
«В гражданских войнах, – говорил он, – все является несчастьем… Но нет ничего несчастнее, чем сама победа… Победителю, уступая тем, с чьей помощью он победил, многое приходится делать даже против своего желания»55.
Парижская коммуна и Гражданская война
Грандиозное гражданское сражение, развернувшееся сто лет назад на территории нашей Родины, должно иметь своих зачинщиков. И политика большевиков и их лидера Ленина играла в этом процессе заглавную партию ещё с тех времен, когда не было ни самой революции, ни красного, и уж тем более ещё не было никакого белого террора. Именно марксисты, исходя из опыта Парижской коммуны 1871 года, начали свои призывы о необходимости развязывания Гражданской войны. Так, за десять(!) лет до начала реального гражданского противостояния Ленин в своей статье «Уроки Коммуны» писал, что «социал-демократия упорной и планомерной работой воспитала массы до высших форм борьбы – массовых выступлений и гражданской вооруженной войны. Она сумела разбить в молодом пролетариате «общенациональные» и «патриотические» заблуждения… русский пролетариат должен был прибегнуть к тому же способу борьбы, которому начало дала Парижская Коммуна, – к гражданской войне… Никогда не должен он забывать и того, что классовая борьба при известных условиях выливается в формы вооруженной борьбы и гражданской войны»56.
Итак, за целое десятилетие до известных кровавых событий марксистский идеолог Ульянов-Ленин пишет, что в борьбе с патриотическими и общенациональными русскими «заблуждениями» большевики готовили пролетарские массы для Гражданской войны.
Мировая война и революция
Чего же не хватало большевикам для развязывания Гражданской войны? А не хватало самой малости – революционной ситуации в России.
Не знаю, у Ленина ли первого или нет появилась идея о том, что столкновение великих держав будет на руку революции. Но такие идеи витали в среде радикальных революционеров и «национал-сепаратистов» (в частности украинофилов), которые понимали, что появление на свет революции и сепаратистских образований типа «государства Украины», возможно только при заинтересованности в борьбе с Российской Империей великих европейских держав.
Нужна была всесветная, мировая война с Россией? Нужны были противники, равные по военной силе Российской Империи, чтобы революция смогла совершить свой удар в спину воюющей стране?
У Ленина есть интересное письмо из Кракова, от января 1913 года, адресованное Максиму Горькому, спонсору и беспартийному товарищу революционного дела большевиков. В нём он пишет о своём сокровенном желании: «Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции (во всей восточной Европе) штукой, но мало вероятия, чтобы Франц Иозеф и Николаша доставили нам сие удовольствие»57.
Война и большевистская ненависть к Отечеству
Война через полтора года стала реальностью. И с самого начала этого мирового противостояния мысль Ульянова-Ленина о Гражданской войне обрастает «пораженческой» плотью. Он начинает вести жесточайшую полемику даже в среде своих товарищей-социалистов, убеждая занять последовательную позицию на поражение России в этой войне.
Он неоднократно издает свою статью «Социализм и война» (написанную в июле-августе 1915 года), где утверждает, что: «Война, несомненно, породила самый резкий кризис и обострила бедствия масс невероятно… Наш долг – помочь осознать эти настроения, углубить и оформить их. Эту задачу правильно выражает лишь лозунг превращения империалистической войны в войну гражданскую, и всякая последовательно классовая борьба во время войны, всякая серьёзно проводимая тактика массовых действий неизбежно ведёт к этому».
В своих письмах этого периода Ульянов-Ленин ещё более откровенен и ещё более жесток к своему Отечеству. Он фанатично призывает на свою Родину грозы поражения и Гражданской войны. Он бредит ими, мечтает о них, призывает всех своих товарищей поверить в революционную правду своих призывов.
Так, в письме к товарищу по партии, выходцу из старообрядческой семьи А.Г. Шляпникову он исступлённо пишет: «Неверен лозунг “мира” – лозунгом должно быть превращение национальной войны в гражданскую войну. Не саботаж войны,… а массовая пропаганда (не только среди “штатских”), ведущая к превращению войны в гражданскую войну… наименьшим злом было бы теперь и тотчас – поражение царизма в данной войне. Ибо царизм во сто раз хуже кайзеризма. Не саботаж войны, а борьба с шовинизмом… сговор… пролетариата в целях гражданской войны. Направление работы (упорной, систематической, долгой, может быть) в духе превращения национальной войны в гражданскую – вот вся суть.
Лозунг мира, по-моему, неправилен в данный момент. Это – обывательский, поповский лозунг. Пролетарский лозунг должен быть: гражданская война»58.
Ленин проклинает последними словами всех, кто хоть как-то высказывается за защиту своего Отечества, даже своих товарищей. Пожалуй, именно по этому вопросу он разругался практически со всеми социалистами, называя их оппортунистами и предателями.
В очередном письме к А.Г. Шляпникову от 31.10. 1914 года он пишет с непрекращающимся ожесточением: «Лозунг наш – гражданская война… Все это чистейшие софизмы, будто сей лозунг неподходящий и т. д. и т. п. Мы не можем ее “сделать”, но мы ее проповедуем и в этом направлении работаем…. Возбуждение ненависти к своему правительству, призывы… к совместной их гражданской войне… Лозунг мира теперь нелеп и ошибочен…»59.
Банальное предательство или диавольская ненависть?
Подобные, просто «умоляющие», призывы разбросаны по всем статьям и письмам времен Мировой войны. Их можно увидеть и в работе «Военная программа пролетарской революции» (сентябрь 1916 г.), и в статье «О лозунге «разоружения» (октябрь 1916 г.), и в других текстах Ульянова-Ленина.
Для Ленина не было понятия Родины, для него не было понятия соотечественников, он с легкостью мог бы повторить слова великого узурпатора Вителлия (15-69 гг. н.э.), пришедшего к власти в результате Гражданской войны: «хорошо пахнет труп врага, а еще лучше – гражданина».
Он жаждал поражения, крови своей страны. Все разговоры о том, что он ненавидел царскую власть, а Россию любил – всё это ложь! Такой любви не бывает, так выглядит ненависть, глубокая, как адская преисподняя. Ульянов-Ленин не был просто предателем, как генерал Власов, он был значительно хуже. Он ненавидел своё Отечество всем своим существом, всеми фибрами своей атеистической души и положил все свои силы на её разрушение. Его ненависть была диавольски (любимое словечко Ильича) тотальна, по-марксистски догматически всеобъемлюща.
Превращение Второй Отечественной войны 1914-1918 гг., как её именовали на Родине, в войну Гражданскую для Ульянова-Ленина – главная, лелеемая им всю войну мысль. Именно с ней он приехал в запломбированном вагоне в 1917 году в Россию, раздираемую революционными событиями.
Тактическая уловка большевиков по приезде в Россию
Но что же мы видим в позиции партии большевиков, начиная с марта-апреля 1917 года? Они не призывают свергать буржуазное Временное правительство, перестают открыто требовать превратить империалистическую войну в Гражданскую. Объявляют лжецами всех, кто приписывает им эти желания. Говорят, что это ложь, распускаемая врагами партии. Что произошло?
Лучше всех объясняет эту кажущуюся странной большевистскую метаморфозу 1917 года сам Ульянов-Ленин. На III конгрессе Коммунистического Интернационала, в самом его конце, 11 июля 1921 года Ленин в «Речи на совещании членов немецкой, польской, чехословацкой и итальянской делегации», произнесенной на немецком языке, сам вспоминал о тогдашней своей тактике следующее: «В начале войны мы, большевики, придерживались только одного лозунга – гражданская война и притом беспощадная. Мы клеймили как предателя каждого, кто не выступал за гражданскую войну. Но когда мы в марте 1917 года вернулись в Россию, мы совершенно изменили свою позицию. Когда мы вернулись в Россию и поговорили с крестьянами и рабочими, мы увидели, что они все стоят за защиту отечества, но, конечно, совсем в другом смысле, чем меньшевики, и мы не могли этих простых рабочих и крестьян называть негодяями и предателями… Наша единственная стратегия теперь – это стать сильнее, а потому умнее, благоразумнее, «оппортунистичнее», и это мы должны сказать массам. Но после того, как мы завоюем массы благодаря нашему благоразумию, мы затем применим тактику наступления и именно в самом строгом смысле слова»60.
Это была лишь тактическая уловка для того, чтобы привлечь массы на свою сторону, а затем партия коммунистов вернулась к своим догматическим планам. Уже в октябре 1917 года Ульянов-Ленин снова пишет в работе «Удержат ли большевики государственную власть?», что: «Революция есть самая острая, бешеная, отчаянная классовая борьба и гражданская война. Ни одна великая революция в истории не обходилась без гражданской войны»61.
Выводы. Кто виноват в русском стратоциде?
Для левых, как для людей безнравственных по своей внутренней сути, характерно перекладывать свою вину на «здоровые головы». Большевики способствовали всеми своими силами дезертирству части нации с поля боя Первой Мировой войны и уход в большевистское «пораженчество».
Придя к власти, коммунисты отняли у России заслуженную и неизбежную при Императоре победу над Германией, умудрившись довести Мировую войну до полного поражения и позорного мира в Бресте. хотя союзники Российской Империи уже в 1918 году праздновали победу над Германией и её союзниками даже без военных усилий России. Большевистская власть умудрилась капитулировать перед теми, кто капитулировал через полгода перед вчерашними союзниками Российской Империи. Подписывая декрет о мире, Ульянов-Ленин знал, что обманывает всех, поскольку партия давно выступала за превращение Мировой войны в Гражданскую. Капитуляция в Бресте перед Германией в 1918 году развязала руки большевикам для усиления классовой борьбы и ведения Гражданской войны.
Большевики полностью виновны в замышлении, проповеди и развязывании Гражданской войны в России как начала русского стратоцида, массового уничтожения людей по классовому принципу, проводимого им несколько десятилетий на русской почве.
Потеря любви к родственно, кровно ближнему в начале XX столетия, приведшая к революции, приходу большевиков к власти, Гражданской и последующим классовым войнам, есть глубочайшее духовное падение, есть распад национального единства.
Повторения этих внутринациональных войн никогда больше не должно быть в нашей истории.
11. «Искал худшего, но не нашёл». Ленин как величайший распространитель революционного несчастья
Ульянов-Ленин – крупнейший революционный деятель XX столетия. Реальный коммунистический кумир и основатель марксистского эксперимента, просуществовавшего на территории России не дольше среднестатистической человеческой жизни.
Интеллектуальный отец Ленина, Маркс, придумал это атеистическое общество будущего – коммунизм. Ленин как последовательный марксистский начётчик захватил власть в России. Сталин как верный последователь Ленина попытался реализовать отдельно взятую на Западе марксистскую утопию в отдельно взятой стране – СССР. Но при столкновении с реальным Западом жестокий эксперимент с копированием на нашей почве марксистских догм потерпел поражение в результате холодной войны. И дело Ленина прекратило своё существование. Но значительно труднее оказалось изжить ленинизм, уж больно он родственен апокалиптическим временам.
Ленин как орудие Божьего Промысла
В истории христианских народов были случаи, когда после правления вполне спокойного правителя вдруг появлялись тираны, которые удивляли современников своей кровавой яростью.
Так, например император Маврикий (539–602), проведший двадцать лет в государственных трудах, был неожиданно свергнут тираном из военных – Фокой. Придя к власти, Фока убил императора, его жену, пятерых сыновей, трёх дочерей, брата императора. Без суда и следствия проводил тысячи казней аристократов и просто неугодных. В результате была обезглавлена и дезорганизована византийская армия. В войне с Персией Фоке пришлось признать поражение, заключить унизительный мир и выплачивать большую контрибуцию.
Так что восьмилетнее правление Фоки было одним из худших времен в византийской истории.
Ещё интереснее для нашей темы другое. Во время правления Фоки некий духовный старец возжелал узнать, за что Господь дал Империи такое чудовище, как Фоку? И решил молиться до тех пор, пока Господь не даёт ему ответа. И через какое-то время старцу был голос: «Искал худшего, но не нашёл».
Как говорят святые отцы, есть три способа спасения: 1) не грешить, 2) согрешив, покаяться и 3) если грешишь и не каешься, то тогда терпи приходящие за грех скорбные испытания.
Не грешить никто из людей не может. Каются не многие, не глубоко и не часто. А потому третий путь спасения через претерпевание разнообразных трудностей всё чаще становится основным.
С Российской Империей, вероятно, произошло то же самое, что и с Ромейской державой при императоре Маврикии. Грешили, плохо каялись и в какой-то момент оказались настолько лёгкими на весах Божиих, что пришло время спасаться кровавыми скорбями. И Господь вновь: «искал худшего, но не нашёл хуже Ленина».
В нашей русской истории нет никакого другого правителя, более далёкого от Православия, от русской государственности, от каких-либо русских традиций, чем Ульянов-Ленин.
По-видимому, именно поэтому для России в 1917 году новым Фокой стал Ульянов. Действительно, период ленинского правления, в шесть с небольшим лет, это какой-то редчайший концентрат бедствий, постигших страну. Да и бедствия эти похожи во многом на византийские. И там и там есть казнь царской семьи, поражение и заключение позорного мира, репрессии в отношении армии, казни без суда и следствия представителей высших классов. С той лишь разницей, что в гражданской войне в Византии победили «белые» во главе с будущим императором Ираклием, а у нас «красные» – во главе с новым Фокой. Но оттого к нашим бедствиям прибавились ещё и голод, и ограбление широких масс крестьянства, и гонения на церковь…
Заболевание революцией
Меня всегда удивляла какая-то нерациональная «влюблённость» в революцию у левых. Приписывание революции каких-то чудодейственных возможностей по переустройству общества, поиску социальной справедливости. При всей декларируемой левыми приверженности к рациональному мышлению, к здравому смыслу, как только речь заходит о революции, дебаты переходят в область гипертрофированно идеализируемую. Революция неизбежна, революция решит все проблемы, революцию обязательно надо делать. Зачем? Какие гарантии, что это инструмент созидания, а не разрушения? Не важно. Сам процесс для многих столь увлекателен, что вопросы «а что потом?» считаются уже сами по себе контрреволюционными и неуместными.
Всё-таки в революции привлекает больше всего не то, что после неё, а что в процессе неё. Вседозволенность революции, стремление к власти над себе подобными, власть диктаторская над жизнью и смертью – вот что привлекает основную массу в ряды революционеров.
Такое стремление выдаёт людей духовно неполноценных, не способных к созидательному труду. Увлекаемых возможностью быстрого подъёма по социальной лестнице, авантюрам. Революционеры, как правило, люди склонные к псевдопростым решениям, связанным с гипертрофированным насилием.
Ленин как «государственник» и «бренд»
Коммунисты и левые, те, кто не марксисты, но кому революционный движ кажется весьма интересным мероприятием, считают, что Ленин – это «победитель» в нашей истории. Я встречал даже такие утверждения: мол «Ленин самый известный русский в мире», «это бренд России, и отказываться он него нельзя».
Я всё же думаю, что самые известные русские – это граф Толстой, Достоевский или Гагарин.
Но при чём здесь известность? Вот Кампучии что с того, что самый известный в мире камбоджиец – это коммунистический палач Пол Пот? Или для Румынии – вампир граф Дракула? Такие национальные «бренды» оскорбительны, и от них надо избавляться.
У левых марксист Ленин причудливо трансформировался в «государственника». Это такая используемая левыми пропагандистская тактика: в обществе распространены государственнические настроения – давайте сделаем из Ленина «государственника». Всё равно большинство не будет читать его собрания сочинений и выяснять, так это или вопиющая неправда.
Главное – революционный движ был действительно впечатляющий. Ленинский вихрь поднял в воздух и то, что никогда не летало в России.
Есть несколько постулатов, которые кажутся левым логичными, когда речь заходит о Ленине: «Большевики в истории человечества сделали равными всех», «большевики были невиданными, неслыханными, невозможными идеалистами», «они хотели весь мир освободить».
Утопию, особенно вышедшую в тираж, надо подпитывать новыми «красивыми словами».
Революция – это всегда насилие
Революция – это всегда насилие. С этим не спорят даже и революционеры. Из тактических соображений (или по глупости) они иногда могут обещать, что насилия будет не много и что оно будет не кровавым. Но наиболее последовательные, прямолинейные идеологи революции всегда говорят о насилии как о главном топливе для революции.
Всегда ли насилие – это плохо? Наверное, не всегда. Если вы пережили автомобильную катастрофу, в бессознательном состоянии попали на хирургический стол и там вам что-то отрезали – это насилие? В чём-то, наверное, да. Ведь разрешения на отрезание повреждённой ноги у вас никто не спрашивал. Но предполагается, что хирург просто сделал свою работу, потому что ваша нога уже и так была не совсем ваша. Она была раздроблена, бесчувственна, и хирург ампутировал уже не столько вашу ногу, сколько гангренозную заразу, опасную для вашего организма.
Обычно революционеры так и описывают Российскую Империю, как гангренозную заразу, «тюрьму народов» и «тёмное царство», когда предлагают оценить революцию как благое дело. В стиле «низы не могли, верхи не хотели», «есть такая партия», а затем «слава Октябрьской революции» и «Ленин величайший бренд России».
Собирали ли большевики территорию России, создавая СССР?
Но был ли реальный большевик – Ленин действительно социальным врачом, а не революционным преступником?
Что сделали большевики после прихода к власти? Поначалу они отпустили все народы жить своей самостоятельной жизнью. То есть позволили сделать из единого организма Империи некий обрубок, без ног и без рук, расчленённый по воле всевозможных сепаратистов. Потом, через несколько лет, ведя бесконечные военные действия, большевики вроде бы «пришили» отторгнутые части (не все) к телу РСФСР, основав СССР.
Левые пропагандисты говорят – слава большевикам-победителям. Они восстановили Россию.
И вот здесь встаёт, в общем-то, простой вопрос: а мотивация присоединения бывших земель Империи у большевиков была такая же, как у царей, – расширять русское государство? Нам говорят, какая разница, ведь по факту получилась большая страна, территориально похожая на Российскую Империю. Только не Империя, и не Российская, и не с царём, а с большевиками, и не единая, и неделимая, а федеративная и союзная.
То есть «большевистский врач» сначала сделал из страны глубокого территориального инвалида. А затем, согласно марксистскому представлению о государстве, решил поэкспериментировать, создавая новый организм – пришивая ранее отрезанные части нашего же тела. Но уже как автономные, со своей региональной кровеносной системой. Переназвал Россию новым именем (СССР) и решил использовать вновь сшитое «тело» для своего мирового мегапроекта – создания невиданного в мире единого организма, где союзные территории СССР играли бы роль первичного пазла для этого мирового конструктора.
Так можно ли этих смелых коммунистов-экспериментаторов, этих безумных «социальных трансплантологов» заподозрить в том, что они думали о воссоздании России?
Конечно же, нет. СССР не задумывался и не создавался как продолжение исторической России. Большевистский союз был совершенно новым государственным образованием, планируемой основой для государственного мегагомункулуса – Международной ССР.
Сталин предельно чётко выразил этот большевистский смысл в своей речи на собрании, посвящённом образованию СССР: «Сегодняшний день является не только итоговым, он является вместе с тем днём торжества новой России над старой, над Россией – жандармом Европы, над Россией – палачом Азии. Сегодняшний день является днём торжества новой России, разбившей цепи национального угнетения… Союз Советских Социалистических Республик, прообраз грядущей Мировой Советской Социалистической Республики»62.
Принципы пролетарского интернационализма – принципы нового национального неравенства
Ещё более выпукло разрыв с русской государственной традицией Ленин демонстрирует в принципах большевистской национальной политики. Как и основатели марксизма, Ленин делит нации на угнетённые (малые) и на угнетателей (большие). Особенно ярко марксистское русофобское отношение к русским проявляется в тексте «К вопросу о национальностях или об «автономизации»», написанном Лениным 30–31 декабря 1922 года, в самом конце своей политической деятельности.
Он постулирует для только что созданного СССР, что «свободы выхода из союза» для не русских народностей совершенно недостаточно для защиты их «свободы». Нужны более радикальные меры, способные «защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ. Нет сомнения, что ничтожный процент советских и советизированных рабочих будет тонуть в этом море шовинистической великорусской швали, как муха в молоке»63.
Хорошо видно, что «вождь мирового пролетариата» был не только абсолютно денационализированной личностью, но и глубоко русофобски настроенным не только к русской государственности, но и к самому русскому народу.
Ульянов-Ленин предлагал отличать в советской национальной политике «национализм нации угнетающей и национализм нации угнетённой, национализм большой нации и национализм нации маленькой». Второй для Ленина не только понятен и извинителен, но в отношении его русские оказываются «виноватыми в бесконечном количестве насилия» и оскорблений. Приводятся Лениным и «оскорбления»: «поляка не называют иначе, как «полячишкой», как татарина не высмеивают иначе, как «князь», украинца иначе, как «хохол», грузина и других кавказских инородцев – как «капказский человек»».
Вот эти вот «жесточайшие» оскорбления во имя интернационализма требуют «со стороны угнетающей или так называемой «великой» нации (хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически. Кто не понял этого, тот не понял действительно пролетарского отношения к национальному вопросу, тот остался, в сущности, на точке зрения мелкобуржуазной и поэтому не может не скатываться ежеминутно к буржуазной точке зрения».
«Полячишка», конечно, не слишком приличное словечко, но в СССР поляков почти не было. Советская власть территорию царства Польского потеряло. Чем оскорбительно слово «князь» в адрес татарина, понять не представляется возможным. Да я и никогда не слышал, и не читал о таком благозвучном «оскорблении» нигде, кроме как у Ленина. Дихотомия «хохол» – «кацап» ещё сложнее укладываема в вековые оскорбления. Изменение слова «кавказский» на «капказский» так же не тянет на угнетение, требующее многолетнего финансового покаяния.
Но удивительнее всего в национальной политике большевиков то, что «подарившие всем равноправие», как нам рассказывают левые пропагандисты, в реальности совершенно осознанно проводили политику дискриминации русского большинства.
Формального равенства было мало. Русские должны «возместить так или иначе своим обращением или своими уступками по отношению к инородцу то недоверие, ту подозрительность, те обиды, которые в историческом прошлом нанесены ему правительством «великодержавной» нации…»
В реальности большевики осознанно долгие годы, будучи у власти, перекачивали русские ресурсы (интеллектуальные, экономические, культурные) на развитие национальных окраин и национальных элит. Но не только. Именно они создали и воспитали внутри русского народа украинскую и белорусскую «угнетённые» нации, расчленив общерусское единство.
Такая большевистская национальная политика стала гробовщиком СССР. Так как бывшие «угнетённые», а в советской стране «привилегированные» быстро, за несколько поколений осознали, что «выход из состава СССР» это не только текст в Конституции, но и реальное право. И воспользовались им при «социализме с человеческим лицом», распрощавшись окончательно со своим донором-«угнетателем» русским народом.
Ленин виновен не только в том, что изначально заложил федеративную мину под здание СССР, но и в том, что сконструировал бомбу из национализмов малых наций, когда сформулировал принцип «лучше пересолить в сторону уступчивости и мягкости к национальным меньшинствам, чем недосолить»64.
С русофобией большевики пересолили очень сильно. Попытавшись найти опору в государственном строительстве вне русского большинства, они гарантированно загубили советский проект. Нет худа без добра.
12. «Он шарил расклады, как хитрый вор»: левые дежурно поблудили про Ленина
Практически бесшумно прошло 150-летие марксистского вождя Ульянова (Ленина). Зюгановцы, нарушив собянинскую священную корову самоизоляции, ритуально посетили своего вождя в мавзолее. Власти им разрешили навестить своего партийного «бога» в его мемориальном «святилище».
Конечно, это же не Пасха в храме, это совсем другое. Этот ритуал не мог не состояться. За левыми надо ухаживать. Они социально близкий элемент. Им, «оппозиционерам», власть разрешила. Ведь не ко Христу же они пошли, а к Ленину. Ко Христу заразишься, а к Ленину-«пролетариатоводцу» всегда ходили, чтобы «себя чистить» («Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше»). Всё нормально и безопасно. Кто-то даже посчитает, что это нужно. Как бы не поплыть нам… в эту революцию… дальше без Христа.
Ленин как «хитрый вор» и революция как «гоп-стоп»
В целом левые привычно, но как-то уж очень дежурно, буднично словесно поблудили про своего плакатного псевдомессию. Великий, неподражаемый, чего-то там открывший человечеству, всё правильно делавший, этакий непогрешимый и несменяемый коммунистический «симбирский папа», культу которого устали поклоняться. Идол, которому уже никто не приносит кровавые жертвы.
Единственный, кто порадовал большевистской откровенностью, так это блогер Рудой. Вот уж мастер слова, припечатал, так припечатал. Как и другие молодые левые ищущие новые подходы в подаче образа Ленина, Рудой (ставший в последствии иноагентом и эмигрантом) решил поприветствовать Ильича в стиле АУЕ: «Наше революционное уважение Ильичу. Он шарил расклады, как хитрый вор»65.
Пожалуй, это самое точное определение деятельности Ленина, какое я читал на левых пабликах. Выделенная фраза дорогого стоит. Рудой сдал нам что-то очень важное в восприятии революционерами своего вождя. хитрый вор, политически прикрывавшийся марксистской идеологией экспроприации экспроприаторов.
Теперь Октябрьскую революцию смело можно воспринимать как «мировой гоп-стоп». А знаменитая песня про «гоп-стоп» стала приобретать в свете сказанного Рудым новые политологические смыслы, раскрывая взаимоотношения революционеров («хитрого вора» и его подельников) с Императорской Россией:
«Гоп-стоп [Грабь награбленное],
Мы [революционеры] подошли из-за угла [приехали из Швейцарии, США и т. д.]
Гоп-стоп [Грабь награбленное],
Ты много на себя взяла [Императорская Россия],
Теперь расплачиваться поздно [военный коммунизм, классовая борьба неизбежны]
…
Ты так любила звон монет, Ты шубки беличьи носила,
Кожи крокодила [перечисление буржуазных грехов старой России],
Всё полковникам стелила [любила своих Государей, Император Николай II, будучи Главнокомандующим так и оставил себя полковником (последний чин, в который произвёл его державный отец)],
Ноги на ночь мыла [в Империи стремительно развивалось здравоохранение и гигиена],
Мир блатной совсем забыла [хорошая работа охранных отделений по борьбе с революционерами],
И перо за это получай! [Красный террор]»
Песня в новом политологическом наполнении вполне может заменить «Интернационал» таким молодым левым, как Рудой. Это будет молодёжно, а главное – честно.
Красная русофобия, или Русские как «люди отсталые»
Остальные левые были с нами не столь революционно-откровенны.
Хотя вновь отметился своей нетрадиционной политической «любовью» писатель Прилепин, соединив свой нацболовский восторг от Ленина с откровенной русофобией. Ленин причудливо слился у него в голове с каким-то прорывом «не просто русского человека, а человека третьего мира», прорывом «на вершину человечества». Русские люди при Ленине в интерпретации Прилепина показали, «что мы, люди периферии, люди отсталые, можем выйти на главные рубежи человечества»66.
«Вершина человечества» – это, по всей видимости, для Прилепина англосаксонские страны, для «левого патриота» это нормальная цивилизационная ориентация. Но вот о «третьем мире» его представления уж совсем приблизительны. Начиная с того, что такого термина не существовало во времена Российской Империи. Он появился лишь во второй половине XX столетия. Странами «третьего мира» называли те государства, которые не присоединились к противостоянию в «холодной войне» между советским и западным блоками. Писательские фантазии вещь вполне простительная в романах, но в политологии странами «третьего мира» называли, кроме прочих, и такие высокоразвитые страны, как Швеция, Финляндия, Швейцария, Австрия, Ирландия и Югославия.
Как публицист Захар Прилепин, скажем мягко, обычно не слишком точен, когда говорит о политике. Переводя с художественно-эмоционального на политический, лидер партии «За правду» хотел сказать, что русские в монархической Империи находились на уровне стран Африки и Юго-Западной Азии, но вот проблема – при жизни Российской Империи там были колонии европейских «империалистов».
Что же касается определения русских и их государства как «периферийных» и «отсталых», это просто дань ленинской, общей для всей левой традиции – красной русофобии. Это только в их сознании Россия являлась «темным царством», в исторической же реальности русские люди жили в великом Третьем Риме, наследнике центральной цивилизационной линии христианского развития – Рима Константина Великого и Византийской державы. История же Европы состояла из неудачных копировальных попыток создать АнтиРим (Карл Великий, Папство, Римская Империя Германской нации, Наполеон, Гитлер, ЕС). Англосаксы же были периферией даже для самой Европы. Вся элита Британии лет четыреста после завоевания норманнами разговаривала на старофранцузском языке. Да и сама Британская Империя, державшаяся работорговлей, распространением опиума и грабежом колоний, просуществовала не более 150 лет, бесславно развалившись. США же растеряли львиную долю своего господства за какие-нибудь 70 лет после Второй мировой войны. Долго ли они протянут «на вершине человечества»? Сомнительно.
Такое отношение к роли России и к русским нормально для левых, ведь они плоть от плоти радикальные западники. Их секулярное мышление глубоко несамостоятельно, и их понятийный аппарат не выходит за рамки западной материалистической мысли. Левые в России являются иностранными агентами чужой геополитической ненависти к нашей тысячелетней Родине. Их узкий советский патриотизм не распространяется ни на историю России до 1917 года, ни на Россию после 1991-го.
Радикальные западники большевики, как только пришли к власти, поменяли православный календарь на католический; перевели русские меры длины, веса, объёма, площади на европейские стандарты; провели упрощение русского языка; вернули западные компании, в РСФСР дав им концессии; раскололи по западным лекалам русских на три разные группы, создав украинцев и белорусов; ввели как официальную идеологию радикальный западный марксизм, заменив им все русские направления мысли. Ну и во многих других областях человеческой деятельности стали копировать западные образцы.
Всё своё недолгое правление большевики гнались как угорелые за США, растрачивая последние силы страны, и в результате бессильно пали, в холодной войне проиграв своим врагам-кумирам.
Красная русофобия стала совершенно неотъемлемой частью революционного мышления. Без русофобской составляющей невозможны никакие революции. Только цивилизационно абсолютно обесценив свою Родину, её можно так беспощадно казнить революцией.
Без красной русофобии нельзя стать полноценным убеждённым революционером. Без неё невозможна ни последовательная классовая ненависть, ни безжалостный революционный террор, ни оправдание политического насилия. Прежде чем кого-то начать убивать, его надо сначала расчеловечить, обесценить перед революционизируемыми массами.
Революция как разрушение личности
Если революционер не готов убивать своих соотечественников, он не настоящий революционер. Революция должна быть выше Родины, выше любой нравственности. Именно по крови своих сограждан пролегает тот Рубикон, та граница, которую человек, идущий в революцию, должен переступить, чтобы стать частью революционного процесса.
Если готов пролить кровь богатого, классово чуждого твоей партии, твоей идеологии, врага революции, то ты стал революционером по духу. Если ещё не решился – хотя бы только теоретически, хотя бы только лишь в глубине своего сердца – убивать, то ты ещё не перешёл грань, отделяющую тебя от людей, ты не стал революционером.
Революция, революционность – это особое, каинитское, падшее состояние души, готовое к убийству себе подобных, которые десакрализированы как люди и видятся только как враги класса, партии, идеологии.
Это одержимое и внутренне очень противоречивое состояние. Для того чтобы свыкнуться с мыслью, что ради «свободы, равенства и братства» для всех сначала надо часть этих всех пустить в расход, поставить к стенке, утопить вместе с баржами, заколоть штыками, застрелить в затылок, нужно пройти определённый путь от христианской нормы к диалектическому революционному материализму. Нельзя внезапно стать революционером. Нужно продать свою душу демонам революции. Для этого нужен свободный выбор. Выбор, который нельзя потом списать на кого-то другого.
Можно ненавидеть «капитализм», современный мир с его банками, деньгами, «буржуазией». Можно ненавидеть богатых, хитрых, не пролетарских. Но как быть с тем, что это именно тебе надо их убивать, их детей, их жен, их братьев, сестёр, престарелых родителей, друзей, соучредителей, представителей их классов. Они, конечно, могут быть плохими людьми. А кто не может? Разве это зависит от рождения, от социального положения? Но они могут быть и средними, и хорошими, и не причастными к сути твоей классовой ненависти. Но кто будешь ты, после того как лично поучаствуешь в их зачистке? Ведь чтобы у них забрать деньги, собственность, многих из них надо будет пытать (как в ВЧК), брать в заложники невиновных, расстреливать и прочее. Нет, конечно, революционеры обвинят самих убиваемых, мол, они сами виноваты – ведь они стали сопротивляться революционерам. Не кончили жизнь самоубийством, не отдали всё своё имущество добровольно. Не дали вам грабить награбленное беспроблемно. Жертвы революций всегда виноваты перед революционерами. Тем, что не хотели быть безропотными жертвами революции.
Революция – такой период в жизни общества, в котором вариативность планов на жизнь сужается до двух дорог: можно быть либо революционером, либо жертвой революции (контрреволюционер тоже жертва революции). Пересидеть революцию тихо практически невозможно. Если вы не хотите заниматься революционерами, то революционеры обязательно займутся вами. Потому, собственно, и революционеры не смогут отрицать свою вину. Все они добровольно становились агентами революции.
Может быть, они ответят не здесь, но они ответят обязательно за свои «красные» дела. Если их, конечно, не настигнут свои же товарищи выстрелом в затылок. Линия партии никогда заранее не известна её членам. Врагом народа, врагом партии можно стать в любой момент. Ведь лидеры партии, да ещё и революционной, это реальные «тарантулы», думающие только о власти, чего бы это ни стоило их товарищам.
Восторгаясь революцией, надо готовиться не только к «победам» над соотечественниками, но и к возможности в любой момент выпасть из рядов несгибаемых «победителей», которые не задумываясь отправят вас в расход.
В чём пафос революции?
О чём проповедуют революционеры? Очень редко можно услышать от них об их положительной программе, о конкретике «светлого будущего».
Сам Ленин, говоря о коммунизме, неоднократно заявлял, что «какими этапами, путём каких практических мероприятий пойдёт человечество к этой высшей цели, мы не знаем и знать не можем»67. Большевики откровенно не знали, как доплыть до коммунистических кисельных берегов.
Но они продолжали звать нас в своё революционное плавание к неизведанным коммунистическим землям и говорить бесконечно много красивых слов. Пока же мы задумчиво предавались мечтаниям о воздушных замках, рассказанных нам одними революционными писателями, другие партийцы деловито обшаривали наши карманы, лишая нас собственности, экспроприируя и концентрируя всё ценное в стране в руках своей партийной банды во главе с очередным «шарящим в раскладах хитрым вором».
Почитайте любого левого идеолога – 80-90% его текстов будут про деньги, про денежное равенство, про распределительную экономику, про материальные несправедливости, про разжигание классовых страстей. Пропаганда левых – это пропаганда о том, как нам всем стать хоть немножко «буржуями», только не через созидательную работу, а через «грабь награбленное». Недаром Ленин утверждал, что социализм – это государственный капитализм. То есть безальтернативный капитализм, в котором один тоталитарный хозяин – государство и один тоталитарный распределитель благ – партия. Стоит ли убивать кучу людей ради этого другого капитализма? С социалистическим лицом. Где вместо нескольких десятков олигархов-капиталистов будет только один олигарх – партийное государство.
Разрушал ли Ленин Империю?
Сегодня левые обожают придуманный ими пропагандистский штамп о том, что, мол, Ленин не участвовал в Февральской революции. Мол, он не разрушал Империю, а был, напротив, её «спасителем», собрав русские территории в СССР. Ильич, думаю, нещадно крутится каждый раз в гробу, когда его наследники заявляют об этом, и благим матом проклинает невольных хулителей его славного революционного имени.
Сам Ленин считал, что большевизм родился в 1903 году на II съезде РСДРП, проходившем сначала в Брюсселе, а затем в Лондоне. Где партия в принятой съездом программе поставила себе «ближайшей политической задачей низвержение царского самодержавия и замену его демократической республикой». Все последующие годы, впрочем, как и все предыдущие, большевики боролись всеми им доступными силами с Русским Самодержавием, приближая победу революции. Спрашивается, участвовали ли большевики в подготовке революции и свержении Самодержавия? Конечно, да. Ведь «низвержение царского самодержавия» было основной политической задачей их партии. Таких партий, как большевистская, то есть желавшей свержения русских Государей, было несколько – как социалистической, так и либеральной направленности. То, что лично Ленин не успел к Февральской революции, никак не помешало местным большевистским партийным лидерам Шляпникову, Молотову и самим партийным организациям на местах в Империи активно участвовать в этой революции.
Так кому политически близок Ленин – февралистам, кадетам, эсерам или Империи, русским Государям, контрреволюционерам? Кто государственники-то? А кто революционеры? Совершенно риторический вопрос. Ленин, как политик, желавший поражения своему Отечеству, конечно, был за Февральскую революцию. Но так как власть после неё большевики не получили, то стали углублять дальше революцию, то есть разрушать дисциплину в войсках, готовить оружие для восстания, расширять свою пропагандистскую базу (купили новый типографский комплекс с ротационной машиной за 250 тысяч рублей).
Так что не будем смешивать героев и предателей. Государственникам – государственное, а революционерам – революционное. Не продолжают эти две линии друг друга никак – они противоположные. Революционеры как делали революцию, так и сейчас ею бредят. А государственники как строили Империю, так и сейчас готовы это делать. Бумага, телевидение, блоги, конечно, всё стерпят, но в реальной жизни всё будет в конфронтации, как и было. Различайте духов, у интернациональной революции и русской государственности они противоположны.
Пасху и Ленина какое-то время, конечно, можно пробовать совмещать. Но это только в мирной ситуации. Затем одно обязательно вытеснит другое. Господь ревнив. Как, впрочем, и сатана. У таких людей просто выбор ещё впереди. Или он ещё публично не проявился.
Ленин и ленинизм
Ленин и ленинизм – безусловное зло. И дело даже не в его методах, безусловно, бесчеловечных, сатанинских. Ленин и ленинизм был частью революционной философии, одной из её фракций, радикальным родственником всех этих «умеренных» революционеров-февралистов, близкой роднёй всех этих эсеров, меньшевиков и прочих социалистов. То, что он, взяв власть, всех этих политических родственничков так или иначе пустил в расход, ничего не меняет. Не хотел Ленин делиться с «революционными уркаганами» властью. А потому и засадил им всем «перья под ребро», чтоб не мешались со своими предложениями поделить добычу. Убить Российскую Империю было главным желанием, основным догматом всей этой «славной братии» из родственных фракций вне зависимости от того, кто, как и когда приехал в Россию. Но Ильич в результате кинул всех этих революционеров-небольшевиков, оставив на бобах.
Зюганов как-то объявил Ленина «гениальным тактиком», мол, «за пять лет он предложил четыре варианта политики: военный коммунизм, продразвёрстку, продналог и НЭП».
А разве четыре варианта политики за пять лет это про гениальность? Это про политический идиотизм и оторванность от реалий жизни людей, про провал марксистских подходов (военного коммунизма, продразвёрстку и продналог) и про капитуляцию (НЭП) перед старой неидеологизированной экономикой. Почитайте про НЭП большевистских авторов – это риторика Гайдара и Чубайса, это про либеральный рынок, который всё наладит.
Ульянов (Ленин) действительно хорошо «шарил» в революционных раскладах, в политических «гоп-стопах», но это не имеет никакого отношения к государственной деятельности. Его политика была абсолютно, чисто конкретно провальная, поставившая великую страну на грань выживания.
***
Левые сами не сильно верят в то, что Ленин живее всех живых. Скорее они привыкли «ритуально молиться» на портретного, рисованного Ленина. Реальный революционер, настоящий «хитрый вор» Ульянов-Ленин с его делами, с его полным собранием сочинений глубоко мёртв для них. Его тексты не читают, его революционный пафос не готовы реализовывать. Жив лишь какой-то лакированный, искусственный, плакатный образ, который удобен для вынимания из партийных закромов 22 апреля и 7 ноября. Но уже безобидный, выпотрошенный, безгласный, потерявший свою разрушительную силу, «замавзолееный» Ильич. Его можно беспроблемно убирать с Красной площади в утиль – как декорации уже отыгранного страшного спектакля, не понравившегося зрителям, даже тем, кто после него остался в живых.
Живой вор должен сидеть в тюрьме, а мёртвый – уж точно не на центральной площади России.
13. До выноса тела Ленина осталось недолго
Смерть и партийные «славословия» Ленину
Официально Ульянов (Ленин) умер от резко выраженного и давнего склероза сосудов мозга, который развил «очаговые размягчения мозговой ткани», как написано в Акте о вскрытии, сделанном будущим советским академиком Абрикосовым. От чего он умер в реальности, можно будет узнать, только когда «вихри враждебные» перестанут окончательно виться над нами, и откроются все архивы тех лет.
Смерть Ленина была для многих неожиданна, хотя его трудоспособность, по сути, с 1921 года была лишь частична и имела тенденцию к уменьшению.
Сразу же после смерти Ульянова (Ленина) 21 января 1924 года другой вождь, Джугашвили (Сталин), от имени всех коммунистов сказал прощальную речь о нём. В стиле надгробной клятвы в верности его идеалам и после его смерти.
Джугашвили (Сталин) поклялся за всех коммунистов в хранении главных «заповедей вождя»: «хранить великое звание члена партии», «единство нашей партии как зеницу ока», «хранить и укреплять диктатуру пролетариата», «укреплять всеми силами союз рабочих и крестьян», «укреплять и расширять союз республик».
Как видите, хранить предполагалось сугубо партийные «ценности», других не предполагалось иметь. Ни тебе какого-нибудь величия России, ни какого-нибудь Русского мира, ни, на худой конец, русской культуры.
А уж о вере и вообще вспоминать смешно… хотя «вера» своя, коммунистическая, безусловно, присутствовала и особенно она проявилась именно в связи со смертью Ильича.
В той же своей речи Сталин уже указал на то, что «величие Ленина в том… что он, создав Республику Советов, тем самым показал… что царство труда нужно создать на земле, а не на небе». То есть «вера» предполагалась сугубо земной и при этом с амбицией распространения на весь свет.
«Ленин никогда, – говорил Сталин, – не смотрел на Республику Советов как на самоцель. Он всегда рассматривал её как необходимое звено для усиления революционного движения в странах Запада и Востока… гениальнейший из гениальных вождей пролетариата на другой же день после пролетарской диктатуры заложил фундамент Интернационала рабочих»68.
«К трудящемуся человечеству»
Но было ещё и общекоммунистическое обращение «К трудящемуся человечеству», принятое II Всероссийским съездом Советов. Смерть Ульянова (Ленина) подавалась в нём словесно уже прямо с религиозным, хотя и «псевдоевангельским» пафосом.
Культ вождя начал создаваться уже с первых дней после смерти: «Мы потеряли в Ленине главного капитана нашего корабля».
Капитана корабля, который, как я уже писал, не знал точно, куда он ведёт захваченный корабль.
Об Ульянове (Ленине) писали прямо как о «спасителе» человечества. «Всемирный гений рабочей революции отлетел от нас… закатилась яркая звезда человечества»; «Из гроба своего Ленин встал перед миром во весь свой гигантский рост»; «Отцом этого человечества уже давно назвали Ленина порабощённые народы Азии. Своим любимейшим и мудрейшим вождём считает Ленина пролетариат Европы и Америки, великих цивилизованных континентов нашего времени».
Капитал назывался «дьявольской помехой общественного развития». А Ленин – «великим из полководцев всех стран, всех времён и всех народов. Он был полководцем всего человечества…»
Это обращение читать тем страннее, чем страннее была выбрана «риторика» для некоего прощания авторами этого документа. Напомню, прощались воинствующе настроенные атеисты со своим вождём.
А тут у них Ленин куда-то «отлетел». Прямо как будто коммунисты верят в наличие какой-то души у умерших людей, которые только при своём бессмертии способны отлетать в потусторонний мир…
Не меньше удивляет и «встающий» из гроба сам вождь. Как будто они верят в воскресение мёртвых… А всё это неоднократное поминание в отрицательном смысле «диавола»?!
Но этого мало, Ленин провозглашался остающимся живым и после смерти: «но Ленин жив», а умирающим назывался «старый мир»… И далее опять «дьявольская машина капитала», «царство труда, царство рабочих и крестьян». Почему царство, а не республика?! Неосознанный идеализм вылезал из всех дыр…
Ленин и мавзолей
Сразу же после смерти вождя партия организовала из среды рабочих и крестьян, «народные» просьбы не захоранивать Ильича. Партийцам нужен был визуальный мемориальный объект поклонения для своих адептов. Создавался полновесный культ со своей атрибутикой, в котором тело вождя должно было играть свою значимую роль.
И как бы в поддержку этих рабочих «молений» следующий вождь, Сталин, на одном из заседаний Политбюро предложил: «Нужно забальзамировать тело Ленина. Существуют на сей счёт новейшие методы таким образом сохранить Ленина на многие годы. Это не противоречит и старым русским обычаям. Поместить его в специально оборудованный склеп»69.
Супруга вождя «мирового пролетариата» Надежда Крупская тщетно взывала к однопартийцам: «Большая у меня просьба к вам: не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и т. д. – всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим. Помните: так много ещё нищеты, неустройства в нашей стране»70.
Но «внешнее почитание личности» Ульянова (Ленина) партия сочла полезным для себя и создала вселенский посмертный культ личности, в том числе и визуальный, создав ему своеобразную усыпальницу – Мавзолей. А наряду с ним и десятки тысяч памятников, а также городов, проспектов, улиц и дворцов его имени.
Первый деревянный мавзолей возвели через несколько дней после смерти, в январе 1924 года. При взрывах мёрзлого грунта повредили канализацию, и весь котлован залило фекалиями. К этому случаю относится фраза патриарха Тихона: «По мощам и елей».
После весенней оттепели стало понятно, что из-за невыносимого запаха надо что-то делать. Уже в мае 1924 года потребовалось снести первый и построить второй, тоже деревянный, мавзолей.
Этот «пережиток» нашего уже позавчерашнего дня только мешает нам развиваться. Создавая у коммунистически ориентированной малой части нашего населения ложное ощущение, что раз Ленин продолжает лежать в мавзолее на Красной площади, то Советский Союз жив.
Прошло больше тридцать лет, и надо смотреть в будущее национальной России, уже наконец сняв ненужные интернационалистские шоры прошлого.
14. Вынесли Сталина, вынесут и Ленина: как убрали тело вождя из Мавзолея
Как выясняется, в Мавзолей можно не только вносить тела вождей, но и выносить их оттуда. В ночь с 31 октября на 1 ноября в 1961 году из Мавзолея вынесли тело Джугашвили-Сталина.
Тело Ульянова-Ленина не всегда одиноко лежало в Мавзолее. В 1953-1961 годах оно соседствовало вместе с другим телом, другого красного вождя.
9 марта 1953 года, когда состоялись похороны второго коммунистического гения «всех времен и народов», тело Джугашвили-Сталина поместили в Мавзолее Ленина. И на фронтоне этого партийного поминального пантеона появилось две надписи: Ленин и Сталин.
Хрущев и Сталин
Джугашвили-Сталин пролежал в Мавзолее недолго – неполные восемь лет. Судьба его переноса в другое место решалась на XXII съезде КПСС, через пять лет после речи Хрущева о культе личности.
Для Хрущева это было время достаточно ожесточенной борьбы со своими товарищами еще сталинского призыва за власть в партии. Кульминацией этой борьбы, собственно, и стало решение партии распрощаться с культом личности Сталина, вплоть до визуального отделения его посмертного тела от «боготворимых» партией останков другого вождя – Ульянова-Ленина.
Хрущев хотел быть прямым продолжателем и интерпретатором дела Ульянова-Ленина, без всяких отягчающих обстоятельств. Со Сталиным и репрессиями у Хрущева было слишком много личных воспоминаний, о которых он хотел бы забыть сам и которые он не хотел бы афишировать перед остальным населением Советского Союза, да и мира в целом.
Под «бурные, продолжительные аплодисменты» и возгласы из зала
Задумка, безусловно, долго вынашиваемая и подготавливаемая, начала претворяться в партийные решения 30 октября 1961 года. На двадцать третьем заседании XXII съезда КПСС делегаты довольно быстро и по-большевистски безжалостно обсудили проблему тела Сталина в Мавзолее.
В разных выступлениях на съезде говорилось о репрессиях, о культе личности, но конкретное предложение сделал Первый секретарь Ленинградского обкома Спиридонов, рассказав о том, что при Сталине ленинградская партийная организация понесла «особенно большие потери», в частности после убийства Кирова. «Как репрессии 1935-1937 годов, так и репрессии послевоенного времени, 1949-1950 годов, – говорил он, – были совершены или по прямым указаниям Сталина, или с его ведома и одобрения»71.
Глава ленинградских коммунистов ритуально сослался, как и положено было еще с ленинско-сталинских времен, на решения трудящихся пролетариев ленинградского Кировского завода (бывшего Путиловского) и Невского машиностроительного завода имени Ленина, «в которых ленинградцы вносят предложение о перемещении праха Сталина в другое место». В стенограмме дальше стоит запись: «Возгласы из зала «Правильно!». Бурные аплодисменты»72.
И только потом, уже от лица ленинградской парторганизации и «трудящихся Ленинграда» Спиридонов предложил внести «на рассмотрение XXII съезда предложение – переместить прах Сталина из Мавзолея Владимира Ильича Ленина в другое место и сделать это в кратчайший срок». После этого предложения в зале заседания раздались те же возгласы «Правильно!», но аплодисменты собравшихся коммунистов были на этот раз не только «бурные», но и «продолжительные»73.
Товарищу Спиридонову вторил первый секретарь Московского городского комитета партии товарищ Демичев, поддержавший предложение «целиком и полностью», увидев в процессе ликвидации последствий сталинизма, что «советское небо» вновь сделалось «безоблачным и ясным» и сняло «с плеч народа давившую его тяжесть», расчистив «путь для более быстрого движения вперед, к коммунизму». Выступление товарища Демичева вызвало тоже «продолжительные аплодисменты».
После ленинградских и московских, как выяснилось, «верных ленинцев» выступил земляк Джугашвили-Сталина, товарищ Джавахишвили: «Грузинская партийная делегация полностью одобряет и поддерживает предложения ленинградской и московской делегаций о перенесении праха Сталина из Мавзолея в другое место».
После его выступления сухая стенограмма отразила только не бурные и не продолжительные «аплодисменты».
Возможно потому, что Джавахишвили не был главой грузинских коммунистов, а был лишь председателем Совета министров ГССР. Товарищ Мжаванадзе, тогдашний первый секретарь Грузинской компартии, был, по-видимому, сталинистом, входил в антихрущевский заговор и уже при Брежневе был снят по обвинению в поддержке подпольных цеховиков.
«Спиритический сеанс» верной ленинки
Далее партийный спектакль разворачивался с еще большей драматургической яркостью. После партийных бонз выступила случайно оставшаяся представительница «верных ленинцев», член РСДРП с 1902 года товарищ Лазуркина. Она рассказала, как у нее «выросли крылья» от общения с Лениным еще до революции, в Женеве.
Затем она поведала о том, что, будучи репрессированной и находясь в советском лагере, она «все время дралась за Сталина, которого ругали заключенные, высланные и лагерники… Со мной многие спорили, некоторые на меня сердились, но я оставалась непреклонна»74.
Дальше случилось то, о чем всегда говорят консерваторы, когда пишут о коммунистической идеологии как о псевдорелигиозной «вере». Верная ленинка начала рассказывать прямо о реальной «спиритуалистической медитации».
Депутат Лазуркина Дора Абрамовна поведала съезду КПСС о своем опыте «общения с мертвым Ильичем». «Я, – сказала коммунистка с почти шестидесятилетним стажем, – всегда в сердце ношу Ильича и всегда, товарищи, в самые трудные минуты, только потому и выжила, что у меня в сердце был Ильич, и я с ним советовалась, как быть. (Аплодисменты). Вчера я советовалась с Ильичем, будто бы он передо мной как живой стоял и сказал: «Мне неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед принес партии»».
Молотов потом вспоминал об этом выступлении так: «Просто, по-моему, ведьма какая-то. Во сне видит, как Ленин ругает Сталина»75.
Но как бы там ни было, слова партийного ветерана были восприняты как «благословение» самого Ленина и вызвали не только «бурные», но и «продолжительные аплодисменты» съезда.
Нужный политический сюжет был разыгран как по нотам. Здесь было все: и инициатива от города трех революций, и выступления от столичных коммунистов, и согласие от коммунистов-земляков, и завершающий аккорд от партийца, видевшего Ленина еще в Женеве, а потом всю жизнь носившего вождя в своем «сердце» и советовавшегося с ним. Единство было найдено даже и с представителями потустороннего мира.
Решение и финальный акт
Пройдя этот отработанный путь легитимации последующего решения, сдобренный изрядным количеством всевозможных аплодисментов съезд коммунистов постановил: «Признать нецелесообразным дальнейшее хранение в Мавзолее саркофага с гробом И.В. Сталина, так как серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее В.И. Ленина. (Бурные, продолжительные аплодисменты)»76.
Далее это предложение, как положено, было поставлено на голосование и единогласно принято всеми коммунистами-делегатами съезда. Далее они уже стоя приветствовали это решение с бурными, продолжительными аплодисментами, как и было положено всякому дисциплинированному члену КПСС, когда партийное руководство принимало какое-нибудь решение.
Поскольку на партийном съезде предлагалось решить дело с телом Сталина «в кратчайшие сроки», то уже в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года у стен Кремля была выкопана могила. Тело Сталина было вынесено из Мавзолея. С него сняли звезду Героя Соцтруда, отпороли золотые пуговицы (заменив на латунные), забрали погоны генералиссимуса и опустили в могилу. На следующее утро об этом написали в газете «Правда», а со временем на фронтоне Мавзолея поменяли и надпись на «Ленин». Советский же народ продолжил спокойно ходить в Мавзолей, но уже только к одному вождю вместо двух.
Сам вынос тела Сталина из Мавзолея не вызвал в народе никакой реакции, никаких волнений и никаких глубоких переживаний. Не будет никакой реакции и при выносе второго лежащего там вождя.
15. Вон из мавзолея! 10 причин навсегда распрощаться с культом Ленина
Ленин умер, КПСС распущена, СССР развален: что вождь мирового пролетариата делает на Красной площади?
На дворе XXI столетие. Ульянов (Ленин) сто лет назад как умер. В прошлом, XX веке.
Он был фанатичным последователем марксистских идей XIX столетия. Его детище, коммунистическая партия, в условиях абсолютной монополии на власть действовала практически с самого Октябрьского переворота до 1990 года77, когда последний генсек КПСС отменил эту политическую привилегию. Время показать, на что были способны коммунисты, было предостаточно, с избытком.
При Горбачёве партия и комсомол насчитывали примерно 60 млн членов. И никто не стал на излёте перестройки защищать умирающее дело Ленина. Ни сама партия с комсомолом, ни КГБ, ни армия, ни народ. Все дружно и молчаливо отказали в своей поддержке коммунизму Ульянова (Ленина).
Это было настоящим концом СССР, поражением в холодной войне и финалом партийной диктатуры. То, что произошло потом, в 1991 году, было уже лишь конвульсиями умирающего организма, отягчившими дальнейшее положение русского народа потерей огромных отеческих территорий.
Ленин мёртв, но его имя продолжает быть везде
Прошло более тридцать лет. Имя Ульянова (Ленина) продолжает находиться на улицах наших городов. Более двух десятков тысяч памятников и бюстов, десятки тысяч улиц, переулков, площадей носят имя этого революционного лидера марксистов.
В своё время, придя к власти, коммунисты снесли почти все памятники, которые были построены в Российской Империи. Сейчас же их политические наследники выступают против того, чтобы убрать их партийные мемориалы.
Когда советский период отошёл в небытие, то из нашего гражданского сознания были убраны многие его знаки. Вместо советского герба был принят герб с имперским Двуглавым орлом. И его заменяли на фронтонах старых домов. Вместо красного знамени был введён национальный триколор. Из гимна России были убраны слова о Ленине. Городу на Неве, городу Октябрьской революции, после ношения имени Ленина вернули историческое название Санкт-Петербург.
К величайшему сожалению, в нашей стране вообще очень мало памятников русским историческим деятелям. Императору Петру I существует от силы десятка два памятников по всей стране, по нескольку – другим Государям и другим государственным деятелям.
Почему же Ленину на просторах нашей уже некоммунистической страны стоит до двух десятков тысяч памятников и бюстов? Такое же положение дел с именами улиц и площадей в наших городах. Неужели разрушитель государства в тысячу раз важнее для нас, чем все остальные правители-созидатели вместе взятые? Да нет, конечно. Это печальное наследие коммунистической монументальной агитации, которое не убрано до сих пор.
Мёртвый Ленин живёт в названиях нашей топонимики только при отсутствии властной воли убрать его тёмное политическое имя с наших домов и скверов.
Цивилизационная оценка деятельности Ульянова (Ленина)
Я хотел бы предложить десять основных пунктов, которые явно свидетельствуют, что Ульянов (Ленин) не является деятелем, заслуживающим уважения и мемориализации в нашей исторической памяти.
1. Ульянов (Ленин) был одним из упорнейших подготовителей революции («беззакония») в нашей стране. Как и другим марксистам, ему был свойственен своеобразный цивилизационный идиотизм, нечувствование ценности Русского мира, против которого они боролись.
Ленин ненавидел Российскую Империю не просто как республиканец ненавидит монархию или социалист – буржуазию. Он ненавидел Российскую Империю ещё и с оттенком личной ненависти и горделивого европейского пренебрежения. В начале Первой мировой войны Ленин писал: «Не может подлежать ни малейшему, абсолютно никакому сомнению, что наименьшим злом было бы теперь и тотчас поражение царизма в данной войне. Ибо царизм во сто раз хуже кайзеризма»78.
2. Ульянов (Ленин) был идейным и организационным вдохновителем массовых антирелигиозных гонений. Длинная череда убиенных Новомучеников Российских началась в его правление. Он – виновник зверского убийства царской Семьи и его царственных родственников. Его ненависть к Богу стала соблазном для многих, которых он вовлёк в богоборчество.
Эта революционная вина соблазнения им наших дедов и прадедов искупается нашим народом уже третье или четвёртое поколение, как и сказано в Священном Писании: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Втор.5:9-10).
3. Правительство, возглавляемое Ульяновым (Лениным), было первым в человеческой истории, которое законодательно ввело государственный террор в отношении инакомыслящих граждан своей страны. Постановление Совета народных комиссаров РСФСР от 5 сентября 1918 года «О Красном терроре»: «обеспечение тыла путём террора является прямой необходимостью», «необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путём изолирования их в концентрационных лагерях; что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам».
На закате своей жизни, в 1922 году, Ленин уже требовал государственного обоснования террора. В письме наркому юстиции Курскому он писал: «Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире, ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого»79.
4. Ульянов (Ленин) – первый человек (если, конечно, не считать деятельность Лжедмитриев), который осознанно проповедовал гражданскую войну, а затем и осуществил её в России. «Долой поповски-сентиментальные и глупенькие воздыхания о «мире во что бы то ни стало»! Поднимем знамя гражданской войны!»80.
Не менее откровенно он высказывался и в работе «Социализм и война»: «Мы вполне признаём законность, прогрессивность и необходимость гражданских войн»81.
5. Ульянов (Ленин) подвёл марксистскую базу под идею предательства Отечества и во время Первой мировой войны активно выступал за поражение России, входя в коллаборационистские сношения с врагом. Ульянов (Ленин) настаивал, что «нельзя великороссам «защищать отечество» иначе, как желая поражения во всякой войне царизму»82.
Также в письме к товарищу по партии А.Г. Шляпникову он исступлённо пишет: «Неверен лозунг «мира» – лозунгом должно быть превращение национальной войны в гражданскую войну… Лозунг мира, по-моему, неправилен в данный момент. Это – обывательский, поповский лозунг. Пролетарский лозунг должен быть: гражданская война» 83.
В этом письме особенно наглядно видно, что Ильич прекрасно отдавал себе отчёт в том, что Первая мировая война была войной именно национальной, оборонительной для России. Он сам называет войну «национальной».
6. Ульянов (Ленин) – первый в человеческой истории глава государства, который ввёл государственную систему массовых абортов. С постановления Народного комиссариата здравоохранения и Народного комиссариата юстиции правительства Ульянова (Ленина) от 16 ноября 1920 года «Об искусственном прерывании беременности» началась демографическая трагедия русского народа. Ульянов (Ленин) выступал за преступное право убийства неродившихся младенцев ещё до революции.
В 1913 году он требовал: «Безусловной отмены всех законов, преследующих аборт или за распространение медицинских сочинений о предохранительных мерах и т. п.». Он считал необходимым для большевиков встать на охрану «азбучных демократических прав гражданина и гражданки»84.
За годы СССР были убиты во чреве матерей примерно 200 млн неродившихся детей.
7. Ульянов (Ленин) стремился сделать Россию интернациональной базой для развития глобалистского проекта мировой революции и построения МССР (Мировой Советской Социалистической Республики). Ленинское понимание Советского Союза высказал Сталин в основном докладе на I Съезде Советов СССР, где учреждали новую федерацию. Сталин сказал: «Союз Советских Социалистических Республик, прообраз грядущей Мировой Советской Социалистической Республики»85.
8. Ульянов (Ленин) считал русских, «великороссов» угнетателями всех остальных наций, проживавших в России. Он начал создавать систему, по которой русские все годы коммунистического правления были классово-национальными донорами для других народов в экономическом и культурном плане.
Ульянов (Ленин) писал о том, что нужна «беспощадная и безусловная борьба с великорусским и царско-монархическим шовинизмом…», и утверждал как большевистскую аксиому, что для него «наименьшим злом было бы поражение царской монархии и её войск, угнетающих Польшу, Украину и целый ряд народов России и разжигающих национальную вражду для усиления гнёта великорусов над другими национальностями и для укрепления реакционного и варварского правительства царской монархии»86.
В другом месте Ульянов (Ленин) вопрошал: «Может великорусский марксист принять лозунг национальной, великорусской культуры? Нет. Такого человека надо поместить среди националистов, а не марксистов. Наше дело – бороться с господствующей, черносотенной и буржуазной национальной культурой великоруссов»87.
9. Ульянов (Ленин) стоял у истоков сначала государственного распада русской государственности и появления массы национальных образований на её территории. А затем – федерализации России, уничтожения единства русского народа и создания выдуманных наций (украинцев и белорусов), а также создания сепаратистских очагов на её территории. Он заложил территориально-племенную бомбу под здание СССР, которая расчленила единое государство на пятнадцать различных государств-осколков после вызревания национальных элит на окраинах.
10. Ульянов (Ленин) как марксист стремился к уничтожению государства как социального института и не был никаким продолжателем русской государственной традиции. Он писал: «Все прежние революции усовершенствовали государственную машину, а её надо разбить, сломать. Этот вывод есть главное, основное в учении марксизма о государстве»88.
Почему надо вынести тело Ленина из Мавзолея?
К Красной площади примыкает величественный Кремль, объект многовекового творчества русских Государей. На Красной площади стоит Покровский собор в честь взятия Казани царём Иоанном Грозным. На Красной площади стоит памятник Минину и князю Пожарскому, победившим поляков и Смуту XVII столетия. Часовня Иверской иконы Божией Матери, Казанский собор, другие исторические здания. Что делает труп Ленина на Красной площади?
Ленинское тело, да и сам Мавзолей задумывались в советском прошлом как часть наглядной политической агитации. Они являлись составной частью культа поклонения вождям, который создавал бывший семинарист Сталин. Культа противоцерковного, противоестественного.
Культ отошёл в прошлое. Осталась только сама личность Ульянова (Ленина), в которой мы имеем ярчайший образец антитрадиционного, антирусского государственного деятеля. Ленин в русской истории имеет положительное значение не большее, чем его имели Батый, Мамай, Тохтамыш, Лжедмитрий, Наполеон или Гитлер. То, что он родился в России, не сделало его русским политиком. Ульянов (Ленин) пришёл к власти как атеист-богоборец и марксист-интернационалист. Он был абсолютно чужой для России человек, оттого и столько бед он принёс стране, когда стал ею править.
Ленин не был не только великим русским государственным деятелем, но он не был и просто русским политиком. Он был безнациональным глобалистом, приверженцем радикальной западнической идеи коммунизма и мировой революции.
Ульянов (Ленин) мерил Россию своим маниакальным прокрустовым взглядом. И Россия в ленинских глазах всегда оказывалась не такой, как бы ему хотелось. У него не было никакой сыновьей ответственности перед Родиной. Не говоря уже о какой-либо любви к ней. Он абсолютно не чувствовал исторической, реальной страны. Голова у него была наполнена западными схемами, каждая из которых при реализации приносила страдание, кровь и разруху.
Памятники революционерам всегда готовят новые революции. Потому тело Ленина нужно вынести и захоронить, как вариант, на Волковском кладбище, где могила его матери и сестёр.
Памятники же великим национальным деятелям подготавливают новые великие национальные времена. А потому на месте Мавзолея необходимо воздвигнуть величественный Собор Новомученикам Российским, всем жертвам трагедии XX столетия. Собор будет являть памятную антитезу Мавзолею и телу Ленина.
Нас часто пугают в связи с выносом тела Ленина некими волнениями в обществе. Это левые страшилки. В реальности вынос тела не создаст никаких социальных проблем. Однажды из Мавзолея уже выносили одно тело. Вынесли тело Сталина, главнокомандующего Красной армии, взявшей Берлин. И даже это не вызвало никаких волнений. Опыт со Сталиным говорит о том, что в Мавзолей можно как вносить тела, так и беспрепятственно выносить обратно.
Нам пора прощаться с ленинским прошлым, не принёсшим никакого светлого будущего, а только бесполезно потратившим по пути следования в коммунистическое никуда десятки миллионов русских жизней. Пора констатировать: Ленин умер для России окончательно, навсегда.
16. Лев Троцкий: Революция как война, на которой все средства хороши и террор особенно
21 августа 1940 года многолетнее прижизненное противостояние Троцкий – Сталин завершилось.
Иосиф Джугашвили (Сталин) достал своего бывшего товарища по партии в далекой Мексике. Агент НКВД с революционной прямотой проломил ледорубом голову, рождавшую, быть может, самые кровожадные идеи большевизма.
А Джугашвили (Сталин) уже 24 августа подписал своим именем статью «Бесславная смерть Троцкого» в газете «Правда». В тексте статьи не без большевистской оригинальности и черного юмора утверждается, что с Троцким «покончили те, которых он учил убийству из-за угла, предательству и злодеяниям против рабочего класса», и что «Троцкий стал жертвой своих же собственных интриг, предательств, измен. Так бесславно кончил свою жизнь этот презренный человек, сойдя в могилу с печатью международного шпиона и убийцы на челе».
Так советский вождь лично простился со своим бывшим товарищем по ЦК партии, председателем исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, наркомом иностранных дел РСФСР, председателем Реввоенсовета РСФСР и СССР, наркомом по военным и морским делам СССР, высланным из СССР в 1929 году Лейбой (Львом) Давидовичем Бронштейном, носившим революционную кличку Троцкий (1879–1940 гг.).
К этому времени Джугашвили (Сталин) проводил в мир иной уже почти всех видных деятелей Ленинской гвардии. троцкому повезло прожить на пару лет дольше.
Ленин и Троцкий
Революционная карьера Льва Троцкого сегодня может интересовать только радикально левых историков. Переходы из одной группы революционеров в другую скучны и малозанимательны.
Важно, что еще в 1902 году в Лондоне Троцкий сошелся с Лениным, и далее революционная звезда Бронштейна (Троцкого) «сияла» на небосклоне мирового революционного движения вплоть до его смерти.
Но, несмотря на амбиции, приводившие к периодическим конфликтам на почве лидерства среди революционеров, Бронштейн (Троцкий) сохранил к Ульянову (Ленину) особое уважение до своей смерти.
Ленин к троцкому относился примерно так же. Правда, слово «уважение» в революционных кругах носило весьма большую степень оригинальности, сравнимую, скорее всего, с «уважением» в уголовной среде. Ленин называл Троцкого то «Иудушкой», то «лучшим большевиком». В сущности, одно другому не противоречило.
Так, Ульянов (Ленин) часто говорил, что «партия – не пансион для благородных девиц. Нельзя к оценке партийных работников подходить с узенькой меркой мещанской морали. Иной мерзавец может быть для нас именно тем полезен, что он мерзавец… У нас хозяйство большое, а в большом хозяйстве всякая дрянь пригодится»89.
Видимо, «мерзавец» «мерзавца» видел издалека, и каждый глубоко уважал именно эти специфически-революционные качества друг в друге и надеялся использовать их в общереволюционной деятельности, которая была весьма хлопотна.
Кстати, не надо думать, что охранные отделения, занимавшиеся политическим сыском, работали плохо. Постоянные аресты, выдавливание практически всех крупных революционных деятелей за границу Российской Империи и хорошо налаженная агентурная сеть – лучшие тому свидетельства.
Так, например, большевицкую фракцию в Государственной думе возглавлял полицейский агент Роман Малиновский, а в 1913 году в газете Ленина «Правда» главным редактором состоял полицейский агент Мирон Черномазов. По признанию же самого Троцкого, «из семи членов петербургского комитета партии накануне войны три состояли на службе охранки»90. В других фракциях и на межфракционных съездах дело обстояло примерно так же.
Но вот с чем было значительно хуже, так это с контрпропагандой. Революционным идеологам удавалось пропагандировать пораженчество в Первой мировой войне и подтачивать силы воевавшей Империи.
Сам Бронштейн (Троцкий) во время войны издал брошюру «Война и Интернационал» (1914 г.), где высказывался за «Соединенные штаты Европы» и утверждал, что «в интересах социализма война должна закончиться без победителей и побежденных». Он практически во власовском стиле Ленина желал поражения России, говоря о необходимости разрыва «с социал-патриотическими шатаниями».
Троцкий – самый «приспособленный» для революции человек
Троцкий, как и Ленин, опоздал к Февральской революции, оба не смогли поучаствовать в ее первых заговорщицких аккордах. Но сама стихия революции, конечно, была для них более понятна, и в ней они плавали значительно более комфортно, со знанием дела, чем либералы, начавшие Февральскую катастрофу.
Как писал сам Троцкий, «в борьбе побеждает наиболее приспособленный. Это не значит: ни лучший, ни сильнейший, ни совершеннейший, – только приспособленный»91. Бронштейн (Троцкий) был решительным практиком революции, но безответственным и слабым государственным политиком. Часто боялся брать на себя ответственность и за страну, и, что более было важно для коммуниста, боялся брать ответственность за партию. Много думал о себе и о своем имидже революционного деятеля.
Характерное подтверждение этому – его непоследовательность по поводу Брестского мира. После окончательного краха своей «промежуточной» формулы «ни мира, ни войны» 22 февраля 1918 года Троцкий подает в отставку с поста наркоминдела, явно не желая ставить своей подписи под военной капитуляцией. А ведь именно «министр» иностранных дел и должен был это сделать.
Люди – как «злые бесхвостые обезьяны»
Большевики, и Троцкий здесь не исключение, были большими циниками и яркими приспособленцами-тактиками. Троцкий мог, принимая церковную делегацию, в ответ на заявление юриста-канониста Н.Д. Кузнецова (1863–1936 гг.) о том, что Москва умирает от голода, заявить: «Это не голод… Вот когда я заставлю ваших матерей есть своих детей, тогда вы можете прийти и сказать: «Мы голодаем»».
А когда надо было тех же русских людей заставить взяться за оружие во время советско-польского наступления в 1919 году, то он на митинге в Киеве взывал, по свидетельству очевидцев, к слушателям, мол: «Враг не смеет топтать землю Матушки-Руси!». характерно, что призывы о «Матушке-Руси» им делались в Киеве – с точки зрения большевиков, столице легализованного ими украинского народа.
Когда коммунистам нужны были из тактических соображений силы и кровь русских людей, они взывали к «Матушке-Руси» или поднимали тосты за русский народ. При других обыденных обстоятельствах русские нужны были им лишь как топливо для мировой революции. «Но ведь что же такое наша революция, – писал Троцкий, – если не бешеное восстание против стихийного, бессмысленного, биологического автоматизма жизни, т.е. против мужицкого корня старой русской истории, против бесцельности ее (нетелеологичности), против ее «святой» идиотической каратаевщины во имя сознательного, целесообразного, волевого и динамического начала жизни?»92.
Для революционеров мужицкие корни русской истории —лишь бесцельность и идиотичность, не более того. Именно поэтому так легко было ее, эту мужиЦКую русскую жизнь терроризировать, когда она сопротивлялась революционизированию: «Гнезда бесчестных изменников и предателей должны быть разорены. Каины должны быть истреблены. Никакой пощады к станицам, которые будут оказывать сопротивление»93.
Троцкий был не просто русофобом, он, как и большинство революционеров, исповедовавших социал-дарвинизм, был подвержен глубокой мизантропии, именуя людей злыми бесхвостыми обезьянами: «Нельзя строить армию без репрессий, – писал он. – Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. До тех пор, пока гордые своей техникой, злые бесхвостые обезьяны, именуемые людьми, будут строить армии и воевать, командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади»94.
Лев Троцкий – теоретик большевистского террора и принудительного труда
Считая людей бесхвостыми обезьянами, людей невозможно не только жалеть, о них невозможно даже думать, и ими невозможно управлять иначе, как с помощью террора или социальной «дрессуры» классового подхода.
Террор по Троцкому – это «орудие, применяемое против обреченного на гибель класса, который не хочет погибать», это классовое оружие против врагов, которых «можно только устрашить или раздавить»95.
Террор есть могущественное средство революционной политики. По Троцкому: «Осуждать государственный террор революционного класса может лишь тот, кто принципиально отвергает (на словах) всякое вообще насилие… Кто отказывается принципиально от терроризма… тот должен отказаться от политического господства рабочего класса, от его революционной диктатуры. Кто отказывается от диктатуры пролетариата, тот отказывается от социальной революции и ставит крест на социализме»96.
Революция крайне обесценивает человеческую жизнь. И здесь логика Троцкого наиболее последовательно революционна: «Если человеческая жизнь вообще свята и неприкосновенна, то нужно отказаться не только от применения террора, не только от войны, но и от революции… Что касается нас, то никогда мы не занимались кантиански-поповской, вегетариански-квакерской болтовней о «святости человеческой жизни». Мы были революционерами в оппозиции и остались ими у власти… Кто признает революционное историческое значение за самым фактом существования советсктой системы, тот должен санкционировать и красный терртор97.
Террор – универсальное средство для революционеров. Он нужен и для классовых войн, и, в частности, стал необходим для функционирования советского хозяйства, особенно в отношении крестьянства. Диктатура пролетариата требовала у крестьян продовольствия, экспроприировала выращенное и собранное в деревнях для промышленности. Индустриализация вся шла за счет классового ограбления крестьянства, проводимого самыми жестокими мерами «политической педагогики», по терминологии Троцкого. «На ряде уроков, – признает без всякого сожаления Троцкий, – из которых некоторые были очень жестоки, среднее крестьянство оказалось вынужденным убедиться, что советский режим, прогнавший помещиков и исправников, в свою очередь, налагает на крестьянство новые обязательства и требует от них жертв. Политическая педагогика в отношении к десяткам миллионов среднего крестьянства не про-шла легко и гладко, как в школьной комнате, и не дала немедленных бесспорных результатов»98.
Лев Троцкий: «Человек есть довольно ленивое животное»
Но террора и экспроприаций оказывается недостаточно. Социалистическое хозяйствование не работало, и Троцкий предложил всеобщую трудовую повинность и милитаризацию труда в советской стране.
Убежденный материалист и дарвинист, он считал, что «человек есть довольно ленивое животное», и если его заставлять работать, отменив частную собственность, то он будет увиливать от трудовой повинности. В этом он, кстати, был прав. Человеку свойственно увиливать от постоянно бесплатной эксплуатации.
Бронштейн (Троцкий) задавался вопросом, как практически приступить к извлечению рабочей силы на основе трудовой повинности. И не нашел ничего более радикального, чем использовать военный аппарат для своих трудовых мобилизаций. Он писал: «Если организация нового общества сводится в основе своей к новой организации труда, то организация труда означает, в свою очередь, правильное проведение всеобщей трудовой повинности».
Троцкий предлагал прямую экспроприацию продовольствия или любого другого труда заменить «трудовым уроком», то есть наложением на ту или иную часть территории страны обязанности мобилизовывать население на производство разных работ, нужных большевистской республике. Разумеется, бесплатно и в качестве трудовой повинности.
Предложение Троцкого очень похоже на барщину, с той лишь существенной разницей, что та была строго регламентирована и не лишала крестьян своей собственности и времени работы на самих себя. Принцип вольного найма отменялся введением трудовой повинности, так же как частная собственность отменялась социализацией средств производства.
Милитаризация труда, по Троцкому, не могла быть проведена без революционной диктатуры и принудительных форм организации хозяйства. Вводился «общественно-нормированный труд на основе хозяйственного плана, обязательного для всего народа и, следовательно, принудительного для каждого работника страны».
В «диктатуре пролетариата» сам пролетариат, этот революционный гегемон, закабалялся, как обычный раб древнего мира, без права на освобождение. «Когда, – утверждал Троцкий, – мы говорим токарю Иванову: «Ты обязан работать сейчас на Сормовском заводе, если откажешься, то не получишь пайка», что это такое: экономическое давление или юридическое принуждение? На другой завод он не может уйти, ибо все заводы в руках государства, которое этого перехода не допустит. Стало быть, экономическое давление сливается здесь с давлением государственной репрессии».
И далее: «Репрессия для достижения хозяйственных целей есть необходимое орудие социалистической диктатуры… Рабочий… повинен государству, всесторонне подчинен ему… государство, прежде чем исчезнуть, принимает форму диктатуры пролетариата, т. е. самого беспощадного государства, которое повелительно охватывает жизнь граждан со всех сторон»99.
На этой идейной базе милитаризации труда (с некоторой корректировкой) и была выстроена вся дальнейшая доктрина «сверхиндустриализации», которую потом в общих чертах реализовывал товарищ Сталин. Кстати, и книга «Терроризм и коммунизм», обильно нами цитируемая, очень понравилась Сталину. Он ее считал очень дельной.
Так что в определенном смысле 21 августа товарищ Джугашвили (Сталин) покончил со своим учителем, товарищем Бронштейном (Троцким), подтвердив в очередной раз библейскую истину, что гад обязательно пожирает гада.
17. Иудушка Троцкий: Ненависть к России, классовый террор и трудовое рабство
Лев Троцкий (1879–1940) был идеальным революционером. Революция как цель всегда оправдывала в его глазах любые радикальные средства. Будучи атеистом, его никогда не смущало беспощадное насилие. Он не пасовал перед пролитием крови, не боялся никакого разрушения. Во многом он и сам был олицетворением революции как перманентного насилия и классового активизма.
«Злые бесхвостые обезьяны», террор и коммунизм
Надо сказать, что для революционных марксистов человеческая жизнь как исключительно материалистическая субстанция не обладала большой ценностью. Для Троцкого человеческие массы представлялись лишь как «злые бесхвостые обезьяны, именуемые людьми»100 . Относясь столь «любовно» к подавляющему большинству населения России, он с помощью террора старался заставить покорённое население выполнять революционную волю партийного меньшинства.
Погружённая последовавшими за революцией бедствиями, голодом, грабежами и реквизициями человеческая жизнь окончательно обесценилась. И здесь откровенная революционная логика Троцкого особенно безнравственна: «Если человеческая жизнь вообще свята и неприкосновенна, то нужно отказаться не только от применения террора, не только от войны, но и от революции… Кто признаёт революционное историческое значение за самим фактом существования советской системы, тот должен санкционировать и красный террор»101.
Беспощадность революционного насилия в отношении чужих, которое боготворил Троцкий, сыграло и в его личной жизни трагическую роль. В свою очередь, он сам пал жертвой насилия со стороны своих бывших товарищей, убитый ледорубом в далёкой Мексике. В этом трудно не увидеть закономерного конца: «Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Матф. 7,2).
Кроме прочего, в 1938 году была расстреляна его жена. Дочь покончила жизнь самоубийством. Внук был расстрелян в девятнадцать лет. Одна внучка была репрессирована, другая внучка бесследно исчезла. Сын от сожительницы расстрелян в 1937 году, жена другого сына расстреляна в 1938 году, а внук бесследно исчез в 1937-м.
Так что лёгкое отношение к применению насилия неизбежно возвращается уже в твою жизнь с той же самой жестокостью.
Цивилизационный идиотизм и большевистская русофобия
Лев Троцкий был духовно, культурно и мировоззренчески абсолютно чужд той стране, в руководство которой он попал на волне революции.
В своей «Истории русской революции» он предстаёт совершенно замшелым представителем самых заскорузло-русофобских представлений марксизма. Русская история рисуется традиционно для любого революционного взгляда в образе «тёмного царства», «варварской страны», не просвещённой европейской культурой. Тут и «ничтожество русских городов, наиболее способствовавшее выработке азиатского типа государства», и обвинение в отсутствии в русской истории «реформации», и «русские генералы», которые «с говядиной и свининой обращались несравненно экономнее», чем с людьми.
Как и Фридрих Энгельс, Лев Троцкий считал себя военным экспертом и, так же как «классик марксизма», часто уничижительно писал о русской армии.
Неприятие русской истории приводило Троцкого к абсолютно абсурдным умозаключениям. царская армия в его книге «представляла серьёзную силу лишь против полуварварских народностей, мелких соседей и разлагающихся государств». Досталось даже великому генералиссимусу: «Виртуозом армии крепостных мужиков был Суворов. Французская революция, распахнувшая двери новому обществу и новому военному искусству, вынесла суворовской армии смертный приговор».
В реальной русской истории всё было наоборот. Выученная Суворовым русская армия подписала не себе, а Французской революции смертный приговор, взяв Париж в 1814 году.
Но ненависть застилает глаза. И реальность становится трудно различима.
Стиль ненависти Троцкого в его писаниях всегда был по-особенному груб. Так, в статье, посвящённой трёхсотлетию династии Романовых, он не только признавался в «личной ненависти» к Императору, но и постарался максимально словесно излить её на бумагу в попытке расчеловечить образ Государя. Здесь и «коронованный урод», и «в конец обделённый природой вырожденец по всем признакам», и «казарменно-конюшенная мудрость», и «семейно-крепостническое благочестие». Будто бы и книги с науками для него были чужды, и погряз-то он в суевериях. Он сравнивал Государя «со степным бурятом», называл «коронованной гадиной», «отъявленным отщепенцем» и «преступным бродягой», у которого нет «ни нравственных устоев… ни правил приличия»102.
В общем, этакий поток неконтролируемой злобы в адрес русской Монархии и природного Государя.
Марксист – мнимый гражданин своего Отечества
Активно поучаствовав в первой революции 1905 года, Троцкий работал в эмиграции в надежде на новую революционную волну. Затяжная Мировая война дала такой шанс для российской социал-демократии. Его взгляд на войну был вполне марксистским. Ожидая отмирания национальных государств, Троцкий, как и Ульянов (Ленин), считал, что совершить революцию будет легче в ослабленных войной европейских странах. Они надеялись на мировую революцию и выставляли лозунг «Соединённых Штатов Европы».
Не привязанный к своей фактической Родине – Российской Империи – никакими нитями, кроме революционно-разрушительных, Троцкий писал совершенно в ленинском, пораженческом, стиле: «Для европейского пролетариата в этих исторических условиях дело может идти не о защите пережившего себя национального «отечества», ставшего главным тормозом экономического прогресса, а о создании нового, более могущественного и устойчивого отечества – республиканских Соединённых Штатов Европы как перехода к соединённым штатам мира»103.
Троцкий как социал-демократический «власовец» Первой мировой войны призывал к борьбе со своей номинальной Родиной, борьбе с Империей.
Он негодует на немецких и французских социалистов, которые «всеми разветвлениями своей организации, своей деятельности и своей психологии срослись с национальными государствами». Он видит в этом, как и Ленин, крах II Интернационала.
Троцкий очень переживал, что Германия навалилась в 1914 году на Францию, а не на Российскую Империю. «Нынешняя война, – с искренней печалью пишет Троцкий, – в первую голову означала разгром Бельгии; что главные силы Германии обрушились не на царизм, а на республиканскую Францию».
Но сама война его вдохновляла по принципу «Чем хуже, тем лучше для революционера». «Материальные ресурсы государства будут войной истощены, и возможность удовлетворения требований рабочих масс окажется крайне ограниченной. Это должно будет повести к глубочайшим политическим конфликтам, которые, расширяясь и углубляясь, могут принять характер социальной революции».
Отсюда выдвигался лозунг о «немедленном прекращении войны» при сохранении «революционной энергии пролетариата»104.
Мировая революция и военный коммунизм
Совершив Октябрьский переворот и придя к власти, большевики решили действовать в режиме «военного коммунизма». Не умея хозяйствовать в экономике, они располагали только репрессивным аппаратом. Поначалу им казалось, что стоит немного продержаться, и мировая революция начнёт свой путь по европейским странам. Троцкий и компания ожидали, «что революционное развитие в Западной Европе пойдёт более быстрым темпом» и «возьмёт на буксир нашу отсталую в хозяйственном и культурном смысле страну»105.
Но послевоенная Европа, видевшая всё происходящее в большевистской России, не спешила создавать у себя те же очаги мирового пожара. И действовать пришлось самим.
Тем временем массовый голод стал обыденностью. И «рабочее государство» решило отбирать хлеб у крестьян. Государство было заявлено как классовое, пролетарское, и не обещало никому другому сладкую жизнь, в том числе и крестьянству. На бумаге отдав землю крестьянам, большевики сразу же стали изымать хлеб для своих нужд. Сначала для Красной армии, а затем для «сосредоточения его в своих руках». хлеб в руках большевиков был важнейшей составляющей их власти в голодающей стране.
Трудовая повинность – коммунистический вариант рабского труда
В ситуации ухудшающегося экономического положения Троцкий предложил незамысловатый выход ещё в 1919 году. Он ратовал за переход к всеобщей трудовой повинности для населения.
Признавая, что в 1913 году в Российской империи на каждого едока было по 15 пудов хлеба в год, и избыток хлеба составлял 900 миллионов пудов, Троцкий писал, что «теперь русский рабочий класс не может и мечтать» о такой норме. До революции продажа хлеба за границу была в среднем около 750 миллионов пудов и в начале XX столетия она никогда не была меньше 500 миллионов пудов.
Троцкий предложил силой отобрать у крестьян 300 миллионов пудов и заставить их работать на торфяных, сланцевых работах на восстановлении железных дорог. То же трудовое закабаление было предложено и в отношении рабочих. «Трудовая повинность, – писал Лев Троцкий, – означает, что квалифицированный рабочий, выходящий из рядов армии, должен со своей трудовой книжкой в руках отправиться туда, где его присутствие необходимо, во имя хозяйственного плана страны. Трудовая повинность предполагает право государства, рабочего государства, приказать рабочему… перейти в центральные государственные предприятия, которые без этих категорий рабочих не могут работать. Наконец, перевод рабочей силы из одного предприятия в другое… входит целиком в права централизованного социалистического хозяйства и представляющего его государства».
К крестьянам предложено было относиться вообще, как к неодушевлённому скоту. «Как мобилизовать крестьянскую рабочую силу? – вопрошал Троцкий. – Крестьянин должен терять минимум времени на переброску, на переезд к месту работы. Он должен быть мобилизован по возможности ближе к тем районам, где он работает. Он должен быть мобилизован, если это возможно, в такой период, когда его хозяйство легче может без него обойтись».
Льва Троцкого интересует только одно – как крестьян эффективнее использовать. Можно ли поверить, что когда-то в будущем он перевёл бы крестьян из разряда «злых бесхвостых обезьян» в разряд полновесных граждан?
Троцкий – один из самых откровенных большевистских вождей. Он совершенно искренне, фанатично верил в то, что люди – лишь материал для построения коммунизма. Он ставил задачу мобилизации миллионов крестьян, используя принуждение.
Это военизированное принуждение должно было «на практике приучить крестьянскую массу к тому, что новый режим обязывает их известную часть своего труда, своих сил отдавать в виде ссуды или в виде задатка советскому государству, которое раньше или позже вернёт их ему в виде продуктов городской культуры, просвещения и т. д.».
Отдавали долгое время, в основном советским кино и советской пропагандой…
Троцкому виделась тотальная система трудовой мобилизации. Он называл её милиционной системой и описывал следующим образом: «В полк, в бригаду, в дивизию входит население данного района так, как оно живёт – трудящейся артелью, кустом… Наша задача должна состоять в том, чтобы командиром был наш красный мастер, новый инженер, члены правления заводов и фабрик, чтобы они были нашими полковниками, дивизионными командирами, генералами, нашими батальонными и ротными командирами. Нам нужно наши офицерские курсы расположить в районах главных очагов промышленности, чтобы каждый слушатель таких курсов мог превратиться в офицера и руководить промышленностью данного района»106.
Наряду с этими трудовыми мобилизациями целые красные армии переводились в разряд трудовых армий. Этот бесплатный труд на благо большевистской партии носил гигантские масштабы.
Параллельно стали бороться против «многолошадных» и «многопосевных» крестьян, изымали так называемые «излишки» (таковыми на самом деле не являвшимися). Был издан декрет относительно изъятия у всех крестьян третьей коровы. Все эти безумные мероприятия приводили лишь к обратным результатам. Обворовываемые крестьяне переставали засевать большие посевные площади, резали свой скот на мясо и поднимали восстания.
НЭП и государственный капитализм
Тотальная экспроприация крупной, средней и мелкой собственности привела к почти полному коллапсу промышленности. Национализированная «рабочим государством» земля была отдана в пользование крестьянам. Но, как оказалось, не безвозмездно и не навсегда. Военный коммунизм и радикальность экспроприаций сверху донизу показали в дальнейшем всю слабость большевистского государства. Государства, которое с помощью хищнических экспроприаций с трудом могло содержать только свою армию и коммунистический управленческий аппарат.
Но уже к 1921 году стало понятно, что дела идут совсем плохо. Неудачный поход на Варшаву, массовый голод, восстания в Сибири, в Поволжье, Кронштадтское восстание 2-13 марта 1921 года, подавленное с величайшим трудом. Параллельно таяли надежды на революцию в Германии. Мартовское восстание Коммунистической партии в Германии было подавлено.
В этой критической ситуации большевики решили произвести, как выразился Троцкий, «политическое отступление на хозяйственном фронте» для «большего приспособления хозяйственных методов социалистического строительства к потребностям крестьянства».
В результате бесхозяйственности и нерациональности большевистского управления новая власть вынуждена была ввести НЭП и разрешить рынок. Насильственное изъятие продуктов у крестьян было заменено натуральным налогом. Было восстановлено денежное обращение. На государственных промышленных предприятиях был введён коммерческий расчёт, заработная плата стала вновь зависеть от квалификации и количества выработки, как при капитализме. Иностранным владельцам открыли широкий доступ к концессиям на советской территтории107.
Как оказалось, без «варварской изолированности мужика» и «идиотизма деревенской жизни», как выражался о крестьянском мире Троцкий, советская власть существовать не могла.
Попав в жесточайший кризис, коммунистические идеологи стали думать, как современные монетаристы: «Если бы наш финансовый комиссариат попытался, – писал Лев Троцкий, – путём расширения эмиссии пойти навстречу каждому промышленному предприятию, рынок неизбежно изверг бы избыточную эмиссию прежде, чем нетерпеливые заводы успели бы выбросить на рынок новые продукты; другими словами, рубль потерпел бы такое падение, что покупательная сила этой удвоенной или утроенной эмиссии была бы ниже покупательной силы наличных сейчас денег».
Коммунистическая Россия начала строить государственный капитализм, при котором земля принадлежала государству, а крестьяне вносили «за неё сотни миллионов пудов в год натурального налога».
Интересно, что сам «гений революции» понимал, что вводимая трудовая повинность крестьян, по сути, есть более жёсткая форма крепостного права, и сравнивал его со временами Строгоновых и Демидовых, когда к заводам прикреплялись крепостные крестьяне. «Так и социализм делает неизбежно первые свои шаги в капиталистической оболочке», – писал он108.
За пять лет революционного хозяйствования, по признанию самого Льва Троцкого, урожаи резко упали, промышленность вырабатывала лишь четверть довоенной продукции, а транспорт производил меньше трети довоенной работы.
Про производительность русских рабочих он писал, что «мы сами работали до революции лучше, чем работаем сейчас». Революционные экспериментаторы вполне понимали, что создали для России экономическую катастрофу. «Революция открывает двери новому политическому строю, – писал Троцкий, – но она достигает этого путём разрушительной катастрофы… Что же касается величайших завоеваний революции, то они реализуются только постепенно, в течение лет и десятилетий»109.
В те годы Троцкий часто выступал в стиле ходжи Насреддина, обещая всем, что стоит потерпеть пять-десять лет, и всё наладится. Но и Троцкий помер, и социализм в конце концов издох. А обещанная счастливая жизнь так и не наладилась.
Коммунисты как общеевропейцы. Лозунг «Соединённые Штаты Европы»
Марксисты всегда были убеждёнными глобалистами и интернационалистами. Поэтому «правительство рабочих и крестьян», образовавшее СССР на территории бывшей Российской империи, вовсе не собиралось продолжать русские государственные традиции. Все их мысли были поглощены мировой революцией. Троцкий в 1923 году вновь предлагает партии выдвинуть лозунг «Соединённые Штаты Европы».
Но почему не Соединённые Штаты Мира, например? Троцкий объяснял это тактическими соображениями момента. «Разумеется, – писал он, – мировое экономическое и политическое развитие тяготеет к единому мировому хозяйству… Но речь идёт не о будущем социалистическом хозяйстве мира, а о выходе нынешней Европы из тупика. Нужно указать рабочим и крестьянам раздираемой и разоряемой Европы пути выхода, независимо от того, каким темпом пойдёт революция в Америке, в Австралии, в Азии, в Африке… лозунг «Соединённые Штаты Европы»… это переходный лозунг, указывающий выход, открывающий перспективу спасения и тем самым толкающий трудящиеся массы на революционный путь»110.
Всё это должно было работать на мировую революцию. В «Манифесте Второго конгресса коммунистического Интернационала» Троцкий клялся, что «международный пролетариат не вложит меча в ножны до тех пор, пока Советская Россия не включится звеном в федерацию советских республик всего мира», и что «Гражданская война во всём мире поставлена в порядок дня. Знаменем её является Советская власть»111.
Когда читаешь таких идеологов марксизма, как Троцкий или Ленин, удивляешься степени оторванности их идей от реальной русской жизни. Но это даже не главное. Все эти «борцы за народное счастье», «гуманисты», обещавшие социальный рай, смотрели на конкретных людей, как на строительный материал для своих задумок. Именно поэтому так легко применяли террор, репрессии, вводили трудовые повинности, собирали продналоги, мобилизовывали население на бесплатные работы.
Человеческая жизнь на большевистских весах весила тем меньше, чем власть их чувствовала свою неустойчивость. И Троцкий был одним из самых бесчеловечных и циничных идеологов этого национального геноцида.
18. «Троцкий – лучший большевик»: Октябрьская революция и классовое насилие
7 ноября – день не только октябрьского переворота 1917 года, но и день рождения Льва Троцкого, который во многом и олицетворял социалистическую революцию.
В одной из своих речей сразу же после октябрьского переворота Ульянов (Ленин) на заседании петроградского комитета назвал Льва Троцкого «лучшим большевиком».
Что же из себя реально представлял этот «лучший большевик» Лев Троцкий?
Биография типичного интеллигента
Лев Бронштейн, как это часто водится у пролетарских лидеров, родился в семье богатого землевладельца, сдававшего свою земельную собственность в аренду. Окончил училище в Николаеве, где пристрастился к революционной литературе. По воспоминаниям знавших его, тогда он болел эпилепсией, унаследованной от матери, и периодически падал в обмороки.
Ещё во время учёбы юный Лев почувствовал, что всё в окружающей его православной Российской Империи устроено вопиюще плохо. В этом «социальном озарении» ему помогла его первая жена, убеждённая марксистка Соколовская. Она была на семь лет его старше. Довольно быстро он её бросил ради второй жены, Седовой. Не разводясь с Соколовской, Троцкий всю жизнь прожил двоеженцем.
Как водится, после победы над «кровавым царским режимом» марксистку Соколовскую в 1938 году расстреляли.
Сестра Троцкого была первой женой Каменева, так что он рано стал вхож в самую гущу большевистской братии. В благословенные «социалистические времена» её, кстати, тоже расстреляли, но уже в 1941 году. Впрочем, как самого Каменева и их двух сыновей.
Сам Лев Троцкий активнейшим образом участвовал в революциях и в 1905, и в 1917 годах. Не всегда был согласен с Лениным. Но не по идеологическим вопросам, а всё больше по партийно-организационным. Ленин стремился размежеваться с теми, кто не хотел признавать его единоличной власти в партии. А Троцкий чаще выступал за объединительные процессы между различными марксистскими фракциями.
В начале Первой мировой войны Лев Троцкий покаялся в своём стремлении объединить большевиков и меньшевиков. Стал ближе к Ленину.
И так же, как и Ульянов, выступал за поражение своего Отечества в войне с Германией. Затем последовала его таинственная поездка в США, откуда он после Февральской революции возвращается в Россию и погружается, как в свою родную стихию, в углубление революции.
Дальше Троцкий действительно проявляет себя как «лучший большевик». Будучи одним из эффективнейших «менеджеров» партии, он разворачивает систему террора в стране в отношении классовых врагов во всей её беспощадности.
Революция – это насилие. Идеолог без нравственных тормозов
Революционер для Льва Троцкого – это, прежде всего, человек, не боящийся «применять беспощадное насилие», который «не боится взрывать» исторические препятствия на пути революции112.
Большевик – это революционер, ставящий себе главной целью жизни достижение власти под названием «диктатура пролетариата». И никакое пролитие крови, никакие Гражданские войны и классовое насилие не могут его остановить. Так как революционное действие немыслимо «не только без насилия над третьими лицами, но, при современной технике, без убийства стариков, старух и детей». цель революционера (демократия или социализм) «оправдывает, при известных условиях, такие средства, как насилие и убийство»113.
Откровенность Льва Троцкого, сопряженная с личной бравадой, позволяет более внимательно взглянуть на революционную «мораль» как таковую. Для достижения революционных целей оказывается практически всё позволено. Классовая борьба, этот «закон из законов», для Троцкого открывает двери любому насилию.
В революции для него все «средства органически подчинены цели». Тот же террор хорош, если он эффективен. «Наши симпатии, – утверждает Троцкий, – полностью на стороне ирландских, русских, польских или индусских террористов в их борьбе против национального и политического гнёта». Террор приемлем, даже необходим, если революционер видит в нём революционную целесообразность.
Революция для Троцкого – это своеобразный экстаз, удовольствие. Революционное насилие для революционера – сама жизнь. Он так и пишет про участие в революции: «только это и может дать высшее моральное удовлетворение мыслящему существу!»114.
Революционное насилие как высшее удовлетворение.
Сталин, Троцкий и мировая перманентная революция
После Гражданской войны, в ситуации затихания революционного порыва, Троцкий становится фигурой неудобной. В ситуации НЭПа, необходимости кропотливой ежедневной созидательной работы, со своим революционным экспансионизмом и амбициями наследника Ленина Троцкий осознаётся лидерами партии как лишний человек.
В результате навязанной ему внутрипартийной полемики Троцкий проигрывает в борьбе за власть в компартии. Но его идеи о «сверхиндустриализации» за счет крестьянства берутся на вооружение победившим Сталиным и реализуются в стране самыми жёсткими мерами.
Далее Троцкого выдавливают в эмиграцию, где в начале Второй мировой войны, в 1940 году, агенты Сталина убивают антисталинского марксиста ледорубом. Альтернативный марксизм Троцкого был опасен для СССР.
Для Троцкого Сталин был этаким партийным Каином, который перестрелял своих «братьев» по партии. Он для него – узурпатор, совершивший термидорианский переворот в партии и отстранивший его, Троцкого, от власти.
Претензий к Сталину, как к коллективизатору или организатору внепартийных репрессий, у Льва Троцкого нет. Единственным идеологическим обвинением Троцкого было якобы предательство Сталиным мировой революции через «построение социализма в отдельно взятой стране». Бюрократизация жизни в СССР казалась троцкому свертыванием революционного порыва партии.
Надо сказать, что обвинение Сталина в отходе от мировой революции довольно странное. Ведь Сталин писал, что: «Мировое значение Октябрьской революции состоит не только в том, что она является великим почином одной страны в деле прорыва системы империализма и первым очагом социализма… но также и в том, что она составляет первый этап мировой революции и могучую базу его дальнейшего развертывания»115. Да и реальная помощь революционерам в Болгарии, в Китае, в Испании, а после Великой Отечественной войны – экспансия социализма в Восточной Европе, поддержка Гражданской войны в Греции, военные действия в Корее, – никак не говорят об отказе Сталина от идеи мировой революции.
Конечно, для Троцкого тактическое развитие социализма в отдельно взятой стране было определенным предательством. Троцкий считал революцию делом перманентным и никогда не заканчивающимся.
В этом смысле Лев Троцкий выдвигаемое против Сталина обвинение распространял и на всю партию. Он упрекал старшее поколение рабочего класса в том, что оно «нервно истощено» и «в значительной своей части опасается всяких потрясений с перспективами войны, разрухи, голода, эпидемий и пр.». Он требовал продолжение революции во что бы то ни стало. Чтобы «общество постоянно линяло», чтобы «взрывы гражданской войны и внешних войн» постоянно чередовались с периодами «мирных» реформ. Требовал, чтобы «революции хозяйства, техники, знания, семьи, быта, нравов» разворачивались бы, «не давая обществу достигнуть равновесия». Видя в этих не прекращаемых процессах «перманентный характер социалистической революции»116.
Действительно, любое общество, подвергнутое революционному разгрому, стремится вернуться в своё исходное социальное положение, достигнуть общественного равновесия. И только перманентно подстёгиваемая революция способна держать общество в классовом угаре постоянного насилия. Но от любого насилия, от любой революции общество устаёт. От насилия устают даже сами насильники.
Троцкий же продолжал настаивать на международном характере социалистической революции. Считая, что «сохранение пролетарской революции в национальных рамках может быть лишь временным режимом, хотя бы и длительным, как показывает опыт Советского Союза». Если же революция не победит в передовых странах, то «при изолированной пролетарской диктатуре противоречия, внешние и внутренние, растут неизбежно вместе с успехами. Оставаясь и далее изолированным, пролетарское государство, в конце концов, должно было бы пасть жертвой этих противоречий»117.
Последнее замечание оказалось вполне жизненно. Собственно, как только СССР перестал экспортировать революционные идеи вовне, выступать как всемирный глобалистский проект, его привлекательность для левых сильно упала. А советская государственность без своей революционной «души» пришла ко вполне «буржуазным» идеям: «догоним и перегоним Америку», а далее быстро докатилась и до гласности с перестройкой.
Оказалось, что родившееся в горниле революции советское классовое государство не способно к реформации. И при отказе от массового насилия дело Ленина-Троцкого-Сталина долго не живёт.
19. Пятнадцать причин не любить Сталина
Нация, в начале XX столетия находившаяся в ситуации бурного демографического и экономического роста, не справилась с новыми духовными и политическими соблазнами и попала в революционные жернова классовой борьбы и массовых репрессий. Советский период стал отказом от безреволюционного, трудового, постепенного, эволюционного, национального, имперского «светлого будущего» в пользу утопического и обещавшегося большевиками скорого, но шокового достижения коммунистического «рая на земле».
Надо признать, что по-настоящему советским периодом, в котором развернулись во всей «революционной красе» большевистские социальные эксперименты и классовые внутриобщественные войны, были периоды правления Ленина и Сталина. Именно в эти годы (1917–1953) советская власть была по-настоящему идейна, революционна и коммунистична. Далее, после XX съезда КПСС, демонический дух советского общества с каждым годом терял свою яркость и суровость. хотя антихристианская суть коммунистического эксперимента постоянно напоминала о себе родовыми пятнами своих идеологических гонений или репрессий, но уже со значительно более «вегетарианскими» настроениями. Заряд жестокости ослабевал, ленинские и сталинские поколения уходили в прошлое.
Многим может показаться странным ворошение прошедшего, призыв ко внимательному разбору происходившего в те страшные годы.
Но советское ленинско-сталинское прошлое, неразрывное друг с другом, как годичные кольца на деревьях, как идеи постоянно напоминают о себе в нашем обществе. Обществе, которое четверть века как ушло из советского прошлого, но так и не решившее, куда оно движется. Русский витязь продолжает пребывать на мировоззренческом распутье, какою дорогой искать русское будущее.
Этот идеологический застой, неопределенность будущих дорог, как не покажется странным, есть результат неосмысленности уже пройденных путей прошедшего времени. Если не знаешь, откуда шёл, часто не знаешь… и куда идёшь.
Бессознательность нашего современного положения – результат внезапного для большинства падения коммунистического режима, разрушения СССР, когда в самом обществе не было достаточно сильных мировоззренческих альтернатив.
Слабость интеллектуальных сил в современной политической элите вызывает в ней нерешительность и полную неспособность повести за собой нацию. Общество, крайне атомизированное при демократии, находится под идеологическим обстрелом неокоммунистов-псевдопатриотов, зовущих в Советский Союз 2.0, и неолибералов, идейно в основном обслуживающих наследие 90-х годов.
Ни неокомунисты, ни неолибералы не способны предложить тысячелетнему Русскому миру достойного будущего развития. Неолибералы продолжают покланяться своим денежным божкам и открыто готовят культурную революцию, неокоммунисты предлагают для общенародного почитания своих красных вождей и реставрацию социализма.
Нестабильная финансовая обстановка в обществе активизирует неокоммунистические мечтания, и связаны они в основном с идеологическим феноменом Сталина. Идейное «переупаковывание» образа Сталина, создание нового мифа об этом коммунистическом лидере – основная забота последних лет в левом политическом спектре.
Левые поставили рукотворного неоСталина своим «бронелокомотивом», на котором предполагают втащить русское общество заново в своё кровавое партийное прошлое.
Пора сформулировать те неустранимые причины, по которым русскому человеку нельзя любить реального исторического Сталина, и больше никогда не соблазняться на левые революционные проекты.
Итак:
1. Сталин не воспринимал Русский мир как самобытную цивилизацию. Будучи подданным Российского Императора, этот провинциальный грузин был воинствующим атеистом и активным революционером. Он боролся и с Православием, и с традиционной русской государственностью, будучи замысловатым сочетанием марксистского западничества и кавказского властолюбия. Ему был свойственен, как другим коммунистическим лидерам, определенный цивилизационный идиотизм, нечувствование ценности того мира, против которого они боролись.
Сталин, происходивший из кавказской глубинки, не говоривший с детства по-русски, вместе со своими товарищами по партии, у которых так же хватало всевозможных странностей, узурпировали власть в тысячелетней России, которая для них в культурно-историческом плане не представляла никакой положительной значимости, была политически ненавистна, в силу их марксистко-западнической предвзятости.
«Из всей западноевропейской культуры, – как писал Иван Ильин, – русский диктатор знает лишь Карла Маркса в кавказской интерпретации. Всё остальное, в том числе науку, культуру, и особенно христианскую церковь, он презирает как буржуазное и капиталистическое вырождение и ждёт не дождётся мировой революции, которую собирается возглавить»118.
Только банкротство «военного коммунизма» и неудачи быстрого экспорта «мировой революции» заставили коммунистов перейти к НЭПу и концепции построения социализма в одной стране. Сталин, как вынужденный ревизионист марксистской идеологии, очень затратными способами стал укреплять советскую власть в отдельно взятом СССР.
2. Сталин лично и как руководитель партии, активно способствовал обновленческому расколу в церкви, участвовал в организации изъятия церковных ценностей и создал систему постоянных массовых кровавых гонений на христианство.
Существует шифротелеграмма Сталина (апрель 1922), адресованная секретарям губкомов РКП (б), где он призывает «взять на учет лояльные элементы духовенства и побудить их выступить против нынешней церковной иерархии».
В другом месте, разъясняя позицию ЦК, он писал, что необходимо «затянуть процесс раскола церкви, дать основательно разодраться попам и тем окончательно дискредитировать себя в глазах населения».
По всем расстрельным делам священников, ещё со времен Ленина (по «Шуйскому делу», по Московскому процессу (апрель-май 1922 г.), по Петроградскому процессу (июнь-июль 1922 г. «дело митрополита Вениамина»)) Сталин голосовал за расстрелы.
В сентябре 1927 года Сталин встречался с американской рабочей делегацией. В разговоре с ними Сталин сетовал, что священство «не вполне еще ликвидировано»119.
Окончательную ликвидацию Православной церкви анафематствованный Сталин предполагал осуществить в так называемую безбожную пятилетку, начавшуюся 15 мая 1932 года. Официальной целью партия ставила полное искоренение религии в СССР к 1 мая 1937 года.
3. За вышеперечисленную борьбу с Церковью Сталин, как крещённый в детстве в Православную веру, находится под церковной анафемой Поместного собора 1918 года. Анафема распространяется на всех лиц православного вероисповедания, участвовавших в гонениях на Православие и убийствах невинных людей. Под эту анафему Святого патриарха Тихона попадают все большевики, крещёные в Православии. Этой церковной анафемой церковь констатировала не только то, что Сталин и его крещеные партийцы находятся вне церкви, вне личного спасения, но и что он враждебен нашей Православной цивилизации, враждебен в той степени, которая не предполагает возврата. Сталин отлучен, извержен из русского православного мира, из общины русского народа, как её предатель и гонитель.
Св. Иоанн Златоуст на вопрос «Что такое анафема?» отвечае – «анафема, то есть да будет отлучен от всех и будет чужим для всех». Анафематствованный Сталин должен быть для всех православных христиан чужим, чуждым нашего общества.
4. Сталин до революции был грабителем, организовывавшим революционные экспроприации.
Так, в июле 1907 года именно Сталин организовал вооруженное ограбление в Тифлисе двух карет госбанка. Боевая группа из 20 человек взорвала более десяти бомб и похитила 250 тысяч рублей (по тогдашнему курсу – более 4 млн долларов). Ленину за границу было переправлено 80% этих денег, остальное было оставлено себе грабителями.
Эта акция, на языке революционеров называвшаяся экспроприацией, была на самом деле бандитским ограблением, стоившим жизни двоим городовым, троим казакам, и еще 19 человек получили разные степени ранений (в том числе и 16 обычных прохожих). Интересно, что друг детства Сталина, Тер-Петросян, исполнитель кавказских «эксов», в 1922 году внезапно погибает под колесами грузовика, его памятник в Тбилиси сносят при Сталине, а сестру репрессируют.
5. Сталин был автором теории усиления классовой борьбы по мере успехов в строительстве социализма.
Эта идея была прекрасным оправданием террора, расказачивания, борьбы с «кулачеством», коллективизацией и прочих классовых «радостей» сталинского времени.
6. Сталин – устроитель массовых репрессий в отношении русского и других народов. Коммунистическая партия под руководством Сталина вела непрекращающуюся классовую войну, приведшую к массовым политическим репрессиям и уничтожению целых слоев русского населения. А также переселению и репрессированию целых народов.
Настоящие коммунисты (Ленин, Троцкий, Сталин и все первое поколение коммунистов) всегда выступали за необходимость классовой борьбы и политических репрессий в отношении своих противников. Обоснованные классовой борьбой массовые убийства людей никогда не находили никаких серьезных препятствий в сознании настоящих коммунистов.
7. Сталин как признанный партийный специалист в межнациональных отношениях являлся творцом так называемой коренизации.
Если коротко, то суть коренизации в разнообразном развитии национальных меньшинств. Продвижение их представителей во власть, перевод образования, делопроизводства и средств массовой информации на местные языки, устройство территориальных национальных автономий.
Идеологической основой «коренизации» стала провозглашённая 15 ноября 1917 года Декларация прав народов России. Еще в 1920 году И.В. Сталин в своей статье «Политика советской власти по национальному вопросу в России» предложил «поставить школу, суд, администрацию, органы власти на родном языке».
А уже в своем выступлении на X съезде РКП(б) в 1921 году он заявил: «Нельзя идти против истории. Ясно, что если в городах Украины до сих пор ещё преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы».
Так что сегодняшним левым «патриотам» надо выбирать либо украинизатора Сталина, либо поддержку русского Донбасса. Украинизация при Сталине носила тотальный, жесточайший характер.
Именно при Сталине появился тот самый продукт советской пропаганды – украинец, который сегодня убивает русских в Новороссии.
Сталин организовал вычленение из территории России других национальных республик, которые впоследствии отошли от страны с этими землями. Заботливо взращивая национальные элиты в новообразованных республиках, Сталин создавал будущие национальные сепаратизмы, которые наряду с федеративным устройством СССР заложили те разрушительные заряды, разнёсшие в пух и прах советскую страну в 1990-е годы.
В 1924 году Сталин на месте русского Туркестана организовал Узбекскую и Туркменскую республики. В 1929 году – Таджикскую республику.
В дальнейшем, в 1936 году, Сталин вычленил из РСФСР Киргизскую республику и в том же году создал ещё четыре отдельные республики: Казахскую, Армянскую, Азербайджанскую и Грузинскую.
8. Сталин продолжал политику Ленина по абортам. И, несмотря на якобы их запрет, при нём массово продолжалось абортирование детей.
Так, в 1935 году было абортировано 1 млн 900 тысяч детей.
27 июня 1936 года вышел закон о запрете аборта, и этот так называемый запрет просуществовал до 1955 года.
Но в реальности аборты в 1936–1955 годах делать не перестали. В 1949 году в стране, запретившей аборт, их было произведено почти 900 тысяч, а в 1950 году – уже 1 млн 140 тысяч. Бесчеловечность лидеров в общественной жизни, как правило, отражается и в личной. Так, существует медицинская карта Надежды Аллилуевой, в которой записано, что она сделала 10 абортов, и они были сделаны за 14 лет супружества со Сталиным. Некоторые биографы даже объясняют самоубийство Аллилуевой постабортным синдромом от такого количества операций.
9. Сталин и руководство СССР организовывали массовый голод своими социальными экспериментами и политикой в отношении заготовки зерна.
Следствием сталинских социальных экспериментов и изъятия у крестьян хлеба был массовый голод 1932–1933 годов. По разным оценкам тогда погибло от 5 до 8 миллионов человек. И это был не единственный голод во времена правления Сталина.
10. Сталин и коммунисты повинны в том, что уничтожили колоссальный вековой демографический рост русского населения.
Аборты, репрессии и антихристианская пропаганда привели нашу страну к стагнации роста населения.
Страна, которой Д.И. Менделеев на основе дореволюционной рождаемости предсказывал в начале XXI столетия население в 600 млн человек, имеет в результате этих нравственных и социальных экспериментов всего 145 миллионов.
11. По вине Сталина СССР был не готов к войне, что стоило нам многомиллионных потерь.
Дипломатия Сталина перед войной была провальной. В войну с Германией мы вступили без второго фронта, дав Гитлеру разбить Францию. Сталин не смог вовремя найти и заставить союзников воевать с Германией на два фронта. Союзники поучаствовали в войне только с 1944 года, что значительно увеличило наши потери.
СССР оказался не готов к войне как в 1941-м, так и в 1942 году. Сдача огромных территорий, потеря большей части техники и пленение значительной части регулярной кадровой Красной Армии есть крах пропаганды подготовки к войне.
На базе коммунистической идеологии общество в 1941– 1942 годах не смогло или не вполне захотело в полную силу противостоять врагу, пока сама власть не перестала выпячивать свои узкопартийные убеждения и не включила традиционную для большинства русского населения патриотическую риторику.
Тогда вместо большевистских комиссаров и красноармейцев-комсомольцев пришлось опираться на вчерашних поручиков, прапорщиков, унтеров и солдат Императорской армии и тех 30–50-летних крестьян, которых «комиссары в пыльных шлемах» считали мелкобуржуазными врагами советской власти. Именно они принесли Победу в 1945 году.
12. Сталин не любил победителей над Германией, боялся их влияния в обществе и отменил празднование Победы.
После войны партия в лице Сталина подняла тост за русский народ – народ-Победитель, – но уже в 1948 году перестала праздновать победу, отменив выходной.
Сталин был первым, кто предложил объединение Германии задолго до Горбачёва.
Многие маршалы были подвергнуты партийным взысканиям. Сталин был первым руководителем, который назначил военным министром не военного человека, а партийного функционера – Н.А. Булганина.
13. Сталин виноват в формировании затратной системы достижения результатов – что военных, что хозяйственных.
Среднегодовое производство зерна в СССР в 30-х годах было меньше, чем в 1913 году.
В результате сталинской политики производительность труда в промышленности, сельском хозяйстве и уровень личного потребления в 1930-е годы были существенно ниже дореволюционных.
Военные потери СССР только в 1941 году были больше, чем Императорская армия потеряла за всю Первую мировую войну.
Если бы не революция, Империя продолжала бы успешно экономически развиваться без массовых советских репрессий и победоносно воевать без многомиллионных потерь.
14. Сталин был нравственно слепоглухонемым типом.
Проблема сталинского вождизма осложнялась ещё особой нравственной слепоглухонемостью самого Сталина.
Особенно это приобретало катастрофические последствия, когда от нации и государства требовалось полное напряжение своих сил. В таких ситуациях нравственно слепоглухонемые вожди, как это было во Второй Отечественной войне (1941– 1945 гг.), вынуждены обращаться к нравственным ценностям, выработанным при Монархии: к вере отцов, к славе предков, к голосу национальной крови, к нравственным чувствам любви к Отечеству, идеальной жертвенности, социальной иерархии, дисциплине, выдвигающей вместо прав во главу угла обязанности, к тому, что в обыденном материалистическом мире демократических республик находится в загоне, в гонении, в пренебрежении.
Но как только результат был достигаем, гонения нравственно слепоглухонемого коммунизма на русскую традицию возобновлялись со всей силой.
15. Сталин уничтожал своих товарищей, был беспощаден и бесчеловечен. Сталин был духовно и психически больным человеком.
Можно ли считать нормальным человека, который расстрелял почти всех своих товарищей, и не только из первого состава советского правительства? Можно ли себе представить, что все расстрелянные были неправильными коммунистами или «врагами народа»? Представить себе это невозможно. А значит, можно сделать вывод, что Сталин расстреливал своих товарищей просто потому, что они мешали его единоличной власти или просто были им в этом заподозрены.
Сегодня культ Сталина многие хотят представить не столько как кровавый культ личности, сколько как культ жестокой, но всё-таки справедливости в системе, в которой никому не позволялось под страхом смерти нарушать установленные бесчеловечные правила. Эта пронзающая своей безнравственностью глупость очень дорого может стоить нам, если она снова материализуется в нашем обществе.
Думаю, что самым ярким представителем подобного «культа справедливости» станет в будущем Антихрист, полноценным предтечей которого был Иосиф Джугашвили (Сталин). Настоящий Антихрист будет по-настоящему блестящим топ-менеджером «культа справедливости», убивая любого, кто нарушит установленные им правила.
Коммунисты захватили в нашей стране власть, как узурпаторы. Никто не назначал и не призывал их к руководству Россией. И оправдание казней «врагов народа» тем, что они представляли государственную власть, которая должна бороться со злом своим мечом, здесь неуместный пример. Им никто – ни Бог, ни народ – не вверял судьбу русского общества, а значит, и не вверял меч, секущий врагов Отечества. А потому вся кровь, пролитая коммунистами, лежит целиком на них и на их вождях, из которых Сталин был самым кровавым.
20. Иосиф Сталин: Мифы и реальность
Сталин и сталинизм как некая система взглядов и практик – плоть от плоти истории марксистского коммунистического движения. Марксизм, ленинизм и сталинизм жёстко связаны в одну неразрывную цепочку политического проекта, проводимого в России коммунистической партией после 1917 года.
Коммунистическая «антиматрёшка»
Все эти политические «измы» составляют, образно говоря, советскую «антиматрёшку», входя каждый друг в друга. Но в обратном порядке. Сталинизм помещается и в ленинизм, и в марксизм. Ленинизм, в свою очередь, входит в марксизм, и из него выходит сталинизм. А из марксизма вынимаются при желании и ленинизм, и сталинизм.
Или иначе – без марксизма не было бы ни ленинизма, ни сталинизма.
Сам теоретический замысел коммунистической утопии был разработан Марксом и Энгельсом. Маркс, по собственному признанию, не являлся изобретателем ни понятия классов, ни идеи классовой борьбы. Он был убеждён в том, что «изобрёл» связь между классовой борьбой и определёнными фазами развития производства. А также то, что борьба эта должна привести к революции и установлению диктатуры пролетариата. Вследствие чего эта партийная диктатура по пути к коммунизму уничтожит по всему миру все классы, все народы и государства, приведя всех к единому мировому бесклассовому обществу.
Ульяновым-Лениным было найдено для марксистских идей конкретное территориальное воплощение в России. Проморгав Февральскую революцию, Ленин смог осуществить захват власти в октябре и удерживать её с помощью военной диктатуры.
Ленинская попытка догматического введения в русскую жизнь марксизма привела к демонтажу имперской государственности и потере огромных земель; капитуляции в Бресте, обнулившей для России все геополитические, финансовые и территориальные преференции при победе в мировой войне на стороне Антанты; развязыванию Гражданской войны; попытке экспорта революции в Европу (неудачный поход через Варшаву на Берлин); гонениям на церковь; катастрофической хозяйственной разрухе и массовому голоду.
Временное отступление коммунистов при НЭПе и борьба в партии после смерти Ленина за власть были периодом перегруппировки партийных сил перед вторым марксистским наступлением на русское общество. Осуществлялось оно уже под руководством Сталина и более планомерно. Укрепив свою власть в партии, сталинизм предложил, вместо не вполне удавшегося ленинского блицкрига, проводить марксистские коммунистические установки за счёт более основательной эксплуатации трудовых ресурсов отдельно взятой страны. Идея экспорта никуда не ушла, что показывает участие СССР в гражданских войнах в Китае, Испании, Греции и основание социалистического лагеря в Восточной Европе.
Итак: Маркс разработал теорию коммунизма для реализации в мировом масштабе, Ленин осуществил приход коммунизма к власти, Сталин реализовал идеи коммунизма в русском обществе.
Фантастичность и агрессивность марксизма
Для марксистов любые проблемы человеческого общежития есть лишь проблемы экономических взаимоотношений и развития средств производства. Человеческие качества личности для них не имеют никакого значения. Индивидуум вторичен и зависим от общественно-экономического развития.
Марксизм является своеобразным политическим неоязычеством. При нём «избавившись от зависимости от Бога, он [человек] переходит в полное рабство силам природы, где нет ничего, кроме роковой необходимости»120.
Борьба за существование, как в природе, порождает необходимость революции, насилия. И революция превращается в перманентный, нескончаемый процесс насилия.
Энгельс писал: «Революция есть, несомненно, самая авторитарная вещь, какая только возможна. Революция есть акт, в котором часть населения навязывает свою волю другой части посредством ружей, штыков, пушек, то есть средств чрезвычайно авторитарных».
Марксизм мечтает и одновременно требует строить общество будущего как саморегулируемую, безвластную «коммуну» с абсолютно равными правами, неизвестно насколько неравную по работе («от каждого по способностям») и неизвестно насколько неравную по потреблению («и каждому по потребностям»).
Футуристичность и агрессивность привлекала к марксизму все девиантные личности.
Ленин и Сталин как творцы Советской федерации
Существует странный миф, что у Ленина и Сталина были разные взгляды на построение советского государства. Будто бы Ленин был против унитарного государства, а Сталин – за. Всё это происходит от незнания марксизма. Маркс с Энгельсом представляли социалистическое государство в виде «единой и неделимой республики». Здесь Сталин был даже большим марксистом, чем Ленин. Но Ленин тактически понял, что если будет строить унитарную республику, то она рано или поздно русифицируется, поскольку большинство останется за русскими. Ленин настаивал на федерации и заставил всю остальную партию принять его позицию. В том числе и Сталина.
В советском социалистическом государстве угнетателем стало захватившее власть партийное меньшинство, авторитарно навязывавшее свою волю русскому большинству. Отсюда и федеративность, как дань коммунистическим союзникам – национальным элитам в борьбе с «великорусским шовинизмом».
В этой планируемой Джугашвили (Сталиным) федерации не должно было быть «никакого обязательного «государственного» языка – ни в судопроизводстве, ни в школе» («Каждая область выбирает тот язык или те языки, которые соответствуют составу населения данной области».), и никакого всеобщего избирательного права.
«Избирательное право, – говорил Сталин, – должно быть предоставлено лишь тем слоям населения, которые эксплуатируются»121.
При Ленине и Сталине были поражены в своих политических правах все группы населения, кроме пролетариата и совслужащих. Классовое государство давало преимущество городскому населению (20%) перед крестьянским (80%). От сельских губернских съездов советов избирался один депутат от 125 тысяч крестьян, а от советов городских поселений – один от 25 тысяч избирателей.
Крестьяне квалифицировались как мелкая буржуазия. Джугашвили (Сталин) писал: «Крестьяне не пойдут бороться за социализм… их можно и нужно заставлять бороться за социализм, применяя методы принуждения. Отсюда выросли такие чисто военные способы воздействия, как система комиссаров с политотделами, ревтрибуналы, дисциплинарные взыскания, сплошное назначенство и т. д.»122. Такая же позиция была и у Ленина, и у Троцкого.
Национальная политика Сталина
Коба был партийным авторитетом в области национальной политики. И он формулировал суть национального вопроса как задачу «уничтожить ту фактическую отсталость (хозяйственную, политическую, культурную) некоторых наций, которую они унаследовали от прошлого, чтобы дать возможность отсталым народам догнать центральную Россию… чтобы трудовым массам отсталых наций и народностей облегчить хозяйственное, политическое и культурное преуспеяние, дать им возможность догнать ушедшую вперёд центральную – пролетарскую – Россию»123.
Переводя с партийного языка на русский, это означало, что русская нация, якобы угнетавшая всех в Российской Империи, должна была стать безвозмездным многолетним донором в отношении «угнетённых» народов нового СССР.
Под этим партийным соусом ВКП(б) боролась с «великорусским шовинизмом», развивая всевозможные «угнетаемые» сепаратизмы (украинский и белорусский) внутри русского народа, и выращивала национальную элиту других народов.
СССР – продолжение исторической России?
Расхожим мнением сегодня является то, что большевики собрали после Гражданской войны заново, воедино Россию, только под другим названием.
Действительно, внешне это очень похоже на правду. Однако первое, что удивляет при таком посыле, – почему имя нашей Родины – Россия – было убрано большевиками из названия вновь собираемого образования – СССР?
На практике большевики сначала отпустили все народы «на волю», всем разрешили отделиться от России, но вскоре вооружённым путем стали подчинять себе народившиеся национальные республики и заставили их снова объединиться.
Тогда в партии многих стал волновать вопрос, однажды заданный напрямую самому Сталину: «Не следует ли из этого, что объединение республик закончится воссоединением с Россией, слиянием с ней?»
Джугашвили на него вполне исчерпывающе ответил: «Нет, не значит!.. Упразднение национальных республик явилось бы реакционным абсурдом, требующим упразднения нерусских национальностей, их обрусения… национальные республики… не могут быть упразднены… Вот почему объединение национальных советских республик в одно союзное государство не может завершиться воссоединением, слиянием их с Россией»124.
Ещё более чётко Сталин выразился в своей речи на собрании, посвящённом образованию СССР: «Сегодняшний день является не только итоговым, он является вместе с тем днём торжества новой России над старой, над Россией – жандармом Европы, над Россией – палачом Азии. Сегодняшний день является днём торжества новой России, разбившей цепи национального угнетения… Союз Советских Социалистических Республик, прообраз грядущей Мировой Советской Социалистической Республики»125.
Большевики возрождали не Россию, а создавали СССР как контр-Россию, как фундамент для глобального проекта Мировой ССР.
«Великорусский шовинизм» как универсальное зло
Большевизм, как и марксизм, занимал жёсткую позицию по отношению к русскому народу, который считал нацией «угнетателей».
На всех партийных съездах, с X по XVI, Сталин провозглашал главной целью большевиков борьбу с «великорусским шовинизмом». Утверждая, что «решительная борьба с пережитками великорусского шовинизма является первой очередной задачей нашей партии».
«Великорусский шовинизм» для большевиков был абсолютным универсальным классовым злом.
Сегодня некоторым писателям всё ещё кажется, что Сталин мог сочувствовать идеям национал-большевизма в стиле Устрялова. Мог откинуть марксистские догмы и переродить ВКП(б) в некую национальную силу. Но это чистые выдумки, что опровергает своими действиями и словами сам диктатор.
Реальный Джугашвили (Сталин) предупреждал о «великорусской» опасности как только мог: «Мы ввели так называемый нэп, а в связи с этим национализм русский стал нарастать, усиливаться, родилась идея сменовеховства, бродят желания устроить в мирном порядке то, чего не удалось устроить Деникину, то есть создать так называемую «единую и неделимую»126.
По Сталину, русское великодержавие только тем и занималось в истории, что уничтожало всё нерусское. Основная опасность, говорил он, в том, что «растёт великодержавный шовинизм, самый заскорузлый национализм, старающийся стереть всё нерусское, собрать все нити управления вокруг русского начала и придавить нерусское»127.
Троцкий и Сталин – теоретик и практик трудовой повинности
Большинство левых, да и не только они, сегодня убеждены, что Сталин боролся с Троцким потому, что они по-разному смотрели на развитие СССР. Один олицетворяет в этих байках русский коммунизм, другой – интернациональный коммунизм.
Как убеждённый марксист, Бронштейн (Троцкий) вслед за Лениным считал, что диктатура пролетариата вправе, с классовых позиций, требовать у крестьян продовольствия, экспроприировать выращенное ими зерно. Этот способ добывания продовольствия у крестьянства виделся им идеальным для промышленной индустриализации.
Классовое изымание произведённого крестьянством продовольствия, продажа его за границу и на полученную валюту наём иностранных специалистов, которые занимались постройкой флагманов советской промышленности, – такова придуманная Троцким схема.
«Репрессия для достижения хозяйственных целей, – писал Троцкий, – есть необходимое орудие социалистической диктатуры. <…>…государство, прежде чем исчезнуть, принимает форму диктатуры пролетариата, то есть самого беспощадного государства, которое повелительно охватывает жизнь граждан со всех сторон»128.
Это «самое беспощадное государство» для достижения своих хозяйственных целей и реализовал Сталин. Кстати, книга Троцкого «Терроризм и коммунизм» высоко ценилась самим Джугашвили.
Сталин стал лучшим и самым масштабным практиком советской тотальной трудовой повинности. Индустриализация была им проведена параллельно с жесточайшей коллективизацией крестьянства.
Сталинская индустриализация с помощью Запада
Сталинская индустриализация – крайне туманная и мифологизированная история. Обычно говорится то ли о 9000, то ли о 6000 предприятий, построенных при Сталине до войны, за 10 лет. Но никакого списка этих предприятий нигде нет, сколько ни ищи.
В основном восстанавливались и модернизировались дореволюционные царские заводы, а крупнейшие новые предприятия проектировали и строили американские и европейские специалисты.
Кстати, к 1909 году в Российской Империи уже существовало 2153 фабрики и завода по обработке металлов и производству машин, 480 предприятий химического производства, 188 металлургических заводов, 317 предприятий нефтегазовой отрасли и др.129. При последовательном развитии имперской индустриализации к 1917 году предприятий стало значительно больше. Особенно развитие промышленности шагнуло вперёд во время Первой мировой войны.
При Сталине индустриализация производилась за счёт значительного снижения и без того невысокого уровня жизни всего населения. Карточная система к 1929 году была распространена практически на все важнейшие продовольственные товары. Со следующего года было запрещено свободное передвижение рабочих с одного предприятия на другое. На практике это означало введение жёсткого крепостного права, прикрепляющего рабочего к конкретному советскому предприятию. Практиковались принудительные переводы с одного завода на другой.
Советская пропаганда представляла индустриализацию примерно так же, как описывала Гражданскую войну. Военспецы, бывшие царские офицеры, вытащившие чисто военную составляющую победы красных, практически отсутствовали в официальных историях. Точно так же и зарубежные инженеры – реальные создатели сталинской индустриализации – проваливались в неисторическое небытие. Большевикам было не с руки признавать, что Гражданскую войну выиграли бывшие царские офицеры, а промышленность подняли из руин иностранные инженеры.
Над советской индустриализацией трудились крупнейшие западные фирмы и американские проектные бюро: Альберта Кана (521-й проект), Артура МакКи (Магнитка и другие), Freyn Engineering Corporation, The Coppers Corporation of Pittsburgh, General Electric, Demag AG, Krupp AG, German Koppers AG engineers.
Они планировали стройки, договаривались с западными подрядчиками, переводили всю документацию и чертежи из американской системы, с её ярдами и дюймами, в метрическую и руководили самими стройками. Все эти тракторостроительные заводы в Сталинграде, харькове, Челябинске, Томске, автомобильные в Челябинске, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, самолётостроительные в Краматорске и Томске, станкостроительные и прокатные заводы и прочие, и прочие, и прочие, – все они строились почему-то буржуинами. хотя официально советскому человеку рассказывали, что Страна Советов находится в жёстком кольце капиталистических врагов.
Западные кредиты советской стране
Советская индустриализация строилась по заветам Троцкого.
Коллективизация способствовала обдиранию крестьянства до нитки, зерно гналось за рубеж. Заготовки леса подстёгивали развитие лагерей. Зерно и лес гнали за рубеж, где под них давали кредиты, в валюте.
Из письма И.В. Сталина В.М. Молотову (не позднее 6 августа 1930 г.): «Договор с Италией – плюс. За ней потянется Германия. Кстати, как дело с германскими кредитами? Форсируйте вывоз хлеба вовсю. В этом теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, кредиты будут»130.
За 1930-1933 гг. из СССР в Европу было вывезено не менее 10 млн тонн зерна.
Кредиты Западом действительно были выданы. Но всё это привело к невиданному массовому голоду 1932-1933 годов, унёсшему от 3 до 8 миллионов человек.
А кредитовали Страну Советов очень многие. Американские предприниматели Фаркуар (40 млн долларов) и Виктор Фриман (50 млн долларов), компания «Стандарт Ойл» (75 млн долларов), Германия (в 1925-м – 100 млн марок, в 1926-м – 300 млн марок, в 1931-м – 300 млн марок, в 1935-м – ещё 200 млн марок), Великобритания (ежегодно с конца 1920 —первой половины 1930-х по 20-25 млн фунтов стерлингов, в 1936-м – 10 млн), Чехословакия (в 1935-м – 250 млн крон), Италия (в 1930-м – 200 млн лир, в 1931-м – 350 млн лир), Швеция (в 1940-м – 100 млн крон). Все как на подбор капиталисты из капиталистов.
Почему это происходило? Вопрос, как говорил хитрый Ильич, «архисложный». Без открытия архивов той эпохи можно только гадать.
Капиталисты не менее большевиков любили и любят войны. У них свой глобалистский проект. Возможно, готовили новую мировую войну и промышленно развивали стороны этого нового конфликта. А параллельно зарабатывали…
Чужим умом счастливо не проживёшь
Для нас важнее понять другое. Марксизм, ленинизм и сталинизм – с падением СССР все они канули в Лету. Все жертвы социальных экспериментов со всеми их результатами оказались погребены под обломками неудавшегося советского проекта. Народ русский в результате большевистских рывков подорвал свои жизненные силы.
Но советское прошлое дало нам хороший урок, для умеющих извлекать из своих ошибок и трагедий пользу для будущего. Живя чужими идеями, всегда будешь играть в чужие игры. Играя в чужие игры, всегда проиграешь. Чужие правила игры для того и написаны, чтобы ты проиграл.
Маркс придумал атеистическое общество будущего – коммунизм. Ленин со своей партией захватил власть во время мировой войны и революционной смуты в России. Сталин, борясь с «великорусским шовинизмом», попытался построить в отдельно взятой стране отдельно взятую на Западе политическую утопию. Всё кончилось катастрофическим поражением в холодной войне с настоящим Западом.
Мы сидим вот уже тридцать лет, как былинный богатырь, на печи и маемся от внушённого нам нездоровья и несамостоятельности. И глубоко погружены в тоску-печаль неразрешимую: то ли нам вернуться на социалистическую дорожку и снова попробовать построить СССР номер два, то ли пойти по либеральной тропке и продолжить копировать лучшие «нормальные страны» Европы и Америки.
Счастья народного не будет ни там, ни там. Сколько бы раз мы ни пробовали жить чужим умом и ходить по чужим дорогам.
21. Сталин и национальный вопрос
Иосиф Джугашвили считался у большевиков специалистом по национальному вопросу.
Марксистский взгляд Сталина на национальные проблемы сыграл ключевую роль в построении межнациональных взаимоотношений и структуры национально-территориального деления бывшего СССР.
Заигрывание с нацменьшинствами и несуществующие русские грехи
Большевики с самого начала своей деятельности активно разыгрывали карту национальных меньшинств, обещая им максимальные преференции.
Ещё в статье «Об отмене национальных ограничений» от 25 марта 1917 года Сталин негодовал, что Временное правительство думало «объявить русский язык государственным, лишив упомянутые области права вести делопроизводство и преподавание в своих отнюдь не частных учреждениях на родном языке»131.
Тогда Сталин вместе с партией большевиков выступал за политическую автономию территорий с национальным составом населения, где господствует в делопроизводстве и преподавании язык этого народа, с правом нации на самоопределение вплоть до отделения.
На апрельской Всероссийской конференции РСДРП(б) в апреле 1917 года к этим постулатам добавился пункт о необходимости составить «для национальных меньшинств особые законы, гарантирующие им свободное развитие», озвученный Сталиным в докладе по национальному вопросу.
В марксистской теории классовый подход в национальном вопросе выделял нации революционные и нереволюционные, а также нации угнетателей и нации угнетённых. Русские (великороссы) как великодержавная нация шли у большевиков по разряду нации-угнетательницы, а Российская Империя – как страна-угнетатель.
Сам Сталин представлял себе этот марксистский постулат так, как он озвучивал его в своём выступлении на Съезде народов Дагестана 13 ноября 1920 года: «В прошлом Россия была Россией царей и палачей. Россия жила тем, что угнетала народы, входившие в состав бывшей Российской Империи… Это было время, когда все народы проклинали Россию. Но теперь это время ушло в прошлое… На костях этой угнетательской царской России выросла новая Россия – Россия рабочих и крестьян… Советская власть надеется вытащить народы Дагестана из той трясины, темноты и невежества, куда их бросила старая Россия»132.
В речи на открытии совещания коммунистов тюркских народов РСФСР от 1 января 1921 года он говорил: «Будучи в прошлом правящей нацией, русские вообще, русские коммунисты в частности, не переживали национального гнёта»133.
Исходя из такого жёсткого и неисторического посыла, национальный вопрос Сталиным ставился в плоскости необходимости «фактического (а не только правового) выравнивания наций (помощь, содействие отсталым нациям подняться до культурного и хозяйственного уровня опередивших их наций) как одного из условий установления братского сотрудничества между трудящимися массами разных наций… Но национальное равноправие, само по себе очень важное политическое приобретение, рискует, однако, остаться пустым звуком, если нет в наличии достаточных ресурсов и возможностей для использования этого весьма важного права… поэтому необходимо, чтобы победивший пролетариат передовых наций пришёл на помощь, на действительную и длительную помощь трудящимся массам отсталых наций в деле их культурного и хозяйственного развития, чтобы он помог им подняться на высшую ступень развития, догнать ушедшие вперёд нации»134.
По сути, вопрос ставился в плоскости возмещения некоего ущерба нацией «угнетавшей» нациям «угнетавшимся», так как отставание одних от других ставилось «угнетателям» в историческую вину.
Само образование СССР подавалось коммунистическим вождём как торжество «новой России над старой, над Россией – жандармом Европы, над Россией – палачом Азии» и как «прообраз грядущей Мировой Советской Социалистической Республики»135.
Само собой, что СССР в глазах большевиков и Сталина не являлся продолжением тысячелетней государственной традиции России, а напротив, переучреждением совершенно нового интернационального государственного образования на месте бывшей России.
Трудности и первоочередные задачи большевиков
В проведении своей национальной политики большевики столкнулись с несколькими озвученными ими трудностями: «великорусским шовинизмом» и фактическим неравенством (культурным и хозяйственным) национальностей, вошедших в новый Союз.
В своём докладе на XII съезде Сталин сформулировал их как наследство периода национального гнёта. Для него оно состояло «во-первых, в пережитках великодержавного шовинизма, являющегося отражением былого привилегированного положения великоруссов…», с которым необходимо решительно бороться, что «является первой очередной задачей нашей партии». А во-вторых, в негативном наследстве русского «угнетения», которое, с его точки зрения, «состоит в фактическом, то есть хозяйственном и культурном неравенстве национальностей Союза Республик… преодолеть его можно лишь путём действительной и длительной помощи русского пролетариата отсталым народам Союза в деле их хозяйственного и культурного преуспеяния… Поэтому борьба за ликвидацию фактического неравенства национальностей, борьба за поднятие культурного и хозяйственного уровня отсталых народов является второй очередной задачей нашей партии»136.
Такой несправедливый классовый подход создал глубокий перекос в перераспределении доходов между национальными республиками, существовавший практически на протяжении всего недолгого времени жизни многонационального СССР.
Не менее странен был подход марксизма в исполнении Сталина и к самому пониманию нации. Во-первых, существование наций в докапиталистические времена отрицалось, а вовторых, нации делились на буржуазные и социалистические137. Марксизм делит историю на периоды разного развития производственных отношений и считает, что в докапиталистический период нации почему-то не могут существовать.
Но этого мало. Сталин утверждал, что судьба «буржуазных наций» «связана с судьбой капитализма» и что с падением капитализма они «должны сойти со сцены». Им на смену приходят «другие нации», «советские нации», которые создают «единый фронт со всеми угнетёнными и неполноправными нациями в борьбе против политики захватов и захватнических войн, в борьбе против империализма»138.
В этих новых нациях путём классовой борьбы (в реальности стратоцида) уничтожаются классы эксплуататоров, и они, с точки зрения Сталина, «коренным образом отличаются от соответствующих старых, буржуазных наций в старой России». Сталин выдвинул тезис, что «с ликвидацией капитализма будут ликвидированы старые буржуазные нации». Собственно, этим осознанно проповедовалось уничтожение наций как исторических организмов.
Правда, сам Сталин разделял разные периоды в социалистическом строительстве: «победы социализма в одной стране» и «победы социализма во всемирном масштабе». При первом периоде нации становятся «социалистическими», а «нации-угнетатели» становятся донорами для «наций угнетённых», а вот уже при торжестве социализма во всём мире все они сливаются в одну социалистическую вненациональную массу. «Период победы социализма во всемирном масштабе… объединяет нации в единой системе мирового социалистического хозяйства и создаёт, таким образом, реальные условия, необходимые для постепенного слияния всех наций в одно целое»139.
В той же работе есть интересное признание, связанное с безудержным «нациестроительством» Коммунистической партии, которое, оказывается, было вполне осознанным: «Социалистическая революция не уменьшала, а увеличивала количество языков, ибо она, встряхивая глубочайшие низы человечества и выталкивая их на политическую сцену, пробуждает к новой жизни целый ряд новых национальностей, ранее неизвестных или мало известных. Кто мог подумать, что старая царская Россия представляет не менее 50 наций и национальных групп? Однако Октябрьская революция, порвав старые цепи и выдвинув на сцену целый ряд забытых народов и народностей, дала им новую жизнь и новое развитие»140.
Отсюда и вся эта череда появлений никогда ранее не существовавших наций в СССР, проведение политики всевозможных коренизаций, украинизаций, выращивания национальных кадров и так далее.
Большевики как разновидность социалистического глобализма видели в будущем следующее развитие событий: «Возможно, что первоначально будет создан не один общий для всех наций мировой экономический центр с одним общим языком, а несколько зональных экономических центров для отдельных групп наций с отдельным общим языком для каждой группы наций, и только впоследствии эти центры объединятся в один общий мировой центр социалистического хозяйства с одним общим для всех наций языком». Так что уничтожение всех наций и всех национальных государств при окончательной победе социализма ставилось большевиками как неизбежная задача для их партии.
Национальный вопрос у Сталина шёл в параллель с культурной революцией в СССР, которая должна была обязательно опираться на повсеместное развитие национальных языков, на которых должны были быть организованы образование, партийные и профсоюзные органы, государственное и хозяйственное управление, пресса, театры, кино и т. д.
Он вполне искренне считал, что «миллионные массы народа могут преуспевать в деле культурного, политического и хозяйственного развития только на родном, на национальном языке».
Историческая практика не подтвердила эти залихватские разрушительные теории и вернулась к необходимости господства русского языка как государственного и русской нации как государствообразующей.
22. Весь ли Сталин умер? Идеологические образы сталинизма
Более семидесяти лет назад умер Иосиф Джугашвили, но и сегодня в сознании некоторой части наших соотечественников продолжает жить разноликий образ под партийным псевдонимом Сталин.
Этот политически мыслимый Сталин, а зачастую просто придуманный на свой лад, у каждого свой.
Одними образ Сталина (коммунистами-марксистами) почитается, прежде всего, как верный партиец, последовательный марксист-ленинец, организатор победы социализма над фашизмом в Великой Отечественной войне, классовый коллективизатор и индустриализатор, лидер мирового коммунистического движения; другими (советскими шовинистами, национал-коммунистами) – как некий грандиозный социальный реформатор, борец с интернациональными «троцкистами», «бухаринцами» и «зиновьевцами», национализировавший коммунизм; третьими (христианские социалисты, православные сталинисты) – как «бич Божий», который, раз «Божий», значит, и почитаться должен религиозно, как «огранщик социализма», который приобрёл некие национальные черты в процессе сталинской практики, как некий вариант «христианства без Христа».
Какой же из этих вариантов Сталина более соответствует историческому, реальному Иосифу Джугашвили?
На самом деле, вопрос этот мало волнует все эти три группы сталинистов. Можно даже сказать, что разнообразные варианты сталинизма с лёгкостью обходятся в своих построениях без личности самого Сталина.
Сталин для сталинистов – выстроенный идол, для одних, коммунистов-марксистов, более политический, для других, национал-большевиков и советских шовинистов, более национальный, а для третьих, православных сталинистов, более религиозный.
Все три группы по-своему идеализируют, по-своему рисуют «культ личности» Сталина. И что, быть может, самое интересное, по-своему защищают созданный ими образ Сталина от скептиков внутри общественных групп общества, в которых действуют эти подвиды сталинистов.
Среди марксистов и ортодоксальных коммунистов сталинистам приходится отбиваться от тех, кто считает Сталина недостаточно последовательным марксистом, сглаживать сравнения Сталина и Ленина, доказывать, что Сталин был верным ленинцем и углублял социализм строго в соответствии с догмами марксизма-ленинизма, что сам марксизм не догма, а средство революционной борьбы, и он может идеологически развиваться.
В широких кругах советских патриотов сталинисты вынуждены объяснять своей пастве не менее сложные раздвоения. Сталин здесь должен быть и национальным русским лидером (вроде Степана Разина), и одновременно последовательным интернационалистом, непримиримым борцом с интернационалистами-евреями (Троцким и компанией), и одновременно последовательным социалистом, пестовавшим новое образование «советский народ». Используемый здесь экстракт образа Сталина – один из самых противоречивых: национализм – интернационализм, русский – советский, очень неустойчивый и плохо соединимый идеологический состав.
В православных политизированных группах действует православный сталинизм. Он позиционирует Сталина как «бич Божий», а у радикальных сталиноверов даже как «милость Божия к русскому народу». В этой группе сложнее всего снять проблему Новомученики – палачи. Православные сталинисты говорят о том, что Сталин вынужден был в своей борьбе с троцкистами пройтись репрессиями и по церкви, что, мол, репрессии против православных совершались помимо воли самого Сталина. Это, мол, все антицерковные репрессии в карательных органах делали недобитые троцкисты. Но ведь Сталин потом их всех расстрелял. Какие проблемы?
Все три разновидности сталинизма в разной степени соответствуют грубому смешению таких политических понятий, как социализм и этатизм, соединению радикально противоположных идей: коммунистической идеи отмирания государства с одновременной чрезмерной надеждой на государство, как на единственный тоталитарный институт благоустройства общества.
Все разновидности сталинизма на нашей почве есть доморощенные варианты обожествления государства, как якобы универсальной чудодейственной палочки, которая решает все социальные проблемы.
Да, государство как общественный институт очень важно, даже первостепенно важно. Но без активного и структурированного общества, без привлечения живых сил нации, без крепкой семьи и уж тем более без церкви как воспитательницы народа – никакая долговременная, здоровая и жизнедеятельная государственная структура в принципе невозможна.
Сталинизм же во всех трёх изводах предлагает нам лишь радикальный перекос в сторону социалистической тоталитарности государства. Как говорил Ленин, идеал социалистического государства это капиталистический трест, распространённый на всё государство.
«Коммунистами достойны называться лишь те, кто понимает, что создать или ввести социализм, не учась у организаторов треста, нельзя. Ибо социализм не есть выдумка, а есть усвоение пролетарским авангардом, завоевавшим власть, усвоение и применение того, что создано трестами», —утверждал Ильич141.
Иначе говоря, социалистическое государство – это партийный монопольный эксплуататорский трест, а партия – единственный олигарх в таком государстве.
Чем отличается такое социалистическое государство от капиталистического? Только тем, что в капиталистическом правящих олигархических семей несколько, а в социалистическом олигарх один – партия. Перспектива мало презентабельная. И социалистические, и капиталистические крайности сходятся на олигархическом правлении, партийном или клановом.
Есть ли у какого-нибудь из вариантов сталинизма будущее в нашей стране – покажет само будущее. На сегодня же ясно лишь одно, что предлагаемое сталинистами будущее будет не менее тяжёлым для нации, чем было его сталинское прошлое.
II. РЕВОЛЮЦИЯ И КОММУНИЗМ
-–
23. Гуманизм как мировоззрение ведущее к революции
Я бы хотел показать те корни «благих намерений» многоголосых проповедников «социального добра», «социальной справедливости», всевозможных свобод, равенств и братств, которые в своем практическом применении познакомили нас с кровавыми ужасами XX столетия.
Я хотел бы обозначить идейную и одновременно духовную суть тех «идеологов», которые обошлись человечеству дороже любых «завоевателей», напомнив об этом всем присутствующим словами знаменитого военного теоретика А.А. Керсновского, утверждавшего, что «последователями Руссо пролито больше крови, чем ордами Тамерлана»142.
Для этого необходимо задаться вопросом, какой же процесс разрушал христианский мир и боролся с христианскими Алтарями и Тронами Монархов?
Процесс этот можно описать как рационализацию (в противовес сакрализации) отношений человека с Богом, процесс автономизации (отхода) человека от Бога и неизбежного следствия такого отпадения – самообожения человека, укрепляющаяся вера человека в самого себя, как меру всех вещей.
Первородство в этом процессе среди людей надо отдать римо-католичеству с его идеей папства, как наместничества или заместительства Христа в лице папы и его церкви-государства.
«Следствием такого духовного узурпаторства, – пишет протоиерей Иоанн Арсеньев, – явилось то, что (если и не в теории, то во всяком случае на практике) папский Рим впал в серьезную догматическую ошибку, смешав вместе царство благодати с царством славы и стремясь усвоить первому многие черты второго. С этой точки зрения папа является не только земным наместником Христа, но и полновластным распорядителем и будущей судьбой верующих в жизни загробной, причем такая власть простирается у него даже над подвигами и добродетелями тех членов церкви, которые уже переселились из земной ее половины в небесную и сделались согражданами ангелов… После всего этого… папе многие из наиболее последовательных римских канонистов прямо усваивали наименование «видимого Христа вселенной» и доходили даже до того, что кощунственно называли папство новым видом воплощения Христа Сына Божия в церкви?..»143
Такое самообожествление одного папы-человека довело римо-католиков до догматического творчества по своему разумению и введению уже как догмата непогрешимости римских пап.
«Церковное единство не есть политическое, но духовное, и что оно сохраняется и поддерживается в церкви чудесно, сверхъестественно, в силу главенства Самого Христа в церкви и постоянного пребывания в ней всеосвящающей благодати Св. Духа. Ставя на место невидимого Главы церкви – Христа – видимого главу – папу, якобы для сохранения церкви от утраты единства, латиняне впадают чрез это как бы в грех Озы144, желавшего поддержать ковчег завета и показавшего чрез это свое неверие в охранение этой святыни Самим Господом, помимо людей (1 Парал. 13, 9-10). В этом стремлении прийти как бы на помощь Господу в деле поддержания Его церкви, – прийти на помощь со своими чисто-земными, человеческими усилиями, направленными к превращению этой церкви в земную монархию, – в этом главным образом и заключался рационализм папского Рима»145.
Реформаторы Запада, всевозможные протестанты «руководились чисто-рационалистическим методом, при котором каждый ставил свое «я» главным и почти единственным критерием при определении того, какое учение истинно и какое нет. Получилась печальная картина замены одного рационализма (римского, папского, прикрытого внешней личиной церковности) другим, при котором нередко… искаженная папским Римом церковность… совсем уничтожалась, падая под беспощадными ударами критицизма и самого безграничного произвола на почве субъективизма… Получалась какая-то амальгама мнений и учений, и все это вследствие того же опаснейшего принципа, в силу которого личное мнение ставилось главным критерием истины»146.
Протестантское начало, появившееся на Западе задолго до Лютера, было другой «обратной стороной католичества», которая провозгласила чистый субъективизм, в дальнейшем абсолютизировало личное мышление, как новую меру всех вещей147.
Католики и протестанты вместе привели европейскую мысль к гуманизму, который провозгласил полную самостоятельность человека, его автономность от Бога148.
«Гуманизм полагает и утверждает человека, делает его самостоятельным центром и самоцелью»149. А человек, ощущающий себя самого как самоцель, уже не может ни служить высшим началам (для этого у него нет веры), ни земным властям для этого у него нет никакого желания, и он может подчиняться только силе численного большинства, то есть демократической республике…
Вот где-то на этом переходе от мистического рационализма протестантизма к окончательно побеждающему гуманизму, с его социальными утопиями, Россия и стала вовлекаться в европейские дела.
Наше духовное «омертвение началось с того момента, когда вся наша общественная культура была оторвана от питающего и образующего начала… – от религиозного источника. Процесс начался при Петре и закончился к началу нашей революции»150.
Феномен русской интеллигенции здесь сыграл роль носителя всевозможных разрушительных вирусов.
«Большевизм», собственно, и есть «доведенный до абсурда, до конца гуманизм интеллигенции… Большевизм нашел для себя… живого носителя и, доведя интеллигенцию до конца», уничтожил «ее как живую историческую силу»151 во время революции.
Бунт интеллигенции против Православной России и был самой революцией, т.е. бунтом «человека против своего призвания, освобождение от службы, дезертирство…»
Революция как социальный погром, была поддержана сначала народом, но затем с ростом партии и ее репрессивного аппарата погром распространился и на сам народ. Революция через социальный погром, поддерживаемый народом, переросла в национальный геноцид самого народа уже без его поддержки.
Интересная лживость подходов марксистов к обществу со своим классовым подходом.
«Казалось бы, человек, потерявший собственность, перестает принадлежать к классу собственников; изменение социального базиса человека должно менять всю идеологическую надстройку в нем. Но так только казалось марксистам, пока они сидели в кабинете, а как только им пришлось действовать, и притом действовать против ими же созданных ветряных мельниц-классов, то им пришлось ограбленного ими человека уничтожить – как виновного в тяжком грехе собственности».
Нашу революцию сложно даже сравнивать с другими революциями. «Потрясение нашей национальности выглядит даже не как революция, а как «страшная наследственная болезнь – циклически возвращающаяся смута».
«Наша революция даже не грех, – как писал один консерватор, – а возмездие, страшная форма наказания в виде доведения до абсурда и до сумасшествия всех грехов старой жизни». Предреволюционная тоска теперь понятна нам не только как следствие пустоты жизни, но и как сознание греха и предчувствие кары. Ведь грех был осознан давно и частью пророчески предвиден (хотя бы Леонтьевым и – в самое последнее время – группой Струве и «Вех»), но осознание это было отчасти только литературным, отчасти же запоздавшим. Грех, наказание, искупление в судьбе народа – вот новые категории мысли, наша новая социология, которой нас научила революция… Что, как не оставленность Богом, ощущалось нами в предреволюционной смертельной тоске? Теперь мы чувствуем, что пасут нас жезлом железным, что Бог посетил нас, и ждем чуда приятия искупления»152.
Период большевизма – это последний период старого имперского мира, период утилизации, уничтожавший и святыни, и грехи царской России.
Революция, с одной стороны, это смерть и разложение старого мира, и здесь во весь рост встает трагическая неудача всех белых движений. «Все эти движения погибли, ибо пытались остановить силу смерти в частях единой России».
Наша историческая действительность начинает разрушаться задолго до захвата власти и продолжает разрушаться еще долгое время после. Захват власти разрушает, быть может, какую-то наиболее важную, ключевую точку обороны, после овладения которой сопротивление революционерам отнюдь не прекращается, а гражданское сражение принимает как раз еще более кровавый вид – вид избиения побежденных, но не сдавшихся…
24. Путь войны и путь революции. Русская драма Первой мировой войны
Революция всегда оправдывалась у нас тем, что Первая мировая война довела страну до полного упадка и разрушения и что только революция спасла Отечество. Но после революции сама война не кончилась, а упадок и разрушения, свойственные последствиям любой войны, только увеличились.
Поколение, отравленное пацифизмом и либерализмом, не смогшее закончить победоносно мировую войну, не нашедшее в себе силы пройти путем войны до конца, от своей духовной слабости, от желания простых и легких (как думалось) путей ввергло Россию в многолетнее и бесславное революционное насилие, надорвавшее могучие силы русской нации.
Россия, воевавшая на стороне победившей в войне Антанты, вследствие революции и предательства большевиков оказалась униженной в Бресте. И только Версальский договор, согласно статье 116, отменил Брестский мир и все другие договоры, заключенные Германией с большевистским правительством.
Мировая война, которая на русском фронте называлась Второй Отечественной, в процессе самой революции, во время Гражданской и всех последующих классовых партийных войн с различными побежденными социальными слоями нации переросла в кровопролитную борьбу внутри самого русского общества.
В реальности смена пути войны на путь революции была проблемой духовного падения.
До сих пор военные усилия Российской Империи не оценены по достоинству. В Первую мировую при Императоре Николае II враг так и не побывал на собственно русских землях. За все же, что было после революции, при Временном правительстве и большевиках, за развал армии и фронта, предательства, отступления и позорный Брестский мир, понятно, ни Империя, ни ее Император отвечать не могут. Пока царствовал Государь, фронт проходил практически по границам Империи, на севере и северо-западе мы уступили лишь часть Прибалтики и царство Польское, на юго-западе оккупировали часть земель Австро-Венгрии, а на юге держали чуть не треть территории Турции. Именно поэтому в сравнении с войной 1941–1945 годов жертвы среди мирного населения были минимальны, примерное соотношение 1:15.
Кстати, и потери самой Императорской армии были очень небольшие для такой громадной войны. Есть весьма точные данные Главного управления Генерального штаба Русской армии от 3 октября 1917 года – 511 тысяч убитых, 264 тысячи пропавших без вести – либо уже советские данные ЦСУ СССР (1925 год) – 626 тысяч убитых и 228 тысяч пропавших без вести. Так что убитых по любым подсчетам меньше миллиона. Какая огромная разница в сбережении солдатских жизней по сравнению со Второй мировой войной!
Существует много мифов об этой Великой войне, много пустых претензий к Императору, делавшему все возможное для скорейшей победы над врагом.
При ближайшем рассмотрении действительной несообразностью во время войны было слишком мягкое отношение к оппозиции. Ее деятельность не была запрещена, а Государственная дума не распущена на время войны. Ошибкой было допущение оппозиции к военному снабжению и поездкам в армию. Так, например, Военно-промышленный комитет Гучкова поставлял Действовавшей армии снаряды по цене 32 рубля за трехдюймовую шрапнель невысокого качества. Тогда как казенные заводы производили те же снаряды лучшего качества, по 9 рублей. А председатель Государственной думы Родзянко занимался поставкой березовых ружейных лож с чрезвычайно хорошей маржой для себя. Вся ценовая разница шла в карманы будущих организаторов государственного переворота.
В военном же плане ошибочно тянули с реализацией многочисленных планов по захвату Константинополя. Дважды в 1915 году Император повелевал овладеть Константинополем – и дважды это распоряжение не было исполнено.
Путь войны, предусматривавший на 1917 год наступление на Юго-Западном и Румынском фронтах и десантную операцию по овладению Константинополем, путь войны, не пройденный до победы каких-нибудь несколько месяцев, привел к кровавому пути революции, которые мы изживали долгие семьдесят лет.
Сегодня многие делают вид, что не понимают выгод немецких и британских «грантодателей» наших революционеров.
Начнем с немцев. Им нужен был как воздух «сепаратный мир» с какой-нибудь из сторон, воевавших со странами центральной коалиции (Четверного союза). Силы Германии и её союзников к 1917 году были на пределе для противостояния на два фронта. Русский Государь, а затем и Временное правительство не желали предавать союзников и заключать сепаратный мир.
Ленин и его партия были идеальной силой, с которой можно было заключить такой мир. Ленин ненавидел Российскую Империю, не просто как республиканец ненавидит монархию или социалист – буржуазию, а ещё с оттенком личной ненависти и горделивого европейского пренебрежения.
В начале Первой мировой войны Ленин писал: «Не может подлежать ни малейшему, абсолютно никакому сомнению, что наименьшим злом было бы теперь и тотчас – поражение царизма в данной войне. Ибо царизм во сто раз хуже кайзеризма»153.
Ленин стремился к поражению именно нашего «царизма», потому что он был, как «смердяков», убежден, что «умная нация покорила бы весьма глупую-с», потому что чужой «кайзеризм» не вызывал у него столь же яркой ненависти, какая у него была к Российской Монархии. Для Ленина Россия не только проклятый «царизм», но и эмоционально ненавидимая цивилизация.
Хорошо знавшие эту политическую и психолого-цивилизационную позицию Ленина, Парвус и другие удачно обратили внимание Германии на этого «власовца» Первой мировой войны. И интересы революционеров Ленина и империалистов Германии совпали в деле крушения России как участника Мировой войны. Ленин был агентом Германии не в смысле банального шпиона, он был соакционером Германии в деле сокрушения военно-государственной мощи России.
Что касается британских «грантодателей» Февральской революции, то получив отпор в своём дипломатическом давлении на Государя, чтобы тот отрёкся от Престола, они нашли своих соакционеров в либеральных и левых общественных кругах. Задача была сверхсложная: удалить Государя Николая Александровича от Престола, посадить своего ставленника (из Романовых или из общественников), но параллельно сохранить Россию как активного военного участника Мировой войны. Задача удалить Государя от власти удалась, а вот вторую часть испортили большевики на деньги Германии154.
Теперь по поводу поведения различных акционеров революции в России во время Гражданской войны. Переговоры Советов с Германией начались 20 ноября (3 декабря) 1917 года. В этот же день, подводя итог немецких усилий, статссекретарь (министр) иностранных дел Германской империи Кюльман констатировал в письме кайзеру: «Лишь тогда, когда большевики стали получать от нас постоянный приток фондов через разные каналы и под разными ярлыками, они стали в состоянии поставить на ноги свой главный орган «Правду», вести энергичную пропаганду и значительно расширить первоначально узкий базис своей партии».
Переговоры с большевиками затягивались, по совершенно понятным причинам. Немцы помогли прийти большевикам к власти, и теперь надо было выполнять главное уже немецкое пожелание – выход России из войны. Ленин и особенно Троцкий (с деньгами уже из американо-еврейских кругов) пытались потянуть время, распустили 11 февраля остатки Русской Армии, объясняя это, прямо как наши либералы в 1990-х годах, что, мол, в Германии и Австро-Венгрии не хотят войны. Но уже 18 февраля Германия прекратила перемирие и возобновила наступательные действия, заняв Двинск, Луцк, Минск, Ровно, Полоцк, Житомир и продвигалась далее. 21 февраля Советская власть озаботилась учреждением Красной Армии. Далее немцы, чтобы совсем отрезвить своим соакционерам сознание, заняли ещё Псков, Юрьев и Ревель. И уже 24 февраля Ленин телеграфировал (правда, интересно, что есть телеграфная связь с «врагом»?!)155 в Берлин, что согласен на условия Брест-Литовского мира. А согласился он на независимость от России Курляндии, Лифляндии, Эстляндии, Украины, Финляндии, для Османской империи Анатолии и выплату огромных репараций в 6 миллиардов марок.
25. Социальный мистицизм революции, Гражданская война и Русский исход
«Новые люди», которые впервые народились в Европе, в большом количестве на идеях французской революции 1793 года, вызвали целую интеллектуальную эпидемию, глубоко поразившую и русское общество. В силу отсутствия в русском обществе прививок от предыдущих духовных болезней Запада: папистского раскола, «возрождения», «реформации», «гуманизма», – эта новая революционная эпидемия поразила русский организм почти смертельно. Русское общество в XIX–начале XX столетия ещё не имело никакого иммунитета от этих социальных заболеваний.
Сам же Запад не раз уже подвергавшийся радикальным переустройствам в своей истории уже менее охотно реагировал на новые предложения социально «преображаться».
В России же психологическое внутреннее неудовлетворение у «новых людей» искало непременного разрешения, в мечтах о будущем. И толкало их к революционным разрушениям.
Воинствующий атеизм, борьба с властью Бога соседствовало у «новых людей» с ощущением самодостаточности человека. Провозглашаемая автономность человека от Творца, проповедуемая человеческая самовластность неизбежно приводила революционеров к борьбе с любой властью в обществе и отрицанию всяческой государственности.
Здесь интересна внутренняя непоследовательность революционеров. Отрицая государственную власть, они всегда выступали за революционное насилие. Но насилие немыслимо без наличия какой-либо власти над людьми, хотя бы и совершенно разбойничьей.
Реальный социальный земной мир не в состоянии был выдержать абсолютистских революционных требований к себе. Человеческий мир принципиально не совершенен, социальное устройство в нём не может нести идеальных, псевдорелигиозных райских упований.
Почему, собственно, революция и не может достичь своей главной заявляемой цели – совершенства общества. Начатая революция всегда будет перманентно требовать своего продолжения, так как постреволюционное общество снова и снова будет не удовлетворять революционеров своим социальным несовершенством.
На самом деле внутренняя нелогичность и непоследовательность революционных теорий, да и революционной практики просто поражает.
Революционеры свергают законную власть, разрушают старое государство. Но даже само их революционное насилие всё равно порождает новую власть над обществом. Причём эта «новая революционная власть» создаёт целое тоталитарное государство, построенное на насилии, терроре и экспроприациях. Уйти от власти, от государства, от насилия не только не получается, но революционный результат превосходит все ранее виданные объёмы властной безграничности и государственных репрессий.
«Новое» стремится уничтожить старое «до основания», но в этом «новом обществе» мы видим всё то же легко узнаваемое социальное устройство старого общества, только в значительно более бесчеловечной форме.
Социальный мистицизм любой революции абсолютно утопичен. Левые идеологи проповедуют на словах безвластное, безгосударственное, безнасильственное, бессословное общество. На деле же ничего из заявленного не появляется.
Большевистская партия, захватившая власть – стала единовластным коллективным олигархом. Единственным работодателем в советском обществе. Сами партийцы, заменив собой старую элиту – создали номенклатурную прослойку управления. И все большевистские попытки репрессивными методами уравнять общество, напротив лишь продолжали расслаивать общество. Была коммунистическая «элита», был средний класс членов КПСС и были бедные слои населения.
Здесь вспоминаются гениальные слова Льва Тихомирова, сказанные задолго до революции: «Люди могут делать сколько им угодно революций, могут рубить миллионы голов, но они так же бессильны выйти из социальной неизбежности, как изпод действия законов тяжести».
Коммунистам оказалось не по силам: уничтожить институт семьи, остановить профессиональное расслоение в обществе, смешать между собою нации, отказаться от государства, уйти от иерархии власти, до конца расправиться с церковью.
Таким образом, настоящая опасность большевистского эксперимента была не в том, что революционеры попытались изменить социальные основы бытия. Это им не по силам, не смотря ни на какой репрессивный аппарат. А в том, что они периодически разрушают или покушаются разрушить историческую действительность, реальные человеческие общества, а в перерывах между революциями занимаются утопическим изобретением не существующих социальных «вечных двигателей».
26. О нездешней ненависти большевиков, или ответ писателю Прилепину
Захар Прилепин в своё время написал: «12 пунктов про Революцию и Гражданскую войну», с пафосом убежденного партийного пропагандиста, который знает, что его учение верно просто потому, что оно верно. С такой же самоуверенностью, необремененной лишними внепартийными знаниями, нам читали в университете Историю КПСС отставные служаки из советских органов.
Нашему левому писателю кажется, что он задал неотразимые вопросы. На деле он находится, в одних случаях, просто в банальном, но объяснимом при отсутствии исторического образования, неведении, а в других – в шорах своих левых убеждений.
Товарищ Прилепин начал с самого распространенного утверждения сегодняшних левых, что «большевики не свергали царя». Имеется в виду, что во время Февральской революции Ленин и другие лидеры большевиков были за границей, а реальное отрешение Государя от власти осуществляли другие люди.
Да, это правда. Ленин и другие большевистские лидеры, положив свою жизнь на дело революции в России, проспали как «евангельские неразумные жены» приход своего «жениха», т.е. настоящую революцию. Все эти политические журналисты-пропагандисты и марксистские идеологи смотрели через кривые марксистские линзы на свою страну, не чувствовали её и пропустили свой «выход». А потом оправдывались тем, что сначала должна была быть «буржуазная» революция, а только потом «пролетарская».
Тем не менее всё же можно утверждать, что большевики свергали царя, свергали в том смысле, что хотели156, планировали, партия проводила соответствующие мероприятия, пытались свергать, в февральских событиях участвовали своим подпольем под руководством Молотова, Шляпникова157. Но сам факт свержения, первенство в этом черном деле принадлежит не большевикам. Кстати, считаю, что «гордиться» почитателям большевиков здесь нечем. Здесь проявилась революционная и интеллектуальная немощь большевиков.
Свою запоздалую революционность они ярко, по-большевистски, проявили, когда Государь и Его Семья попали им в руки.
Именно здесь проявилась вся духовная сущность большевиков, они зверски убили и Государя, и Государыню, и их детей, и их родственников, и их друзей, и их слуг. Кстати, впоследствии нашли даже кормилицу Государя, вскормившую Его своим молоком, и расстреляли и её, и её мужа, и её дочь. Вот такое редкое среди людей «человеколюбие».
Можно ли что-то подобное вспомнить о противоположной стороне? Был ли расстрелян Володя Ульянов за покушение его брата на Императора Александра III? Были ли расстреляны его мать, его братья и сестры, получившие за год до преступления их брата потомственное дворянство от того же Императора? Или, может быть, после убийства Императора Александра II монархисты брали для расстрелов многочисленных заложников из среды революционеров и их семей, их друзей, их детей, как это было после убийства Урицкого?158
Абсолютно прав товарищ Прилепин, что не затрагивает темы убийства Святых Страстотерпцев. Ему, играющему и на поле Православия, и на поле поддержки большевизма, это не выгодно. Поскольку именно здесь наиболее четко стоит выбор между добром и злом.
Христианских большевиков или большевиков-христиан не бывает, что-то одно рано или поздно должно победить в человеке. И здесь никому не удастся остаться одновременно и с большевиками, и со Святым Государем. Выбирать предстоит между добром и злом, а не между добрым злом или злым добром. Это только в нашей абсурдистской земной действительности могут быть православные сталинисты, бело-большевики, левые славянофилы и прочие синкретические особи.
В мире духовного самоопределения либо выступаешь за большевиков и берешь на себя кровь Помазанника Божия, а, значит, и всех остальных Новомучеников, прославленных церковью и миллионов простых христиан, замученных ленинцами и сталинцами, либо отвергаешь революцию и проявляешь желание соединиться со всеми без исключения Святыми мучениками в царствии Божием.
Христос принес не мир, но меч на землю. И это духовное разделение проходит не только по политическим убеждениям, не только по земной жизни, но по загробной вечности. Что трезвомыслящих христиан должно более всего беспокоить.
Товарищ Прилепин уделил много внимания белым. Кадеты, всевозможные прогрессисты, правые эсеры, конечно, не вызывают у меня положительных эмоций, и я предпочёл, чтобы их никогда не было на русской политической сцене. Но в них есть одна гипотетически положительная черта – они не правили Россией семьдесят лет, и могут рассчитывать на презумпцию невиновности в многолетних массовых репрессиях, от чего уже абсолютно полностью свободны реализовавшиеся на русской почве большевики.
Дилеммы в вопросе, кто был бы лучшим победителем «генералы-февралисты» (кстати, в белом движении было много генералов не февралистов, и даже не присягавших Временному правительству) или большевики для человека верующего, вообще не стоит. В истории действует наряду с человеческой волей и прежде её – Воля Божия, проявляющаяся в том числе и в бездействии. Если уж люди решили напиться «метилового коммунизма» до умопомрачения, то это и есть Божие наказание, которое сами люди на себя натянули. А вот нужно ли после первого полновесного граненого стакана «метилового коммунизма», ослепившего наше общество на семьдесят лет, тянуть руку за вторым… это занятие для любителей нездоровых острых ощущений с летальным исходом.











