Читать онлайн Миры славянской мифологии. Таинственные существа и древние культы
- Автор: Лиз Грюэль-Апер
- Жанр: Религии, Верования, Культы
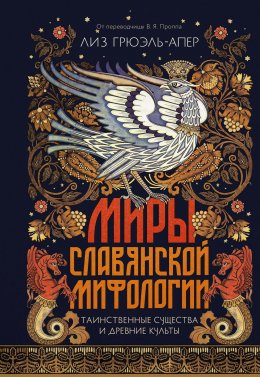
© Éditions Imago, 2014
© Голыбина И. Д., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
КоЛибри ®
Введение
В большинстве трудов по мифологии мирового или даже европейского охвата, опубликованных во Франции, мифология русская – и в целом славянская – занимает не более двух-трех страниц (если вообще там фигурирует). Зачастую в нескольких абзацах авторы относят славян к индоевропейцам, пытаются отыскать в их сборной мифологии три функции Дюмезиля[1] и переходят… к следующей мифологии. Что это – неосведомленность, игнорирование? Возможно, но таким объяснением нельзя удовлетвориться. Помимо очевидных предвзятостей, существуют и другие причины отсутствия интереса, что наносит ущерб научному подходу.
Фактически славянских мифов не существует (или существует крайне мало), если подразумевать под мифами сказочные и одновременно упорядоченные (одно не противоречит другому) рассказы, посвященные богам или героям, в которых верит (или верил) народ. Славянская специфика (или, если предпочитаете, славянский гений) заключается в том, что крестьянство [1] выражает свои верования не столько в рассказах, сколько в обрядах, празднествах, песнях, сказках – разного рода фольклоре. Так, хотя в аграрных весенних праздниках явственно прослеживается иерогамия земли-жены/неба-мужа, рассказа, на котором это убеждение основано, не существует (если не считать некоторых – условно мифологических – сказок, которые на него намекают, но не развивают). Обряды и праздники единственные являются его безусловным свидетельством. Конечно, в XIX веке a posteriori были выстроены «мифологизирующие» конструкты в попытке одновременно ответить на запросы образованной аудитории и ввести русский/славянский материал в корпус индоевропейской мифологии, но все это лишь подделки. Афанасьев занялся этим первым и, с его прилежанием и талантом стилиста, добился некоторых успехов. Следом за ним писатели, композиторы и художники стали в этом смысле толковать лингвистические и исторические открытия своей эпохи.
Многочисленные обряды, о которых идет речь, действительно восходят к латентной мифологической концепции. Известно множество жестов и движений, ритуальных актов, подношений, жертвоприношений или их симулякров, заговоров и песен, коллективных проявлений радости или печали, застольных тостов и плачей, и даже нарративных фрагментов (в том числе сказок и былин), но нет (или очень мало) последовательных повествований, выстроенных, например, вокруг рождения или боевых подвигов, любовных похождений или претензий на власть того или иного бога. Поэтому сложно, сохраняя научную объективность, использовать здесь термины «миф» и «мифология». Этнограф Зеленин, резюмируя эту ситуацию, жаловался, что наряду с «мифологией» наука не придумала ни термина, ни концепции «ритология» (не существует ни в русском, ни во французском языке), ведь она больше подошла бы – по крайней мере по отношению к славянским странам – для точного описания обрядового и культурного материала, одновременно очевидного и ускользающего от пристального изучения.
Итак, у нас нет цельного нарратива – только обрывки, разрозненные истории, сказки; нет или мало фигуративных изображений, за исключением вышивок; нет или мало храмов, мало идолов, поскольку дерево не выдерживало испытания временем. Если добавить сюда репрессии со стороны церкви, которая, как повсюду в Европе, уничтожала все, что ее не устраивало, доказательства существования славянской мифологии оказываются крайне скудными.
Сюда добавляются редкость и характер документов и свидетельств, сохраненных для нас историей стран, о которых идет речь. У нас имеются: 1. Тексты историков Античности, плохо информированных о нравах и обычаях славян. 2. Комментарии отцов церкви, негативно настроенных по отношению к предыдущим религиозным практикам. 3. Тексты средневековых летописей, написанных монахами и зачастую основанных скорее на легендах, чем на достоверных исторических фактах. 4. Записки нескольких путешественников, арабских или западных. 5. Этнографические и фольклорные исследования XIX века, обильные, но по самой своей природе недостаточно конкретные. 6. Более современные открытия в области этимологии и прежде всего археологии. Возьмем для примера языческого бога Перуна: удалось обнаружить следы его культа на севере славянских стран, найти некоторые святилища этого культа и подтверждения его существования в хрониках. Народная христианская мифология, со своей стороны, позволяет предположить, что этот бог трансформировался в христианского святого. В то же время о собственно Перуне мы не знаем ничего, за исключением его предположительной сферы влияния. И это один из богов, о которых нам известно больше прочих – по крайней мере, мы уверены в его существовании и функциях! Конечно, археологические раскопки дают нам неоспоримые свидетельства с точными датировками. Они же позволяют подтверждать существование определенных древних верований. Но мифов – по крайней мере четко сформулированных – в нашем распоряжении нет.
Итак, возникает первая гипотеза: мы имеем дело с мифологией подспудной, проявляющейся в ритуальных манифестациях, имя которым – легион. Иными словами – и этот парадокс сбил с пути немало исследователей, – русское, и вообще славянское, общество буквально утопает в разнообразных верованиях, но выражаются они не в мифологии. Синтетического воплощения, в литературной или какой-либо другой форме, этого разрозненного ансамбля магических ритуалов и обрядов не существовало даже в древности. Лишь христианизация [2] внесла в них некоторую систему, но сделала это, опираясь на собственные критерии. С этой целью она, как свидетельствует «Повесть временных лет», действовала «огнем и мечом», снося древние святилища, чтобы воздвигнуть свои (но сохраняя их основания, что стало настоящим подарком для археологов), уничтожая прежние верования, окультуривая заново крещеные племена, но также и ассимилируя старинные практики и даже перенимая, в свою очередь, некоторые из них: так важнейший культ Богородицы является наследием повсеместно распространенного культа Матери-земли.
В результате получаем широчайший круг обрядов, восходящих к архаической стадии развития человечества, предшествующей даже, по мнению некоторых авторов, великолепной греческой мифологии или менее эстетически успешным «Эддам». Малая представленность мифов о сотворении мира также является аргументом в пользу данной гипотезы.
У этого архаизма есть свои минусы, поскольку он не дает нам организованной мифологической системы, но есть и значительные достоинства: он позволяет (благодаря скрупулезным этнографическим исследованиям, проведенным в XIX веке) составить представление о древнейших обрядах и верованиях Западной Европы (и даже античной Греции). Суть археологических находок (которые никогда не являются прямым свидетельством бытующих убеждений) на остальной территории Европы внезапно открывается пониманию благодаря этнографическим данным – русским, славянским и финно-угорским – XIX и ХХ веков (см., например, главу об умерших неестественной смертью или о жертвоприношениях животных). Соответственно, недостатки компенсируются огромными достоинствами, обращающими свод этих данных в ключ к пониманию ансамбля верований в общеевропейском, если не общемировом, масштабе.
Следует ли поэтому отказаться от концепции мифологии? Это тоже было бы неверно. Мы убедились, что в ходе истории совершались серьезные попытки превратить разрозненные обряды и фрагменты нарратива в мифологию: народное христианство с его сонмами святых XI века; индоевропейские реконструкции с претензией на «научность» XIX века. Стараясь дистанцироваться от обоих течений, мы не можем не принимать их в расчет. Они являются доказательством того, что конверсия комплекса обрядов в мифологию все-таки была начата.
Но есть и вторая гипотеза, объясняющая уже констатированное отсутствие: вполне вероятно, мы имеем дело с мифологией забытой, которую следует восстановить. Если исследователи французской мифологии обнаруживают в Гаргантюа или Мелюзине древние галльские божества, почему не сделать то же самое с Бабой-ягой или другими персонажами из устной традиции? Где проходит граница между героями сказок, легенд или былин и божествами с собственным культом?
Основываясь на последних исследованиях, включающих анализ текстов, этимологические сравнения, археологические находки [3] и открытия ученых, представляющих различные дисциплины, мы можем по-новому поставить вопрос о существовании этой мифологии – забытой или имплицитной.
Возникает третья гипотеза. Можно констатировать, что еще в XIX веке чувство религиозного, божественного, то есть магического, охватывало всю повседневную или наблюдаемую действительность, привычную крестьянину, будь то природа и животные, продукты человеческой деятельности, благоприятные и неблагоприятные события. Поэтому справедливо будет говорить о мифологическом мире, который, хотя и размытый, охватывает все проявления жизни, социальной и индивидуальной, свидетельствуя о связи – явной или подспудной, но присутствующей – со сверхъестественными силами. В этом и состоит главное доказательство его существования [4].
Мы приходим к выводу, что вопрос мифологических концепций у славян сложен и имеет комплексный характер. О внутренних факторах, влияющих на него, мы уже поговорили – обратимся теперь к внешним.
В первую очередь следует упомянуть условия – географические, климатические, исторические, средовые, – определившие судьбы этих стран. Территориальная дисперсия славянских народов вообще и восточных славян в особенности стоит среди них на первом месте. Восточные славяне занимали огромные, слабо населенные территории с небольшим количеством непреодолимых природных барьеров и потому удобные для переселений и вторжений. В большей мере это относится к югу, краю степей, чем к северу с его суровым климатом и лесными массивами, долгое время остававшимися непроходимыми. На юге и юго-востоке, преимущественно под внешними влияниями, успешно формировались выдающиеся цивилизации, которые, к сожалению, так же легко исчезали, в то время как север и восток, покрытые лесами и слабо населенные менее цивилизованными племенами, позволяли восточным славянам укрываться в сложные исторические периоды. В двух этих случаях автохтонные влияния были принципиально разными. В результате, по контрасту с южными цивилизациями, обладавшими государственностью и сформированной мифологией «высшего порядка» (которая могла быть забыта), на севере мы встречаем конгломерат племен, у которых царят демонология, культ мертвых и поклонение природе, а мифологическая мысль, хотя и не сформулированная, присутствует повсюду.
Есть и другая сложность, вытекающая из предыдущей. Она обусловлена комплексом имеющихся у нас данных о различных стадиях экономического развития: аграрная экономика, достаточно древняя на юге, но часто осложняемая войнами, вторжениями и нападениями разбойников; смешанная экономика, включающая охоту и примитивное сельское хозяйство, на севере. Этот фактор усиливает разницу между ментальными репрезентациями, с которыми мы имеем дело. Наконец, многочисленные этнические и религиозные влияния ставят под вопрос сами термины «славянин» и «русский» [5]. В ходе истории русские контактировали со многими неславянскими этносами (особенно финно-угорскими), которые ими в основном ассимилировались, а также с восточными государствами, с которыми они сражались. Эти популяции, колонизированные и принявшие крещение, в ответ повлияли на русских. Этот фактор необходимо принимать в расчет, как сделал в свое время Зеленин. Более того, сам термин «русский» приобрел свой современный смысл не ранее XVIII века.
Потому не стоит удивляться, что мы сталкиваемся с очень пестрой и порой противоречивой картиной, не позволяющей сформировать не то что однородную, но хотя бы более-менее цельную систему.
Итак, культурный материал – русский и, в более широком смысле, славянский – представляется разрозненным, плохо датированным и неточным, но его большим достоинством является то, что содержащиеся в нем данные восходят к более древним стадиям развития человечества, чем соответствующий западный материал, и потому позволяют делать уникальные сопоставления и выводы.
Хотя это и очевидно, уточним: тема, интересующая нас в данном случае, это не православие византийского происхождения и совершенно точно не католицизм. Эти официальные религии, безусловно, сыграли важнейшую роль в формировании государственности, однако они интересуют нас здесь лишь в той мере, в которой им удалось повлиять на народные верования. Мы будем придерживаться последних.
Разнородность материалов не позволила представить данное исследование в наглядной форме словаря – в чем заключался наш изначальный замысел, – потому что одно понятие, ритуальное или культурное, могло приобретать, в зависимости от региона, периода или этноса, совершенно разные значения. Чтобы не множить статьи и отсылки (которые остались бы мертвой буквой для нерусскоязычного читателя, а порой и для русскоязычного тоже), мы предпочли сгруппировать материал по теме, под наиболее популярным и обобщающим названием (указав в первом абзаце его самые распространенные значения). Алфавитный указатель призван компенсировать такую неудобочитаемость (по сравнению со словарем).
Приведя в начале основные определения, мы перейдем к судьбам языческих божеств до XIII века; затем рассмотрим широко распространенный культ мертвых и природы, а также демонологию, сохранявшиеся в крестьянской среде еще в XIX веке. Мы прибегнем к фольклорным данным, поскольку фольклор имеет – с этим согласны все специалисты – выраженную мифологическую коннотацию. Мы приведем краткие сведения о хранителях древних культов – ведьмах и колдунах, – коснемся народной христианской мифологии и, наконец, обратим внимание на некоторые внешние влияния, которые могут казаться забытыми, в частности финно-угорское.
Уточним, что исследование проводилось на русском и восточнославянском материале. Данные по другим славянским (иногда румынским) и финно-угорским этносам приводятся лишь в качестве примера. В целом это исследование не претендует – даже относительно России – на всеобъемлющий характер и является лишь некоторым введением в предмет.
Следует отметить, что в самих славянских странах область обрядов и верований, равно как и мифологии, не является terra incognita. Во второй половине XIX века на эту тему было написано немало исследований, что подтверждает приведенная в конце книги библиография. В их числе нельзя обойти вниманием средневековые летописи, масштабный основополагающий труд А. Н. Афанасьева, книгу чешского ученого Л. Нидерле, этнографические исследования Д. К. Зеленина, работы и энциклопедию С. А. Токарева, труды В. Я. Проппа и Б. А. Рыбакова, словарь «Славянских древностей» [6] в нескольких томах и т. д. Следует также упомянуть работы некоторых германистов и итальянского ученого Э. Гаспарини.
Во Франции значительных результатов добились Жорж Дюмезиль и Луи Леже (первая половина ХХ века), оба выдающиеся филологи. Однако они опирались на письменные средневековые источники, почти полностью игнорируя все прочие. Несмотря на значительную эрудицию, эти ограничения зачастую компрометируют их выводы.
В настоящее время ведутся дискуссии о взаимных влияниях между христианской религией – доминантной, но установившейся достаточно поздно, – и пережитками более древних верований, которые с ней сосуществовали. Нет ничего удивительного в том, что Зеленин, этнолог, рассуждает о мифологии имплицитной, Рыбаков, археолог, о мифологии забытой, а Пропп, фольклорист, о мифологическом аспекте фольклора, в то время как более поздние авторы ставят на первое место мифологию индоевропейскую, а за ней – народную христианскую.
I. Определения и происхождение
Если объяснять сам термин «мифология», то и слово «русский» тоже заслуживает определения. Можно ли говорить о «русской» мифологии до XVIII века? Если да, то в каком смысле? Слово «славянская» также нуждается в толковании. Для этого нам придется, хотя бы ненадолго, погрузиться в историю.
Люди населяли территорию Центральной и Восточной Европы со времен палеолита. Доказательством тому служат палеолитические Венеры с Костёнковской стоянки близ Воронежа. Известно о существовании археологических культур, датируемых II–I тысячелетием до н. э. Скифы возникли между VIII и III веками до н. э. в междуречье Волги и Днестра.
В I веке до н. э. римляне завладели Босфором. С III века н. э. готы, гунны, булгары, хазары, печенеги сменяли друг друга, проносясь через степи и изгоняя тех, кто прошел там до них. Часть булгар ушла к Дунаю, другая – к Волге. Хазары сформировали в VII веке мощное государство в Нижнем Поволжье.
О славянах в прямом смысле можно говорить начиная с VI–VII веков н. э. Историки Античности называют их вендами и антами. По данным римских историков, венды занимали территорию между Вислой и Балтийским морем (впоследствии они станут западными, или балтийскими, славянами). Византийские историки VI века отличают их от антов, которых называют восточными славянами: о них пишут, что они селились от среднего течения Днестра и Днепра до побережья Черного моря. Экономика восточных славян основывалась на охоте и сельском хозяйстве. Они были отличными воинами и, как кельты на Рим, совершали набеги на Византию; занимались коммерцией и работорговлей.
Под предводительством булгар, а позднее авар, южные славяне разграбляли Балканы, а около 580 года расселились там и эллинизировались. Булгары, ставшие болгарами, около 679 года расселились к югу от Дуная, установив владычество над славянами Фракии и Македонии, а потом сами подверглись славянизации. Сербы, хорваты и словене в конце VI века оккупировали Паннонию и продвинулись вплоть до морского побережья, ассимилировав романизированные народы Иллирии.
Западные славяне обосновались к северу от Дуная. В Х веке они создали государства Богемия и Польша. Восточные славяне боролись с германцами, которые постепенно перенимали у них приметы цивилизации. Мадьяры, представители финно-угорской языковой группы, владычествовали над словаками и хорватами. Чуть дальше на восток славяне, занимавшие территорию древней Дакии, были романизированы, и впоследствии их земли стали частью румынского государства.
Западные славяне (балтийские славяне, или балты) крестились достаточно рано (около VI века), южные – чуть позднее, а восточные – позже всех (в конце Х века) и в греко-византийской традиции.
Восточные славяне (которых преимущественно и касается наше исследование) в IX веке занимали долины рек Дона и Днепра, где жили разобщенными племенами и нередко враждовали между собой. Пока еще язычники, они не имели единой религии. Их боги зачастую были – по крайней мере, что касается названий – иранского происхождения. Они насыпали курганы; проводили религиозные обряды под открытым небом и практиковали жертвоприношения (включая человеческие); наконец, у них были свои предсказатели (волхвы).
Карта Руси до монголо-татарского ига (IX–XIII в.)
В средневековых хрониках (уже после крещения) их одинаково называют «росы». Постепенно (к XII веку) этот термин обретает этническую, лингвистическую и религиозную самостоятельность, обозначая широкую этническую группу восточных славян, которые говорили на одном языке, придерживались одного направления христианства, воевали с общими врагами и пришли с востока. У них не было централизованного государства – только множество раздробленных княжеств, главным из которых считалось Киевское. К нему можно добавить также богатую и сильную Новгородскую республику. Отсутствием общей армии объясняется быстрое падение этого народа под натиском монголов в XV веке. Еще до монголо-татарского нашествия его территорию начали называть Русью.
Среди влияний, особенно сказавшихся на его цивилизационном развитии, следует выделить греческое (византийское), начавшееся с соперничества и вражды, которое тем не менее принесло немалый прогресс с принятием христианства как официальной религии. Варяжское (скандинавское) имело прежде всего политическую важность, поскольку первыми князьями становились варяжские полководцы. Не такие многочисленные, варяги быстро славянизировались. Им приписывают происхождение некоторых имен (Олег, Ольга и т. д.), некоторых обычаев и, возможно, культа бога Перуна.
Начиная с XII века восточные славяне продвигались на север, теснимые кочевниками. Север и восток представляли собой большую лесистую территорию, населенную автохтонными рассеянными финно-угорскими племенами, не имевшими общей государственности и придерживавшимися анимистических верований. Эти племена поддерживали связи с поволжскими княжествами и испытывали иранское влияние. Постепенно они интегрировались в будущее российское государство (между XIV и XVII веками), перешли в христианство, но внедрили в него значимые языческие элементы. Они верили в многочисленных духов природы и леса, а также практиковали культ мертвых.
Эти разнородные влияния сказывались на искусствах, ремеслах, обычаях и религии/религиях. Доминирующая культура пришла с юга, но анимистические представления сохранялись и укреплялись с продвижением восточных славян на север. Так возникла система разрозненных религиозных культов, не связанных между собой и даже противоречащих друг другу. Православие одновременно вытесняло и впитывало религии, предшествовавшие ему. По крайней мере до XV века новая система верований позволяла существовать также понятиям, образам, традициям и обрядам, связанным с дохристианскими культами и другими религиозными системами.
Начиная с XV–XVI веков (после монголо-татарского ига) восточные славяне разделились на три ветви: росы (или великороссы), украинцы (или малороссы), белорусы. С этого момента можно говорить о Руси/России в современном смысле слова.
Те же культурные тенденции прослеживались у западных и южных славян. У них также доминировали народная культура и религия с их демонологией, культом мертвых и природы, пусть и под маской христианства, которое они приняли раньше своих восточных собратьев. У них прослеживались и культы языческих богов, скорее всего заимствованные и быстро забывавшиеся.
Тем не менее с точки зрения истории и археологии славянское язычество не было единым нераздельным монолитом. Опираясь на данные хроник и так называемого «Слова об идолах» XII века, археолог Рыбаков смог установить, что язычество прошло через несколько стадий, первой из которых был культ упырей и колдуний. Вторая, под средиземноморским влиянием, состояла из пиров в честь богов плодородия (Род и рожаницы); третьей стал культ Перуна, бога варяжского происхождения, восходящего к иранским корням. Четвертой был переход к христианству с сохранением некоторых местных верований.
Наше исследование касается, соответственно, мира восточных славян [1]. Тем не менее, если позволяют источники и тексты упоминают данных богов, информация о пантеоне и культах западных и южных славян будет приводиться тоже. То же самое касается даже автохтонных финно-угорских племен, интегрированных в Российскую Империю (с XVII века), а затем в Российскую Федерацию и по сей день (ошибочно) исключаемых из анализа верований и культов этой гигантской территории.
II. Языческие боги и культы с X по XIII век
Языческие боги и культы древних славян известны мало – причины тому мы указали во введении. Но есть одна, на которой мы не сделали достаточного акцента. Славянские народы опирались преимущественно на устную традицию. Письменность у них возникла с приходом христианства (она появляется в конце Х века, запоздало по сравнению с западными славянами) [1]. Все хроники восточных славян (на Руси) написаны на древнерусском [2], западных – на латыни. Это письменные языки, недоступные простым людям и создававшиеся в первую очередь с целью распространения религии. Хроники и Слова, переводы с греческого, мало упоминают о язычестве, к которому настроены враждебно, как к главному сопернику. Народное творчество, лишенное письменности, передавалось, соответственно, лишь устно. Более того, сами его создатели не планировали передавать его каким-либо иным способом, кроме устного. Иными словами, с ограничениями с обеих сторон, пропасть была непреодолимой.
Долгое время ученые могли получать сведения о славянском языческом пантеоне, божествах, его населявших, и религиозных практиках только по хроникам и Словам [3].
Идол Макоши, русская народная вышивка (конец XIX в.)
В настоящее время мы располагаем более широким спектром источников. Фольклорные и этнографические документы, обнаруживаемые с конца XVIII века, а также недавние находки в сфере этимологии и, что гораздо важнее, археологии отчасти помогают восполнить пробелы. Новые источники позволяют проводить параллели и делать сравнения. Но пустоты остаются – и будут оставаться.
Духовная культура древних славян отличается богатой демонологией, разработанным культом мертвых и предков, обрядовыми празднествами, а также многочисленными магическими практиками и предрассудками. В хрониках упоминаются некоторые верховные божества, хотя и слабо представленные. В основном они заимствованные; славянский Олимп уступает в развитости не только античным (включая персидский), но даже «варварским», например кельтскому и германскому.
Восточные славяне («росы») выделяются как этнос только между IV–VI веками. Формирование феодальных княжеств начинается у них с приходом варягов [4], как они называют викингов. В IX веке последние доходят до самого Константинополя и захватывают речные пути Западной Двины и Днепра. Не такие многочисленные, но мобильные и хорошо вооруженные, они не встречают организованного сопротивления (на уровне государств) и быстро колонизируют приречные территории. Они основывают династию русских князей (первого из них, новгородского, зовут Рюрик [5]). Соответственно, Русью до монголов правят варяги. Они приносят с собой некоторые традиции, некоторых богов (Перуна), но из-за своей малочисленности быстро оказываются ассимилированы. Таким образом, их важность лежит в первую очередь в сфере политики.
В сфере религии же восточные славяне остаются язычниками с разнородным пантеоном. Киевский князь Владимир (впоследствии Великий, Святой и Красно Солнышко) вводит на Руси христианство, по утверждению «Летописи Нестора» [6], совершив настоящий переворот.
В 980 году он утвердил, под влиянием отчасти варяжским, отчасти иранским, культ шести языческих божеств с Перуном во главе. В Киеве на холме за пределами княжеского дворца были установлены их идолы.
Но в 988 году Владимир решил, что религию придется сменить: по политическим причинам и следуя примеру бабки, княгини Ольги, он выбрал греко-византийское христианство, тем самым заключив союз с Константинополем. Аргументы, упоминаемые летописцем, современному читателю покажутся смехотворными: греко-византийское христианство победило в соревнованиях магометанство, поскольку на Руси «есть веселие пити», и романскую традицию из-за излишнего упора «на посты и апостола Петра». Таким образом, в Киеве одна за другой, с промежутком всего восемь лет, были проведены две государственные религиозные реформы. Официальный культ Перуна и других языческих богов просуществовал недолго – в 988 году идолов сожгли или сбросили в реку, а на их месте была построена церковь. Не заметить в реформах Владимира оппортунистский аспект попросту невозможно.
Балтийские славяне описаны – на латыни – германскими хронистами (Гельмольд, Герборд, Саксон Грамматик) в XI и XII веках. В противовес остальным славянам (и, вероятно, в результате германского влияния), у них были церкви и священники. Церкви строились из дерева, обычно на холмах, в священных рощах или близ источников воды; их окружала крепостная стена с воротами. Реконструкции показали, что изнутри они разделялись на две части: вход и святилище, отделенные друг от друга завесами, которые крепились к колоннам и ниспадали до земли. За этими завесами находился главный идол, окруженный остальными, поменьше; идолы были из раскрашенного дерева и в правдоподобно изображенных латах (из золота, серебра и кожи). Главный идол порой достигал внушительных размеров (например, в Арконе – более двух метров высотой). Священники играли в обществе важную роль.
Относительно языческих культов южных славян информация крайне скудна. Не исключено даже, что у них не было никакого официального пантеона – даже временного – вплоть до принятия христианства.
С учетом неточности данных относительно религиозного языческого прошлого славян историки, археологи, лингвисты, мифологи и прочие вынуждены проводить свои исследования на ограниченном материале, зачастую руководствуясь собственными убеждениями. Поэтому одни выдвигают на передний план народную культуру, другие – индоевропейское иранское влияние, третьи – влияние греко-византийское (впоследствии христианское), финно-угорское и т. п. Так возникают разнящиеся интерпретации – порой даже конфликтующие между собой. В этом смысле мы ходим по территории более опасной, чем может показаться стороннему наблюдателю. Далекие от всяческого прозелитизма, мы постараемся осветить далее разные точки зрения.
1. Божества
Бог
Бог стал верховным божеством официальной христианской религии, но этим же термином обозначали и его предшественников до принятия христианства. Само слово – иранского происхождения; этимологические словари возводят его к древнему иранскому bhagas, означающему «удача», «счастье», или bhažai – «провидец», по Фасмеру.
Этот корень входит во многие имена славянских языческих богов, предположительно тоже имеющих иранское происхождение (Дажьбог, Стрибог), а также в пару Белобог/Чернобог. Любопытно, что, несмотря на переход славян в христианство, для обозначения верховного христианского божества продолжали использовать слово не греко-латинского, а иранского происхождения.
Во многих простонародных русских выражениях слово «бог» сохраняет свой древний смысл, «счастье» или «удача». Например: «Иди с богом!» («Удачи, доброй дороги!») или «Счастлив твой бог!» («Повезло тебе!») и т. п.
После крещения в православие Бог стал верховным божеством, создателем неба и земли, именуемым чаще Господь Бог, а не просто Бог, и осуществляющим карающую функцию. Вопрос значения и использования слова «бог» является, соответственно, комплексным, и при его рассмотрении необходимо учитывать политические интересы и ситуацию, в которой оказалось еще слабое «русское» государство, вынужденное существовать между двух влиятельных соседей (Персии с одной стороны, Византии – с другой) [7].
Таким образом, как слово и сущность Бог существовал и до христианизации, но с другими атрибутами и смыслами, чем христианское божество. В частности, Бог, унаследованный из древних религий, не занимался наказаниями: молний он не метал. Существуют два письменных свидетельства, одно из которых принадлежит перу византийского историка Прокопия Кесарийского (VI век), утверждающих: «Славяне и анты полагают, что один из богов, громовержец, есть верховный создатель» [8]. Ему не придается никакого имени, но мы знаем из других источников, что громовержцем у славян был не Бог, а Перун. Другое указание, более точное, дает германский хронист Гельмольд (XII век). Гельмольд приводит описание Бога: это верховное небесное божество, удалившееся в горние выси, которое «занимается лишь делами небесными». Он пассивен, не интересуется людьми, а функцию управления миром перекладывает на своих потомков. Это deus deorum («бог богов»), не поддерживающий связи с земным миром. Его трудно соотнести с индоевропейским верховным божеством вроде Зевса/Юпитера, могущественным и активным, мечущим молнии (как Перун), или с библейским Богом, обрушивающим на людей свой гнев. Такой праздный бог существует у финно-угорских народов бассейна Волги.
Белобог (белый бог), Чернобог (черный бог)
В мифологии восточных славян Белобог – бог удачи. Его имя реконструируется на основании топонимии горы Белый Бог (бог дня) в славянской Лужице, а также священных рощ других славян. Это было доброе божество – податель земных благ.
Напротив, Черный Бог (бог ночи) ассоциировался с опасностью и тьмой. У него тоже есть гора, носящая его имя. У балтийских славян он назывался Чернобогом. Эти два божества существовали также у кашубов [9]. В «Хронике» Гельмольда при описаниях «доброго» и «злого» богов даются указания на их фигуры соответственно. О них упоминали на пирах, где славяне, передавая друг другу полную чашу, пили и произносили заклинания в честь «доброго бога» и «злого бога». Здесь прослеживаются рудименты дуалистической концепции мира, которая сохранится в Средневековье, выразившись в другом противопоставлении – Бога и Сатаны.
Мокошь/Макошь
Это единственное женское божество языческого древнерусского пантеона князя Владимира. Ее идол стоял на холме в Киеве рядом с идолами Перуна и других богов. Ей продолжали поклоняться вплоть до XIX века. На севере России (преимущественно на приграничных территориях) Макошь изображали как женщину с непропорционально большими руками, ладонями и головой. По легенде, она ночами прокрадывалась в избы, заканчивала работу за ленивых хозяек и наказывала их. Ее имя на русском может быть связано с понятием «сырость». Она близка к античным мойрам, которые плели нити судьбы. Возможно, она считалась женой Перуна; у балтийских славян их имена часто упоминаются вместе.
Следы культа Макоши в России прослеживаются в XIV–XVI веках; в рукописи XIV века упоминается тайный культ, которому следовали женщины, включая представительниц княжеских семейств. В одном катехизисе XVI века перечисляются вопросы, которые следовало задавать женщинам на исповеди: «Молилась ли ты вилам и Макоши? Ходила ли к Макоши?» (Под этим надо понимать: «Посещала ли ты идола Макоши?») Она считалась богиней льнопрядения и, вероятно, послужила прообразом богини плодородия. В некоторых случаях ее ставили в пару с другим женским божеством.
В народной христианской мифологии ее сменила фигура Прасковьи/Пятницы. Пятницу изображали как женщину с длинными волосами изо льна. Ей делали подношения (бросали в колодцы пряжу).
Перун
Перун – бог бури (и грома). Культ Перуна, существовавший у всех славян, восходит к культу бога-громовержца индоевропейской мифологии и имеет много схожих черт с Перкунасом балтов. В белорусской традиции гром называют перуном. Бог-громовержец одновременно являлся и богом войны. Его изображали мужчиной зрелого возраста; в описании Киевской Руси из «Повести» его идол из дерева венчался головой из серебра с золотыми усами. Главным оружием Перуна были «громовые камни» [10] и топоры (и то и другое – предметы культа). Символом Перуна являлась также цепь. Этому богу служили на возвышениях – холмах и утесах, где в его честь воздвигали идолов и жертвенники. У балтийских славян ему посвящался четвертый день недели (четверг).
Что касается влияния этого бога, мнения специалистов расходятся. Широкие дискуссии вызывает уже процитированное высказывание Прокопия Кесарийского («Война с готами», VI век): «Славяне и анты полагают, что один из богов, громовержец, есть верховный создатель». За этот титул соревнуются три мужских божества: Перун, Бог и Род. Единственный из них, кто мечет молнии, это, естественно, Перун. Но его главенство оспаривается.
Для некоторых авторов, следующих за Афанасьевым с его склонностью к реконструкции индоевропейской мифологии, миф о Перуне звучит так: Перун, приняв образ всадника на лошади или на колеснице, побеждает дракона, которому в фольклоре соответствует Волос. Этой победой он освобождает воды (скот, женщину) и дарует земле дожди. Отсюда происходит миф о природе грома и дождя.
Для Рыбакова, опирающегося на «Слово об идолах» и на два отрывка из «Повести временных лет», Перун входит в пантеон основных языческих богов, но не выделяется среди них. Только с языческой реформой древнерусского пантеона, в 980 году, он выдвигается на первое место. При крещении Руси в 988 году всех остальных идолов сжигают, но Перуну отводится другая участь – его идола сбрасывают в Днепр. Повышенное внимание княжеского окружения к Перуну не вызывает сомнения. Историк и фольклорист Аничков первым показал, что «культ Перуна был преимущественно культом князей и дружины, культом Игоревичей». Потомки Игоря, как сам Игорь, были варягами. Это может указывать, что, если Перун действительно был индоевропейским богом, он не мог являться богом славянским, а имел скандинавское происхождение. Сюда можно добавить более чем спокойное отношение представителей православной церкви к этому божеству: его культ их беспокоил меньше всего. Автор «Слова об идолах» (XII век) называет его связующим звеном между язычеством и христианством в Киевской Руси. На Збручском идоле XI века бог-воитель изображен на боковой, а не на основной поверхности. Культ Перуна довольно легко был забыт.
Известно, что церкви у славян, как и на западе, строили на местах бывших языческих святилищ, посвященных в первую очередь Перуну. В XVII веке воспоминания об этом божестве продолжали жить: так, путешественник и географ Адам Олеарий, посещавший тогда Московию, пишет, что в 1645 году новгородцы построили монастырь на месте, где когда-то нашли идола этого бога. По его словам, там продолжали поддерживать вечный огонь в его честь: если хранитель давал огню погаснуть, его казнили.
Пророк Илья – праздник 20 июля[2] – перенял в народной христианской мифологии атрибуты Перуна: во время бури он мчался по небу на огненной колеснице и метал молнии. Гром, соответственно, издавала его колесница. Однако пророк Илья не стал эквивалентом верховного божества. Одна из фигур Божьей Матери (Богородицы), Мария Огненная, тоже могла метать молнии.
Вопрос верховного божества остается открытым (если не считать официальной религии, оставляющей эту функцию Богу и еще чаще – Господу Богу).
Хорс Дажьбог, Симаргл, Стрибог, Сварог
Первые трое являются языческими божествами, идолы которых Владимир поставил рядом с идолами Перуна и Макоши.
Хорс Дажьбог
Хорс Дажьбог – двойное имя.
«Хорс» не является славянским именем. Неточно ассимилировав незнакомый им термин, русские летописцы превратили его в «Гурса» или «Гурка». Хорса иногда называли «жидовином», что в контексте эпохи означало «иностранец» или «еретик». Иранское происхождение его имени можно считать доказанным: в Персии существовали божество, именуемое так же (в переводе «сияющее солнце»), и местность под названием Хорезм (Kharazma) – «солнечный край». Это лишний раз подтверждает, что Киев находился под сильным иранским влиянием. Известно, что киевские дружинники-варяги торговали с жителями Азовских степей и сражались с ними. Присутствие Хорса в языческом пантеоне Владимира можно объяснить политической стратегией.
Дажьбог являлся славянским двойником Хорса. Основываясь на его этимологии, хотя и недоказанной, можно заключить, что это был бог удачи; в Ипатьевской летописи [11] он назван также «богом солнца». Редкие упоминания об этом боге встречаются в украинских песнях; если верить «Слову о полку Игореве», он считался покровителем и прародителем жителей Киевского княжества: они называли себя «внуками Дажьбога».
Симаргл
Симаргл, включенный в пантеон Владимира, не имел никаких русских или славянских корней. Его происхождение было исключительно иранским: прототипом Симаргла являлся Сэнмурв, крылатый пес, ставший государственным символом Персии. В этом опять-таки следует усмотреть проявление дипломатии Владимира в адрес влиятельных соседей. Языческий пантеон Владимира мало отражал реальные верования его соотечественников.
Стрибог
Стрибог упоминается в «Слове о полку Игореве»: венды там называются «внуками Стрибога». Вероятно, Стрибог считался богом ветра. На спорных этимологических основаниях в Стрибоге склонны видеть также «бога-отца» и «подателя всех благ».
Сварог
Бог Сварог не входил в пантеон Владимира и не упоминался в хрониках. Но в проповеди, ниспровергающей языческие культы, было сказано: «Они [язычники] перерезают горло курам и поклоняются огню, называя себя “внуками Сварога”». С другой стороны, Дажьбога называли «царем огня, сыном Сварога». Других проявлений культа Сварога не прослеживается, но поклонение огню действительно имело место. Можно подумать, что этому богу, навязанному сверху, не хватило времени, чтобы его начали ассоциировать с народными ритуалами огнепоклонства, потому что его слишком быстро свергли.
Из вышесказанного следует вывод, что первые религиозные реформы Владимира были проникнуты оппортунизмом, спровоцированным сильными иностранными влияниями, и остались поверхностными.
Волос (Велес), бог скота (богатства)
Волос упоминается в «Повести временных лет», но стоит в стороне от остальных богов языческого пантеона Владимира. Тем не менее он имел важное значение: в Киеве его идол располагался не на холме, вместе с Перуном и другими богами, но внизу, около реки, как бы противопоставленный им. Это позволяет сделать два вывода: либо ему поклонялось простонародье (в отличие от Перуна, которому поклонялись люди богатые), либо он считался правителем потустороннего мира.
Волосу, особенно почитаемому на севере России, поставили каменного идола в Новгороде; еще один стоял в городе Владимире, у реки, где позднее был основан монастырь – практически в его честь. В Киеве идола Волоса в 988 году сожгли вместе с остальным языческим пантеоном по приказу князя Владимира.
Древнерусские источники называют его «богом скота», что в контексте той эпохи означало также богатство. Он покровительствовал обработке шерсти и шкур, предметам особенно прибыльной торговли (в первую очередь с соседними государствами на востоке). Он также, вероятно, считался покровителем поэтов и певцов (по крайней мере, в «Слове о полку Игореве» Боян назван «внуком Велеса»). Некоторые авторы, пожалуй, чересчур поспешно, ассоциировали его с Аполлоном.
В народной христианской мифологии XIX века он стал Власием, покровителем скота, дарующим процветание. День Власия стали именовать также днем коровы (или быка). По этому случаю у святого просили благополучия для рогатого скота. В случае падежа скотины в ходе ритуала опахивания впереди обычно несли икону святого Власия.
Предполагают также, что в религиях Центральной России (на Волге), среди потомков финно-угров, олицетворением Волоса считался медведь, царь зверей и символ богатства и процветания. В XIX веке в хлевах вешали обереги в форме медвежьих голов или лап. На одной иконе Власия изображено странное существо с головой медведя. Встречаются также упоминания о том, что Волоса изображали в виде змеи.
Род и рожаницы
Относятся к самым малоизученным славянским божествам, в частности, из-за открытой враждебности к ним со стороны официальной религии, а также по причине их «упущения», намеренного или нет, большинством исследователей. Такое двойное отторжение может указывать на то, что здесь имелась важная мифологическая система.
Род
Большинство учебников и словарей по мифологии, включая современные, игнорируют эту фигуру. Тем не менее некоторые авторы, например Афанасьев и Н. М. Гальковский, обращались к нему в XIX веке, ставя Рода в ряд с божествами второго порядка, вроде духов предков. Для археолога Рыбакова он был, наоборот, одним из центральных.
Первое письменное упоминание о Роде встречается в «Слове об идолах» (начало XII века). Род фигурирует там как главное божество славян, предшествовавшее Перуну. В средиземноморских культах его можно ассоциировать с Озирисом, Баалом и Артемидой.
Второе упоминание о Роде содержится в «Слове Исайи-пророка» (середина XII века). Эта проповедь яростно осуждает поклонение Роду и рожаницам. Суровость тона подтверждает важность культа Рода, который ставится на тот же уровень, что и христианский Бог. Речь идет о боге плодородия, который умер и воскрес.
Третий документ – комментарий к Евангелию, датируемый XV – началом XVI века. Род там сравнивается с создателем: «То ти не Род седя на воздусе мечет на землю груды и в том ражаются дети <…> Всем бо есть Творец Бог, а не Род», – возмущается толкователь.
Важность в славянских языках индоевропейского корня «род», используемого для обозначения в первую очередь родов, а затем рода, или клана, но также входящего в самые разные существительные, означающие рост и благополучие (например, родина, народ, урожай и т. д.), не вызывает сомнений. Но, основываясь на этом, Рода можно поставить в один ряд с клановыми божествами (хотя тогда становится непонятно, почему авторы церковных текстов с такой яростью набрасывались на столь незначительную фигуру) либо возвысить его до бога плодородия в более широком смысле («Прародителя»). Вопрос остается открытым. Как бы то ни было, если Род – верховный творец, он не может быть громовержцем (и собственно Богом).
Рожаницы
Женский термин с использованием того же корня (с чередованием д/ж) со временем стал использоваться и в единственном числе, рожаница, то есть женщина, рожающая ребенка. В древнерусских текстах его обычно используют по отношению к паре [12] богинь: двум Прародительницам. Рыбаков связывает их с разными архаичными мифами: двумя прародительницами-оленихами у охотничьих народов; двумя богинями с четырьмя грудями, изображенными на вазах эпохи Триполья; двумя богинями, матерью и дочерью, из греческой мифологии (Деметрой и Персефоной), хотя между ними и нельзя установить прямой связи. Эта пара женщин часто возникает в деревянной скульптуре (идол с Рыбачьего острова, Балтика) и изображается на народных вышивках, русских и карельских [13]. Культ двоих рожаниц, матери и дочери, кажется более древним, чем культ Рода, пришедший ему на смену.
Культ Рода исчез быстрее культа рожаниц, еще существовавшего в XIV веке и неизменно будившего гнев у официальной церкви. В его честь устраивались пиры и празднества, открытые для всех. Христианские проповедники неустанно их критиковали, что только подчеркивало важность таких мероприятий. Вплоть до XVIII века можно обнаружить тексты проповедей, запрещавших языческие культы и, в частности, возмущавшихся тем фактом, что «женщины варят кашу для пиров [в честь] рожаниц».
В проповеди о сотворении мира, датируемой XII–XIII веками, автор провозглашает, что главнейшими грехами, по его мнению, являются: идолопоклонство, посещение злачных мест, питие и празднества в честь рожаниц. Митрополит [14] Нифонт восклицает: «Горе тем, кто пьет в честь рожаниц!» Есть даже описание – невольное – этих праздников в XIV веке: «Они украшают стол овсяными хлебами и сырами и наполняют кубки пахучим вином [водкой?], едят и пьют».
Этнографические данные, относящиеся к XIX веку, свидетельствуют, что, хотя название «рожаницы» и исчезло, долгое время продолжали устраиваться праздники 26 декабря, на следующий день после Рождества Христова, – так называемые «каши знахарок».
Ругевит
Ругевит – бог балтийских славян. В храме в Коренице на юге острова Юрген стоял его главный идол; это был бог войны, которого летописцы ассоциировали с Марсом. Его атрибут – семь мечей, которые он носил за поясом; восьмой, обнаженный, он держал в правой руке. Его идолов делали семиликими.
Свентовит/Святовит
Связанный с войной и победами, он был верховным богом балтийских славян. Его атрибутами являлись меч и знамя. Квадратный храм с четырьмя колоннами в Арконе (остров Рюген) считается его главным святилищем. Высота его идола из дерева составляла больше двух метров, у него было четыре головы – как четыре колонны храма, расположенные по четырем сторонам света [15]. Это был солнечный культ.
Храм был построен из резного дерева и окрашен пурпуром. Там хранились знамена, оружие и другие ценности. Судя по реконструкции, к храму прилегали конюшни для священных коней, жилища священников и хранилища для трофеев и подношений.
В храме Свентовиту поклонялись через ритуал с белым священным конем: если утром на нем находили пятно грязи, считалось, что Свентовит провел ночь в бою с врагами. Теперь этого коня можно было использовать как оракула, для предсказания будущего. Перед ним в землю в три ряда втыкали копья; если он, чтобы пройти под ними, поднимал сначала левую ногу, пророчество было несчастливым, если правую – счастливым. Ответы оракула Свентовита почитались как святыня.
Рядом с храмом стояли три контины [16], со столами и скамьями вдоль стен. Там проходили общие празднества и пиры. Свентовиту посвящались ежегодные жертвоприношения животных с последующими застольями. В 1169 году храм разрушил датский принц Вальдемар.
Триглав
У балтийских славян – бог с тремя головами (как можно догадаться по имени). По мнению германских хронистов, эти три головы символизировали три царства: небесное, земное и подземное. Бога Триглава связывали с лунной символикой. В Щецине, на самом высоком из трех холмов святилища, стоял его идол. Как и идол Свентовита, он служил для поклонения. Его коня, на этот раз вороного, с повязкой на глазах проводили через семь копий. Как в честь Свентовита, в его честь проводили праздники с жертвоприношениями.
У южных славян такой же идол назывался Трояном: одна его голова поедала людей, вторая – скот, третья – рыб. Троян скрывался от дневного света и перемещался по земле только по ночам (указание на его связь с культом Луны?).
2. Культы
Волхвы
Древнерусские летописцы часто упоминают друидов, предсказателей и колдунов, называемых волхвами, – хранителей священных знаний, знатоков секретов природы, провидцев будущего, которые служат посредниками между божественными силами и людьми.
С учетом фрагментарного характера источников их точную функцию можно лишь предположить. По мнению археологов, это были ученые того времени (и предшествовавших эпох), которые могли сыграть ведущую роль в составлении календарей (см. календарь на глине IV века Черняховской культуры на территории нынешней Украины). Найденные археологами глиняные кубки из далеко дохристианских времен со сложными орнаментами (особенно у словенов) также свидетельствуют о последовательной передаче знаний и навыков. Волхвам приписывалась способность разгонять облака, предотвращать своими заклинаниями засуху, ускорять рост зерновых, то есть влиять на климат; они толковали знаки, предсказывали будущее и отвечали за амулеты и орнаменты, задачей которых было защищать племя от катастроф или проклятий. Многочисленные пряжки и прочие предметы, найденные в захоронениях, украшались космогоническими композициями, секреты которых знали волхвы.
Первое упоминание волхвов в хрониках относится к 912 году. Знаменитый эпизод смерти вещего Олега [17] знает каждый школьник; вот его краткое изложение:
Языческий князь Олег, варяжского происхождения, восходит на трон Киевского княжества; он спрашивает волхва, какова будет его смерть. Волхв отвечает: «Причиной твоей смерти станет твой конь!» Осторожный (не зря его считают мудрым!) Олег требует увести коня подальше и вскоре узнает о его смерти. Возликовав, князь садится на другого коня и едет посмотреть на останки старого друга, похваляясь [чего ни в коем случае нельзя делать в русском фольклоре]: «Ну вот, тот, кто должен был стать причиной моей смерти, теперь сам мертв!» Он слезает с коня, собираясь пнуть лежащий на земле череп; из глазницы выползает гадюка и жалит его в ногу: Олег погибает, поняв, что пророчество волхва сбылось.
С учетом давности эта история может быть в равной мере как подлинной, так и просто легендой. На иллюстрации, сопровождающей ее в Радзивилловской летописи, присутствует изображение волхва: с бородой и длинными волосами, в одеждах до пола с орнаментами на груди.
Другое упоминание датируется 980 годом (год официального установления культа Перуна): там сказано, что в Киеве, на священном холме Перуна, волхвы должны были поддерживать вечный огонь. Жестокая деталь: там же уточняется, что если огонь потухал, волхвов казнили, ведь это означало, что они навлекли на себя «гнев божий».
К счастью для них, 988 год стал годом официального крещения Руси, как Киевской, так и Новгородской, и, надо думать, близость этих дат многим волхвам позволила избежать смерти. Примерно тогда же митрополит Новгородский Иоаким упоминает о верховном волхве, Богомиле Соловье, прозванном так из-за своего красноречия. Этот волхв призвал новгородцев к бунту против христианизации (в Новгороде крещение совершалось «огнем и мечом», уточняет летопись).
После победы христианства волхвы ушли в леса, уведя с собой множество противников новой религии. Более столетия они провоцировали восстания. Так, в 1024 году в Суздале из-за неурожая вспыхнул бунт, который возглавили волхвы, а подавил христианский князь Ярослав Мудрый. Точно так же в XI веке, без уточнения даты, монах Иаков Черноризец в «Похвале князю Владимиру» сообщает, что «волхвы много чудес сотворили бесовским наваждением».
Снова вопрос волхвов поднялся в 1071 году, спустя 25 лет после официального крещения. Судя по всему, они оказывали значительное влияние на народ, действуя открыто и по собственному произволу назначая «добрых» и «злых», при этом против «злых» устраивались репрессии (особенно если эти «злые» были женского пола). В Новгороде один из них даже позволил себе вслух насмехаться над новой религией, объявив: «Ха-ха, я тоже могу ходить по водам [имелось в виду, по реке]!» И перешел к действию. Город взбунтовался и попытался свергнуть митрополита (епископа), которого считали захватчиком. Однако христианский правитель города, князь Глеб, и его воины вмешались, выступив на стороне митрополита, в то время как население было за волхва. Началась кровавая битва, и князь убил волхва, который, милосердно уточняет летописец, «будучи словно одержим, умерши и душою, и телом».
С того года, сообщает летописец уже сурово, и по сей день – то есть на момент создания летописи, около XIV века, – главными носительницами и последовательницами волхвовских знаний и практик были женщины, поскольку, сентенциозно заключает он, «сначала дьявол всегда соблазнял женщину, а потом она соблазняла мужчину». В 1227 году четверых волхвов сожгли во дворце князя Ярослава.
Это последнее свидетельство о волхвах, по крайней мере письменное, после которого они, очевидно, постепенно исчезают. Со временем волхвы трансформировались в колдунов, целителей и т. п. Среди них было много женщин – существовал и отдельный феминитив, волхва; на прялке XII века он упоминается с объяснением: волхва, предсказательница. Еще в XVII–XVIII веках в катехизисах приводились длинные списки вопросов, которые следовало задавать на исповеди, включая такие: «Видал/а ли волхв?», но не исключено, что в то время это слово уже не имело значения «колдун/ колдунья», а по определению «Домостроя» [18] относилось к «женщинам, противным богу» (богомерзким женам).
Дохристианские святилища в Киеве
Эти места культа были обнаружены благодаря археологическим раскопкам, проводившимся со второй половины XIX века.
В центре крепости древнего Киева (на так называемой Старокиевской горе) раскопки 1908 года, возобновленные в 1975 году, обнаружили большое святилище под открытым небом [19], заложенное, вероятно, полянами – народом, основавшим Киев. Святилище датируется VI–VII веками. От него сохранились только каменные основания эллиптической формы (4,2 на 3,5 м). Напротив этих оснований, с западной стороны, примерно на метр возвышается круглый курган, состоящий из чередующихся слоев почвы, золы и угля. Вокруг этого возвышения были найдены многочисленные кости и черепа животных, преимущественно домашних. Предположительно речь идет об алтаре (или жертвеннике), на котором сжигали жертвоприношения; время от времени его засыпали почвой, после чего все начиналось сначала. Это кострище под открытым небом также называли «алтарем Перуна». По сей день это самое раннее святилище, сохранившееся на территории древнего Киева. Следующее, построенное два века спустя Владимиром, находилось в другом месте. Здесь же, на Старокиевской горе, предшественники князя Владимира – из которых известны Олег, Игорь и Святослав – приносили присягу на княжество. Если верить Радзивилловской летописи, тут же находился идол Перуна.
Князь Владимир, сидит слева, волхвы в середине, статуя Перуна и изображение дьявола справа. (Радзивиловская летопись)
Новое расположение, избранное Владимиром в Х веке, находилось за примитивными крепостными стенами города. По данным летописи, там, на холме Перуна, в 980 году были воздвигнуты деревянные идолы пяти богов; шестой, бога Волоса, поставили ниже, возле реки. Им приносили жертвы, включая, как утверждает летопись с характерным злорадством, сыновей и дочерей (из привилегированного сословия) «так что земля русская и холм этот были покрыты кровью». В 988 году алтарь был уничтожен, идолы сожжены или утоплены, а на их месте построена церковь. Совсем рядом была обнаружена яма цилиндрической формы, содержавшая фрагменты дубовых стволов, а также кости быков и кабанов.
Что касается быка как жертвенного животного, от историка Прокопия Кесарийского (VI век) мы знаем, что анты, считающиеся предками восточных славян, приносили быков в жертву своему богу грома, предшественнику Перуна. Еще в XIX веке русские крестьяне приносили в жертву быка на праздник Ильи, преемника Перуна, 20 июля.
3. Культурные события и праздники
Празднества и игрища
Представления, процессии, празднества, танцы и песни, возможно маскарады, проводились в честь языческих богов. Летопись сообщает: «И собирались они на зрелища эти, с песнями и танцами диавольскими». Празднества продолжались и в христианскую эпоху. В 1015 году читаем: «Горе тому городу, где князь молод, где любит он пити под звуки гуслей, окруженный молодыми советниками». В 1068 году, осуждая христиан, продолжающих «пировать и праздновать», летописец говорит: «Демон искушает нас, отворачивая от Господа всеми способами, при помощи музыки, скоморохов и игр <…> Видим мы, как толпятся люди на праздниках, в то время как церкви стоят пустые». Соответственно, празднества и игрища устраивались князьями, несмотря на христианизацию. В «Житии святого Феодосия» с упреком говорится, что музыканты мешали ему подойти к князю, играя «одни на гуслях, другие на дудках, третьи на домре [20], веселя сердце его, как принято у князей». Заметив недовольство Феодосия, князь велел прекратить музыку. Такие княжеские увеселения, с танцами и музыкантами, скоморохами и масками, изображены на стенах собора Святой Софии в Киеве.
Скоморохи
Скоморохи были ведущими таких увеселений. Они упоминаются в летописи с 1068 года, хотя существовали и ранее. О них говорится в эпических песнях, посвященных празднествам при дворе Владимира. Тесно связанные с язычеством, они описываются в церковных текстах как «прислужники дьявола», их выступления – как «дьявольские», а в целом их деятельность – неудивительно – как «богомерзкая». Сам факт присутствия на их выступлениях считался «одним из величайших грехов».
Дохристианские празднества всегда начинались с жертвоприношения, сразу за которым шли увеселения. Церковь боролась с ними в первую очередь именно из-за жертвоприношений. Любой праздник сопровождался пиром. Празднества, пиры, жертвоприношения и представления образовывали единое целое. Несмотря на крещение и негативное отношение церкви, пиры, в первую очередь те, что давал Владимир, воспевались все равно: многие эпические поэмы – былины – начинаются со слов «Ай во славном было городе во Киеви, Ай у ласкового князя у Владимира, Был пир на вечере при всех князей да бояр». Что касается сказок, практически все они заканчивались свадебными пирами. Летопись поэтому не может удержаться от признания: «Руси [21] есть веселие пити, не можем без того быти». Получается, сами монахи не могут от этого удержаться! Традиция празднеств настолько укоренилась в русском народе (во всех слоях общества), что продолжалась, несмотря на инвективы церковников.
Русалии
Языческий праздник, часто упоминающийся в средневековых источниках (начиная с XII века). Традиция «отплясывать русалии», надевать маски животных, прыгать через костер и петь «диавольские» песни широко осуждалась. Русалии проходили на зимнее и летнее солнцестояние, а также на Троицу. Упоминания об этом празднике встречаются нечасто, но он может быть, по мнению Рыбакова, изображен на серебряном браслете XII века.
Священные рощи полян
Дубы Перуна
Некоторые леса и рощи считались священными. Им приносили дары – скот, пищу (вплоть до XIX века). Племя полян, основавших город Киев, сердце Киевской Руси, в особенности поклонялось старым дубам и кабанам. Это подтверждается важными археологическими находками, сделанными в 1909 и 1975 годах близ слияния Десны с Днепром. Два гигантских ствола дуба были подняты в этом месте со дна реки; оба были инкрустированы челюстями кабана (по Боровскому).
В 1909 году был поднят ствол дуба длиной около 20 метров, хорошо сохранившийся, с четырьмя челюстями кабана, почерневшими от времени и длительного пребывания в воде. Челюсти были надежно инкрустированы в древесину с помощью специальной техники. Они располагались квадратом, над первым разветвлением дерева. Ствол сохранился с корнями, что доказывает, что он не был спилен, а упал в воду в процессе оседания берега. Его можно датировать эпохой славянского язычества. Челюсти с зубами и клыками были неповрежденными, в хорошем состоянии, а это означает, что их взяли у молодых животных.
В 1975 году, в тех же условиях, недалеко от места первой находки, был поднят со дна второй ствол дуба, меньших размеров (около девяти метров в длину). На нем было девять кабаньих челюстей, инкрустированных в древесину квадратом со стороной тридцать четыре сантиметра. Следы огня на стволе указывают на ритуальный костер. Вероятно, оба этих дуба выросли в священной роще. Удалось установить, что они стояли близко от места обнаружения, где впоследствии был воздвигнут монастырь. На Руси, как в Галлии, церкви и монастыри часто строили на месте древних языческих святилищ. («Владимир приказал строить церкви там, где раньше стояли идолы»). Известно также, что окрестности Киева были покрыты лесами – преимущественно дубовыми. Таким образом, мы имеем два археологических объекта, связанных с культом дуба, кабана и, очевидно, бога Перуна.











