Читать онлайн После войны
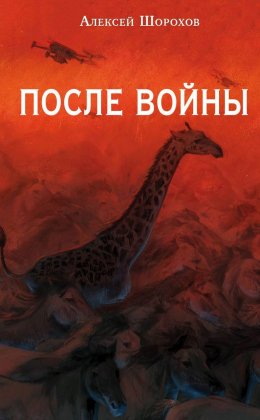
© Шорохов А. А., 2025
© Багринцев Д. (худ.), 2025
© ООО «Яуза-каталог», 2025
О повести Ромаядины
Еще нередко доносится до нас разгульная фраза, порожденная лихим XX веком, о войне, якобы списывающей «все». Христианин, а тем более православный христианин, думает и делает иначе, наперекор «принципу».
Счета наших прегрешений растут каждый день, и приумножаются они порой за счет заблуждений не только наших, но и ближних – родни, друзей, за которых в ответе и мы сами. И война этих счетов не списывает, но лишь предлагает шанс какие-то из них искупить. Особенно давнишние заблуждения круга и социального класса и личные, конечно же, тоже, главнейший из которых – непонимание страны и ее исторического пути, перерастающее в глухую, а потом и открытую ненависть к тому, что есть Россия и ее вера.
Объяснить Русский Путь в годы войны гораздо проще, чем в мирные лукавые годы: вот мы, а вот вечно обозленный на нас и натурально безбожный, погрязший в себялюбии «мир», которому мало нашего всемирного покаяния перед ним за несуществующие грехи настолько, что нужна всеобщая наша погибель. Чтобы «Баба-яга», как метко прозвали на фронте один из наиболее крупных вражеских беспилотников, больше не морщилась от противного ей русского духа.
История московской и не слишком русской по крови семьи раскрывается Алексеем Шороховым действительно мастерски, цепко и едко, без жалости не к людям, но к прегрешениям, ставшим образом и жизни, и мысли. Но, как настоящий русский писатель, он своих несчастных запутавшихся героев – любит. И не прощает, ибо это Господня прерогатива, но дает им шанс искупить бездарные годы, выпутаться из петель общих для интеллигентской прослойки миражей русофобии, по сравнению с которыми неволя Лаокоона – просто «цветочки».
На Руси (да только ли на Руси) и равнодушие, и неприязнь, и ненависть, и все, что не есть любовь, обычно искупают кровью, но вот что странно: русские свою запутанность кровью искупить готовы в любой момент, а не совсем русские мнутся и стесняются, ища способов полегче, «менее затратных». В том и принципиальная и почти непреодолимая разница между одними и другими.
Прочтите повесть с финалом, скажем так, открытым, и сделайте выводы. К ним нас понуждает главным образом наш долг верующих людей.
Сергей Арутюнов
«Зернышко нового мира»
О военных рассказах и повести «Бранная слава» Алексея Шорохова
Первое, чем удивляет повесть Алексея Шорохова, – своим названием. Уже в нем – новый ракурс взгляда на войну. «Бранная слава» – словно взгляд из ХIХ, а то и XVIII в. с их духовным неразменным золотом, имперским пафосом завоевания пространств, истовой верой в богоданность государей… Сегодня это взгляд свежайший, что и говорить. Как будто поднявшимся вдруг ветром истории выдуло все наносное. И вот он вновь – очищенный от всех лукавств века ХХ – «классовых противоречий», бизнес-интересов, социальных и экономических хитросплетений – русский человек. Позади трон, впереди враг. Все предельно ясно.
Но не все так просто. Зная Алексея Шорохова прежде всего как современного большого русского писателя, тончайшего поэта, уже в названии ищешь подтексты. В чем же они? Если знаешь русскую литературу последних десятилетий (а впрочем, столетий), первой примстится ирония. «Болезнь иронии» – так диагностировал русскую литературу Александр Блок еще в первой четверти ХХ века. Но что гадать – когда можно просто перевернуть страницу…
Переворачиваешь, и точно – манкое и емкое название не то что совпадает с содержанием, а дает ему первую жизнь, оно – как отправная точка, счастливо опроставшаяся мамкина утроба. Да и ирония там, а точней – ее смертельный сплав с болью и горечью. На все это Алексей Шорохов имеет право. И на иронию, даже сарказм, замешанный на солдатских соленых шутках, а тем более на боль и горечь истинные, страшные. Шорохов год воевал, ушел на СВО добровольцем, был ранен. А перед этим много лет колесил по ДНР и ЛНР с гуманитарными «буханками», является организатором и участником проекта «Буханка для Донбасса», читал свои стихи бойцам и жителям республик.
Военную повесть (так обозначил жанр сам автор) «Бранная слава» сопровождают несколько рассказов. Они тоже военные по месту действия и проблематике, рассказывающей о себе устами и поступками своих героев.
Один из героев военной же пьесы Булгакова, генерал Хлудов, сказал: «Ничего нельзя сделать на войне без любви». С любви начинается уже первый военный (он же антивоенный) рассказ Шорохова «Жираф». Раньше все знали, что девушки, порой не самые красивые, идут на «мужские» факультеты (физические, математические и т. д.) за любовью, чтобы не засидеться в девках, выйти за смекалистого и технически подкованного парня замуж. Оказывается, такова природа женская – что за любовью поведет и на войну. По крайней мере, такова Жираф – санинструктор Лиля, приехавшая из Москвы за ленточку. Жирафом прозвана за особую «масковскую» экзальтированность и иллюзии, в общем – за полную неприспособленность к войне.
А навел на эту «погремуху» жираф настоящий – из зоопарка при лесничестве на Кинбурнской косе. Зоопарк разбомбили хохлы, и жираф, прибившийся к табуну диких лошадей, скакал, «возвышаясь над табуном, как сигнальная вышка с наброшенной на нее светло-коричневой маскировочной сетью». Как видите, русская проза. Хоть с этим поздравим себя: СВО еще не кончилась, а проза уже есть.
Самый безмятежный символ детства и мирного счастливого города – зоопарк – разорван вражеской артой. И неприкаянные, раненые или убитые животные редких пород становятся зловещим символом братоубийственной войны, «явления, противного самой природе человеческой», по выражению Льва Толстого, участника обороны Севастополя.
И все-таки неубиваемый, разбежавшийся по Кинбурнской косе зоопарк – еще и символ жизни, божественно вечной, неуничтожимой. А нескладная девочка Лиля – символ любви, которая и на войне, как божья травка, прорастет сквозь груды покореженного смертоносного железа, разбитых стен и человеческих костей.
И в этом пограничном состоянии – между одной жизнью и тысячью смертей – даже матерый и обветренный снарядными разрывами командир с позывным Седой, Лилин избранник, находит в своем сердце новые внезапные ростки юношеской нежности, отеческой любви… Вот так, все на войне вперемешку. Герои, казалось бы, суровые, циничные, спешат жить, чувствовать, дарить, влюбляться, жертвовать – наверстывая впрок то, что в следующие сутки может навеки для них оборваться.
Так, герой другого рассказа Петручио, в миру Петрович, который никогда не был в Италии и уже не будет, мужик «пятьдесят плюс», словно переживает на войне вторую молодость. Хотя, скорее, юность, если не школьные годы – «новообретенный ветреник» покрасил автомат, выменял у морпехов серебряный перстень с летучей мышью, прикупил «нож Боуи», вместо «благородной окопной небритости» соорудил язвительные усики.
А все от любви к парикмахерше местной, которая на поверку оказалась наводчицей вражеской ДРГ (диверсионно-разведывательная группа). И любовь Петручио закончилась трагически. «Нет повести печальнее на свете». Хотя почему же – Петрович-Петручио погиб в бою, видел врага глаза в глаза, как мало кому на этой войне выпадает, даже обманутый, лишенный АК, достал двух нациков «ножом Боуи», «задвухсотил» – видно, юная, ярая пружина любви помогла. Любви, конечно, не к дебилке-парикмахерше, а к родине советской.
Рассказ «По ту сторону глины», начав с описания обыденных фронтовых будней (адских в этой кровавой обыденности), постепенно приоткрывает историю семьи Узбека (Игоря), погибшего бойца, становится пронзительной, суровой сагой. Более того – обличительным документом, исследуя который, сердце полнится бессильной ненавистью к подонкам – ликвидаторам великой страны, палачам сотен тысяч и миллионов семей. Это они сеяли семена национальной розни, сталкивая в кровавых конфликтах народы, жившие прежде в единой стране. «Кто же это убивает, сталкивает, режет? – Никто! Сам порядок вещей!» – ужасался Лев Толстой в «Войне и мире». Правильно, Лев Николаевич, дорогой, сам «порядок вещей», более точное имя которого – капитализм. Войны – именно его извечная примета, ибо бизнесу, точнее, крупному капиталу (а только он сейчас и рулит) плевать, на чем там «зарабатывать», «барыжить», «тырить», сколько плачей матерей, калек, детей бездомных… Ведь в войнах «норма прибыли» поболе, чем даже в микрокредитных схемах.
Разумеется, не вдаваясь в социально-экономические рассуждения, художник Шорохов констатирует одно: для Анны Михайловны, покинувшей «звезду Востока и СССР» Ташкент, все настоящее осталось там. А что же здесь? А здесь ее сын, доблестный воин РФ, заслуживший боевые награды в Чечне и Афгане, приговорен к долгим годам заключения. Что же поделать, подкуп следствия и самого суда более «обеспеченной» стороной (опять же примета родимого капитализма!) сыграл роль решающую. Затем он «искупает кровью» преступление на СВО, где, как мы знаем, намного гибельнее и кровавей, чем когда-то в Сирии, Чечне, Афгане… Игорь погибает. И все же слезы его матери светлы – она исполнена воспоминаниями о жизни лучезарной и осмысленной. Доброй и ясной. Праздничной и справедливой. А что же есть у матерей последующих поколений?.. Но здесь вместе с автором мы умолкаем.
Повесть «Бранная слава», возможно, более автобиографична, чем рассказы. Повесть начинается с разрыва американской корректируемой бомбы, после чего дом, где заняли позиции бойцы отряда «Вихрь», «сложился в пыль, в труху». Главного героя повести Егора Акимова, как и Алексея Шорохова в июле 2023-го, вынесло взрывной волной, остался чудом жив – но впереди госпитали. Потом – работа над военной повестью, которую мне почему-то хочется назвать романом. Настолько богата, ярка галерея образов «Бранной славы». И одновременно – сложна и таинственна. Столько в ней переплетшихся сюжетных линий, пусть явленых предельно лаконично, с воинской командной четкостью формулировок. Столько судеб – зримых, непростых людских путей, духовных – вверх и замутненных – вниз, со свистом.
Плеяда истинных героев «Бранной славы» в повести, по сути, продолжает строй литературных образов, данных в рассказах.
Макс – несмотря на контузию, откапывающий из обломков Акима. Потерявший память, но дословно помнящий все православные молитвы (Макс до войны – алтарник в храме).
Соболь – мотая уже третью войну, вывозит раненых друзей из-под обстрела, уже сам раненный смертельно. За рулем «таблетки» он «положил душу за други своя». И кровь, которую он и не пытается остановить, «вытекающая из него, проступающая красными густеющими полосами на камуфляже», – и есть его молитва. Это она «спасла всех наспех перебинтованных доходяг в салоне».
«Очень, очень немногие могут подняться до такой молитвы. Соболь поднялся. И застыл на ее вершине».
Многие герои «Бранной славы» – суть истинные герои России, которыми нам предстоит гордиться десятилетиями. Бог даст – и веками. И не только нам, а человечеству. Потому что, несмотря на жуть кромешную предательски-торговую за их спиной, они – там – ведут себя как люди. Потому что там они – как петровские рекруты из крепостных, как суворовские чудо-богатыри, партизаны в лесах 1812 года и голодные бойцы чеченских компаний ХХ и ХХI веков – воюют за какую-то еще не явленую им настоящую Россию. А чтобы та явилась «во всей славе своей», эту все-таки надо спасти!
Более сложный герой – Яша. Самоотверженный российский воин, сначала стрелок БМП, затем, когда башню бронемашины сорвало (слава Богу, успел Яша выскочить и отбежать), продолжил воевать в пехоте. Вот там, после укропского обстрела упавший без сознания Яша попадает в плен.
Автор избавляет читателя от натуралистических подробностей пыток, которыми «славятся» азовцы.
Но вот картина разминирования при помощи «живого мяса», то есть пленных, которое азовцы, яко их духовные отцы, эсэсовцы Второй мировой, практикуют на Донбассе, впечатляет.
Яша чудом выживает, когда на мине подрывается его товарищ по несчастью. Яшу спасают – выносят из-под обстрела разведчики.
Волею судеб из госпиталя Яша попадает прямиком на телевидение. Со временем становится завсегдатаем армейских ток-шоу. Поначалу раненый боец не понимает, в чем, собственно, его героизм на минном поле состоит? Куда более полезными и героическими ему представляются позиционные бои, вывоз «трехсотых» под огнем.
Но журналистам ТУ лучше знать, как формируются рейтинги программы! И Яша на инвалидной коляске раз от раза все более красочно, добавляя новые подробности от скуки, живописует свой путь по минному полю. Молодецкие оценки штатных экспертов – мол, «наши ПВО нарезают „Хаймарсы“, как колбасу» Яшу почти уже не возмущают. Слушая инструкции хорошенькой ведущей и просто пермолвки рядом – какие темы на ток-шоу можно поднимать, а каковые нежелательно или вот, как сына телеведущей отмазать от армии, – Яша проваливается все глубже в вязкую трясину лицедейства, фигур умолчаний и виртуозных софизмов, диванного пафоса и закулисной возни. Куда заведет этот путь Яшу – еще вчера отважного и честного бойца? Автор умалчивает: в отличие от боевого опыта, возможно, ему еще недостает стажа ток-шоу и соответствующих наблюдений. Но обрисовано уже весьма ощутимо – путь этот скользок.
Как и рассказы, повесть «Бранная слава», конечно, не могла остаться без пронзительной и хрупкой линии любви. Во второй части повести – преимущественно мирное пространство, так сказать, глубокий тыл. И нагрянувшая на Егора, пронзившая его любовь – на белом пароходе, выплывшем, как будто из советского кино-мечты. Наш герой, конечно, несвободен – «глубоко женат», то есть с детьми, незадолго до путешествия на пароходе, то есть до встречи с полюбившей его юной Дашей, сталкивается с предательством близкого человека. Казалось бы, микропредательством – сегодня же все микро, микрокредиты, микточипы, микроимпульсы, но все эти микро совершают дельце колоссальное, формируя микрочеловека, обреченного на полное слияние с микромиром (с его рейтингами от амеб и инфузорий в туфельках от Лабутена и прочих семейств простейших).
Но любовь героя войны света с тьмой, встреченная в отпуске по ранению, несказанна и чудесна. А «чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда оно настигает мгновенно, врасплох». Даша тоже из Донбасса, из разрушенного Мариуполя. Родители погибли при бомбежке, соседку расстреляли нацики.
Они сразу отличили друг друга в толпе отдыхающих – по израненной ауре, подбитой душе. И, проплывая старинные грады и веси – Ярославль и Мышкин, Кострому и Ипатьевский монастырь, – Егор рассказывает Даше бесконечную, бескрайнюю историю российского царства, словно бесконечно объясняет сам себе, за что воюет в Новороссии, какое именно бессмертие с детства распахивается перед ним.
Но Даша – не высокий дух ее, не душа, израненная киево-саксонским безразличием и злобой, а бренное ее существо (ну то есть и душа) – не может противиться вполне конкретному сегодняшнему тыловому бытию. То есть у нее вполне себе по Марксу «бытие определяет сознание». А значит, попрощавшись с Егором, уже не способная забыть его никогда, на московской пристани Дашенька сядет в роскошную тачку успешного коммерсанта и отправится на весьма комфортную микропланету, орбита которой ни с кровью Донбасса, ни с иными «кругами ада» на территории бывшего СССР совершенно не соприкасается. (В этом тоже фатум нынешнего мирового бытия, зверино-рыночного, оболгавшего и разорвавшего нашу страну в ярости дикой и до сего дня отнимающего у нас души и надежды, само званье человеческое).
Егор, неисправимо православный воин, вытянет еще и Дашу, и себя в возрожденный, как птица Феникс из пепла, Дашин родной Мариуполь. «На месте руин росли новенькие, чистенькие МИКРОрайоны, залатывались и стеклились выжженные девятиэтажки, блестел и дрожал в прощальном сентябрьском мареве свежий асфальт на улицах.
– Посмотри, любимая, город из своего покореженного, опаленного нутра, из закопченных, поломанных ребер выталкивает наружу новую неубиваемую жизнь!»
Этими словами Егор воодушевляет Дашу, терпеливо старается возжечь в ее сердце прежний духовный огонь, еще не ведая, что «новая неубиваемая жизнь» уже и в ней. Поэтому она так чутко и прислушивается к себе. Это – его и ее ребенок, зернышко нового мира, новороссийской планеты. Самой русской! И как же хочется, чтобы эта новая планета, новая русская жизнь изначально становилась на крыло, не зная страха, лжи, угроз смертельных!..
Михаил Крупин
Победа пахнет фиалками и напалмом
Африканская повесть
От автора
Публикуемая в этой книге африканская повесть была написана в 2002–2003 гг., когда никакой ЧВК «Вагнер», ни даже надежд на возвращение России в Африку в помине не было.
А вот русские воины на Черном континенте уже были.
И все маркеры современности, включая будущую бандеровскую Украину, – были.
Просто кто-то умеет увидеть в настоящем будущее, а кто-то и в наступившем будущем отказывается видеть настоящее.
Каждому свое.
В повести я не исправил ни буквы в угоду времени.
…Многое за эти годы изменилось, и только русское слово продолжает свой таинственный путь в этом мире.
Глава первая
Встреча
Звонок Вертакова наделал, надо признаться, немалый переполох в нашей семье: во-первых, потому что позвонил он накануне Нового года, то есть в самую, как вы понимаете, горячую приготовительную пору, во-вторых же – более долгожданного гостя за нашим столом и представить себе было нельзя. Евгений Николаевич был давним другом нашей семьи, убежденным холостяком, в прошлом – кадровым советским офицером, прошедшим чистилище Афганистана. После развала страны и армии служивший на территории Украины Вертаков присягать новоявленной незалежности отказался, сославшись на то, что еще со школьных пор терпеть не может народную самодеятельность и любительские спектакли с переодеваниями, и хотя его клятвенно уверяли, что шаровары носить не придется, начальник штаба мотострелковой бригады и полковник Советской армии Евгений Николаевич Вертаков сказал что-то в духе, мол, «честь имею» и покинул бывшую братскую республику. Что он имел в виду, говоря о чести, его заместитель, принявший руководство штабом, не понял, однако, по словам Вертакова, уже через несколько месяцев этот седеющий парубок категорически «москальской мовы не размовлял», а о НАТО говорил не иначе как с придыханием.
Боевой офицер и полиглот, получивший к тому же блестящее образование в Академии имени Фрунзе, Вертаков не затерялся на пространствах Эсенговии и в пору нашего знакомства сотрудничал по найму в составе миротворческих миссий ООН. Работа эта была хоть и хорошо оплачиваемая, но, мягко говоря, довольно беспокойная. Что, впрочем, как нельзя лучше соответствовало его беспокойному духу.
В этот свой приезд в Москву он вернулся из Сьерра-Леоне. К стыду нашему, о существовании этой африканской страны до его отъезда туда мы и не догадывались. После же того как Вертаков несколько раз позвонил нам оттуда, узнали о ней и уже более осмысленно слушали выпуски теленовостей. Тем более что имя этой маленькой страны на западном побережье Африки в последнее время звучало довольно часто – там было неспокойно, как, впрочем, и везде, где до этого приходилось работать Вертакову.
– Сейчас-сейчас, не торопитесь, еще рано, – умоляла моя жена Валя, глядя на секундную стрелку курантов, – все! Ну, давайте же, Евгений Николаевич!
Раздался выстрел шампанского, звон бокалов, началась вся та милая новогодняя бестолочь, которая одна только и делает необыкновенно чудесными эти ночные часы. После всех дежурных тостов наступило время Вертакова, рассказчик он был изумительный.
Он рассказывал про свое полугодовое пребывание в Африке (в этот раз он там был в качестве начальника службы безопасности миссии ООН), про гражданскую войну, которая уже долгое время идет в этой несчастной стране, про повстанцев и их недавнее наступление на столицу Сьерра-Леоне – город Фритаун, про эвакуацию миссии в соседнюю Гвинею и про многое другое.
Вдруг Евгений Николаевич резко встал и подошел к пульту от телевизора – начинался добрый советский фильм с Евстигнеевым и Леоновым.
– С вашего разрешения я переключу? – спросил он нас.
– Да разумеется, Евгений Николаевич, чем только он вам не угодил?
– Дело не в нем, просто я с некоторых пор не могу смотреть старые советские фильмы, – сказал он и, немного смутившись, добавил: – Слезы наворачиваются.
Такое признание от человека, сделавшего войну привычным местом своей работы, было поразительно. В наступившей тишине он, будто только что вспомнил, сказал:
– Кстати, очень интересная история случилась со мной уже после нашего возвращения во Фритаун, после того как нигерийские войска его освободили.
Повстанцев отбросили на несколько десятков километров, и, в принципе, уже можно было бы возвращать миссию в Сьерра-Леоне, но, помня о той фантастической быстроте, с какой месяц назад повстанцы взяли Фритаун, наше руководство решило направить в страну группу военных наблюдателей, чтобы на месте уже определить степень опасности.
Ооновцы вообще к вопросам безопасности подходят очень и очень тщательно. Разумеется, как руководитель службы безопасности полетел и я.
Когда, подлетая к Фритауну, мы приблизились к поросшему джунглями берегу Сьерра-Леоне, ощущеньице было то еще: в полосе прибоя, покачиваясь на волнах, плавали трупы. «Зеленка» молчала, но того и гляди – пулеметной очередью или зенитной ракетой встретят. К счастью, переносных комплексов у них, как выяснилось, не было вообще, а насчет пулемета – Бог миловал. В общем, сели.
План был такой: особенно не доверяя командованию «Экомога» (защищавшие законное правительство войска Содружества стран Западной Африки, в основном нигерийцы), бодро рапортовавшему о «полном и окончательном» разгроме повстанцев, выехать на передовую и уже там, в непосредственной близости от места боевых действий, выяснить насколько «окончателен» успех правительственного контрнаступления.
Законсервированные в спецхранилище джипы миссии, к нашей несказанной радости, уцелели, видимо, руки у повстанцев до них не дошли. Поэтому уже на следующий день на двух мощных джипах «Тойота Фор Раннер» мы направились в расположение 22-й Нигерийской бригады, теснившей повстанцев на востоке полуострова. Я с нашими милобами (сокращенное от английского шПйагу оЬзегеегз, то есть «военные наблюдатели») ехал на первом джипе, а на втором ехали солдаты охраны, выделенные нам «Экомогом».
Командовал бригадой полковник Акпата, давний знакомый одного из наших наблюдателей Джерри Ганза. Они познакомились в сходной ситуации несколько лет назад: Ганз тогда работал в ооновской миссии в соседней Либерии, а Акпата со своей бригадой там же усмирял местных мятежников. Поэтому теперь встретили нас в бригаде как родных, нечего было и думать в тот же день отбыть обратно. Акпата закатил нам если не царский, то весьма и весьма внушительный для военно-полевых условий ужин, как водится в малярийном климате – с обильными возлияниями. Устав от постоянного напряжения, неизбежного в такой ситуации, да еще и хорошенько огрузившись джином, расслабились мы, что называется, по полной программе. И Акпата, как и большинство нигерийцев довольно прилично говоривший по-английски, рассказал нам массу интересного о положении на фронте и реальном соотношении сил.
А между прочим еще и вот о чем. Я вам с Валей уже рассказывал, что вся эта заваруха происходит в Сьерра-Леоне по одной простой причине: алмазы. Господь столь щедро одарил этот кусочек суши драгоценными камушками, что очень и очень многим это не дает покоя. Кимберлитовые трубки там выходят на поверхность, то есть простой лопатой, как у нас картошку, там выкапывают брильянты.
Да-да, Валечка, не вздыхай – именно так. Поэтому известная фирма «Де Бирс», контролирующая добычу алмазов практически на всем земном шаре, очень заинтересована, чтобы там не смолкали выстрелы.
Камушки-то в обмен на оружие практически за бесценок идут, поэтому, пока правительство воюет с повстанцами, алмазные поля принадлежат. «Де Бирсу», а охраняют их белые наемники со всего, извиняюсь за каламбур, белого свету. Эти же белые наемники зачастую воюют и среди повстанцев – в качестве инструкторов.
Труп одного из них нашли накануне нигерийцы, и кто бы вы думали это оказался?
При первом же взгляде на то, что Евгений Николаевич достал из внутреннего кармана пиджака, у меня сжалось сердце – этот простой солдатский жетон с номером «АМ–91 663» я уже видел один раз в жизни. Несколько лет назад. На шее у бывшего моего однокурсника и друга.
– Боже мой! Вовка. – я налил себе коньяку в пузатый стакан из-под сока – почти до краев – и молча выпил. Вот и встретились.
Глава вторая
Студенты
В город моего детства он приехал поступать из какой-то архангельской глухомани. Практически во всем, кроме литературы, Вовка был ни в зуб ногой, поэтому выбор факультета – литературного – оказался столь же прост, как и главная причина поступления в институт: чтобы в армию не идти.
Почему именно в наш областной пед, трудно сказать, но то, что ближе ничего не было, это он, разумеется, врал, и врал не краснея. Скорее всего, просто именно отсюда начиналось Вовкино покорение мира.
Шло самое начало перестройки, и наша студенческая дружба крепла не на зачетах и экзаменах, а в боях у «стекляшек» за право отоварить талон на водку. Здесь Вовка оказался незаменим – будучи длинным, как палка, и точно таким же худым, он был идеальным средством для приближения к вожделенному окошку выдачи и транспортировки оттуда бутылок по головам всей остальной очереди. Именно в этом качестве с деньгами и талонами мы его забрасывали к окну и уже с бутылками за длинные ноги вытаскивали обратно.
Объяснить это тем, кто не жил тогда, невозможно, особенно нынешней молодежи, привыкшей к чудовищному изобилию спиртного на каждом углу. Но ей вообще многого объяснить невозможно, хотя, глядишь, поживут и не такого насмотрятся.
А тогда пили много, причем каждая студенческая попойка становилась чем-то вроде праздника победы, потому что перед этим всегда приходилось выдержать бой, нередко с самым настоящим кровопролитием.
По доброй традиции пединститутов молодых людей на литературном факультете было гораздо меньше, чем девушек, поэтому если уж с водкой и в стране, и в городе были проблемы, то во всем остальном мы как сыр в масле катались. Понимая под этим не всякие там дефицитные шмотки, а самую насущную в восемнадцать лет часть нашей жизни – ее прекрасную половину.
И, несмотря на то что женская составляющая наших гулянок постоянно обновлялась, мужской ее костяк сложился и выкристаллизировался довольно скоро – к концу первого курса он был уже монолитен и каноничен.
Это было самое блаженное время нашей студенческой жизни, заумные «ботаники», а также все немощные духом и телом отсеялись, и уже весь остальной курс знал: если во время лекции дверь в аудиторию открывалась с ноги и в проеме на мгновение возникала белобрысая Вовкина голова, то в самом непродолжительном времени и под самыми, конечно, благообразными предлогами аудиторию покинут и остальные «олимпийцы». «Олимпом» у нас называлась запасная лестница на крышу, которая вся в целом служила местом для курения, а верхний ее, самый поднебесный пролет, собственно «Олимп», посвящался целиком и полностью только одному божеству: Бахусу, или Вакху. В зависимости от того, бухали еще там или уже переходили непосредственно к вакханалиям.
Меня и сегодня поражает та мудрость, с которой преподаватели наши и сам ректор все это терпели: ведь из всех из нас вышли в целом неплохие люди, хотя, если не ошибаюсь, именно в учителя практически никто и не пошел.
Тем не менее все профилактические меры, вплоть до угроз закрыть запасную лестницу, предпринимавшиеся время от времени институтским начальством, носили более пропагандистский, нежели карательный характер и сводились в конечном счете к недопущению совсем уж панибратства со стороны нас, будущих педагогов, по отношению к своим наставникам. Я думаю, вряд ли ошибусь, предположив, что и они, наши преподы, были связаны той же «олимпийской» тайной со своим таким уже тогда далеким студенческим прошлым.
С нами, вчерашними десятиклассниками, на первый курс поступили и несколько ребят, уже отслуживших в армии. Один из них, спецназовец Чика, или официально Андрей Чикин, служивший в знаменитой дивизии имени Дзержинского, прошел огонь и воду подавления беспорядков в Сумгаите и Тбилиси, штурм сухумского изолятора и многое другое, что для нас, последних могикан безоблачного советского детства, находилось еще за гранью вероятного. Тем не менее именно рассказы Чики, ставшего едва ли не душой всей компании, с одной стороны, лучше всякого еще только-только входившего в нашу жизнь Голливуда рисовали перед зачарованными юнцами бесхитростные картины счастливой жизни крепких парней с автоматами в руках, с другой же стороны – и за это ему огромное спасибо – рассказы эти разоблачали ту чудовищную ложь об армии, что именно в те годы обвально хлынула в души граждан великого тогда еще государства.
Так или иначе, но место культа знаний в нашей жизни постепенно занял культ силы, а термины языкознания и литературоведения по-интеллигентски поспешно уступили место названиям тех или иных ударов в восточных единоборствах и маркам автоматического оружия. Наверное, это могло тогда показаться частью совершенно естественной для юности воинственной бравады, и кто бы знал, что это – надолго.
Студенчество наше сколь лихо началось, столь же лихо для многих и закончилось, и с разницей в год-полтора практически всех «олимпийцев» судьба, как пробки из шампанского, повыстреливала во взрослую жизнь, каковой тогда для всех нас оказалась армия.
Уж не знаю, насколько это можно назвать везением, но моя армия закончилась очень быстро – острым приступом язвы двенадцатиперстной кишки, комиссовали меня прямо из учебки. Обратно в студенчество тоже влиться не удалось, потому что, пока я собирался составить гордость и славу внутренних войск, мое семейное положение на гражданке к немалому моему удивлению стало меняться в сторону скорейшего отцовства, и обещание дождаться любимого из армии у моей будущей жены получило самые неожиданные гарантии. Поэтому уж кто-кто, а Валька моему скоропостижному освобождению от почетной обязанности обрадовалась искренне и просто, невзирая на всю двусмысленность такой радости. В общем, хлеб насущный, а также детское питание насовсем отделили меня от догуливавшей свои последние деньки «олимпийской» вольницы.
А там приспели перемены работы и места жительства, «перемены» вообще – когда время кончилось, и наступили времена. И оказалось, что отыскаться во «временах» гораздо сложнее, чем в многомиллионной Москве…
Глава третья
«Дикие гуси»
Был солнечный, с блеском мокрого асфальта и наивной синевой апрельского неба московский день. Мы гуляли с сыном в Кусково, неподалеку от нашего дома, он время от времени убегал и, скрываясь из виду, с каждым разом возвращался все грязней и грязней. Я догадывался, что потомство мое, по всей видимости, «становится на крыло» и в прямом смысле учится летать. В этом наблюдении было немало грустного: вот-вот он совсем оперится, первым делом отбросит надоевшую вязаную шапочку, а потом и все надоевшее, в том числе и эти наши совместные прогулки. И куда его понесут затем легкие, одним лишь родителям видные крылья? Бог весть…
Так или иначе, но «птичья» тема не покидала меня, готовые образы и сравнения услужливо возникали в голове, и, честно говоря, я даже не удивился, когда, присаживаясь на влажную еще парковую скамейку, увидел в руках у сидевшего на ней парня журнал «Дикие гуси».
Впрочем, еще раз прочитав заглавие, я уже внимательнее всмотрелся в своего соседа: это был невысокого роста коренастый парень лет двадцати пяти, он не разглядывал обвязанных пулеметными лентами (и только) глянцевых красоток на разворотах, не изучал с видом знатока оружейные новинки, его интересовали небольшие объявления на последних страницах. Их он подолгу прощупывал взглядом, и, казалось, старался вычитать что-то между строк.
Очередная отлучка моего чада явно затягивалась, и, когда я, проискав его какое-то время и перехватив уже на берегу огромной лужи (на смену летной шла морская романтика), вернулся на скамейку, парня там уже не было…
Об этом журнале, русском варианте «Солдата удачи», рассказал мне Вовка. Во время нашей последней встречи. Самой последней, как оказалось…
От кого-то из наших общих институтских знакомых он узнал мой московский телефон – и вот спустя семь лет после того, как мы с ним виделись в последний раз (кстати, на проводах в армию одного из последних наших «олимпийцев»), он объявился в первопрестольной, о чем тут же радостно известил меня по телефону.
В Москве, как выяснилось, он и раньше бывал часто, «приезжал погулять»… Правда, в тот раз гулянье у нас с ним не заладилось – у моего малыша обнаружили круп, он температурил и задыхался. Поэтому мы немного посидели с Вовкой на кухне, а потом он и сам, провожая взглядом невыспавшуюся и замотанную Вальку, убиравшую со стола, засобирался и, как водится, наврал, что ему еще куда-то нужно. Причем врал он все так же, будто и не было этих страшных лет, щуря свои честные, пронзительно синие глаза.
Что Вовка мне рассказал в тот приезд? То, что я уже и раньше слышал о нем, – что после дембеля он уже несколько раз устраивался служить по контракту, что деньги хорошие, только платят их не пойми как, да еще и норовят недодать, что надоело ему работать (он так и сказал «работать») здесь. Спрашивал меня про журнал «Дикие гуси», а так как я не знал, то заодно и просветил, что это журнал для наемников и что через него можно завербоваться куда-нибудь «на хорошие бабки». Странно, но он совсем не изменился, хотя по тогдашним нашим семейным обстоятельствам у меня и не было времени особо в него вглядываться, но, по-моему, так оно и было: Вовка как Вовка.
Вот, пожалуй, и все, что я помню о той нашей встрече, ничего необычного, разве что он на полном серьезе несколько раз назвал себя «рейнджером» да жетон этот на груди показал. Я еще тогда спросил: «А что же крест не носишь?» Но Вовка только рукой махнул…
Все это я сбивчиво и рассказал в новогоднюю ночь за столом. Валя уже ушла спать, мы с Евгением Николаевичем сидели одни.
– Ты смотри, – сказал Вертаков, – как мир тесен! А я ведь специально тебе все это приготовил.
Выяснилось, что кроме жетона он привез из Африки еще записную книжку – обыкновенную, в добротном кожаном переплете, с пятнами – скорее всего, от спиртного – на бумаге, с подплывшими кое-где записями.
– Я начал читать, ты знаешь, это очень интересно. Мне ее, как соотечественнику убитого, тогда же полковник Акпата и отдал вместе с жетоном. Книжку нашли у него в вещах. Был там еще и кожаный мешочек с алмазами, но его, как ты понимаешь, честные нигерийцы успели разделить задолго до нашего приезда. А это, я подумал, тебе будет интересно, может и опубликуешь…
…Нет! Мир не только тесен, он еще и чудесен – ведь надо же было так перепутаться судьбам, самолетным трассам и узеньким тропам в джунглях, чтобы в эти первые часы третьего тысячелетия у меня в руках оказался последний привет от друга, частичка его души, неумелая летопись жизни! Все же Бог есть – ведь не может же так быть, чтобы от человека ничего не осталось здесь, на земле, кроме звонкого кусочка железа, грубого солдатского жетона! Вот и твои записи, Вовка, уж точно по Его воле отыскали меня на этом шарике, поэтому, если я в чем и неправ, публикуя их такими, какими получил, не взыщи – тебе оттуда, от престола Всевышнего, конечно, виднее.
И знаешь, я почему-то не сомневаюсь, что ты – там. Ведь суд Его – не наш, и мы не знаем, как будет судить Господь всех нас и это наше страшное время.
Глава четвертая
Прибытие
Из «Записной книжки»
…Решил начать записывать кое-что для себя. Как-то впервые стало страшно. А зацепиться не за что.
Случилось это вчера, по прилете в Абиджан. Городишко так себе, ни разу до этого не был в Африке, но так себе и представлял: пыль, жара и много негров. Удивило, что влажность большая. Поначалу даже дышать трудно, и, самое странное, жара от этого тяжелее, как-то облипает всего сразу, все равно как если в нашу парилку заскочить в мокрой одежде…
Нас тридцать человек – со всего света. Почти полурота, по прилете – сразу в автобус. Датчанин Аксель рванулся было к аэропорту прикупить себе джина, но его без дальних разговоров схватили и втолкнули в автобус. Вообще сопровождающие с нами не цацкаются, оно и правильно: попробуй, довези весь этот сброд до места назначения, да еще незаметно. Вот ведь – и мне с ними жить и воевать! Одно греет – получу камушки, и пошли все они!
Наших тут трое, хотя какие они «наши» – два хохла, бывшие УНА УНСО, и один казах, да я, всего, значит, четверо. По-английски никто толком не шарит, вот и держимся вместе. Даже «незалежники» по-русски заговорили. Подумать только – лет пять-шесть назад в Абхазии они в меня, я в них стреляли, а теперь вместе, подстрелят кого, так еще тащить на себе придется. Хотя со мной они, думаю, нянчиться не будут, случись что, пристрелят, и всего-то делов. Еще и камушки к рукам приберут…
Странно, я их еще и в глаза не видел, а уже боюсь потерять. Какие они, камушки?
…Сейчас перечитал написанное – плохой из меня писатель, забыл, с чего и начинал… Нет, не камушки и не подельники мои испугали меня по прилете.
Нас тогда сразу в гостиницу отвезли, по номерам расселили – по двое в номер, ну, само собой, салоеды, эти вместе, а ко мне Замир (казах наш) прибился. И вот тут-то мы оторвались. Впервые после Парижа. Накачались джином, только что из ушей не льется, и у Замира что-то переклинило, он и пристал ко мне: кто ты да кто ты? А он бывший капитан Советской, между прочим, армии, а я лишь сержант… и к тому же Российской. Но дело не в этом – вот тут-то мне и стало страшно, потому что ничего о себе и сказать-то не могу. И даже не это страшно, а что не помню ничего – все слилось в какую-то одну сплошную черноту. Попробовал подсчитать, сколько воюю, и не смог. Накатил я тогда еще один стакан джина, послал капитана – коротышка он, а не капитан – и рухнул на кровать. А заснуть не могу, и сознание такое четкое, ясное, как перед боем. Слышу, уже и сосед мой захрапел во все свои тощенькие степные легкие, а у меня аж в глазах режет – уставился в одну точку и смотрю. Главное, и повернуться не могу, тело не слушается, как у контуженого. И так жутко, как никогда раньше не было: лежу, как в гробу, ни рукой пошевелить, ни ногой. А вместо мыслей один вопрос: что – все? И только слышно: кондиционер шумит да хохлы в другом конце коридора поют.
И так мне обидно стало, что ничего я этому узкоглазому ответить не смог – ведь было, было. И девки, каких он у себя в степи и не видел, и крутые кабаки, и на тачке по ночной Москве… А сколько парней похоронил! Да сейчас хотя бы одного из них сюда, хотя бы Мишку, мы бы всех этих козлов построили!
В общем, пролежал я так до утра, провспоминал – как оно все начиналось. И слово себе дал, буду записывать – для себя. Утром книжку вот эту на ресепшене купил, пять баксов, бешеные, кстати, здесь деньги.
…Вот так, до тридцати лет дожил, воевал, дважды ранен был, а только здесь, в этой долбаной Африке, понял, что такое страшно. Это когда уже джин не берет и темнота вокруг.
…Проснулся Замир, полез было ко мне с расспросами – послал его. Он меня боится, вша тыловая, всю жизнь в своей Караганде прозаведовал хозчастью, понесло его воевать на старости. Рассказывал мне: шурин его, брат жены, бывший секретарь горкома, а теперь аким – местный князек, совсем зачморил его, вместе с женой его и чморили, ты, мол, не казах, ты с севера, а они – южане, настоящие казахи. Военный, говорят, так и иди воюй!
Вот и притащился сюда, пятый десяток разменял, а из автомата не стрелял ни разу, наемничек! Он один здесь такой, остальные – бандиты еще те.
Взять хотя бы хохлов, эти уж наших, поди, не одного братка упаковали и в Абхазии, и в Чечне. Спрашивал, а они на мой жетон смотрят, мнутся, не воевали, мол. Боятся, что припомню, а что теперь припоминать – все одним миром мазаны.
Скоро снова повезут – Абиджан только перевалка, отсюда в Либерию, а уж из нее – на работу, в Сьерра-Леоне.
…Сейчас летим в самолете, впервые не трясет, решил еще малость записать. Сопровождающий уже подходил, спрашивает, что, мол, делаешь – боятся Интерпола или хрен его знает кого, тактику боя изучаю, ответил. Не поверил, но отошел, теперь косится. А пошли они все!
Мне в Африке начинает нравиться. Сегодня, когда выходили из гостиницы, впервые увидел, как здесь много ящериц! Они крупные, с нашу кошку, и пестрые, так и бегают по улице. Бабочек много, и тоже здоровые, пролетает над тобой, кажется, что солнце крыльями закрывает. Негры тоже интересные, наши их «блэками» называют, черными то есть. Относятся, как к скотам. А мне они чем-то абхазов напомнили – все у них между собой братья и сестры, любой может другого остановить, просто пожаловаться на жизнь или спросить, кто такой, откуда. Живут на улице, даже спят многие на пороге хижин. Особенно мужики, так в одежде и дрыхнут на циновках.
Дороги здесь почище наших, сегодня, когда на самолет повезли, чуть не задохнулся от пыли – стекол в автобусе нет и сам – времен Второй мировой войны. Только теперь понял, почему у многих наших платки на шеях, думал, выеживаются, ковбои долбаные, а они, как только пылища началась, – на лицо платки натянули, почти до глаз, и порядок! Эти уже не в первый раз сюда едут, особняком держатся, «деды» по-нашему…
Нет, хватит писать, тот сопровождающий о чем-то с другим шепчется, на меня смотрят. Случись что, еще крайним сделают, отморозки!
…Наконец добрались до места – это было что-то! Приземлились в Либерии – и снова в автобус. Больше всего мне нравится в Африке таможня, это как у нас на Кавказе. Ведь прибытие трех десятков белых людей здесь не просто событие – шоу, все сбегаются посмотреть. Когда и один-то белый появляется на улице или на рынке, все головы поворачивают и смотрят на него. А тут – тридцать!
Но, я смотрю, у них давно тут все схвачено: мы даже таможенный контроль ни разу не проходили, только приземляемся, сопровождающий идет в аэропорт, дает, сколько надо, полицейскому чиновнику, автобус подъезжает прямо к самолету, грузимся, и все – была полурота белых, и нету!
Так и в этот раз, от аэропорта долго ехали на запад, ориентировался по солнцу. Потом вдруг засвежело-засвежело, и показался какой-то приморский городишко, наподобие Абиджана, только еще задрипанней, уже весь одноэтажный. Порт Робертс, так, по-моему, его называли сопровождающие. И вот когда подъезжали к порту – открылась Атлантика. Странно, но я такой себе ее и представлял – вся синяя-синяя, до самого горизонта. И все-таки отличается от моря, Черного, к примеру. Видел я его с гор под Сухуми – нет, на море теснее как-то. И зеленое оно там, в Абхазии… А тут одно слово – Атлантика!
Но командирам нашим не до красот было, погрузили нас на паром под либерийским флагом, зацепили буксиром – и началось. Плыли одуряюще долго, где-то полдня, почти до вечера. Крепко штормило. Всех без исключения по нескольку раз в эту Атлантику вывернуло от души. Не знаю, как там служат морпехи, но я бы не смог. Некоторые пробовали накачиваться джином, не помогало. В общем, когда к берегу пристали, на пароме была не полурота солдат, а три десятка половых тряпок, только на то и годных, чтобы ими палубу драить, какую они сами же и облевали. «Деды» были не лучше нас – как потом выяснилось, отрабатывался абсолютно новый маршрут, прежние были по суше и гораздо короче.
Выгрузились кое-как, а нас на берегу уже смена ждет. Эти отпахали свое, уже с камушками в мешочках, кто домой, кто передохнуть и развеяться в соседней Гвинее, там, говорят, поцивильнее – курорты, белые девочки. В общем, мы сюда, они отсюда. Что поразило, «дембеля» эти, не здороваясь, молча, прошли мимо нас на паром, только нескольких из них, знакомых, видно, сопровождающие окликнули, перекинулись с ними парой односложных фраз, и все. Веселенькое дело! Нет, хорошо, что я в книжку эту кое-что записывать начал, а то ведь и свихнуться среди них в этом малярийном климате недолго.
Кстати, Замир тоже заметил, что я пишу что-то, расспрашивать начал. Отбрехался, сказал, письма родне пишу. Это он понял – у них там родни по сотне человек, хорошо тебе, говорит. Я вижу, сейчас в жилетку плакаться начнет про жену свою змеюку, отшил его. Неприкаянный он какой-то, случайный среди нас, приехал доказывать что-то кому-то. Детей нет, жена гуляет. Ему и денег-то не надо, пулю он здесь, что ли, ищет? Хрен его знает…
Потом три дня шли джунглями, тоже экзотика – сыро, как в заднице, и все за тебя цепляется. У меня на второй день нос потек, это на такой-то жаре! Цивильное мы там же на берегу с себя поснимали, переоделись в камуфляж, разгрузки. У них там целый схрон устроен. Оружия пока не выдали, только ножи боевые для консервов. Обеспечение хорошее, одежда, ремни – все новое, китайское, правда. А вот с обувью я прямо обалдел: даже наши ботинки «Спецназ» летние были – на выбор. Но я взял «НАТО» летние. Мы их в Чечне с боевиков первым делом с теплых еще снимали – иные и по полтора года отнашивали. А наши берцы уже через пару месяцев лазанья по горам летели. Обувь в нашем деле после автомата самое главное, а здесь еще и противомоскитные сетки. Без них кранты, мало что едва всего не сожрут, так еще и малярию подцепишь. А их в Африке десятка два разновидностей, и средство только одно – джин и противомоскитные сетки.
Так что на себе мы несли только жратву, фляги с водой и джином, палатки и сетки. И все равно шли очень медленно, буквально прорубались. И только на третий день к вечеру вышли на «плантации» – так у них алмазные поля называются. Здесь нам и служить полгода, если ничего не случится.
Глава пятая
В лагере
Пришли мы уже почти в темноте, разбрелись по землянкам и повалились на топчаны замертво. Я проспал четырнадцать часов, встал – солнце уже в зените. Весь лагерь под маскировочными сетями, на деревьях по периметру оборудованы вышки с пулеметами. Сразу предупредили – самим из лагеря не выходить, везде на подходах стоят растяжки. В общем – все, как и в Чечне. Только зелени больше.
В обед нас построили, пришел командир лагеря – полковник Грэмм. Всех перед строем вызывал по списку, коротко оглядывал, некоторых о чем-то спрашивал, «дедам» просто кивал головой. Меня переспросил: «Русский?», я ответил: «Да, сэр».
Похоже, что сам он перенес контузию – левая щека иногда подергивается, поэтому поначалу кажется, что он нервничает. Но это не так. Командир мне понравился сразу, кадровый – это видно. Тогда он нам только и сказал, что наша основная работа – смотреть за «блэками», которые роют алмазы, и охранять лагерь. Война – по желанию. Я сначала не понял, как это, а потом узнал – кто хочет повоевать на стороне мятежников, отдельный договор, ну и сверхурочные, разумеется.
До нашего прихода в лагере оставалось не больше десяти-пятнадцати человек, остальных мы как раз и сменили. Сколько здесь таких лагерей – не знаю, но думаю, что не меньше десятка. Правда, все они гораздо восточнее находятся. И разбросаны по джунглям – дай бог как! Но связь налажена, тропы пробиты, и если где-нибудь алмазные копи попытаются прибрать к рукам мятежники или правительство, то на защиту «плантаций» наши хозяева в нужном месте смогут выставить до батальона прекрасно вооруженных белых наемников. А возникнет надобность – в течение нескольких дней из Европы перебросят еще столько же.
Учитывая, что практически везде это джунгли, тяжелую технику сюда не подтянуть, артиллерию тоже. А минометы у нас и у самих вплоть до 82-миллиметровых есть. Поэтому сама попытка правительства или тех же мятежников вернуть себе алмазные поля в ближайшее время обречена на провал, они это понимают и не суются.
…И потекли недели нашей службы. Первые дни ушли на пристрелку автоматов, ну и выбор же у них – охренеть! Все для ближнего боя: АКМы под патрон 5,45; УЗИ; М–16. Посмотрел клеймо производителя на калаше – был уверен, что Китай. Как же! Родные, «ижмашевские», и это за десятки тысяч верст от России! Потом уже узнал – их сюда, также как и «эфки» (гранаты «Ф–1»), и «эсведешки» (снайперские винтовки «СВД–2», «СВД–5»), и еще кучу всякого нашего вооружения, «незалежная» Украина сбагрила.
Народ оказался весь стреляный, разобрали в основном калаши. Начались дежурства – одни на вышках, другие на копях. Странно, но между нами совсем не проводят боевого слаживания, видно, считают, что и так все все умеют…
Глава шестая
Перед штурмом Фритауна
…Между тем жизнь моя за эти две недели резко изменилась. Прочитал сейчас последнюю свою запись – чудило, надеялся отсидеться до конца контракта в лагере: присматривай себе за «блэками» да потягивай джин! Не вышло. Хотя у многих выходит. Но это их проблемы.
Сейчас у нас перерыв между боями, готовимся штурмовать Фритаун, и, пока мой черный батальон тренируется под чутким руководством Замира, можно и позаписывать. За это время много чего набралось…
Вот написал и подумал – а для чего же ты все-таки пишешь? Ну то, что для себя, это понятно. А главное, главное? Не знаю, может, чтобы не разучиться по-русски… Да и чем еще здесь заняться, кроме войны – телевизора нет, ничего нет, только и дел, что пей этот проклятый джин. Так тут и моего здоровья не хватит!
Самое интересное, как мы оказались на войне. Ведь вот те же хохлы сидят сейчас на плантациях и в ус не дуют, мародеры хреновы! А Замир не смог – я его даже после того случая зауважал. Дело было уже во вторую неделю наших дежурств, у меня как раз накануне была ночь на вышке, поэтому я отсыпался. Да еще и снились Чечня, штурм Совмина, выстрелы, поэтому я долго не мог спросонья сообразить, что стреляют-то рядом. Ну, схватился, конечно, разом – в ботинки, калаш с собой, и на улицу. А там все тихо так, мирно. Только на выходе из лагеря столпилось несколько охранников, Грэмм. Смотрю, среди них и наши бандеровцы. Подошел поближе – негр лежит, уже остывает, и Михась (это тот хохол, который постарше) что-то полковнику объясняет, а Грэмм вроде и не слушает, только что-то очень короткое бросил и показал рукой ему на живот.
Гляжу, Михась, недолго думая, выхватил тесак, задрал черному футболку, вспорол живот, и давай там чего-то ковыряться, даже на колени присел, чтоб сподручнее было. И все стоят, ждут, чем дело кончится. Вдруг младшой, Петро то есть, качнулся в сторону, и все, что у него было внутри, полезло наружу. А эти стоят, хоть бы хны – датчанин Аксель даже схохмил про молодого, и все вокруг заржали.
Подошел, спрашиваю – что, мол, чучело делать собираетесь? Объяснили, что Михась сегодня дежурил на выходе из лагеря, и, когда этот рабочий возвращался в деревню (он чуть-чуть запоздал), хохлу примерещилось, что он несет за щекою бриллиант, Михась его остановил и, опять же, как потом объяснял, – ну ясно увидел, что негр камешек проглотил. Тут он его и пристрелил.
Никакого камушка, разумеется, не нашли – просто этот козел решил власть свою над черными спробовать. А может, и примерещилось спьяну, они же там не просыхают, вояки! В общем, когда камушка не нашли, Грэмм сказал, что все «окей», только «блэкам» признаваться нельзя. «Белый всегда прав». На следующее утро рабочим так и сказали, что их товарища пристрелили при попытке украсть бриллиант и что так будет с каждым, кто попытается обмануть белого человека.
Когда вернулся в землянку, навстречу – Замир с побелевшими от ужаса глазами (он все видел). Ничего ему не сказал, но, когда он узнал на следующий день, что я ухожу воевать, попросился со мной. Все-таки он мужик, не то что эти…
Вообще-то к белым здесь отношение особое, мне поначалу даже в кайф было, потом привык, а те из наших, что из Европы или из Штатов, так у них как будто так и надо. Когда я на следующее утро попросился у Грэмма к повстанцам, он только и спросил – из-за «блэка»? Я ответил, что устал без войны (а это правда), но он все равно не поверил и сказал, что все русские в душе придурки, хотя и хорошие солдаты, что они, англичане, уже триста лет имеют Африку (или владеют Африкой – по-английски это одно и то же) и черных знают насквозь. Мне даже показалось, что он не хотел отпускать меня – но они ведь такие, надуются и виду не покажут. Интересно, а что он Замиру сказал?..
Нет, я, честное слово, был уверен, что здесь интереснее будет: Атлантика, шикарные пляжи, черные женщины… И что же – об Атлантике лучше и не вспоминать, на пляжах, говорят, противопехотных мин больше, чем медуз, а женщины…
Не знаю, мне с ними всегда не везло, что ли, ну в том, нормальном смысле – они всегда раздевались раньше, чем я успевал их захотеть. Сначала по пьянке, затем из-за войны – какая нормальная баба пустится кататься с контрактником по ночной Москве? Никакая…
Но, когда летели сюда, думал, конечно, о черных женщинах – какие они… там, похожи ли на наших? И что это за «дикая африканская страсть» и все такое? Поначалу, до и после марш-броска, не до того было, а как прибыли в лагерь, поосвоились да в деревню за продуктами ходить начали, смотрю, то один наш чернокожую красавицу из буша (так здесь «зеленка» называется) в лагерь приведет, то другой…
Я у них – как, мол, и мне? Все очень просто, говорят, и показывают на камешки. Спрашиваю, неужели любая? Смеются в ответ, говорят, для них с белым человеком и бесплатно за счастье.
В общем, в одну из следующих вылазок в деревню встретил я свою «африканскую страсть» – у колодца стирала что-то в долбленном из цельного дерева корыте. По-моему, поняла все сразу: у нее во время стирки лямка на старенькой, выцветшей ее майке съехала, я туда откровенно и уставился. Поднялась, вытерла одним движением и пот со лба, и руку об волосы, улыбнулась и сказала: «Луис, сэр». Представилась, значит, ну и я тоже, сказал, что она красавица. Короче, когда до цены дошло, она как-то просто и весело сказала – сэр, мол, не обидит. А нищета у них жуткая, поэтому каждый белый – сэр и, само собою, богач…
Я ей сказал, чтобы приходила вечером ко входу в лагерь, и время показал, когда солнце в их деревне сядет за пальмы. Вечером гляжу, еще и солнце не зашло, а она уже возле часового топчется – в той же серенькой маечке, только бусы из какого-то черного не то дерева, не то кости нацепила. Я Замира-то заранее услал к хохлам, пусть там «писни про вильну Украйну послухает», а Луизу в нашу землянку провел…
Еще тогда обратил внимание, что она все время жует что-то и иногда улыбается-улыбается – и вдруг глаза закатит. На дурочку вроде не похожа, а там – кто его знает… Да, ну а потом, как до дела дошло, смотрю, она трястись начала, да так вздергивается, что мне страшно стало, и – то закатит глаза, то уставится прямо на тебя. А когда у нее кровь изо рта потекла – тут я вообще струхнул, ни хрена себе, думаю, «африканские страсти»! Ощущение – будто она перед костром в этих своих бусах мечется и тебя вот-вот по горлу полоснет, в жертву каким-нибудь лесным своим духам!
В общем, выставил я ее, двести леоне местными деньгами дал, иди, говорю, поостынь, больше не приходи. Такая вот экзотика. Потом мне объяснили, что это не кровь, а сок колы (коры местного дуба), здешний наркотик, его-то она и нажевалась для «страстности». Ну и с духами тоже неясно – ведь этот свой черный амулет она так и не сняла, майку скинула, а бусы так и болтались, охраняли ее… Интересно, а меня-то что охраняло?
А самое интересное – на следующее утро зовут меня на КПП, говорят, «блэк» какой-то тебя спрашивает. Думаю, что такое – никаких знакомств с черными не заводил, прихожу – и впрямь стоит какой-то, увидел меня и давай кланяться, улыбаться: спасибо, сэр, это большая честь, сэр, и для меня, и для моей жены, вы очень щедрый белый, сэр, Луис очень довольна, она придет еще, сэр.
Оказалось, это ее муж. Не столкнись сам, ни за что на свете не поверил бы, что так бывает. А здесь это запросто – муж или старший брат приходят и благодарят, что ты попользовался их женой или сестрой, и просят взять их к белому человеку пожить (у нас были в лагере такие, что подолгу жили с черными девушками), видя в этом прямую выгоду – и кормить не надо, да еще и денег подзаработают.
Короче, «любовь» моя и на африканской земле получилась какой-то странной…
Глава седьмая
Письмо сестре
«Здравствуй, Стрекоза! Когда почтальон дядя Миша постучит тебе этим письмом в окно, у вас уже, наверное, будет снег. Так что считай, что это тебе – кусочек жаркого африканского солнца.
Служба у меня идет хорошо, стрельбы никакой, знай себе, охраняй алмазные копи. Зато охотиться ходим часто – на слонов, леопардов и носорогов. Если пропустят на таможне, привезу тебе отсюда шкуру леопарда или носорожий рог.
Ребята подобрались хорошие, много наших – с Украины, Казахстана…
Знаешь, Наташка, давно хотел с тобой поговорить, да все времени не было, поэтому послушай старшего брата сейчас. Я тут от нечего делать чуть было писателем не стал – половину записной книжки исписал „своими впечатлениями“, так что, думаю, у меня получится написать и тебе как следует.
В последнее время мало сплю: душно, москиты гудят всю ночь, поэтому лежу и думаю. За эти ночи я много о нас с тобой передумал и вот что решил: во-первых, Стрекоза – ты девка уже взрослая, красивая, скоро школу закончишь, надо подумать и о будущем, поэтому не спеши с пацанами, не это главное. То есть гуляй, танцуй в клубе, но дальше – ни-ни. Нам с тобой, сестренка, нужно прорываться, а это как в бою. В жизни даже посложнее будет…
Тебе нужно учиться дальше, и не где-нибудь, а в Москве. Деньги у нас (я на твой счет положил, ты знаешь) есть, еще и отсюда малость привезу (а кому-то и бриллиантов, как обещал!). Поэтому решай уже сегодня: куда ты хочешь поступать? Хватит по соревнованиям со своей биатлоночкой мотаться, не бабье это дело по мишеням стрелять, да и не кормежное! Сегодня образование нужно, языки. Главное, синеглазая, ничего не бойся, пойми, с деньгами, с хорошими деньгами, мы всю эту вшивую Москву со всеми ее гнилыми потрохами купим, а не только высшее образование тебе.
А дальше – дальше надо будет определяться, сестренка. Мне ведь тоже надоело по свету мотаться, думаю, что это уже последняя командировка. Чем-нибудь займусь…
Вот только что с отцом делать, не знаю – по новой закодировать его, так сколько ж можно, все без толку. Говорят в Москве есть крутые клиники, где за большие бабки даже самых последних доходяг и наркошек вытягивают, может, и туда пристрою, посмотрим…
Главное – прорваться, понимаешь, Наташк. Я не знаю, как об этом правильно сказать, а только иногда кажется мне, что обложили всех нас по полной программе: поставили на выходах противопехотные мины, натянули растяжки, да еще и снайперов по периметру, чтоб головы нельзя было поднять! Вот и батя…
Кто виноват в этом – жизнь, другие люди, наши правители? Меньше всего, ты знаешь, он сам… И жалко его, и тебе, маленькой, он жизнь поганит. Потерпи его еще, что-нибудь придумаем.
Взять хотя бы меня – уже четвертый десяток разменял, а во всем этом разобраться не могу, поэтому ты учись лучше, книги читай, чтобы у тебя в жизни смысла побольше было.
Пойми самое важное, синеглазая, что нам нужны не копеечки, нет, это-то я понял, и даже не то, чтобы от нас отстали и оставили в покое, пойми, сестренка, – нам нужна Победа. А ты знаешь, что такое Победа? Вот я воюю уже восьмой год, а Победу видел только один раз – в 95-м, в Грозном…
Мы тогда четверо суток не могли пробиться к зданию Совмина, где зацепились морпехи старлея Вдовкина. И ходу-то – десять минут по прямой, а не пройдешь – из подвалов, из люков, изо всех щелей лупят так, что голову не поднять.
И все же пробились, вот уже и Совмин перед глазами, пошли – и тут мой взвод отсекают от наших, откуда-то с верхних этажей в упор по нам заработал пулемет. Лежим, вжались кто куда – кто в воронку от снаряда, кто за бордюр, а я носом в клумбу. И слышу – наши соединились с морпехами, стрельба уже на этажах, а пулемет по нам все кроет и кроет, нос не высунешь. И вдруг – он замолчал, и такая наступила тишина, что мне сначала показалось – контузило. Я трясу головой, гляжу по сторонам, вижу – ребята из моего взвода приподнимаются, сначала потихоньку, настороженно, а потом и во весь рост. А я только собрался встать, как смотрю – перед самым носом у меня фиалка, прошлогодняя, уже почти истлевшая, и так от нее сильно пахнет, ты себе даже представить не можешь. Помнишь, мама еще любила этот запах?
И так меня это поразило: все кругом разворочено, выжжено – а тут фиалка! Я лежу и чувствую, как к ее запаху примешивается, вплетается в него другой – сладковатый, даже приторный запах напалма и выжженной земли. А парни мои уже закурили, стоят не пригибаясь, да и остальные наши вместе с морпехами выходят из подъезда. И ведь всем известно, что бородатых вокруг полно, что зыркают они сейчас на нас из своих щелей, из подвалов, что шипят что-то свое гнилое, пробираясь по канализационным каналам, уходя из города, – но всем известно и другое, что ни одна сука сейчас по нам не выстрелит! Потому что мы задавили их, мы сделали это! И вот это, синеглазая, была Победа…
Потом ее у нас украли, я тебе рассказывал об этом, но она была – наша Победа…»
Здесь заканчиваются Вовкины записи, наверное, помешал бой. Может быть, последний…
Этого я точно не могу знать, зато другое мне представляется очень отчетливо – в час, когда Вовка отложил ручку и вступил в свой последний бой (по рассказам нигерийцев, полковника Акпаты, он погиб от случайного осколка при общем беспорядочном отступлении повстанцев), на другом конце земли был ясный морозный вечер. Дверь одной из крайних изб глухой, заметенной снегами архангельской деревушки отворилась, и в облаке табачного дыма, покачиваясь, вышел на снег не старый еще, но здорово опустившийся, по всему видно – пьющий мужик. Он расстегнул штаны, чтобы справить малую нужду, и посмотрел наверх – колючие декабрьские звезды позванивали в вышине. И вдруг по всему небу прокатился как будто вздох – волны зеленого, красного, желтого задрожали над миром.
– Ишь ты, – сказал мужик, – рановато в этом году играет…
Он хотел сказать что-то еще, но тут его сердце сдавило такой непонятной, тягучей тревогой, что он, зачем-то оглянувшись по сторонам, воровато заспешил обратно. И только миновав темные промороженные сени и войдя в ярко освещенную, натопленную избу, он успокоился. Встретил пронзительно синие вопрошающие глаза дочери, перевел взгляд на ухарскую армейскую фотографию сына, подошел к столу, налил, но не выпил, а только совсем уже жалко, по-стариковски затрясся:
– И где его носит, беспортошного!
Дочь подошла к нему, взяла из вздрагивающих рук стакан, отставила подальше. И тоже посмотрела на фотографию.
…Я потом пытался разыскать их, чтобы отдать Вовкины записи, в министерстве обороны мне даже помогли найти адрес, списаться с районным военкоматом. Но оттуда ответили, что Вовкин отец той же зимой умер, а сестра, не окончив десятилетки и даже не продав избы, куда-то уехала…
А совсем уже недавно по телевизору показывали сюжет про Косово. Сам я начала не видел, меня ближе к концу Валя позвала – в ту пору я как раз заканчивал книгу по истории Сербии (моя давняя боль и любовь!), а на Балканах снова и снова лилась кровь. Мир потрясли очередные зверства исламских боевиков в Косово: свыше тридцати православных храмов было взорвано и сожжено, сотни сербов убиты, тысячи изгнаны с родной земли. И хотя это длилось там уже пятый год (о чем я в книге и писал), но долгожданные внимание и озабоченность «мировой общественности» вызвали, разумеется, не страдания сербов, а то, что албанским бандитам на этот раз под горячую руку попались несколько ооновских полицейских и миротворцев и кто-то из них даже погиб.
У нас с Валей были свои основания бояться таких известий – вот уже полгода как Евгений Николаевич уехал в Сербию в качестве эксперта по проблемам безопасности от какой-то не то датской, не то норвежской гуманитарной миссии. Вертаков своим привычкам не изменял и в очередной раз «случайно» оказался там, где стреляют.
– Милый, ну скорей же – про Сербию показывают! – торопила меня Валя, но, пока я дошел, больше половины сюжета уже показали. – Про сербские анклавы в Косово, – выдохнула она и снова повернулась к экрану.
Камера показывала унылые, кое-где разрушенные дома сербов, обнесенные колючей проволокой дворы и, что просто-таки поражало контрастом, – улыбающиеся, без каких либо следов страха, разве что только немного усталые лица молодых небритых мужчин с автоматами. К ним подходили старые сербские женщины в черных одеждах с иссеченными временем, выгоревшими на солнце лицами – ни дать ни взять наши рязанские или же орловские старухи – и угощали бойцов молоком, яйцами, просто заглядывали в глаза.
Корреспондент рассказывал о местных отрядах самообороны, которые, уже давно не надеясь на помощь натовских вояк, по ночам защищали эти маленькие островки православной Сербии в разъяренном вседозволенностью мусульманском море.
– А правда ли, – спросил он у группы сербских ополченцев, – что среди вас есть и добровольцы из России?
Но сербы только заулыбались в ответ и стали рассказывать подробности ночного боя.
В это время в объектив камеры, показывавшей площадь, на которой сидели у костра ополченцы, попал молодой боец, он, видимо, только проснулся и неторопливо брел к своим, неся в руках снайперскую винтовку. При виде его сербы загудели и что-то взволнованно заговорили, указывая на камеру. Он с удивлением обернулся, и меня буквально резанули пронзительно синие, уже где-то и когда-то виденные мною глаза. Вовкины глаза! От резкого поворота головы у ополченца немного сдвинулся берет, и из-под него выбились, вырвались на волю белокурые, немного вьющиеся длинные волосы…
– Надо же, – прокомментировал этот эпизод русский корреспондент, – и эта красивая сербская девушка вынуждена сегодня взяться за оружие, чтобы защитить своих старых родителей…
Я все еще не мог оторваться от экрана, хотя уже давно шли титры.
– Что с тобой, милый, – встревожилась жена, – кто-то из твоих белградских знакомых?
– Нет, дорогая, видимо, показалось, – пробормотал я и ушел к себе.
Автор глубоко признателен своим военным консультантам:
В. А. Азарову – подполковнику Советской армии, воину-интернационалисту, осуществлявшему миротворческие миссии на территории Афганистана, Боснии, Республики Сербская Краина, Косово, Западной Африки. Кавалеру ордена «Красная Звезда», медали «За боевые заслуги» и многих других отечественных и иностранных орденов и наград. Начальнику службы Безопасности миссии ООН в СьерраЛеоне с 1998 по 1999 год. Автору замечательной книги «Записки миротворца»;
В. В. Вдовкину – подполковнику Российской армии, Герою России, участнику штурма Дворца Дудаева в Грозном в январе 1995 года.
Ромаядины
Семейная хроника
Посвящаю Алексею Полуботе
Пролог
Ни свиста пуль, ни горячей толкнувшей волны воздуха.
Артема обожгла близкая вспышка и оглушил грохот АК–74М.
Автомат был без «банки», громкий, темнота и тишина – полные.
Очередь оказалась короткой.
5,45 – коварный калибр, с двадцати метров даже свист пуль не слышен.
То, что очередь дали по нему, Темка понял сразу.
Давший ее испугался сам.
– Свои, мать вашу! – Темка про своих крикнул почему-то не очень своим голосом. Не очень – потому что услышал его со стороны. – Балу, это ты?
Стрелявший тоже потихоньку возвращался в себя и в ответ нечленораздельно выругался.
Переполох произошел из-за подрыва.
Посреди ночи сработала одна из мин, расставленных по периметру наших позиций.
Со стороны Днепровского лимана.
На побережье.
Вариантов подрыва было всего два: или ДРГ противника зашла на наши мины, или какая животина забрела.
В радиусе нескольких сотен метров уже лежала пара туш диких лошадей, подорвавшихся на «монках».
Могло быть и третье – порывом ветра сломало старую большую ветку, и она упала на проволоку растяжки.
Но ветра не было.
А подрыв был.
Поэтому взвод высыпал из блиндажей в окопы на усиление дежуривших на НП наблюдателей.
Один Артем замешкался, надевая броню, и вышел с опозданием минуты в полторы.
Вот его и приветил Балу, решивший, что это хохол заходит с тыла.
Спасла непроглядная черноморская ночь и еще кое-что. Или Кто…
Но Темка в эту сторону сейчас не думал.
Балу, большой, как мультяшный мишка, по которому он получил позывной, мялся и немножко криво и растерянно улыбался.
Он умел так улыбаться, что ничего ему не скажешь.
В темноте было ни аза не видно, но Темка точно знал – товарищ улыбается.
– Ну, чего лыбишься, стрелок? Вот сходил бы я сейчас к теще на блины… неизведанной длины…
К теще.
Это была отдельная песня.
В общем-то, обычная, пересыпанная анекдотами, но с характерным «московским», оттепельным душком…
Глава 1 Безделушкины
Августа Владленовна почему-то считала себя римской матроной. Хотя от матроны в ней было, прямо скажем, немного – сухая ближневосточная кость и плоть, которая к старости становилась еще суше и ближневосточнее, провисая бесчисленными складками там, где в молодости блестел смуглый, отполированный крымским солнцем палисандр или сандал.
Так ей говорили видевшие и ценившие ее тело поклонники. Про палисандр. Иногда оговариваясь, и тогда получался полиандр[1], что звучало не совсем понятно, но еще более пикантно.
И было тоже правильно, ибо Августа Владленовна только замужем официально значилась несколько раз, про все же остальное говорить не будем, в ее среде это хоть и обсуждалось, но не осуждалось.
Кстати, о среде. Папа Августы – Владлен Борисович – был осветителем в Театре на Таганке и не однократно пил, по его словам, за сценой с самим Володей Высоцким. И не только с Высоцким.
Смуглая девочка росла, можно сказать, на подмостках.
Поэтому Гуся (а именно так повелось у домашних и близких приятелей – Авгуся или попросту Гуся) даже спустя годы после гибели Высоцкого по-прежнему называла его «бедный Володя», Любимова – «дядя Юра», Филатова – «Ленечкой».
Вспоминала с папиных слов историю, как на гастролях в Праге искали американские джинсы для Нееловой, разумеется, «Мариночки».
Последнее, то есть поиск, затруднялся тем, что «Мариночка была худа, как таракан».
Несмотря на погруженность в этот удивительный мир, профессию себе Гуся избрала нетеатральную и попробовала поступить в МГУ на филфак. Читала она всю жизнь жадно, правда – без особого разбору, как правило, то, что было модно в ту пору в ее кругу.
Тем не менее знание запрещенного в позднем СССР Солженицына и «гонимого» лауреата Сталинской премии Некрасова ее не спасло от сокрушительного провала на экзаменах.
Потому что знание «запрещенных и гонимых» не заменяло и не отменяло в МГУ знания Пушкина.
И Толстого.
И Шолохова.
Который хоть и был «сатрап», и «штрейкбрехер», и «певец коммунистического режима», но Нобелевскую премию по литературе получил все-таки не за Чапаева, как выпалила на экзамене Гуся. В ответ на вопрос о главном герое романа Шолохова о Гражданской войне.
Дружный хохот экзаменаторов поразил ее в самое сердце, и со словами «вы все здесь сатрапы» девочка в слезах выбежала из аудитории гуманитарного корпуса на Ленинских горах.
На этом ее борьба с режимом закончилась, прочитанный в перепечатке под одеялом и с фонариком Солженицын после его официального и триумфального издания на Родине был Гусочке уже неинтересен.
А интересным стало то, что в ее возрасте интересно любой девочке, вне зависимости от того, исполнено ее юное сердце тайным презрением к кровавому режиму или оглушено восторженными славословиями комсомольских вожаков, громогласно просивших «убрать Ленина с денег»[2] на стадионах и у памятника Маяковскому.
Гусю заинтересовал противоположный пол. Удивительно, но выросшая среди актеров, суфлеров и монтеров сцены девочка не стала жертвой бурного нетрезвого романа в гримерке.
Ее папа все-таки отвечал за весь свет на спектакле, часами просиживал в кабинете худрука накануне премьер, его уважали.
Может быть, еще и потому, что серьезная девочка поводов не давала. «На филологический поступает».
Для актеров это было очень сложно. Семиотика. Структурный анализ. Сложнее была только модная в ту пору кибернетика.
Поэтому, несмотря на все свои тайные закулисные влюбленности, восемнадцатую весну Авгуся встретила все еще девственницей.
Утрата девственности свершилась у Гуси в общежитии МГУ, в недавно отстроенном Доме аспиранта и студента (ДАС), который столичные пошляки сразу же переименовали в «Дом активного секса». Как видим, не без оснований.
Ее сердце сразил бородатый аспирант из Эстонии Питэр. За время недолгой абитуры Августы они очень быстро сошлись, буквально после нескольких случайных встреч.
Один Питэр счел оглушительный провал Гусочки на экзаменах выдающейся антисоветской акцией, а ответ про Чапаева – блестящей и остроумной отповедью партократам. Фигой, которую наконец-то русская интеллигенция вытащила из кармана и во всеувиденье, громко и демонстративно, показала большевикам.
Он говорил и еще что-такое, но Гуся слушала уже только тембр его голоса и счастливо блестела глазами.
Через семь месяцев у них родилась Машенька, недоношенная, названная так отнюдь не из любви к русским сказкам и старине.
Умом и воображением Питэра в ту пору целиком и безраздельно владел запрещенный Набоков, по которому ему не давали защищать диссертацию.
То есть не то чтобы не давали, просто Питэру хватило его эстонской сообразительности самому не предлагать Набокова в герои своего научного исследования. Зато он решил отыграться на дочери. И вообще-то Машенька должна была стать Адой[3].
Но тут уже встал на дыбы дедушка Владлен и сказал, что внучки с таким именем у него не будет. Достаточно дочки, которую он по глупости разрешил назвать жене согласно римскому месяцеслову. Дедушка хоть и жил в этом странном альтернативном мирке по имени «Таганка», но взглядов был вполне традиционных, ибо прошел войну, а не отсиделся в Ташкенте.
Может, поэтому и Высоцкий нередко из прокуренной и невеселой духоты гримерок убегал к нему, «за сцену». Где можно было наконец-то не хихикать о «совке», а поговорить о жизни. И было с кем.
Поэтому родные сошлись на Машеньке[4].
И дедушке угодили, и очередную яркую антисоветскую манифестацию провели. О характере манифестации знали только двое (Питэр и Августа, которой он все объяснил). Но от этого она была не менее важна и духоподъемна для всех свободных людей мира и приближала конец прогнившего коммунистического режима.
Питэр по обыкновению говорил еще что-то такое, но Гуся не слушала. Сама выросшая без братьев и сестер, она наконец получила долгожданную игрушку, недаром в русском народе говорится: первый ребенок – последняя кукла.
Впрочем, особо баловать девочку с первых дней не удалось. Результатом ожесточенных битв за имя новорожденной стали прохладные отношения между зятем и тестем, которого Владлен Борисович, сам москвич во втором поколении, постоянно тыкал рыбацкой мызой на берегу Балтики, откуда приехал бородатый филолог.
Поэтому в самом непродолжительном времени молодая семья переехала в дворницкую в Черемушках, где Питэру свезло отхватить самую престижную на ту пору работу для творческих и околотворческих натур в Москве – работу дворником. У представителей альтернативной жизни в цене еще были котельные, но там больше ответственности. К тому же Черемушки оказались совершенно новым микрорайоном, с центральным отоплением и киношным лоском. На экраны только что вышел фильм всех времен и народов «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Таким образом, молодожены угнездились в самом эпицентре жизни и времени.
Если еще добавить, что за неимением ванной в дворницкой семья на помывку каждую неделю ходила в общественную баню – переплетение киношной жизни и всамделишной оказалось чрезвычайным.
Питэр в этих семейных, а по большей части и самостоятельных походах в баню настолько вошел в роль любимца женщин Лукашина, что это стало угрожать семейному благополучию.
Злую роль, по слову дедушки, с зятем сыграла «чухонская хромосома», которая не расщепляла алкоголь. Ну или расщепляла его гораздо хуже «русской», не говоря уже про все расщепляющую «еврейскую».
Когда Питэр после очередного гигиенического мероприятия вернулся в дом без бороды – Августа вздрогнула во второй раз.
Первый раз был, когда он привел ее с запеленутой дочерью в дворницкую.
Тогда Гусочка, выросшая на Верхней Радищевской, впервые подумала, что свобода от родителей «совков» и государства могла бы выглядеть и посимпатичней.
Изнеженная девочка столкнулась с многими другими доселе неведомыми ей атрибутами свободы – мытьем полов и посуды, необходимостью готовить себе и Машеньке, походами в магазин и, главное, стоянием в очередях, то есть тем, чем в прежней ее жизни занималась мама.
Притом что доставал все папа. И даже больше, чем все.
Благодаря тетатрально-билетным возможностям и гастролям.
Попасть на спектакль с Высоцким – это, знаете ли, трехлитровой баночкой черной икры не отделаетесь, дорогие гости из Астрахани. Не говоря уже про балычок или лососинку с Дальнего Востока и прочие благорастворения воздухов со всех концов изобильного Союза.
И вот Гусочка осталась безо всех не замечаемых прежде благодатей. Ну практически. Бабушка, конечно же, тащила кое-что для внученьки. С молчаливого неодобрения дедушки. Но по сравнению с прежним это было и в самом деле «кое-что».
Цена свободы оказалась непомерной.
Осознание этого совпало с окончанием аспирантуры ее мужем, который без бороды стал гораздо симпатичнее, хотя и растерял всю свою филологическую брутальность.
Его распределили (не без его горячих и убедительных просьб) в Тарту.
И это стало третьим звоночком, потому что ехать во всесоюзный центр структурализма, хотя и в максимально несоветскую и благоустроенную Эстонию, но за тысячу километров от мамы – Гуся была не готова.
– Я не жена декабриста! – стукнула она кулачком по столу.
– Так ведь не в Сибирь, Гусочка, – попытался возразить Питэр на общесемейном совещании.
– Ну из Эстонии в Сибирь дорожка прямая, – пошутил дедушка Владлен, после чего эстонский филолог обиженно засопел и затих на весь вечер.
Не последнюю роль в расставании сыграло и то, что с недавних пор Питэр с «заседаний кафедры» стал возвращаться, густо попахивая не только коньяком, но и дамскими духами.
В общем, решили, что девочка болезненная, недоношенная, у нее слабые легкие, и прокуренная атмосфера творческих дискуссий во всесоюзном центре структурного анализа ее добьет, поэтому Гусочка с Машенькой пока останутся здесь. Сроки и окончательность этого «пока» предстояло еще выяснить.
В счастливых детских воспоминаниях Машеньки, хоть и немного смазано, но незыблемо сохранились отголоски нескольких поездок с мамой на мызу. Дедушка Тойво и бабушка Салме, суровая серая Балтика, черный дедушкин баркас, на котором он выходил в море ставить ловушки, баснословно вкусная салака, как ее здесь называли, «райма», которую бабушка жарила на черной чугунной сковородке прямо на печке.
Папа с дедушкой, пившие домашнюю водку.
– «Шмыгалка», так она будет по-русски, – пояснял папа.
– Почему? – смеялась мама.
– Потому что ее не пьют, а шмыгают! – серьезно объяснял Питэр, – шмыг, шмыг!
– А-а, теперь я понимаю, почему так много местных в прошлое воскресенье валялось на улицах райцентра. Нашмыгались!
– Трудяги, что ты хочешь. Всю неделю в море. Вот и нашмыгались.
Но таких веселых минут было немного.
Чаще Машина мама сидела на крылечке одна, курила, подолгу смотрела на песчаное взморье, кудлатые бесприютные волны. А папа с дедушкой уединялись в бане обсудить за стаканчиком «шмыгалки» перспективы осеннего хода салаки.
Хотя совершенно точно они ездили с мамой летом, Машенька не помнила, чтобы они купались у дедушки Тойво.
Море, купанье, солнечные брызги – это навсегда вошло в ее жизнь вместе с Крымом, уже с другими дедушкой и бабушкой, московскими.
А на мызе все было как из какой-то давней сказки. Или черно-белого кино.
Машенька же, как и все советские дети (включая антисоветских), любила цветное.
Еще Машенька запомнила папину квартиру, которую тоталитарное государство выделило молодому и многообещающему доценту Тартусского университета родом из деревни – в самом историческом центре города, просторную, трехкомнатную. Недалеко от Ратушной площади.
Диплом и аспирантура МГУ высоко ценились на исторической родине Питэра, которого, несмотря на пока еще достаточно скромные достижения – несколько публикаций в столичных профильных журналах, – уже успели назвать «вторым Лотманом».
И кому это льстило больше – Питэру или самому мэтру[5], – было трудно определить.
Машенька запомнила Ратушу, неубиваемую булыжную мостовую на Ратушной площади, развалины Домского собора Петра и Павла на Домской горке, где находилась библиотека Тартусского университета, мосты через речку с невыговариваемым названием.
Само древнее наименование Тарту – Дерпт, красновато-кирпичный колорит улиц, дома с черепицей, соборы, магазинчики, мосты – все это поразило девочку не меньше черно-белой сказки о рыбацкой мызе.
Августа Владленовна тоже полюбила тесную красоту тартусских улиц, уют кафешек, розы и ухоженные газоны везде, где только можно, местечковую знакомитость и родственность всех встречных и поперечных – все это разительно отличалось от огромных каменных проспектов Москвы, разноплеменных и безликих толп приезжих или таких же толп уже угнездившихся в столице Советского государства. «Лимитчиков», как презрительно называли их в кругу москвичей во втором поколении знакомые Гусочки. «Санаторий повышенной культуры» – отзывался о Прибалтике в целом дедушка Владлен, неоднократно бывавший там на гастролях с театром.
Было это похвалой или ругательством – Машеньке не разъясняли.
В эти счастливые поездки к папе на родину Гуся и Питэр были вместе, пили вкусное черное пиво в кафешках, возвращались, держась за руки, поздно.
За Машенькой в такие вечера приглядывала тетка Питэра, тоже жившая в Тарту, правда, на окраине.
Увы, но совместная радость и близость родителей были редкостью, и хотя Машеньке об этом долго не рассказывали, но и Гуся, и Питэр уже начали жить в разные стороны, каждый своей жизнью.
…Дочь у Владлена Борисовича была единственная и любимая, поэтому после того, как чухонский зять исчез с горизонта, она возвратилась в семью еще более любимой и желанной.
К тому же несчастной.
«С мужем не повезло». Так решили в семье Ромаядиных (Гусочка сохранила за собой и дочерью дедушкину «прославленную в театральном мире» фамилию).
Впрочем, нельзя сказать, чтобы Гуся сходила замуж напрасно, вернулась-то она с трофеем. Говорить о том, что дедушка с первых же дней в Машеньке души не чаял, думаю, излишне.
Трофей, по большому счету, и достался однодетным и недолюбившим в свое время бабушке и дедушке.
А для Гусочки началась подлинная свобода.
Предоставив питание и воспитание дочери родителям, Августа Владленовна, ставшая наконец женщиной и как-то случайно даже матерью, впервые так остро и радостно оценила ту атмосферу, которая совершенно безо всяких усилий досталась ей с детства.
Предприняв не совсем удачную, но честную попытку пожить своим умом, Гуся вернулась к родным пенатам во всеоружии только что распустившейся женственности и в поисках потерянного понапрасну времени окунулась в увлекательную жизнь закулисья с головой.
Несмотря на всю театральную прославленность фамилии Ромаядиных, местечка в Театре на Таганке для Гусочки не нашлось, но Владлен Борисович без труда устроил ее в находившуюся поблизости Библиотеку иностранной литературы, знаменитую «Иностранку».
Как это ни странно, работа в «Иностранке» Августу увлекла, видимо, несбывшееся филологическое нашло себя в библиотечном.
Наряду с заочным обучением в «Кульке»[6] Гуся со всем пылом нерастраченной молодости ушла в мир модных зарубежных писателей, редких или полузапрещенных изданий, театральных премьер и артистических квартирников, на которые съезжалась «вся свободомыслящая Москва».
Машенька к обоюдной радости сторон оказалась на полном попечении бабушки и дедушки.
О чувствах третьей стороны, собственно отца ребенка, справлялись мало, хотя в структуралистском и постструктуралистском бытии Питэра образ «похищенной» дочери становился все более и более навязчивым. Особенно за стаканчиком шмыгалки.
Пока Питэра, как и его прославленного шефа, преследовала удача и советский (в сокровенной глубине своей, конечно, антисоветский) структурализм был моден и привечаем в известных кругах творческой интеллигенции в СССР и на Западе – приглашения на международные конференции и симпозиумы следовали одно за другим.
Папа Питэр летал в свободный мир через Москву и привозил оттуда Машеньке дорогие и редкостные шмотки, а также книги парижских и немецких издательств с творениями постепенно разрешаемых в стране писателей.
Режим слабел, разрешенного становилось все больше и больше.
Привозил он подарки и для возлюбленной жены своей Гусочки: тоже книги и шмотки; и тогда родители изображали для дочери любовь и взаимопонимание, даже спали вместе – по-дружески.
Машенька всего этого не понимала, но ей, как и любому другому ребенку, нравилось, что папа и мама вместе.
В такие минуты она была счастлива.
Впрочем, дети обычно счастливы и во все остальные минуты. Кроме тех, когда они действительно несчастливы.
Глава 2 Возвращение в реальность
Однако эпоха Таганки, советского структурализма и необременительной «борьбы с режимом» заканчивалась.
На экранах страны замаячил говорливый молодой генсек с апокалиптической отметиной на голове, который стал все чаще выезжать за границу – то ли для того, чтобы проветрить застоявшийся воздух в стране, то ли для того, чтобы проветрить многочисленные наряды своей супруги, скопившиеся в кремлевских гардеробах.
Про зловещую отметину сразу же пошли толки в народе. «Темном и неграмотном».
Спустя тридцать лет в залитой кровью по всему периметру, нарезанной на ломти бывшей великой стране эти предзнаменования уже не будут казаться такими смешными и недалекими.
Средняя и младшая Ромаядины перемены в стране восприняли с энтузиазмом. Старшие с опаской.
Выход из обрыдлых прокуренных притонов свободы в квартирниках и подвалах обеих столиц на свежий воздух улиц и площадей будоражил кровь.
Получалось совсем по Достоевскому: «все позволено».
Мало кого настораживало, что позволение было даровано сверху.
Не в смысле свыше, а в смысле от начальства.
Августу Владленовну, на тот момент повторно замужнюю, будто настигла вторая юность – она бегала на митинги, боялась намечавшихся еврейских погромов, радовалась их отмене.
Пошла на баррикады к Белому дому (не те, всамделишные, которые будут расстреливать из 125-мм орудий и давить танковыми гусеницами в октябре 1993-го, а милые и бутафорские августа 1991-го), слушала вместе со всеми по транзистору «Радио Свободу», ела кооперативные бутерброды, которыми кормили защитников демократии мордатые столичные кооператоры.
Там, на баррикадах 1991-го, взявшись за руки, чтоб не пропасть поодиночке, стояли они несколько ночей подряд, молодые и свободные.
По дороге на перегороженный танками душителей Новый Арбат в троллейбусе Гуся даже вывела пальчиком на запыленном оконном стекле «КП», за что была восторженно одобрена своим вторым мужем и не одобрена пожилыми пассажирами рабочей наружности.
Но эти и другие милые шалости закончились.
Заказчики свободного волеизъявления и мордатые кооператоры своего достигли, танки разъехались, клоуны остались.
Альпийским топором Троцкого по национальной разметке Ленина вороватые правнуки большевиков разрубили страну по живому. Чухонский папа Машеньки оказался по другую сторону границы. А Ромаядины, как и большинство восторженной околотворческой интеллигенции, чаявшей перемен и изобилия, оказались в нищете.
Черная икра банками в обмен на несколько децибелов живого Высоцкого и бесплатное жилье остались в прошлом.
Вместе с самим Владимиром Семеновичем и дедушкой Владленом.
Оба, не сговариваясь, решили в новую жизнь и в новую страну не переезжать.
И остались в старой.
Навсегда.
После смерти дедушки жизнь семьи Ромаядиных резко изменилась. Стало не хватать буквально всего.
Это совпало с пускавшим пузыри на телеэкранах Гайдаром, рыжим Чубайсом и приватизацией.
«Бойся рыжих и косых» – говорили на Руси раньше.
Как и в случае с меченым генсеком – предзнаменованиям никто не внял. Повествовавшая об успехах приватизации телеведущая косила глазами на всю страну, но никого это уже не смущало. На телеэкраны и в радиоэфир ринулись толпы гугнивых и косноязычных, в литературу – матерная речь и блудописание.
Над всем этим полыхала рыжей окалиной голова заокеанского назначенца, незыблемость происшедшего со страной в прямом эфире скреплял ударом беспалого кулака по столу новый президент:
– Тэк… Я сказал!!!
…Тем временем Машенька вошла в пору. Жили они с бабушкой вдвоем. Августа Владленовна обретала очередное семейное счастье и жила со своим молодым избранником наособицу.
Папа Питэр стал в Москве совсем редок, «национальные фронты» в прибалтийских землях громили все советское, стало быть, русское, потому что еврейское советское успели вычистить зондеркоманды из местных еще в годы Великой Отечественной войны, а другого советского, кроме русского, у них попросту не было.
Русская литература, даже с антисоветчиками Набоковым, Солженицыным и Бродским, вдруг стала совершенно невостребована в переживавшей судорожный ренессанс местной национальной культуре, в прошлом большей частью хуторской и рыбачьей, а теперь вовсю старавшейся стать европейской и англоязычной.
А Машенька, повторимся, вошла в пору. И в свои восемнадцать она так же невероятно сияла глазами, как и Августа Владленовна в начале пути. Как, пожалуй, и все девушки на свете – в ожидании незаслуженных и неизбежных чудес. Люди без воображения называют это гормональным взрывом. И не пишут стихов.
Машенька писала…
…Та ночь на Косе задалась, прямо сказать, с огоньком.
После подрыва и дружеского огня чевэкашники быстро прочухались, и, пока Темка с Балу выясняли, кто из них больший идиот, Лука и Сеня, сидевшие на передовом НП с видом на Днепровский лиман, принялись выстригать темноту ночи из «Утеса».
Сеня божился, что разглядел на берегу две теплые точки и силуэт лодки. Теплак был так себе, но живое и горячее от холодного отделял.
На пулемете теплака не было, поэтому Лука поливал берег втемную. Но от души.
А вот трассеров в коробах не было. Снабжали доброволов по остаточному принципу.
Сеня пытался корректировать, но потом с досадой бросил:
– Ушли!
Потихоньку к НП стали подтягиваться бойцы: узнать, «шо це було»?
Это Цыган, старшина из Краматорска, щеголял знанием мовы.
Получалось не всегда.
На прошлых позициях пошли с утреца в Геройское к соседям, морпехам-североморцам, ремонтникам, раздобыться бензином, а если повезет, и гранатами.
– Доброго ранку! – входя в гараж, сказал Цыган стоявшим к нему спиной братушкам.
Воцарилась нехорошая тишина. Которая оборвалась лязгом патронов, досылаемых в патронник.
– Да что вы, братцы, – мы свои…
Двое «штурмов», которые тоже зашли к ремонтерам, поворачивались медленно. Очень медленно. Со стволами наизготовку.
Цыган, конечно, получил по шее. Точнее, по кепке. Но шутить не перестал…
Где-то справа, с наших позиций, длинной почему-то очередью в сторону берега разродился АК–74М. Высадив полмагазина, стрелявший успокоился.
Но проснулись артиллеристы.
Стоявшая в лесочке возле Покровского «дэ-двадцатая» вдарила по противоположному берегу. Через пару минут еще.
Хохол обиделся и ответил из «саушки», которая регулярно выкатывалась и работала по нашему берегу со стороны Очакова.
Теперь полетело по нам.
Не прямо по нам. Но близко.
Значит, подняли беспилотник, засекли нашу бестолковую движуху.
Бойцы тут же попадали: кто в блиндажи, кто поумнее и поопытнее – в лисьи норы.
Тем временем, арта занялась своим любимым развлечением – начался пинг-понг, наши старались подловить вражескую «саушку», хохол «стодвадцатьвторыми» снарядами шерстил прибрежный лес в поисках одинокой гаубицы.
Все это летало над головами доброволов, но вреда не причиняло.
– Ну что, братец, с днем рожденья! – Балу выкопал из песка канистру со спиртом и плеснул Артему в кружку.
– Тогда уж с ночью, – криво улыбнулся Темыч, вспомнив очередь над головой.
В конце концов Темка заснул, и приснилась ему Маша…
…Машенька не любила вспоминать девяностые – бедность, если не сказать нищета, обрушилась на юную девушку и ее бабушку вместе с демократией и свободой слова.
Августа Владленовна тоже поджала перышки, но виду не показывала. Да и сама показывалась на родительской квартире нечасто.
Новое семейное гнездо у модной библиотекарши «за тридцать» оказалось пустынным, очередной муж сказал ей твердо, что детей ему не надо, а жить нужно духовной жизнью.
Правда, супружеского ложа он не отвергал, скорее даже напротив, поэтому гормональные таблетки супруги неизменно сопровождали духовные стремления и искания новой семьи, добавляя к неизбежной старости женщины будущие проблемы с надпочечниками и суставами.
Новый муж Августы Владленовны был историк искусств и неофит, читал митрополита Антония Блюма и диакона Кураева. Начинал еще более широко, как и многие из его круга, – с несчастного Александра Меня. Но потом, как сам признавался, перерос заблуждения последнего.
Машенька не голодала, но платье на выпускной пришлось шить самой. И хотя от былых замашек Августы Владленовны осталось немного, перевод дочери в престижную школу она все-таки сумела устроить.
Девушка заканчивала 11-й класс среди детей «новых русских», стремительно народившихся из старых нерусских, большей частью торгпредовских и комсомольских.
Поэтому ее самодельное платье разглядели все – одноклассницы с издевкой, парни с пренебрежением.
Друзей и подруг у Машеньки в школе не было.
В этом мире рассказы о Высоцком и Таганке не котировались.
В университете все резко изменилось, Машенька исполнила мамину мечту и поступила на филологический в МГУ.
Там знание Набокова и диссидентский шарм 70-х ценились выше родительских «мерседесов», а святая филологическая нищета была пропуском в самые отчаянные и запретные тусовки интеллектуальной Москвы.
Советские хиппи доживали свой век на филфаках.
Доживали уже с полной свободой «свободной любви», вина и наркотиков.
На одном из таких флэтовников[7] Машеньку и завалил патлатый рок-музыкант, лидер какой-то прочно забытой университетской рок-группы середины 90-х.
Она думала, что полюбила навсегда, и посвящала ему стихи.
Он возил ее автостопом через всю Россию по доступным тогда еще Украине и Прибалтике: то к Черному морю, то к Балтийскому.
Тогда-то Машенька и оказалась в Тарту, впервые с детства.
Но встреча с папой получилась холодной.
Питэр, как и Августа Владленовна, в очередной раз устраивал счастливую личную жизнь, и его молоденькая аспирантка посмотрела при встрече на Машеньку скорее не как на дочь, а как на конкурентку.
В искривленной набоковской вселенной такое было вполне себе вполне, поэтому Машенька с возлюбленным достаточно быстро покинули ставший еще более провинциальным старинный Дерпт.
Уже уезжая на трейлере с попутным дальнобоем, на железнодорожном переезде она с грустью отметила ржавеющую узкоколейку с осыпающимися платформами, по которой раз в неделю теперь бегали списанные в Европе дизельные дрезины с вагончиками.
Следы предшествующей высокоразвитой цивилизации стремительно зарастали диким виноградом и дурниной…
Несмотря на жесткое последовавшее разочарование, годы любви она и потом вспоминала с блестящими глазами, как самое лучшее в ее жизни.
Хиппи заразил ее трихомониазом, не со зла, конечно. Просто свободная любовь предполагает сожительство с разными людьми одновременно.
Так Машенька узнала, что она у него не одна.
Несмотря на провозглашенную свободу отношений и прочего, она оказалась не готова к такой любви, и хиппи исчез из ее судьбы.
Но не бесследно.
После болезни Машенька получила хроническое бесплодие, потому что маленькие трихомонады не только причинили ей серьезное беспокойство в личной гигиене и боль при сексе, но и проникли в маточные трубы, где от воспаления появились непроходимые спайки.
Правда, узнает об этом Машенька уже спустя десятилетия, когда захочет и не сможет стать мамой.
…А вот Августа Владленовна начала сдавать.
Причиной этому был Путин.
Наступили двухтысячные, и расставание с ее последним официальным мужем вынудило стареющую матрону вернуться в родительские пенаты.
Признаться себе в крушении всех надежд на личное счастье Августа Владленовна не могла, и тут ее в третий раз настигла нестареющая страсть к диссидентству.
У нее наконец появился персональный враг, и увядающая женщина вздохнула свободно. Теперь каждая новая морщина на ее лице (а для женщины это посерьезней разных там «шрамов на сердце») была обязана своим появлением Путину.
Все встало на свои места, во всех ее бедах и даже болезнях отныне были виноваты «проклятые чекисты».
Материально и морально она укрепилась тоже как никогда: узнав о «неприличной болезни» дочери, Августа Владленовна пригвоздила Машеньку таким презрением, что и без того сутуловатая и прозрачноватая молодая женщина съежилась до математической точки.
Отныне вся ее жизнь была безраздельно посвящена матери, только так неблагодарная дочь могла искупить свои прошлые преступления перед светлым образом Августы Владленовны и избегнуть будущих.
– Хватит бегать за мужиками, заломив хобот! – отрезала Августа Владленовна, после чего великодушно простила дочь.
Грешки «для здоровья» она, конечно, разрешила – но согласованные, с утвержденными кандидатурами.
Этому предшествовала поездка с бабушкой под Анапу, в небольшой курортный поселок Сукко. Машенька измену переживала тяжело, хотя и молчала. Уже на грани нервного истощения бабушка, единственный, как оказалось, свет в небольшой Машиной жизни, схватила великовозрастную девочку чуть ли не за руку и увезла к морю. Как в старые добрые времена, когда был жив дедушка.
Там, после купания в прозрачном с окатистой галькой море, юная женщина забиралась на крутую и почти отвесную гору справа от городского пляжа и подолгу смотрела вдаль со смотровой площадки.
Странно, но ни измена, ни постыдная болезнь желания броситься со скалы в ней не вызывали.
Какую-то неистощимую и неубиваемую жизненную силу она унаследовала от папы, что-то чухонское, крепкое, как рыбачья мыза, гнездилось в ее субтильном – вся в мать – и в тоже время привлекательном точеном юном теле.
Поездка к морю оказалась последним подарком из детства. Вскоре бабушки не стало.
Машенька выздоровела физически, но забросила филологические мечты и мысли о диссертации, устроилась на хорошую зарплату редактором на телецентре и зажила со стареющей Августой Владленовной душа в душу.
Иногда ее что-то смутно тревожило, особенно в церкви, и, когда радостные мамаши несли к причастию малышей, у Машеньки почему-то наворачивались слезы. Она сама не знала почему. Но призрак одиночества и брошенности веял где-то поблизости, и тогда молодая женщина еще теснее прижималась к матери.
О большем Августа Владленовна не могла и мечтать. Машенька зарабатывала хорошо и почти все тратила на мать. Надо сказать, что к 2010-м годам XXI века, несмотря на все злодеяния «чекистского режима», недорогие россияне обросли жирком, и отдых в Турции или Египте стал повседневностью.
Турцией и Египтом Августа Владленовна, как «женщина из театральной среды» и с художественным вкусом, разумеется, брезговала, и Машенька, превратившаяся для матери и в секретаршу, и в маркетолога, и в финансового директора, заказывала ей туры в Италию или Испанию. Как правило, сама же ее туда и сопровождала.
Потому как чемоданы тоже кто-то таскать должен.
Да и разговорным английским в этой странной семье владела она одна. Диссидентствующая работница «Иностранки» языкам была не обучена, как-то не склалось.
Сначала был муж, блестяще владевший английским и французским, теперь дочь.
Питэр, как и большинство жителей приграничных территорий, тоже с языками ладил, но когда Августа Владленовна говорила «муж», по умолчанию подразумевался последний ее муж.
Бородатый филолог из далекого Тарту в воображении стареющей матроны с Таганки из величины относительной постепенно превращался в величину отрицательную, первопричину ее бед и страданий. Поэтому с недавнего времени все больше обходился молчанием.
Да и проявлялся в их жизни он все реже и реже, как правило, звонками к католическому Рождеству и Машиному дню рождения.
Помимо шоппинга в Милане и обязательного Святого Семейства в Барселоне Августа Владленовна все больше заболевала оппозиционными расстройствами.
Особенно обострилось это в период климакса, и, когда импозантная заведующая сектором литературы ХХ века в «Иностранке» поняла, что отныне она уже не вполне женщина, внутри у нее что-то оборвалось.
Доконала Августу Владленовну установка памятника Солженицыну на Таганке.
– Это чекисты ему за ту мерзкую антисемитскую книжонку[8] памятник поставили, – прошипела она и весь день ходила как ужаленная.
Неизвестно, вспоминала ли она в тот день свою юность, чтение «Архипелага ГУЛАГа» под одеялом или нет, но однозначно, что и те святые годы «борьбы с кровавой гэбней», и сама священная, не вставшая на колени Таганка были теперь отравлены и непоправимо осквернены.
Приезд на открытие памятника президента страны оказался последним ударом для стареющей женщины.
Вся подлость окружающего ее мира стала как-то особенно неприглядна.
Причина ее бед помимо несчастного Питэра теперь персонализировалась.
Но кроме Путина, что было совершенно ясно, ее до невозможности раздражал и весь «этот рабский народ», который упорно, раз за разом голосовал за него.
Нечего и говорить, что в ее среде представителей этого народа практически не было.
– Он что, из колхоза «Красный луч»? – с презрением спрашивала она у дочери про кого-то из общих знакомых, если хотела того окончательно истребить в глазах Машеньки.
Тот факт, что ее собственная бабушка (одна из бабушек) была из деревни, а дедушка работал на заводе «Серп и Молот», и ее собственное самое что ни на есть кондовое рабоче-крестьянское происхождение, как-то оказывались напрочь заполированы ближневосточной семейной ветвью, театральным прошлым и библиотечным настоящим Августы Владленовны.
Впрочем, точно такое же настроение царило и у Машеньки в телецентре:
– Как тебе возвращение на Родину, к родным осинкам? – насмешливо спрашивали ее по окончании отпуска.
Машенька привычно кривилась:
– Жить хорошо там, а вот умирать придется здесь…
– Только не на работе, Машенька, только не на работе, – успокаивал хорошенькую женщину начальник, – кстати, сегодня у нас опять патриотизм и любовь к Родине, кто-то из Госдумы придет в студию, кто – еще уточняем…
Артем проснулся от взрыкивания бензопилы над головой. Странное дело, к далеким выходам и прилетам привыкаешь, даже поспать удается.
А вот звук из мирной прошлой жизни разбудил. Двухтактный двигатель работал уже на холостых, когда Темыч, отряхивая песок, выбрался из блиндажа.
– А я думал «Фурия»[9] над нами кружит.
– Тогда уж «Герань»[10], – ответил Зима, неумело державший бензопилу, – «Фурия» на электротяге…
– Что случилось, брат? – Тема осмотрел бензопилу. – Дрова вроде как не нужны, жара давит…
– Тьма, ты все проспал – под утро накрыло дальний НП. То ли откорректировали хохла, то ли просто по квадратам накидывал. Слава Богу, Суворыч выход просчитал, выскочил за пару секунд до прилета оттуда… А вот «Дашке»[11] хана. Погнуло так, что теперь ею только в хоккей играть!
– Скорее уж в гольф! Зимний ты человек, Зима, все бы тебе в хоккей…
Все-таки Тема вспомнил, что под утро блиндаж хорошенько тряхнуло. Значит «Гвоздика» с той стороны нащупала доброволов, хреново дело.
Хотя, может, и повезло хохлу…
– Хорошо разобрало блиндаж?
– По новой перекрывать будем. Два наката минимум.
– Дай инструмент, не порти казенное имущество, пошли сосенки выбирать…
Прибрежный лес, где нарезали позиции добровольцам батальона «Борей», только у генералов на картах значился большим зеленым пятном.
На самом деле еще прошлой осенью хохол зажигалками спалил этот и многие другие заповедные леса на Кинбурнской косе, выкуривая русских из «зеленки».
Русских выкурить не удалось, но то, что уцелело, «зеленкой» можно было назвать весьма условно.
Позиции «Борея» находились на песчаном взгорке, по которому реденько торчали опаленные внизу сосенки, кое-где с чахлой зеленью. Деревца были небольшие, пять-шесть метров высотой.
Найти хорошую сосну на блиндаж в два наката было непросто, к тому же свежая залысина в соснячке могла бы выдать позиции, которые, походу, и так уже были засвечены.
Поэтому пошли подальше от своих.
Когда Тема почти профессионально завалил третью сосну, Зима не сдержался:
– Ты где так навострился? Не на Колыме?
– Нет, братец, у себя в деревне – под Тулой, сухие дубы валил, было время…
Темыч вспомнил ту зиму. После развода он не мог больше оставаться в Москве в своей квартире. Все напоминало о ней, о бывшей. А он все еще любил ее, носил в сердце.
Поэтому не мог видеть общих знакомых. Вообще не понимал, как жить дальше? Что-то сломалось внутри, и хороший бренди не помогал. Напротив…
У него был деревенский дом, в деревне под Тулой, недалеко от Белева.
Туда он и уехал пожить, порыбачить. Свою однушку в Москве сдал знакомым, на работе сказался больным, и надолго, а так как преподавал в нескольких вузах сразу, рассорился с деканами (которых, конечно, подвел), но все равно уехал.
На ежемесячные выплаты за квартиру Тема вполне себе зажил в среднерусской глуши. Один. С рыжей кошкой, которую привез из Москвы.
Дом был вполне сносный, крепкий крестьянский пятистенок, купленный по случаю в дачных целях.
Одно плохо – отапливался дровами. И даже не то плохо, что дровами. Печной добрый огонь отогревал длинными осенними и зимними вечерами заплутавшую Темкину душу, успокаивал. Плохо, что в безлесом полустепном крае найти дрова было непросто.
Тема по осени новенькой итальянской бензопилой напилил сухих ракиток вдоль Оки и радовался, что забил сарай дровами.
Но, когда пришло время топить, понял, чему посмеивался сосед Петрович, глядя на его заготовки.
Дыму ракита давала много, а тепла мало.
Петрович же и указал ему на дубки на взгорке за деревней: весенним палом многие из них погубило, и к зиме высокие крепкие деревья, обугленные у комля, были уже готовыми дровами.
Там-то со своим «Партнером» Артем и осваивал навыки запилов и валки крупных деревьев, осваивал удачно, потому что умудрился не покалечиться.
Зато и дрова из сухих дубков оказались! В самые лютые морозы заряжал Тема дубками свою печь, и те горели – аж загнетки плавились!
– О чем задумался, боец? – вернул его на обожженную и исковерканную снарядами землю окрик.
Перед доброволами вырос комбат. Хромой воевал давно, с 14-го. Поэтому идиотов, заходивших на боевые колоннами, сторонился и сам свой командирский «Патрик» оставлял в кустах за километр-полтора от позиций.
Поэтому и вырос внезапно.
– Да вот, сосну на блиндаж валим. Разворотило…
– Знаю, – отрезал Хромой. – Делайте быстрее, пока небо чистое.
– Так точно, – отозвались Тема с Зимой и продолжили распиливать уже поваленные деревья.
Хромой был родом из Очакова, он часто приезжал именно сюда, на берег лимана, смотрел в бинокль в сторону родного города.
О чем он думал в эти минуты? Или когда упрямые «Герани» или тяжелые «Искандеры» ночью шли на Очаков, где остались его прежняя жизнь, семья?
Действительную Хромой отслужил морпехом в разведбате на Дальнем Востоке. На дембель уходил прапором, ротный не хотел отпускать, даже документы спрятал. Но не удержал, так рвался хлопец домой. Выкрал документы и ушел.
Да и какой бы он был разведчик, если бы не выкрал своих документов!
А дома ждали дела. По стране уже вовсю кружила перестройка и неразлучная с ней перестрелка.
Навыки морпеха-разведчика пришлись кстати в новой жизни. Так же как и характер – прямой и отчаянный.
Ко времени развала Союза Хромой (тогда еще не хромой) разъезжал по Очакову на квадратном джипе «Чероки» и держал под собой коммерческие ларьки в городе и по побережью.
В те же времена во время непарламентских дебатов по вопросам о собственности он и получил две пули в колено. Ходить продолжил, но стал осторожней. На закате лихих 90-х Хромой сумел соскочить с бандитского гуляйполя, во власть не пошел, оставил себе пару заправок и стал приличным украинским бизнесменом.
Джип «Чероки» поменял на глазастый «двести третий» «мерседес», завел семью, и все бы так оно и шло.
Но случился 2014 год. Очаков, как и Одесса, как и Николаев, как и Мариуполь, как и все Черноморское и Азовское побережье Юго-Востока бывшей УССР, не видел себя в одном государстве со зверьем, приехавшим с Западенщины и татуированном свастиками и нацистскими рунами.
За оружие взялся только Донбасс.
Туда и подался Хромой еще в апреле, а уже в начале мая на Украине был объявлен первый траур по погибшим в АТО под Крамоторском.
И Хромой не без оснований считал себя причастным к этому событию…
Глава 3 Встреча
Они встретились в Краснодаре, на «Селезневских чтениях».
Тема еще во время учебы на истфаке МГУ пробовал себя в журналистике, но не особенно получилось. Пробовал заняться и рерайтом, принес свои литературные опусы в небольшое немецкое издательство на Полянку.
Опусы понравились.
Редакторша сказала, что у него нежный, акварельный стиль.
Артему предложили передирать иностранных авторов на русские реалии и с русскими именами.
– Гугл в помощь! – улыбнулась редакторша. И дала ему англоязычный подлинник. – Перепишите это вашим нежным, акварельным стилем.
Тема насиловал себя несколько недель подряд, получилось полтора авторских листа чудовищного текста, больше похожего на крик о помощи.
А нужно было десять листов…
Зацепиться на кафедре отечественной истории тоже не вышло.
Дело в том, что уже на третьем курсе Тема открыл для себя Кожинова и понял, что не столько история, сколько историософия его конек.
Общеобразовательные Данилевский и Константин Леонтьев, вскользь листаемые либеральной историографией, его перевернули.
Дальше уже пошло само собой: братья Киреевские и Аксаковы, публицистика Тютчева и Страхова, «Дневник писателя» Достоевского и Розанов…
В ХХ веке историософия Флоренского и Гумилева. Ну и, конечно, современники: Селезнев, Шафаревич, Палиевский…
С таким образом мыслей в конце 90-х – начале 2000-х на истфаке МГУ делать было нечего.
Наткнувшись однажды на объявление о «Кожиновских чтениях», Тема буквально напросился на конференцию в Армавир, где они проходили.
Там он встретил вдову и единомышленников главного идеолога «русской партии» (так называли Кожинова и друзья, и враги), русских интеллектуалов. В основном филологов, но были и историки.
После этого вопрос защиты диссертации решился сам собой.
Артем и защитился по Кожинову, но уже в Краснодаре.
…А Машенька приехала на чтения случайно. Уже давным давно позаброшенные мечты об аспирантуре и диссертации неожиданно оживила – точнее, разрешила оживить дочери – Августа Владленовна.
Видимо, не совсем полноценное собственное очно-заочное образование где-то подтачивало ее самооценку.
Бородатая тень Питэра укоризненно взирала на них обеих.
Отыграться решено было на Машеньке, и ее после десятилетнего перерыва направили в науку.
Неизвестно, чтобы она выбрала в двадцать лет, сразу по окончании филфака, но на четвертом десятке Машенька выбрала Достоевского.
Достоевским она утешалась.
«Каждый перед всеми за все виноват» – говорил ее любимый старец Зосима.
А значит, и страдают все по делу и не зря.
Это ей было близко и понятно.
Тема был далеко не мальчик. Развод и много чего еще за спиной. Но таких сияющих глаз он не видел. Даже теребил себя за волосы, не сон ли это.
Уже сидя за традиционным филологическим шашлыком в Архипо-Осиповке, куда гости конференции поехали после пленарных заседаний, глядя на берегу моря на серые, какие-то бесконечные в своей вскипающей белизне вечные волны – он нет-нет и оборачивался к Машеньке, даже спиной чувствуя, как блестят для него ее глаза.
То есть сначала Машенька ему просто понравилась.
Потом выяснилось, что они практически в одни годы учились в Московском университете. Общие преподаватели, студенческие тусовки, фестивали…











