Читать онлайн История духа
- Автор: Виктор Балдоржиев
- Жанр: Публицистика, Историческая литература, Современная русская литература
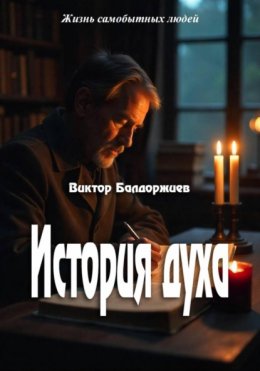
©Виктор Балдоржиев
История духа
В этой книге собраны судьбы самых разных людей из разных мест планеты, но всех их объединяет – история духа. Мои герои – писатели, чабаны, работники правоохранительных органов, учителя, президент страны, казачий атаман, испытавшие на своём веку много трудностей, не дрогнувшие перед ними и пронёсшие мысль и человечность через всю свою жизнь.
Они давно ушли из жизни и стали достоянием истории, имена их в очерках и книгах, публикация не нарушает никаких законов.
Конечно, при жизни не могли бы встретиться чабанка из торейской степи Долгор Цыдыпова и писательница Виктория Балябина-Садовская, учитель и фронтовик Абарзади Дагбаев и президент Перу Альберто Фухимори, и Герой Социалистического Труда Дашидондок Пурбуев, но случись такое, они бы совершенно не удивились, и мирно беседовали бы друг с другом на самые разные темы. А атаман Григорий Михайлович Семёнов – один из героев этой книги, совершенно оболганный своими, жестокими противникам, убившими миллионы людей, прекрасно понимал бы их речь.
И полковник милиции Ханда Загдаевич Загдаев, и бежавшая из Красноярской ссылки Намжилма, и кавалер трёх орденов Трудовой Славы Цырендаш Цыдыпов – все они был людьми сильной воли и духа, создавшие судьбу собственным трудом и умом. Соединение их судеб совсем не случайно, это плод моего воображения, опыта, понимания истории и ситуаций, возникающих в судьбе каждого человека.
История духа каждого из героев этой книги – пример и поучение.
Виктория Балябина-Садовская
Они прожили вместе 30 с лишним лет. Василий Иванович Балябин и Виктория Геннадьевна Балябина. Но мало кто знает, что Виктория Балябина – украинка, по матери – Майбродская, по отцу – Садовская, родилась в селе Сестриновка на Украине. В Сибирь она пришла не по своей воле, её отец был офицером и учителем. Не советским. К тому же он был поэтом, автор рапсодий – «Солнечные ночи» на украинском языке. И был еще брат Виктории Геннадьевны – Горислав, который много лет работал в республиканской газете Башкирии, в Уфе.
Она была на 18 лет моложе Василия Ивановича Балябина, 30 лет носила его фамилию. Балябина не стало осенью 1990 года, он прожил 90 лет, Виктория Геннадьевна умерла в 2008 году. Через 18 лет. Ей в тот год тоже исполнилось 90 лет. Символично…
Много лет я был дружен с ними. Мы были как самые близкие родственники. Нас роднили судьбы и литература. Они берегли меня, я старался беречь их. У нас не было тайн друг от друга. Однажды Виктория Геннадьевна прочитала мне маленький рассказ на листочке бумаги. Я слушал и видел маленькую хату Украины, судьбы людей высокой культуры и человечности. Виктория Геннадьевна рассказывала мне о своем отце, о путях-дорогах дочери «врага народа», ссыльной украинке, которая стала сибирячкой, а потом и забайкалкой. Я сохранил несколько её рассказов, которые она писала буквально на моих глазах. А сегодня нашел один из них в своих архивах…
Но самое главное: сегодня же я нашел в Интернете основного персонажа этой семейной трагедии – отца Виктории Геннадьевны, его письмо из лагеря, адресованное Андрею Белому. Опубликовала его Янина Шулова в материале «Узник ГУЛАГа просил «Петербург». Вот отрывок из этой работы:
«В ОР Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге хранится еще один исторический и человеческий документ, разрывающий душу, – письмо из лагеря в Кеми от зэка – «бывшего народного учителя Геннадия Михайловича Садовского», датируемое 1933 годом и написанное каллиграфическим четким учительским почерком. Кемь была последним перевалочным пунктом на пути в Соловецкий лагерь особого назначения.
«Простите меня, я не будучи знакомым (и из страшной обстановки) пишу Вам это письмо. Но я за 7 лет моего заключения полюбил Вас и Блока навеки. 10 лет я работал над своей поэмой «Солнечные ночи» на украинском языке. Работаю урывками, ночью. Много погибло безвозвратно, причиняя мне невыносимые страдания, но Вы и Блок всегда являлись для меня ярким светочем, который поддерживает во мне мои литературные надежды и питает творчество моих, рожденных революцией 1905 г. «Солнечных ночей». О моей поэме 7 лет назад Павло Тычина отозвался очень тепло и давая мне книгу своих стихов – написал: «Заканчивайте ваши рапсодии и входите в нашу литературу как законченный мастер».
И тогда же сказал мне изучать «Петербург» и все Ваше творчество как созвучное моим «Солнечным ночам».
С тех пор я десяток раз прочитал «Петербург», «Чудака», «Симфонии» и не могу разлучиться с образами, созданными Вами. Я символист и пишу рапсодии – песни символизма и закинут подлыми людьми [зачеркнуто] гадами в жуткую пустыню, где живут духи Калевалы. Я хочу знать о символизме, а книг нет.
Прошу Вас, очень прошу, пришлите мне книгу о символизме или же хотя отдельные статьи о символизме, в частности, о творчестве Вашем, Блока и других русских и французских символистов. Был бы очень счастлив получить от Вас «Петербург», чтобы всегда иметь с собой и никогда не расставаться, как не расставался Александр Македонский с «Илиадой».
Уважающий и любящий Вас Садовский Геннадий Михайлович (бывш‹народный› учитель. Адрес. Слаг. Кемь 1-й ЛЛГ. Совхоз № 5. Садовский Геннадий»
Рассказ Виктории Геннадьевны называется «Первая утрата». Есть в приведенном письме и рассказе одно несоответствие: отчество автора «Солнечных ночей» в письме – Михайлович, в рассказе – Леонидович. Кто ошибся – не знаю, но точно знаю, что Геннадий (Михайлович, Леонидович) Садовский – автор ропсодий «Солнечные ночи» на украинском языке, отец Виктории Геннадьевны Балябиной-Садовской.
Какие же события произошли до этого письма, до отправки Садовского в лагерь? Об этом и рассказывает Виктория Геннадьевна в своём рассказе.
Первая утрата
Ночь. Кто-то нетерпеливо и настойчиво-громко стучит в калитку и ворота, слышны мужские голоса, остервенело рвётся на цепи Султан, он не лает – воет, захлёбывается от злости, гремит цепью по проволоке. В жидкой ночной темноте комнаты мечутся фигуры отца и тети Маруси.
– Мусю, это рукопись… На самоё дно, под грязное бельё… А это… открой форточку… в корзинку эту быстро, за дверь в кухню… книги береги…
Отец говорит отрывисто, тихо, властно, тётя Маруся отвечает сосредоточенно, также тихо, движется неслышно и быстро. Я с ужасом удостоверяюсь, что это не сон, и по выражению их голосов вдруг догадываюсь, что пришло, наконец, то, неотвратимое, беспощадное, под страхом чего мы жили всё время, сколько я себя помню.
И вот: в комнате ярко горит свет, посередине её стоит высокий и прямой военный в длинной шинели, отдаёт приказания людям, роющимся в вещах, они тоже в шинелях и с оружием. Возле дверей угрюмо горбится на табуретке Титон Родионович, хозяин нашей квартиры.
Лицо отца спокойно и твёрдо, даже чуть насмешливо. Он уже одет, сидит возле стола на стуле и глядит куда-то поверх торопливо роющихся в чемоданах и шкафу людей, он будто не хочет их видеть, пальцами правой руки чуть слышно, будто в такт мыслям своим, отстукивает что-то по краю стола. В чёрном зеркале окна – фигура тёти Маруси. Она стоит возле печки-голландки, прислонившись к ней спиной, и неотрывно, и тоже, словно не видя и не желая видеть ничего вокруг себя, смотрит на огонь лампы на стене. Лицо её строго и спокойно.
– Омельченко, посмотри в постели у девочки, – коротко приказывает высокий. Солдат, похожий на толстую, высоко подпоясанную бабу, кинулся к моему диванчику, запнулся большим грубым сапогом за качалку Гори и растерянно остановился, не зная: то ли останавливать широко раскачавшуюся кроватку, то ли идти дальше к постели, на которой я, помертвевшая, сжалась в комок.
– Девочка, встань, – снова приказывает высокий и поворачивается ко мне лицом
с большим горбатым носом и удивительно маленьким подбородком. Я рывком поднялась, растерянно взглянула на отца, на тётю Марусю – они будто не видят и не слышат ничего. И тут я, словно поняла их, горячее дерзкое чувство охватило меня, я подняла глаза и, сжав трясущиеся губы, замирая от своей дерзости, с вызовом глянула в холодные выпуклые глаза горбоносого. Глаза эти с удивлением раскрылись, а я, сползши с дивана и демонстративно волоча по полу простынь, направилась к тёте Марусе, встала возле неё и принялась также внимательно и строго глядеть на огонь лампы. Коленки мои, губы дрожали.
Когда всё было перерыто, бумаги и книги собраны в стопки и связаны, отец молча оделся в полушубок, шапку, их также молча подала ему тётя Маруся. Затем отец наклонился над спящим Гориком, осторожно коснулся его лба губами, потом взял меня на руки, поднял к лицу:
– Помогай, Ганусю, маме и жди своего батька. Я скоро вернусь. А пока что учись хорошо, читай книжки… Я хочу, чтобы ты стала хорошим, умным человеком.
Он спустил меня на пол, повернулся к тёте Маруся и таким голосом, словно в комнате никого не было, сказал:
– Мусю…
Но тётя Маруся мягко остановила его, положила руки на его плечи:
– О нас не беспокойся, Геню, с нами всё будет гораздо. Береги только себя и помни, что мы тебя ждём. Завтра я поеду в Харьков…
И наконец, отец обратился к Титону Родионовичу:
– Прошу Вас Титон Родионович, не отказывать моим детям и моей дружине хоть на первых порах.
И тут я впервые услышала настоящий голос всегда хмурого, угрюмого Титона Родионовича и увидела его настоящее лицо. Они были человечны и мягки.
– Будьте надёжны, Геннадий Леонидович, – сказал он, – мы с Ульяной их не оставим в беде…
После всего этого отец повернулся к высокому и совершенно другим голосом сказал:
– Ну-с, я готов!
Я глянула на высокого, на солдат и обмерла: в руках у них страшно блеснули револьверы.
Отца увели. Мы с тётей Марусей вышли на крыльцо и долго слушали топот копыт по подмёрзшей дороге. Луна зашла за длинно-растянутую по небу тучу, надолго утонула в её чёрной толще. В потемневшем саду от предутреннего ветерка шуршали остатки осенней листвы, а может быть, то шуршала отставшая кора на старой черешне, а мне казалось, что там в темноте, в гуще вишенника в конце сада кто-то лихорадочно-торопливо заряжает и не может зарядить ружьё, щёлкает курком, сердится…
В пустой разгромленной комнате тётя Маруся бессильно опустилась на стул, на котором ещё полчаса назад сидел отец.
– Вот, доню, и нет с нами нашего батька…
Как будто дрогнуло что-то во мне от этого голоса, от её слов, мне представилась потрясшая меня картина: батько, наш батько, добрый, красивый, гордый – в цепях, в сыром тёмном подвале с железными решётками, больной, измученный…
– Мама! – кинулась я тёте Марусе, не заметив, что впервые так назвала её. – Мама, – кричала я, – выкупим нашего батька! Продадим всё-всё: ковёр, платье, книги – скорее выкупим его, ведь он там умрёт!
Я захлёбывалась слезами, торопила, молила… Тётя Маруся обняла меня, прижала к себе.
– Много, много, доню, надо, чтобы выкупить нашего батька…
___________________________________________
Теперь я обязан дать некоторые пояснения к рассказу, ибо, возможно, сегодня один я знаю то, что не дано знать читателю. Гануся – это Виктория Геннадьевна, это её семейное, детское имя, Горя – Горислав, брат Виктории Геннадьевны. Почему же Гануся называет Марусю то тётей, то мамой? Родная мать Гануси и жена Геннадия Садовского умерла до этого события, умирая, она наказала мужу взять в жёны её сестру – Марусю.
Сегодня я перечитываю знакомый мне рассказ, и снова волнующие чувства охватывают меня. Я снова становлюсь свидетелем большой беды, как будто бы и я, незримо, нахожусь в той хате далёкой Украины, которая уже утрачивает в тот момент, как и все страны СССР, солнечные ночи.
Писатель Геннадий Садовский был расстрелян в Соловках. В 1990 году Виктория Геннадьевна показывала мне письмо от Горислава Геннадьевича. Там была газета с его статьей о Соловках. Он ездил туда и нашёл документальные свидетельства о своём отце, которого так и не смогли выкупить из неволи маленькая Гануся и её вторая мама Маруся…
Многое меня связывает с Василием Ивановичем, Викторией Геннадьевной Балябиными, Геннадием Семеновичем Донец (на одном из фото – рядом с Балябиным). Часть моей жизни прошла с ними. Иногда, во сне. они снова рассказывают мне о своих судьбах и литературе, переживаниях и чувствах… Это целый век! Попробую собрать воедино то, что звучит во мне из того века, может быть, получится. А потому надеюсь на продолжение…
Долгор Цыдыпова
1936 год. Торейская степь у монгольской границы…
Когда русская учительница Мария Васильевна рисует на доске мелом буквы, десятилетняя Долгор всё время сравнивает их с причудливыми морозными узорами на окне класса, которое выходит прямо в степь. Но сейчас зима, степи не видно, на стекле – узоры, похожие на буквы. А когда окно оттает, то за окном видны Соном-озеро, дальние синие горы у Торейских озёр и необозримая степь. Там пасёт овец ее отец Цэбэгэй Цыдып. А теперь Долгор нельзя в степь и кочевать с родителями между Монголией и Россией или у берегов Торейских озер. Ей надо учиться в школе, а в степи теперь УР – укрепленный район, всюду роют землю и возят на верблюжьих и бычьих повозках песок и камень. Там много солдат, которые иногда заигрывают с бурятками… Зимой они мёрзнут.
В классе жарко от печи, а Мария Васильевна говорит, что за окном 42 градуса мороза. «Наверное, учительница, тоже мёрзнет», – удивляется Долгор. Сама она никогда не думала о холоде или зное. В любое время человеку хорошо и в любое время он должен работать. Так всегда говорят папа и мама-Хандама…
Два года, проведённые в школе вместе с ровесниками и Марией Васильевной, – это маленький отрезок настоящего детства Долгор. Потом она вернулась в степь и дальше была только взрослая жизнь. Сегодня ей 90 лет. Она продолжает жить всё в той же степи. Но уже не видит хрустальных узоров на оконном стекле, но слышит иногда голос Марии Васильевны и многих других знакомых людей: память обострилась и выхватывает из мглы времени каждую деталь. Теперь все образы и вещи прошлого чистые и ясные, как пейзаж степи за оттаявшими узорами весеннего окна. Что видит мысленным взором, ослепшая два года назад, девяностолетняя чабанка Долгор Цыдыпова?
Сначала она слышит голос отца, который рассказывает ей, что семейство их люди называют Баатхурнууд, а принадлежат они к роду hуури бодонгуд. Почему их так называют? Жила в торейской степи основательная женщина по имени Бальжит, нажила много скота. Распределила богатство между детьми, наказала им всё в жизни делать основательно и крепко – батаар. Отсюда и прозвище – крепкие, батхурнууд.
Всё ещё бодрая, она смотрит невидящими глазами из своей комнаты в степь: в памяти её предстает скачущий на коне отец. Ей говорили, что её родная мать умерла, когда она была совсем маленькой, потом отец привёл другую жену – Долодой Нансал. Но она заболела и тоже умерла. Было это в 1927 году. Третьей матерью Долгор стала Мункын Хандама, она переступила порог их юрты в 1933 году. Это событие Долгор уже хорошо помнит. В памяти её всё еще стоят в дверях юрты освещённые солнцем две молодые бурятки – Мункын Хандама и Тумэнэй Дарима. Кто-то из родных показывает на Хандаму и говорит семилетней Долгор, что отныне она будет её мамой…
Долгор выросла крепкой и сильной девушкой. Крепкий человек должен помогать слабым, а для этого он не должен бояться стужи, зноя и любых трудностей. Так были воспитаны все её предки.
На западе шла война, Долгор, тогда совсем ещё подросток, пела задорные и печальные песни (все Батхуры поют) и, погоняя верблюдов, запряженных в длинную телегу с «прицепом», оглядывала родную заснеженную степь. За ней скрипели телеги её подруг – Сыржимы, Сурэн, Даримы. Верблюды тоже оглядывали степь и внимали песне Долгор.
Всего с прицепами было 10 телег. Три женщины пилили ручной пилой огромные деревья и до заката солнца успевали загрузить пять телег. Ближе к ночи разжигали костер, из коры деревьев устраивали постель. Так и спали.
С рассвета до вечера снова пилили. 10 груженных огромными деревьями телег отправлялись в ночь. И снова в ночной степи слышались песни Долгор. Ехали всю ночь, 70-80 километров – до самой границы, где был УР. Фортификационные укрепления спасали Советский Союз… Долгор спасала мама-Хандама, шившая ей прочнейшие кожаные одежды.
Потом начинались весенние полевые работы. Пахота, посевная. Быки, верблюды, кони – вот и вся «техника». Десять пар быков – колонна, самый маленький мешок зерна – 60-70 килограммов. Сохи тянули быки, а бороны – верблюды. Комбайн тоже тянули на упряжи… Из мглы памяти проясняются лица трактористок – Ленхобо, Мыдыгма, Сэмэнжэ, Цыпыл, Пильжит, жатки, скирды. Веялки, трееры… Всё трещит и тарахтит, всюду вихрится пыль, солома летит в одну сторону, зерно – в другую. Короткая тишина, и снова 10 телег через Чиндантский мост тянутся на станцию Оловянная. В пути две ночевки – за мостом и перед станцией….
В памяти возникает муж, с которым она не успела пожить, его схватили неизвестные люди и отправили в ссылку, оттуда он не вернулся. Знакомые образы, смеющиеся и печальные лица, их жесты и очертания, оживают в мыслях и сменяют друг друга чередой. Все крепкие люди.
Слабый человек может спиться, упасть, схитрить, ловчить, лезть наверх по головам других, но на самом деле – опуститься. Сильный должен не позволять слабому человеку опуститься.
Видимо, в современной жизни мало крепких людей, большинство – слабые. Если не так, то почему жалобы и причитания отовсюду, а с ними – обман, воровство, лицемерие? Куда подевались сильные люди?
Сверстников и друзей в памяти Долгор сменяют родные: отец Цэбэгэй Цыдып, братья и родственники – Цырен, Цыбен, Цыремпил, Петр, который остался в Монголии. Долгор слушала песни его жены Тумэр-Батор на Алтаргане. Кто после Долгор оживит в памяти эти образы?
Кто увидит в мыслях её отца, который умер в 1959 году? Кто вспомнит её молодой и сильной в 1955 году. Тогда она приняла отару овец, колхозом стал руководить мудрейший Балдан Базарович Базарон.
Долгор чабанила в степи 40 долгих лет! Кто теперь расскажет о жизни?
Может быть, самой написать песни и сохранить для потомков?
С этой мысли она начала сочинять и петь свои песни, как бы смотря в окно, через морозные узоры, в родную степь, где оживают знакомые образы и родные лица ХХ века. Там ей о чём-то говорит Мария Васильевна, смеётся Мыдыгма Батуева, рассказывает ульгуры-сказания Анданай Намсарай. Позже она из этих ульгуров сложит песни и споёт их на Алтаргане в Алханайской школе…
Но разве возможно спеть о том, как замерзала она в жестокий буран? Кто увидит, как степь накрывают мрачные рваные тучи, воющие снежные ветры и поглощают маленькую и одинокую Долгор вместе с отарой овец? Даже крепкий человек погибнет безвестно в степи, если он один.
Но в годы её молодости начальники собирали людей и выезжали «на спасение». Все – от областных до колхозных начальников, работники контор, рабочие и колхозники отправлялись на тракторах и машинах в бушующий девятым валом океан степи – спасать животноводов и животных. Так и называлось мероприятие – «Спасение!»
В тот раз спасли они и Долгор! Кто сегодня спешит на спасение?
Какими словами споёт она о том, как много лет пасла 1300 валухов в монгольской степи, куда отправляли чабанов с отарами нагуливать овец? Как она споёт номер своей медали «За Трудовое отличие»? Ведь она помнит этот номер – №754065. И увесистые в руках медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» и «Ветеран Труда» перед глазами.
Есть и другая печаль: внуки слабо знают бурятский язык. А Долгор учит их петь. Пришлось лукавить: платить внукам из пенсии за знание языка. Теперь пристрастились. Долгор поёт им песню властей, при которых жила. О большевиках, советской власти и мечте о коммунизме. Ведь у крепкого человека, даже если он самый богатый коммерсант, никогда не исчезнет мечта о коммунизме, где человек человеку – друг, товарищ и брат.
Брат Долгор – Цыдыпов Цырен – прошёл через два фашистских плена, концлагерь, работал в каменоломнях Веймара, бежал оттуда, всю жизнь чабанил, был награжден высшей наградой СССР – орденом Ленина. Кажется, тех, кто был в плену, не награждают такими орденами? Но наградили же Цырена! Вот что значит крепость духа.
Долгор родила и вырастила трёх детей – Цыремпила, Болота и Билигму, позже родились другие крепкие люди – 7 внуков и 7 правнуков. С каждым годом их будет всё больше и больше… Всему потомству Долгор поёт песни, переложенные из разных мотивов и слов на свой лад. Обычно это 3 или 4 куплета. В них традиции и обычаи степи, восхваления ламам, золоченные дацаны, разные истории, судьбы людей и жизнь самой Долгор, кадры которой оживают в степи как на экране за оттаявшим окном маленького класса, где учительствовала в далёких 1930-х годах русская девушка Мария Васильевна и училось много детей.
Ничего человек не может завещать потомкам, кроме собственного примера. Знать потому и звучит во мне голос 90-летней Долгор: «Люди, будьте крепкими!»
12 января 2017 года
P. S. Долгор Цыдыпова умерла в 2018 году на 94 году своей трудной и счастливой жизни…
Абарзади – Непобедимый
Он родился в 1923 году.
– В 1941-ом году окончил Агинскую среднюю школу
– с 1941-го по 1946-ой год служил в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии, воевал на фронтах Великой Отечественной войны, участник величайших битв в Сталинграде и на Курской дуге
– с 1946-го по 1953-ий год работал учителем начальных классов и физической культуры Могойтуйской семилетней школы
– в 1953-ем и 1954-ом годах учился в Читинском учительском институте
– с 1954-го по 1955-ый год работал учителем физики и математики в Зугалайской средней школе
– с 1955-го по 1983-ый – заведующий, учитель начальных классов, пре-подаватель математики и военного дела в Ага-Хангильской средней школе
– с 1983-го до 1989-го года был руководителем шахматного кружка Ага-Хангильской средней школы. В 2003 году ему исполнилось 80 лет, в Агинском Бурятском автономном округе при поддержке Могойтуйского районного Совета ветеранов провели шахматный турнир на призы его имени. Позже турнир стал традиционным.
– Ушел из жизни в декабре 2005 года на 83-м году жизни…
И еще: на войне и в мирное время он каждый день молился. Это помнят его современники и явствует из его записей.
Такова его биография. А жизнь?
Его зовут Абарзади Батоевич Дагбаев. Имя Абарзади переводится с тибетского как – Непобедимый.
Вот его рассказ о себе.
– В декабре 1999 года ко мне обратился внук Бато: «Дедушка, у вас много медалей и орденов и расскажите об одном из них, я хочу принять участие в радиопоиске «История боевых наград», который посвящается к 55-летию победы над фашистскими полчищами».
Вот, мой ответ:
– У меня боевых наград совсем немного: два ордена Отечественной войны, медаль «За отвагу». Особенно ценю медали «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».
Это было в декабре 1942 года, когда мы окружали и уничтожали крупную группировку немецких войск под Сталинградом. Была лунная морозная ночь. В это время передовые подразделения немецкой пехоты пробились к штабу нашего полка, разведчики и саперы, с которыми был и я, бросились в контратаку и ценой невероятных усилий остановили их, а потом и отогнали. За это меня наградили медалью «За отвагу» за номером 146348, он у меня в отличие от других имеет красную ленточку, и номер еще не массовый. К концу Отечественной войны номера таких медалей дошли до нескольких миллионов. Советский народ проявлял массовый героизм, тогда к этим медалям прицепили серую ленточку на пятиугольной колодке. Но моя медаль с красной ленточкой…
– Первая мировая война унесла много жизней россиян, были среди них и агинские буряты. Царское правительство мобилизовало тысячи молодых парней из наших степей на тыловые работы. Говорят, что возглавлял эту команду Бардаашиин Санжаа-ноен, а главным лекарем был назначен именитый Моройхон Самбу-лама, в совершенстве владевший тайной тибетской медицины. Оба они уроженцы улуса Хильгинда Ага-Хангильского булука. Об их участии в первой мировой войне мы, современники, ничего не знаем, не читаем, в архивах материалов об этом не находим. Что нам известно об этих событиях?
В числе мобилизованных был мой дядя Базаров Дылык, которого я однажды попросил рассказать о той войне. Он немного подумал, что-то припомнил и сказал: «… Один раз увидели в небе немецкий аэроплан-разведчик и больше ничего». Немногословный был человек. Потом он ушел на свою вторую войну, Великую Отечественную, оттуда уже не вернулся. Погиб на войне и его сын Дашидондок.
Мне кажется, что мемуары полководцев и кинофильмы о войне, не раскрывают полной и настоящей правды, которую должны знать люди. Участники войны должны рассказывать о войне своим потомкам. Вот почему я хотел бы поделиться своими воспоминаниями. Сразу должен признаться, что я не герой, обыкновенный труженик войны, офицер. Не хотелось бы уйти в иной мир, не поделившись пережитым.
Не могу и не хочу хвастаться, как делают некоторые, числом истребленных немцев или подбитых танков. Я просто выполнял различные боевые задания командования. Будучи командиром саперного взвода, а под конец войны – полковым инженером стрелкового полка, мне приходилось устанавливать минные заграждения, разминировывать минные поля противника, проделывать проходы, сопровождая атакующую пехоту и разведчиков, которые уходили за «языком», наводить переправы через вводные преграды, взрывать мосты, при отступлении и многое другое… Что только не приходилось делать: строить, ломать, воровать, отдавать. Ведь сапер – труженик войны.
Июнь 1941 года. Учащиеся Агинской средней школы и студенты Агинского педагогического училища сдали выпускные экзамены. На душе радостно, многие ликуют. Каждый в мечтах и грезах. Впереди – вся жизнь: учеба, работа, любовь и дружба, дороги и просторы Родины.
И вдруг страшная весть – фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз.
И вот уже июль 1941 года, призыв в армию. Мы прошли мандатную комиссию и сдали вступительные экзамены в Черниговское военно-инженерное училище, которое тогда находилось в Иркутске. Из Агинского аймака было 13 юношей. Из них были приняты и зачислены курсантами шестеро: Батоев Цыдып (из Урдо-Аги), Шагдарон Дашинима и я (из Ага-Хангила) – выпускники Агинской средней школы; Тумутов Тучин (из Хара-Шибири), Дарижапов Даши и Дымбрылов Чулун-Эрдэни (из Цокто-Хангила) – выпускники Агинского педагогического училища.
1 августа 1941 года у боевого Знамени училища поклялись на верность Родине, Коммунистической партии и советскому народу. Итак, мы – курсанты военно-инженерного училища, где готовят саперов – тружеников войны. Стали изучать подрывное дело, инженерно-минные заграждения, мостовое дело, дорожное дело, фортификационные сооружения, переправочные средства и т. д. Обучение давалось нелегко, особенно его практическая часть. Преподавателями были военные инженеры первого, второго и третьего рангов. Словом, люди грамотные и высокой квалификации. Они наставляли нас: «Тяжело в учении – легко в бою».
Вот два примера настоящих подвигов во время учебы.
В декабрьские морозы 1941 года пришлось подготовить «к взрыву» большой железобетонный мост через реку, предварительно рассчитав мощность заряда и возможный эффект взрыва. Привязывали «заряды» к высоким опорам, соединяли их детонирующими шнурами и т. д. Скользко, студёно, над рекой морозный туман. Мы – на опорах, внизу, на реке, дежурит аварийная лодка. В этом учении отличились курсанты: Тумутов Тучин и Батоев Цыдып. Они заслужили благодарности от командования училища.
Или другой случай подвига.
Холодное сентябрьское утро. На рукаве реки приказано возвести понтонный мост из переправочного парка. Ширина реки около – около 90 метров. Оборудования лежали на правом берегу, в кустах, на расстоянии 150 метров. Взвилась сигнальная ракета. Все нужно было делать бегом или быстрым шагом. При соединении собранных паромов в единый мост курсант Батоев Цыдып нечаянно уронил в воду стрингерный болт, которым соединяются металлические прогоны паромов. Глубина реки была около 15 метров и течение быстрое. Курсант Батоев нырнул в ледяную воду и достал его. Приказ командования был выполнен на оценку «хорошо». Мост длиной 90 метров был возведен за 21 минуту.
Фронт остро нуждался в командирах. После нескольких месяцев учебы отличнику боевой и политической подготовки Цыдыпу Батоеву было присвоено воинское звание «младший лейтенант» и его направили на фронт. В марте 1942 года по приказу Наркома Обороны Маршала Тимошенко присвоены воинские звания младшего лейтенанта Дарижапову Даши, Дымбрылову Чулун-Эрдэни, Тумунову Тучин и мне, а отличнику Шагдарон Дашиниме было присвоено звание лейтенанта.
Вскоре мы, переодетые в офицерские формы с красивыми нарукавными нашивками и квадратиками на петлицах, в сопровождении духового оркестра направилась на вокзал, имея в руках направления на разные фронты: Шагдарон Дашинима – в Северо-Кавказский военный округ, оттуда в Крым, участвовал в боях за Новороссийск и на Малой земле, Тумутов Тучин – на Западный фронт, а Дарижапов Даши, Дымбрылов Чулун-Эрдэни. и я были направлены на Юго-Западный фронт.
Так разошлись наши фронтовые пути. Но с Дарижаповым Даши мы прошли много фронтовых верст вместе. В конце апреля 1942 года Дарижапов и я стали работать в продотделе 28-й армии, которая воевала под Харьковом. Таким образом, мы из саперов сделались интендантами.
Около недели находились в резерве армии, вскоре младшего лейтенанта Чулун-Эрдэни Дымбрылова направили в тыл, в Саратов, где формировались запасные полки, а нам, Дарижапову Даши и мне, было приказано работать в продотоделе штаба 28-й армии.
База продотдела (склады) находилась на станции Приколотное Харьковской области, в 40-45 км от линии фронта. Там, находясь под беспрерывными бомбежками, возглавляли армейские продлетучки, откуда снабжались продовольствием несколько дивизий этой армии.
Тогда же, как я помню, 9 июня 1942 года началось крупное наступление немецких войск на юго-восточном направлении. Они прорвали наши оборонительные рубежи. Канонада приближалась к нам.
Нам было приказано эвакуировать склады в тыл, для чего подогнали эшелон порожних вагонов и выделили один рабочий батальон. Мы спешно грузили вагоны продовольствием и посылками, присланными трудящимися среднеазиатских республик. Чего только в них не было!











