Читать онлайн Дон Родригес, или Хроники Тенистой Долины
- Автор: Лорд Дансейни
- Жанр: Классика фантастики, Зарубежная фантастика
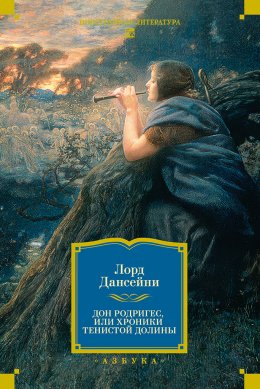
Lord Dunsany
DON RODRIGUEZ: CHRONICLES OF SHADOW VALLEY
Copyright © The Estate of Lord Dunsany, fi rst published 1922
This edition is published by arrangement with Curtis Brown UK
and The Van Lear Agency
All rights reserved
© В. А. Гришечкин, перевод, 2000, 2015
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Азбука®
Хронология
До сих пор, даже после долгих и терпеливых исследований, я не могу указать читателю этих «Хроник…» точного периода, о котором пойдет рассказ. Будь это вопрос чисто исторический, никаких сомнений у меня не возникло бы, однако коль скоро дело касается магии и волшебства – каким бы легким ни было наше соприкосновение со столь тонкой материей, – неизбежна некая недосказанность, загадка, тайна, причиною коей является отчасти обыкновенное невежество, а отчасти – страх перед теми страшными заклятиями, с помощью которых волшебство охраняет свои владения от праздного любопытства, так и норовящего потихоньку прокрасться на запретную территорию.
Скажу больше: даже в очень скромных количествах магия, похоже, обладает способностью влиять на время, – подобно тому, как кислота разъедает некоторые металлы, изменяя их естественные свойства, – и тогда точные даты растворяются, исчезают под слоем амальгамы, которая делает их недоступными для глаз даже самых прозорливых историков.
Именно магия, с которой мы имеем дело в третьей и четвертой хрониках, сильнейшим образом затруднила процесс определения точных дат. Читателю я могу с уверенностью сказать только одно – описанные события происходили в последние годы Золотого века Испании.
Хроника первая
О том, как Родригес встретился и попрощался с хозяином «Рыцаря и дракона»
Однажды один сеньор – владыка долин в горах Аргенто-Арес, с вершин которых не видно славного города Вальядолида, – чувствуя, что прожил он на земле достаточно (а годы, что были ему отмерены, он провел в Испании, в ее Золотой век) и что смерть его близка, призвал к себе старшего сына. И когда тот явился в спальню, окрашенную в красноватый полумрак диковинными багровыми портьерами, торжественно-великолепную, как сама слава Испании, старый сеньор обратился к нему с такими словами:
– О мой старший сын! Твой брат чрезмерно учен и скучен; он из тех, кого Господь не одарил теми свойствами характера, которые так любят женщины. Ты же, мой старший сын, знай, что и в этой жизни, и даже после, насколько мне это известно, именно женщинам дано право судить обо всех вещах. Почему это так – ведомо одному Богу, ибо, насколько я их знаю, женщины тщеславны и переменчивы, и все же это именно так. Твой брат, однако, лишен тех добродетелей, которые так ценятся женщинами. Лишь Господу известно, почему они так их ценят, ибо достоинства, о которых я говорю, по большей части суета и обман, однако именно благодаря им стал я владельцем долин в горах Аргенто-Арес (с высоты которых, как клялся Анхелико, ему удалось однажды увидеть Вальядолид), и только с их помощью я приобрел многое другое… Впрочем, все это было давно и ныне давно прошло… Да… Так о чем я говорил?
И старый сеньор, которому почтительный сын напомнил о теме их разговора, сказал вот что:
– Твой младший брат не добьется ничего, и потому я оставлю ему свои долины, ибо иногда мне кажется, что дух его лишен живости и предприимчивости за какие-то мои грехи. Как гласит Священное Писание, да падут грехи отцов на детей их; именно это бремя я пытаюсь ему облегчить. А тебе я завещаю свой самый длинный и гибкий старинный кастильский клинок, который, коли не лгут старинные предания, так страшил неверных…
Он весел и упруг, мой клинок, он звенит и поет особенно громко, когда его сталь встречается со сталью, – так два старых друга поют и звенят бокалами, встретившись за столом после долгой разлуки. Клинок мой послушен и проворен, он всегда побеждает, а если ты что-то не добудешь с ним в битве, того ты добьешься искусной игрой на мандолине, ибо играешь ты отменно, именно так, как играли еще в прежней Испании.
Вот только для того, чтобы петь под резными мраморными балконами, которые – ах! – так хорошо мне известны, выбирай, сын мой, лунные ночи, ибо свет луны даст тебе дополнительные преимущества. Во-первых, в лунной ночи, особенно по весне, юным девам видится романтики гораздо больше, чем в действительности есть ее в твоей персоне, потому что романтика связана с таинственным полумраком и недосказанностью, которых нет у ночи черной и безлунной. А если неподалеку мерцает средь темной травы мраморная статуя, если цветет магнолия, если поет соловей или происходит еще какое-нибудь прекрасное действо, то и это – твое преимущество, ибо юные девы склонны отождествлять со своим возлюбленным все то, что им нравится, но что в действительности не имеет к нему никакого отношения, так как дается нам щедрой рукой Господа.
Есть у лунного света и другое замечательное свойство: коли явятся под балкон посторонние и попытаются тебе помешать, то знай, что и для веселой встречи клинков лунный свет подходит гораздо больше, чем мрак безлунной ночи. О, как любил я наблюдать за игрой моего клинка – так легко он порхал в лунном свете, так ярко сверкал и искрился. При свете луны бойцу можно не опасаться коварного удара, зато сам он получает возможность применить все те благородные приемы, коими славился непревзойденный Себастиани и которые давным-давно стали легендой и седьмым чудом Мадрида.
Старый сеньор замолчал и только вздыхал, словно собираясь с силами, чтобы сказать своему сыну последние слова. Так он некоторое время дышал неторопливо и ровно, а затем заговорил вновь.
– Я покидаю тебя, сын мой, – сказал он, – и я весьма доволен тем, что ты сумел воспитать в себе два основных качества, необходимых настоящему христианину. Я имею в виду владение клинком и искусство игры на мандолине, в которых ты преуспел. Небеса знают, разумеется, немало других искусств, ибо мир широк, а его обычаи – разнообразны, однако среди всех остальных умений эти два нужнее всего.
И старый сеньор вручил сыну старинный кастильский клинок – вручил церемонно и величественно, как это делалось в те времена в Испании, хотя силы его были уже на исходе. Затем он снова откинулся на своей огромной резной кровати под балдахином; его глаза закрылись, алый шелк занавесок зашуршал, дыхание стихло. Но душа старого сеньора, какой бы путь ей ни предстоял, еще не покинула своего дряхлого обиталища, и голос старика зазвучал снова, хотя был он слаб и невнятен. Некоторое время он шептал что-то о чудесных садах, несомненно тех, что цвели и благоухали в солнечной плодородной Испании, охраняемые благородными идальго в самый славный период ее истории, ибо никаких других садов он никогда не видел и не знал. Несколько мгновений его полуослепшая память словно блуждала среди этих благоухающих земных чудес, и, возможно, именно за эти воспоминания зацепилась его душа, спутав залитые лунным светом весенние сады Испании с райскими кущами, ждавшими ее в конце путешествия, и продлив последние минуты пребывания старого сеньора в этом мире. Как бы там ни было, но жизнь его еще не оборвалась; отрывочное бормотание стихло, и в комнате снова наступила тишина, которую нарушало лишь едва слышное дыхание.
Наконец, в последний раз собрав все свои силы и поглядев на сына, сеньор сказал:
– Меч – для битвы, мандолина – для песен под балконами, – и с этими словами он упал мертвым на подушки.
В те времена в Испании не слышно было ни о каких войнах, но старший сын владельца долин Аргенто-Арес, приняв последние слова отца как его последнюю волю, прямо в просторной и сумрачной спальне прикрепил к перевязи свое наследство и решил отправиться на войну – где бы она ни шла – сразу после того, как будет совершен обряд погребения.
Я не стану описывать здесь похороны, ибо о них подробно рассказано в «Черных книгах» Испании, а дела, которые совершил старый сеньор в юности, перечислены в ее «Золотых страницах». О нем упоминает «Книга Дев», а еще о нем можно прочесть в «Садах Испании». Посему я с легкой душой оставлю его счастливо пребывающим в Садах Небесных, ибо уверен, что сам он в полной мере обладал теми качествами, которые считал главными христианскими добродетелями: умением обращаться с оружием и играть на мандолине. И если существует какой-то иной, более трудный путь к спасению, чем тот, которым идем мы, поступая всякий раз в соответствии со своими представлениями о добре, – тогда все мы навеки прокляты.
Итак, тело старого сеньора было предано земле, а его старший сын отправился пешком в дальний путь по дорогам Испании, и с перевязи его свисал полученный в наследство длинный и прямой клинок в прекрасных ножнах голубого бархата с изумрудами. И хотя дорога поворачивала то влево, то вправо, а то и вовсе исчезала, чтобы дать больше места скромным полевым цветам (она делала это по собственной доброй воле, которой у некоторых дорог нет вовсе); хотя она вела то на запад, то на восток, а иногда даже на юг – все равно дорога эта бежала на север, хотя она, конечно, никуда не бежала, а скорее блуждала и петляла, и вместе с ней двигался на север в поисках войны молодой сеньор долин Аргенто-Арес, у которого не было не только долин, но и вообще ничего, кроме клинка и мандолины, которую он забросил за спину.
В Испании в то время стояла Весна, но совсем не такая, какая бывает у нас в Англии. Было только начало марта, но Весна, которая является к нам то ли из Африки, то ли из каких-то других неведомых краев, первым делом приходит на землю Испании, и миллионы нежных анемонов распускаются там, где ступила ее нога.
Только потом Весна приходит на север, на наши острова, и в здешних лесах она не менее прекрасна, чем на равнинах Андалусии. Она свежа, как новая песня, загадочна, словно рунические письмена; правда, после долгого путешествия лик ее немного бледен, и именно поэтому с приходом Весны наши цветы не сверкают в долинах таким ярким, многоцветным пламенем, как это бывает в Испании.
Зато наш молодой человек любовался по пути яркими чашечками южных цветов, пламеневших по обеим сторонам дороги и выглядевших так, словно с Благословенных Небес на Испанию упала радуга и разбилась на миллионы осколков. Всю дорогу – пока шел – он не мог наглядеться на первые в этом году анемоны, и даже впоследствии, много лет спустя, когда бы ни пел он старые испанские песни, он всегда представлял свою страну именно такой, какой она была в тот день, во всем великолепии яркого весеннего убранства. Именно эти воспоминания сообщали его голосу красоту и придавали взору задумчивую мечтательность, что нисколько не противоречило лейтмотиву его песен, и не раз заставляли таять гордые сердца, прежде почитавшиеся холодными.
Так, разглядывая цветы, наш молодой человек добрался до стоявшего на холме селения, даже не устав, хотя и преодолел без малого двадцать миль по живописным дорогам Испании. Между тем наступил вечер, воздух потемнел, и потому молодой человек отыскал в сумерках постоялый двор и, вытащив из ножен свою шпагу, постучал рукояткой в тяжелую дубовую дверь под вывеской «Рыцарь и дракон».
Когда раздался стук, в одном из верхних окон вспыхнул огонек, и на мгновение тьма стала ощутимо плотнее. Затем послышались грузные шаги, как будто кто-то спускался по скрипучим ступенькам.
Назвав тебе гостиницу, любезный читатель, я хотел бы воспользоваться тем промежутком времени, пока шаги приближаются к двери, и назвать также имя молодого человека – безземельного сеньора долин Аргенто-Арес, стоявшего в сгущающейся ночной тьме на пороге первого в своей жизни дома, в котором он просил постоя, – на пороге дома, расположенного так далеко от принадлежавших его отцу долин, на пороге первого своего приключения. Звали его Родригес Тринидад Фернандес Консепсьон Энрике Мария, но впредь мы будем называть его в наших хрониках просто Родригес. Отныне и я, и ты, любезный читатель, знаем, кто имеется в виду, и потому я не стану впредь называть нашего героя полным именем, если только мне не придет в голову время от времени напомнить его тебе.
Между тем тяжелые шаги все спускались по деревянной лестнице, и огонек свечи вспыхивал то в одном, то в другом окне, хотя во всем остальном доме не было видно больше никакого света. Огонек этот, сопровождаемый звуком шагов, опускался все ниже, пока наконец невидимые ноги не перестали терзать скрипучие ступени и не застучали по каменной плитке пола. Теперь Родригес мог расслышать даже дыхание, раздававшееся за дверью в такт шагам. И вот, заглушая его, загремели цепи и отодвигаемые засовы. Дверь распахнулась, и на пороге показался человек со злобными глазами, а лицо его откровенно свидетельствовало о склонности к делам бесчестным. Окинув гостя быстрым взглядом, он неожиданно захлопнул дверь, и молодой человек снова услышал лязг цепей и вернувшихся в гнезда засовов. Дыхание за дверью стало удаляться, а шаги сначала простучали по каменному полу, а затем стали подниматься по ступеням.
– Если бы шла война, – обратился Родригес к самому себе и своему клинку, – то я мог бы провести ночь под звездным небом.
Сказав это, он прислушался, не доносится ли откуда шум битвы, однако все было тихо, и молодой человек продолжил свои рассуждения:
– Однако, поскольку войны пока нет, я предпочел бы заночевать под крышей.
С этими словами он снова извлек из ножен клинок и принялся методично стучать его рукояткой по двери, вглядываясь в древесные волокна и выбирая места, где дерево выглядело слабее всего. И лишь только он увидел, что дубовая доска треснула и от нее вот-вот отвалится длинная щепка, как снова раздались торопливые шаги по деревянной лестнице и каменному полу. В этот раз дыхание превратилось в пыхтение, ибо хозяин «Рыцаря и дракона» изо всех сил спешил спасти свою дверь.
Когда снова залязгали запоры и загремели цепи, Родригес сразу перестал стучать. Как и в прошлый раз, дверь распахнулась, и молодой человек снова увидел перед собой хозяина, глядевшего на него с нескрываемой злобой.
При виде его кое-кто мог бы подумать, что господин сей излишне полон в талии, чтобы оказаться достаточно проворным и ловким, однако Родригес, стоя на пороге и разглядывая хозяина в упор, сумел быстрым юношеским оком разглядеть в фигуре, да и нраве последнего сходство с пауком, который, несмотря на внешнюю неповоротливость и медлительность, проявляет в своих делах завидную быстроту и сноровку.
Хозяин молчал, а Родригес, который редко задумывался о прошлом, полагая, что только будущее мы можем изменять и планировать по своему произволу (и, может быть, даже в этом он ошибался), ничего не сказал ни о запорах, ни о цепях, а просто потребовал ночлега.
Тогда хозяин потер подбородок, ибо ни усов, ни бороды у него не было, а были лишь отвратительные растрепанные бакенбарды. Потому-то он потер свой подбородок и в некоторой задумчивости поглядел на Родригеса. Да, сказал хозяин, у него есть для гостя постель на одну ночь. Ни слова больше он не произнес, только повернулся и повел молодого человека вперед, а Родригес, умевший петь и играть на мандолине, не стал тратить драгоценных слов на разговоры со столь нелюбезным субъектом.
Вместе они поднялись по короткой лестнице из почерневшего дуба, по которой до этого дважды спускался хозяин, и Родригес заметил, что ее толстые балки обглоданы мириадами крыс. Затем оба очутились в проходах, ведущих вглубь гостиницы, и при свете единственной свечи Родригес увидел, что коридоры эти несколько длиннее, чем можно было предположить, разглядывая гостиницу с улицы. Наконец, когда хозяин и гость шли по просторной галерее, в дальнем конце которой находилась предназначавшаяся для молодого человека комната, Родригес догадался, что это была не обычная гостиница, какой она выглядела с дороги, а что она соединялась с замком какого-то древнего и богатого рода, для которого настали черные дни. Высота сводов, обглоданные крысами благородные резные украшения на деревянных колоннах, лохмотья выцветших и изъеденных молью гобеленов – все свидетельствовало о былой роскоши и великолепии. Что же касается черных дней, то их наступление было очевидно даже при слабом мерцании единственной свечи, огонек которой начинал метаться и пригасать с каждым вздохом вырывавшегося из бесчисленных крысиных нор сквозняка – непременного спутника тех, кто нарушал покой старинных коридоров.
Так они достигли комнаты.
Хозяин вошел первым, неуклюже поклонился на пороге и сделал левой рукой приглашающий жест. При этом то ли сквозняки дунули сильнее из щелей и крысиных нор в деревянных панелях стен, то ли просто из-за резкого движения хилый огонек в приземистом подсвечнике пригас, и на несколько мгновений в комнате стало совсем темно. В этом, конечно, не было ничего удивительного, однако Родригесу показалось, что древний мрак, который, никем не тревожимый, долго-долго царил в этой комнате и который давно уже стал частью ее пространства, крайне неохотно отступает перед слабым светом свечи, казавшимся по сравнению с ним каким-то эфемерным, лишенным изящества, несовместимым ни с достоинством, ни с порядком, ни с вековыми традициями. А уж места для темноты и мрака здесь было предостаточно, ибо стены вздымались на такую высоту, что человек едва мог разглядеть потолок, на который, сверкнув глазами, посмотрел хозяин, а за ним и Родригес, проследивший за его взглядом.
Он кивком подтвердил, что доволен своей спальней – как, несомненно, остался бы доволен и любой другой предложенной ему комнатой, ибо молодые люди скоры на решения, а тому, кто согласился остановиться в доме такого хозяина, вряд ли стоило жаловаться на крыс или на обилие паутины, покрытой к тому же древней пылью, от которой темнота в этой зловещей гостинице казалась еще мрачнее.
После этого хозяин и гость повернули и при свете все той же трепещущей свечи пошли в более скромную часть дома. Здесь хозяин толкнул черную дубовую дверь и молча показал гостю обеденный зал.
В зале стоял большой стол, на котором Родригес разглядел голову и несколько окороков вепря; за дальним же концом его восседал плотный, коренастый человек в рубашке без камзола, с аппетитом уплетавший кабанье мясо. Как только хозяин вошел в зал, этот человек вскочил, ибо он был слугой владельца постоялого двора «Рыцарь и дракон».
Возможно, хозяин многое дал понять слуге своим тяжелым взглядом и блеском глаз, однако вслух он сказал только:
– Ах ты, пес! – И, произнеся эти слова и поклонившись Родригесу, хозяин удалился, предоставив молодому человеку самому занять единственное за столом кресло и позволить обслужить себя тому, кто только что сидел в нем и угощался окороком.
Мясо вепря оказалось холодным и жестким, но на полке на стене Родригес заметил тарелку еще с каким-то блюдом, рядом с которой лежал сильно попорченный крысами каравай. И юноша спросил, что это за мясо.
– Язык единорога, – тотчас ответил слуга и, когда молодой человек велел подать себе это блюдо, поставил тарелку перед ним.
Не без опаски приступив к этому кушанью, Родригес остался весьма им доволен, хотя я подозреваю, читатель, что язык единорога принадлежал какой-нибудь старой лошади; тот век был веком доверчивых людей, как, собственно, и все остальные века. Одновременно наш молодой человек указал на трехногий табурет, приютившийся в углу, затем на стол, на мясо и наконец сделал знак слуге, который, сообразив, что ему позволяют вернуться за стол, с готовностью возобновил свою трапезу.
– Как твое имя? – спросил Родригес, когда оба они оказались за столом.
– Мораньо, – ответил слуга, хотя вы, конечно, понимаете, что, отвечая Родригесу, он не мог говорить так кратко. В данном случае я просто довел до сведения читателя суть его ответа, так как названный Мораньо присовокупил к ней всякие испанские слова, которые в нашем современном испорченном языке примерно соответствуют таким понятиям, как «босс», «начальник» и «командир», и благодаря которым его речь прозвучала вполне учтиво и почтительно, как это было принято в Испании в те далекие времена.
Я уже упоминал, что Родригес редко беспокоился о прошлом и заботился в первую очередь о грядущем; именно о своем будущем он и задумался, когда спросил у Мораньо:
– Почему твой достойный, превосходный хозяин в первый раз захлопнул дверь перед самым моим носом?
– А он так поступил? – осведомился Мораньо.
– Он даже счел необходимым задвинуть засовы и накинуть обратно крючки и цепи, хотя я не сомневаюсь, что у него могли быть для этого какие-то важные причины.
– Да, – задумчиво ответил Мораньо, поглядывая на Родригеса. – Он мог так поступить. Вероятно, вы ему просто понравились.
Вот уж воистину Родригес был самым подходящим молодым человеком, чтобы послать его одного в широкий мир с одним лишь клинком и мандолиной, ибо обладал он проницательным и острым умом. Он никогда не настаивал на том, что ему любопытно было узнать, однако все произнесенные слова, которые могли означать что-то важное, запоминал и хранил в памяти, позволяя событиям разворачиваться дальше; таким образом, наш молодой человек действовал подобно охотнику, который, убивая дичь, оставляет ее на месте, а сам движется дальше, за новой добычей, и в конце концов возвращается домой тяжело нагруженный трофеями, в то время как дикарь потрошит и пожирает свою первую жертву на том месте, где она упала.
Прости меня, читатель, но, думаю, услышав, что сказал Мораньо, ты мог бы воскликнуть: «Да разве так обращаются с теми, кто пришелся тебе по душе?!» – но Родригес ничего такого не сказал. Зато он обратил внимание на перстни, коими были во множестве унизаны пальцы Мораньо. Все это были изящные золотые изделия, в которые некогда были вставлены драгоценные камни, о чем свидетельствовали зияющие пустые оправы; в наши дни эти перстни были бы бесценны, однако в те времена, когда ремесленники трудились, во-первых, ради искусства и, во-вторых, ради радости, которую приносила им работа – а было это задолго до того, как искусство и тщание ремесленника стали считаться смешными, когда тонкая работа еще почиталась чем-то само собой разумеющимся, – подобные безделушки ценились не слишком высоко, тем более что были эти перстни не слишком тяжелыми.
Но и по поводу колец Родригес ничего не сказал; ему было достаточно того, что он их увидел. Он только отметил про себя, что все это были не дамские кольца, так как ни один женский перстень не налез бы и на самый тонкий из пальцев Мораньо; следовательно, все они некогда принадлежали кавалерам и вряд ли были подарены ему своими хозяевами, потому что любой, кто владеет драгоценным камнем, носит его на пальце, вставив в перстень, золотые же оправы не изнашиваются, как башмаки, которые господин может в конце концов подарить слуге.
«Нет, – подумал Родригес, – вряд ли Мораньо украл эти украшения, так как вор постарался бы сохранить их целыми или, по крайней мере, с целыми бы и расстался, чтобы выручить за перстни побольше». К тому же лицо Мораньо было честным или, во всяком случае, казалось таковым по сравнению со всем, что окружало юношу в этой гостинице.
Пока Родригес размышлял об этом, Мораньо заговорил вновь.
– Добрый окорок, – сказал он.
Следует заметить, что к этому времени слуга уже покончил с одним из окороков и принялся за другой. Возможно, он сказал так из благодарности за оказанную ему честь и за чисто практические преимущества, вытекающие из данного ему разрешения вернуться к столу; возможно, он просто хотел узнать, будет ли ему позволено расправиться еще с одним куском, а может быть, очарованный открытым лицом Родригеса, он пытался таким способом завязать разговор.
– Ты, наверное, голоден, – заметил молодой человек.
– Хвала Господу, я всегда голоден, – весело откликнулся Мораньо. – Если бы я не испытывал этого чувства, то давно бы умер от истощения.
– В самом деле? – осведомился Родригес.
– Видите ли, – заметил на это Мораньо, – дело обстоит следующим образом: хозяин не кормит меня, и только острое чувство голода заставляет меня красть, то есть добывать себе пищу как раз тем способом, какой вы изволили видеть. Не будь я голоден, я ни за что бы не осмелился так поступить, и тогда…
И Мораньо печально и выразительно взмахнул руками, как бы изобразив полет сухих осенних листьев навстречу смерти и тлению.
– Он не дает тебе никакой еды? – переспросил Родригес.
– Подобным образом многие обращаются со своими собаками, – пояснил Мораньо. – Их тоже не кормят, – тут он радостно потер руки, – и все же собаки не умирают.
– И он ничего тебе не платит? – продолжал допытываться Родригес.
– Ничего, только дает эти кольца.
А сам Родригес, как и подобает каждому настоящему кавалеру, носил на пальце тонкое кольцо – изящную золотую безделушку с оправой в виде четырех крошечных ангелочков, удерживающих прозрачный сапфир. На мгновение молодой человек представил, как хозяин гостиницы берет себе сапфир и как он швыряет кольцо с ангелами Мораньо, однако эта мысль омрачила его настроение совсем ненадолго – не дольше, чем веселое кудрявое облачко, когда оно бросает свою бегучую прозрачную тень на весенние поля Испании.
Мораньо, проследив за взглядом молодого человека, тоже посмотрел на его кольцо.
– Господин, – спросил он, – вынимаете ли вы на ночь клинок из ножен?
– А ты? – в свою очередь поинтересовался Родригес.
– У меня нет шпаги, – ответил Мораньо, – к тому же моя плоть всего лишь простая собачина, которую и охранять-то не стоит; однако вы, чья плоть редкостна, как мясо единорога, нуждаетесь в остром клинке, чтобы оберегать ее. Например, у единорога всегда есть при себе рог, однако даже он иногда засыпает.
– По-твоему, выходит, что спать – плохо? – удивился Родригес.
– Для некоторых – очень плохо. Говорят, бодрствующего единорога невозможно застать врасплох. Что же касается меня, то я всего лишь пес; наевшись окорока, я сворачиваюсь клубком и засыпаю, но дело в том, мой господин, что я-то знаю: утром я обязательно проснусь.
– Ах, – сказал на это Родригес, – утро так прекрасно!
И с этими словами он удобно откинулся на спинку кресла. Мораньо украдкой бросил на него еще один взгляд и вскоре заснул прямо на своем трехногом табурете.
Некоторое время спустя дверь в обеденный зал отворилась, и на пороге появился хозяин постоялого двора.
– Уже поздно, – вскользь заметил он.
Родригес с признательностью улыбнулся в ответ, и хозяин исчез, а молодой человек, оставив Мораньо свернувшимся на полу, куда тот перебрался, разбуженный голосом своего господина, взял со стола свечу, освещавшую обеденный зал, и снова пошел сначала по коридорам гостиницы, а потом по длинной и широкой галерее замка, принадлежавшего некогда древнему и богатому роду, познавшему нелучшие дни, и добрался наконец до своей спальни.
Я не стану тратить слов, описывая эту спальню; если ты, мой читатель, еще не представил ее себе во всех подробностях, то это значит, что ты держишь в руках книгу писателя-неумехи, а если она представляется тебе прибранной и аккуратной, тщательно отремонтированной и свежепобеленной – такой, в которой усталый путник может без опаски заночевать, не чувствуя надвигающейся опасности, – то это значит, что я понапрасну трачу твое драгоценное время. Посему я не стану этого делать и дальше, утомляя тебя, читатель, образчиками «описательной прозы», и подробно рассказывать о том, какая это была мрачная комната с высоким потолком и как царившая в ней ночная тьма подавляла любого, кто остался бы там один.
Итак, молодой человек вошел в комнату и закрыл за собой входную дверь, как делали это многие до него, однако, несмотря на свою молодость, он, в отличие от этих последних, принял и кое-какие меры предосторожности, о которых не подумали его предшественники.
Сначала он вынул из ножен клинок и некоторое время стоял возле входа совершенно неподвижно, прислушиваясь к шороху и писку многочисленных крыс. Оглядев спальню и убедившись, что в нее ведет только одна дверь, Родригес исследовал тяжелую дубовую мебель, украшенную искусной, хотя и почерневшей от времени резьбой, подпорченной к тому же крысами. Он даже отворил дверцы самого большого буфета и потыкал в темноту клинком, дабы выяснить, не спрятался ли там кто, однако резные деревянные головы сатиров смотрели на него равнодушно и холодно, а внутри буфета ничто не шевельнулось. Подумал Родригес и о том, что, хотя на входной двери отсутствует засов, он легко сможет обезопасить себя с этой стороны, поставив поперек входа тяжелую мебель и создав таким образом заграждение, которое на военном языке именуется баррикадою. Тут, однако, ему в голову пришла мысль еще более мудрая. Родригес решил, что затея с мебелью слишком очевидна и что если опасность, которую, казалось, предвещала мрачная и неприветливая комната, действительно грозила постояльцам со стороны двери, которую так легко забаррикадировать, тогда все те благородные кавалеры, которые столь легко расстались со своими золотыми перстнями, украшавшими теперь мизинцы Мораньо, все до единого были совершенными простаками. Нет, что-то более хитроумное, чем заурядное нападение через дверь, позволяло Мораньо получать свое странное жалованье.
Размышляя об этом, Родригес осмотрел окно, сквозь которое в комнату беспрепятственно проникал свет низко стоящей луны, ибо портьеры были съедены молью уже много лет тому назад, однако окно оказалось забрано толстой стальной решеткой, которую ржавчина еще не успела превратить в труху; впрочем, когда наш молодой человек на всякий случай выглянул наружу, он увидел отвесную голую стену, основание которой даже при лунном свете терялось в кромешном мраке глубоко внизу.
Тогда юноша, с обнаженной шпагой в руке, попытался отыскать потайную дверь и вскоре получил довольно полное представление о форме своей спальни, но так ничего и не узнал ни о ее секретах, ни о том, почему безвестные кавалеры расстались со своими перстнями.
Знать о грозящей тебе неведомой опасности не так уж плохо, даже если ее природа остается неясной. Многие, очень многие встретили свою смерть, готовясь к опасности, грозившей только с какой-то определенной стороны. Догадайся они своевременно, что на самом деле даже не представляют, откуда им грозит гибель, и тогда, исходя из этого своего неведения, они стали бы действовать мудрее и, быть может, избегли бы своей печальной участи. Родригес, к счастью, был достаточно проницателен, чтобы ясно сознавать, что не знает, с какой стороны придет к нему беда. Это было единственным его открытием, сделанным в результате тщательного осмотра зловещей комнаты, которая, казалось, приветствовала его колышущимися тенями, вздыхала над его судьбой дуновениями ледяных сквозняков и нашептывала невнятные предупреждения шелестящим шелком траченного молью балдахина над кроватью. Понимая, что больше ничего об опасности он не узнает, Родригес немедленно стал готовиться к тому, чтобы отразить ее: сей молодой человек был неплохо подготовлен к участию в войне. Первым делом он снял башмаки, камзол, сбросил свисавший с плеча легкий плащ и аккуратно сложил одежду на кресле. На спинку он повесил перевязь с ножнами и накрыл их своей широкополой шляпой с пером, чтобы никто не догадался, что кастильский клинок не вернулся на свое законное место. Когда мрачная спальня приобрела такой вид, словно в ней кто-то на самом деле разделся, чтобы отойти ко сну, Родригес занялся кроватью, которая, как он заметил, была довольно широкой и мягкой. То, что на полу обнаружились темные пятна, напоминающие следы давно пролитой крови, нисколько не удивило юношу; как я уже упоминал, спальня, очевидно, располагалась внутри принадлежавшего какому-то некогда славному роду замка или крепости, к стене которого, словно ища защиты, прилепилась жалкая гостиница. Теперь же древний род зачах и исчез; как это произошло, Родригес даже не пытался догадаться, однако вид крови на полу не озадачил и не испугал его. Возможно, когда-то здесь не сошлись во мнениях два кавалера, а может быть, кто-то из постояльцев, не питавший особой любви к грызунам, коротал время, убивая крыс. Словом, пятна крови не обеспокоили его; что действительно поразило Родригеса – как поразило бы и любого, кто волей случая оказался в этой обветшалой комнате, – так это новенькие, чистые одеяла на кровати. Если бы и ты, мой читатель, мог видеть свисавшие со стен и потолка гирлянды серой паутины, если б видел ты осевшую на нее вековую черную пыль, крупных дохлых мух и мертвых пауков и если бы узрел ты молодое паучье племя, многочисленные представители которого то и дело спускались из мрака по невидимым нитям и поднимались обратно, – и ты бы удивился при виде этих прекрасных чистых одеял. Родригес же просто запомнил это и продолжил свои приготовления. Вытащив из-под подушки валик, он уложил его на кровать и накрыл одеялом, а затем отступил на шаг назад и осмотрел получившуюся картину критическим оком, совсем как скульптор, окидывающий взглядом высеченное им из мрамора творение. Потом он вернулся к кровати и слегка согнул валик посредине, а на подушку уложил мандолину, слегка натянув на нее одеяло, так чтобы темное дерево округлой деки чуть-чуть виднелось из-под него. Теперь валик и мандолина удивительно напоминали спящего человека, однако Родригес не был доволен результатами своего творчества до тех пор, пока не поместил шейный платок и башмак в том месте, где должно было быть плечо. Только после этого он снова отступил на шаг и еще раз оглядел свое произведение, на сей раз – с удовлетворением.
Необходимо было подумать и об освещении. Поглядев на луну за окном и – как часто бывает с молодыми людьми – припомнив совет отца, Родригес рассудил, что это, пожалуй, совсем не тот случай, чтобы полученному совету последовать. Вместо лунного света он решил оставить гореть свечу, дабы тот, кто привык орудовать в этой сумрачной комнате при свете луны, столкнулся с освещением менее зловещего свойства. Поэтому наш молодой человек подтащил поближе к кровати небольшой столик, поставил на него подсвечник, а рядом положил раскрытую книгу, которой очень дорожил и которую всегда носил в кармане камзола. Книга эта, поместившаяся как раз между подсвечником и фигурой мандолиноголового «спящего», называлась «Заметки из собора» и повествовала о признаниях молодой девушки, которые, как утверждал автор, ему удалось записать во время Великого поста, прячась по воскресеньям за колонной вблизи соборной исповедальни.
Устроив все это, Родригес спустил с кровати одеяло таким образом, что его угол свесился до самого пола. Затем, не выпуская из рук клинка, он забрался под кровать и закрылся свисающим одеялом и каким-то шелковым покрывалом, посчитав, что этого будет достаточно для его целей, а стремился наш молодой человек к тому, чтобы увидеть любого, кто проникнет в его комнату, прежде чем сам будет обнаружен.
Возможно, кому-то покажется, что дон Родригес проявил чрезмерную подозрительность, однако необходимо помнить не только о том, насколько любопытным было явление лишенных камней колец на пальцах слуги, но и о том, чтó каждый дом дает усталому путнику: один предлагает гостю теплый ночлег возле уютного очага, другой манит сытным ужином, третий сулит веселое вино, и только гостиница «Рыцарь и дракон» грозила смертью; во всяком случае, так подсказывала Родригесу интуиция, а молодые люди часто бывают достаточно мудры, чтобы доверять своим предчувствиям.
Читатель, если он принадлежит к нашему кругу, если ему приходилось бывать на войне и спать в самых невероятных положениях, знает, что трезвому человеку заснуть на полу никак невозможно: жесткие доски не похожи ни на землю, ни на снег, ни на пуховую перину, и даже голый камень оказывается порой куда более удобным. Пол, как правило, бывает твердым, неподатливым и ровным, всю ночь напролет неизменно оставаясь одним и тем же – полом. Дон Родригес, таким образом, мог не бояться, что его сморит сон; именно об этом он подумал, лежа на полу и вспоминая свою любимую книгу «Заметки из собора», которую всегда читал перед сном и которой ему теперь так недоставало. В книге рассказывалось о молодой даме, которая слушала своего любовника, певшего под ее низким балконом полные любовного томления песни, несколько дольше, чем позволяли благоразумие и забота о спасении души, и как потом в искреннем раскаянии она собрала в саду множество роз, считающихся символом любви (о чем, как говорила она на исповеди, известно всему миру), и как однажды лунной ночью она сбросила все эти цветы на вновь явившегося под балкон любовника в знак того, что любовь его отвергнута, и как любовник неправильно истолковал этот ее жест. Далее в книге (и в исповеди) рассказывалось, как эта дама пыталась снова и снова дать своему любовнику понять, что он отвергнут, и весьма занимательно – но и с истинно христианским раскаянием – описывались те недоразумения, которые возникали вследствие этих попыток. Иногда, правда, Родригес забывал кое-какие подробности, и тогда ему очень хотелось подняться и заглянуть в свою любимую книгу, но он заставлял себя лежать неподвижно и лишь прислушивался к тому, как крысы мирно точат дерево и топочут по полу маленькими холодными лапками. До сих пор, впрочем, их не встревожило и не напугало ничто новое, а молодой человек доверял тысячам их ушей так же, как и паре своих собственных.
Вот огромный паук спустился с таких высот, что непонятно было даже, откуда он взялся, а затем снова поднялся в темноту – к потолку, находившемуся где-то далеко вверху. Порой тень скользящего вниз мохнатого насекомого, оказавшегося слишком близко от пламени свечи, приобретала устрашающие размеры, однако Родригес не обращал на это внимания. Он думал об убийце, а не о тенях, хотя они действительно выглядели зловеще и будили в нем воспоминание о неприятной внешности хозяина гостиницы. Но что для него было еще одно дурное предзнаменование в комнате, которая и без того была ими полным-полна? Страшное это было место, и пауки вряд ли могли сделать его страшнее. Правда, Родригес на мгновение задумался о том, что мог бы насадить одного из них на острие своего кастильского клинка – настолько большим этот паук ему показался. Он уже собирался встать и исполнить свое намерение, но счел более благоразумным оставаться на месте и наблюдать, тем более что предполагаемая жертва нашла пламя свечи слишком горячим и поспешно вскарабкалась к потолку, и ее жуткая тень, уменьшаясь на глазах, растворилась в темноте.
Первыми всполошились крысы; что бы ни случилось, звук, должно быть, оказался слишком тих, чтобы напугать их по-настоящему, но беготня и шорох вдруг стали громче. Крысы не разбежались в панике, они сновали по углам и по полу не быстрее, чем прежде, и топот их лап отнюдь не замер. Казалось, будто производимый ими шум, к которому Родригес уже привык и который он почти перестал замечать, слегка изменил свою тональность и зазвучал вдруг в полную силу, так что наш молодой человек сразу насторожился и поглядел в сторону двери, но дверь была закрыта.
Будь на месте моего героя молодой англичанин, он давно бы решил, что не стоит так волноваться по-пустому; он улегся бы в постель и не увидел того, что увидел Родригес. Англичанин подумал бы, что весь этот крысиный шум ему просто почудился. Родригес же увидел веревку, медленно спускавшуюся с потолка, и довольно скоро разобрался, что это именно веревка, а не тень от какой-то особенно толстой паучьей нити. Продолжив наблюдение, он увидел, что тонкий канат опустился к самой его кровати и остановился, не достав до нее на несколько футов. Тогда Родригес осторожно выглянул из своего укрытия, чтобы посмотреть, кто же измыслил столь странное дополнение к собранию зловещих чудес спальни, однако высокий потолок был все так же скрыт мраком, и Родригес не увидел ничего, кроме веревки, свисающей словно из пустоты. Ему, однако, не составило труда догадаться, что в потолке бесшумно открылся люк, это и послужило причиной небольшого переполоха среди крысиного населения спальни.
Молодой человек выждал некоторое время, чтобы посмотреть, что будет происходить с этой веревкой, однако поначалу она висела совершенно неподвижно, как и гирлянды паутины, которые пауки наплели по углам; лишь несколько минут спустя веревка начала потихоньку раскачиваться. Родригес напряг зрение и стал всматриваться в мрачную темноту, желая увидеть, кто раскачивает веревку, однако довольно долгое время – так, во всяком случае, показалось ему, лежащему на полу с кастильским клинком в руках, – он не мог различить ничего определенного. Только потом он увидел, как по веревке, перебирая ее руками, спускается хозяин, да с таким проворством, словно всю жизнь только этим и занимался. В правой руке он сжимал кинжал исключительной длины, однако это нисколько не мешало ему крепко держаться за веревку.
Если при свете свечи тень спускающегося сверху паука могла показаться устрашающей, то тень, которую отбрасывал хозяин, выглядела совершенно демонически. Хозяин и сам напоминал паука, так как его сползающее по веревке тело никак нельзя было назвать стройным, а страшная тень превосходила его истинные размеры не меньше чем в шесть раз. Кстати, отведя взгляд от тени паука и посмотрев на него самого, вы бы сразу поняли, что причиной вашего испуга явилась игра мечущегося на сквозняке огонька свечи, но, переведя взгляд с тени хозяина на него самого, вы увидели бы сверкающие во тьме злые глаза, и тогда вам стало бы очевидно, что самые невероятные, дикие страхи дрожащего пламени не были беспочвенными.
Итак, хозяин медленно спускался по веревке, держа кинжал острием вверх. Когда же он оказался футах в десяти над кроватью, то повернул кинжал острием вниз и принялся раскачиваться на веревке, так что сразу стало понятно: хозяин может спрыгнуть с нее, как с качелей, куда ему будет удобнее. Родригес, наблюдавший за хозяином с пола, хорошо видел, как тот внимательно всматривается вниз, и на мгновение испугался, что хозяину не слишком понравилась мандолина и что он, убедившись, что постоялец отнюдь не прост, снова вскарабкается обратно, дабы привести в действие какой-нибудь еще более коварный план. На самом же деле хозяин просто хотел получше рассмотреть, где находится плечо спящего.
Вниз хозяин прыгнул совершенно неожиданно; перед собой он держал кинжал, на который, вгоняя его в валик в том месте, где, по его расчетам, находилось плечо ничего не подозревающего гостя, и как раз туда, куда мы, засыпая на боку, кладем оружие, оставляя ребра без защиты, он налег всем своим весом. Но в тот же миг, когда хозяин выпустил из рук веревку, дон Родригес вскочил на ноги. Конечно, хозяин увидел молодого человека; их глаза встретились во время прыжка, но что он мог поделать? Он уже нанес удар, его длинный кинжал застрял в матрасе, и кастильский клинок легко вошел ему прямо между ребер.
Хроника вторая
О том, как Родригес нанял примечательного слугу
Когда Родригес проснулся, за окном радостно распевали птицы. Солнце давно встало, и синее небо над Испанией сияло и искрилось. Огромная мрачная спальня тоже посветлела, и угроза, которая всю ночь мерещилась ему по углам, отступила. Разумеется, комната не стала от этого более приветливой и уютной; она по-прежнему казалась скорее обиталищем пауков, чем человека, и все так же была погружена в печальную думу о славном роде, который взрос в ее стенах и который постигли ныне черные дни; как бы там ни было, комната эта не производила больше впечатления сообщницы, призывающей к молчанию, что, прижимая палец к губам, делится с вами своей страшной тайной, имя которой – убийство. Крысы все так же шныряли за деревянной обшивкой стен, однако беззаботные песни птиц и веселый, ослепительно-яркий свет солнца победили мрачный сумрак спальни, и мысли молодого человека без труда выбрались из нее и – свободные и легкие – унеслись в зеленый простор полей. Возможно, в этом виновато было только воображение Родригеса, однако ему казалось, что с гибелью угрюмого хозяина «Рыцаря и дракона», чье тело все еще лежало в изножье его кровати, окружающий мир стал намного приветливей и светлей. Вскочив на ноги, молодой человек подошел к высокому зарешеченному окну и, выглянув навстречу утру, увидел внизу скопление домиков с красными крышами; поднимавшийся из труб дым растекался по сторонам и висел невысоко над землей легким туманом, а между этой невесомой дымкой и крышами домов чертили крыльями воздух стремительные ласточки.
В потрескавшемся глиняном кувшине Родригес обнаружил немного воды для умывания; одевшись, он посмотрел на потолок и подивился изобретательности хозяина, ибо в потолке зияло отверстие, открывшееся совершенно бесшумно – без лязга запоров и скрипа створок, раздвинувшихся в хорошо смазанных пазах и пропустивших тучное тело хозяина. Прямо из середины этого люка свисал перехлестнутый через стропило крыши тонкий канат, – тот самый, по которому хозяин отправился в свое последнее путешествие.
Прежде чем попрощаться с хозяином, Родригес рассмотрел его кинжал, имевший в длину добрых два фута, не считая рукоятки, и с удивлением обнаружил, что это превосходный клинок. На стальном его лезвии молодой человек заметил клеймо с изображением города, в котором без труда узнал башни Толедо; кроме того, рукоять кинжала некогда украшал драгоценный камень, однако теперь небольшая золотая оправа была пуста. Тогда Родригес догадался, что кинжал этот когда-то принадлежал благородному кавалеру и что хозяин «Рыцаря и дракона», должно быть, начинал свою карьеру с кухонным ножом, однако, когда ему в руки попал кинжал, он счел его более подходящим для своего ремесла.
К этому времени Родригес был полностью одет – даже шпага уже висела в ножнах у него на перевязи, и он спрятал кинжал под плащом, решив, что на войне кинжал тоже может пригодиться. Ничто больше не задерживало его, и Родригес, надев широкополую шляпу с пером, весело вышел из спальни. При дневном свете он сразу же обнаружил то место, где коридорчики постоялого двора самонадеянно и дерзко вторгались на территорию старинной крепости с ее огромными галереями. Целых четыре шага потребовалось сделать Родригесу, чтобы преодолеть участок коридора, где стены с обеих сторон оказались сложены из огромных неоштукатуренных каменных блоков; очевидно, это был пролом в крепостной стене, проделанный в один из черных дней, что наступили для наследников могучего рода и их замка, однако теперь уже ничто не указывало на то, хлынули ли в эту брешь вооруженные мечами люди с факелами в руках, или же она была проделана в годы более поздние, проделана специально для хозяина «Рыцаря и дракона», который вступил в крепость, довольно потирая ладони.
Заглянув в обеденный зал, Родригес застал Мораньо уже на ногах. На мгновение оторвавшись от уборки гостиницы «Рыцарь и дракон» – задачи поистине невыполнимой, – слуга поднял голову, а затем снова притворился, будто работает, так как чувствовал легкий стыд оттого, что накануне проявил бóльшую осведомленность о творящихся в гостинице делах, чем подобает человеку честному.
– Доброго утра, Мораньо! – радостно приветствовал его Родригес.
– Доброго утра, – откликнулся слуга.
– Я иду на войну. Может, ты хотел бы найти себе другого господина, Мораньо?
– Разумеется, хотел бы, – отозвался слуга. – Считается, что добрый господин лучше плохого, однако дело в том, сеньор, что мой плохой хозяин связал меня самыми страшными клятвами – клятвами, которых я так до конца и не понял, но которые обязательно погубят меня, в каком бы из миров я ни находился, коли мне придет в голову их нарушить. Я поклялся и Сан-Сатаньясом, и много чем еще, а мне что-то не нравится, как звучит это имя – Сан-Сатаньяс. Таким образом, сеньор, мой плохой господин устраивает меня гораздо больше, чем возможность быть испепеленным огнем небесным уже в этом мире, а кто знает, что будет в следующем?
– Мораньо! – сказал ему Родригес. – Там, у меня на кровати, лежит дохлый паук.
– Дохлый паук, господин? – переспросил Мораньо с таким озабоченным видом, словно доселе ни один паук не смел осквернить своим присутствием мрачную спальню.
– Да, – подтвердил Родригес. – Поэтому я буду требовать, чтобы по пути на войну ты содержал мою постель в порядке.
– Господин! – отвечал Мораньо. – Ни один паук – ни живой, ни мертвый – больше не приблизится к вашей постели…
Вот так получилось, что наша компания из одного человека, в поисках приключения идущего на север по дорогам Испании, стала компанией из двух человек.
– Господин! – сказал Мораньо Родригесу. – Поскольку я не вижу того, кому я служу – а он обычно встает рано, – я боюсь, что с ним могло случиться несчастье, в котором обвинят именно нас, поскольку здесь больше никого нет; хозяин же мой находится под особой защитой конной жандармерии, в просторечии именуемой Ла Гардой, поэтому мне кажется, что не будет ничего плохого, если мы отправимся на войну как можно скорее.
– Вот как, жандармы покровительствуют хозяину! – заметил Родригес с таким удивлением в голосе, какого он никогда прежде себе не позволял.
– Но, господин, – пояснил Мораньо, – иначе и быть не может. Уже столько кавалеров – из тех, кто переступил порог гостиницы и отужинал в этом зале, – исчезли без следа и столько подозрительных следов – например, кровавых пятен – было здесь найдено, что хозяину не оставалось ничего другого, как щедро платить жандармам, чтобы они его покрывали.
И с этими словами Мораньо повесил через плечо железный котелок на ремнях и большую сковородку, а затем снял с крюка в стене широкую войлочную шляпу.
Взгляд Родригеса с неприкрытым любопытством остановился на огромных кухонных принадлежностях, свисающих с кожаной перевязи, и Мораньо понял, что его молодой хозяин не совсем понимает значение всех этих приготовлений; поэтому он сказал ему так:
– На войне, господин, нужнее всего две вещи – хорошая тактика и хорошая кухня. Первая идет в ход, когда военачальники говорят о своих победах и когда историки пишут о войнах в летописях. Военному делу необходимо учиться, господин, и без него ни о какой войне не может быть и речи; однако, когда война уже идет и когда войска встают лагерем на поле битвы, наступает время для кухни, ибо, не получив пищи, человек в большинстве случаев склонен оставить своего противника в живых, тогда как накорми его хорошенько – и он начинает чувствовать такой душевный подъем, что не может вынести и вида врагов, разгуливающих между своих палаток, и испытывает сильнейшее желание прикончить их на месте. Да, господин, хорошая кухня на войне – первейшее дело, а когда войны заканчиваются, вы – образованные сеньоры – должны изучать тактику и стратегию.











