Читать онлайн Благословение Пана
- Автор: Лорд Дансейни
- Жанр: Классика фантастики, Зарубежная фантастика
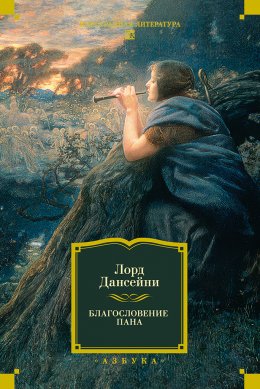
Lord Dunsany
THE BLESSING OF PAN
Copyright © The Estate of Lord Dunsany, first published 1927
This edition is published by arrangement with Curtis Brown UK
and The Van Lear Agency
All rights reserved
© С. Б. Лихачева, перевод, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Азбука®
Глава 1
Уолдингский викарий
В летнем воздухе, дыхание которого уже иссушило боярышниковый цвет, но еще не выманило из бутона розу, замерла синяя муха – замерла совершенно неподвижно, часто-часто трепеща крылышками, так что отдельных взмахов не удалось бы ни подсчитать и ни рассмотреть: крохотное тельце зависло между двумя смазанными кляксами над лужайкой под сенью буковых деревьев. Полноватый, седоватый священник – именно так выглядит человек, уже вступивший в безмятежную пору жизни и оставивший более тяжкие заботы позади, – наблюдал за мухой из высокого плетеного кресла. Одетая в темное фигура, откинувшаяся к спинке, наводила на мысль о столь же полной неподвижности, какой добилась муха, неистово молотя крылышками; лицо священника было спокойно, но в голове роились тревожные мысли. Внезапно синяя муха резко метнулась наискось и зависла где-то еще, а вот священник остался все в том же кресле и все с теми же мыслями.
Викарий вот уже несколько дней не знал покоя – сперва из-за неопределенности, перерастающей в страх; затем, когда факты уже не оставляли места сомнениям, он все гадал, что же делать; а когда понял, в чем состоит его долг, он все пытался увильнуть и откладывал дело в долгий ящик: мысли его крутились, словно белка в колесе, возвращаясь к одной и той же исходной точке – надо написать епископу. А как только викарий это осознал, уже невозможно было думать ни о чем, кроме как: «Что скажет епископ?», «Будет ли он во вторник во дворце?», «А не получит ли он мое послание пораньше, если я напишу уже сегодня и отправлю письмо с воскресной почтой?». В недвижном мерцающем воздухе полуденные насекомые постепенно уступали место тем, которые вылетают с наступлением вечера, и под буковыми листьями то тут, то там вспыхивали блики – близилось время, когда с холма снова донесется странная мелодия, и пронзит воздух точно лунный луч, и растревожит сумерки ощутимым прикосновением магии, которой, как доподлинно знал священник, подобает и следует страшиться.
В тот день викарий больше не мешкал: он рывком вскочил с кресла, вошел в дом, проследовал в тесную комнатушку, которую называл своим кабинетом, и сей же миг схватился за перо и бумагу. Жена проводила его взглядом и ничего не значащей фразой, но задерживать не стала: она видела по выражению его лица, что тревога последних нескольких дней, о которой муж не обмолвился ей ни словом, достигла предела. Перо торопливо забегало по чистому листу: заставить себя сесть за письмо было непросто, а вот дальше все пошло как по маслу; викарий был уверен в фактах – тех, которыми располагал, и в уме его теснились фразы, которые он проговаривал про себя снова и снова вот уже неделю, – оставалось только излить их на бумагу. По хлопанью дверей и знакомому позвякиванию чашек и ложек он понял, что с запозданием подали чай, но его никто не потревожил: викарий сидел и писал в одиночестве своего кабинета. Вот какое послание сочинил он для епископа:
Уолдингский викариат, Сэлдем,
Уилдборо
10 июня
Милорд, в глубокой обеспокоенности я вынужден посягнуть на бесценное время вашего высокопреподобия, дабы испросить совета и наставления. Но прежде, чем изложить известные мне факты, я попрошу ваше высокопреподобие учесть, что Уолдинг вот уже шестнадцать или семнадцать лет как из ряда вон выбивается среди всех прочих приходов, что и сейчас в нем не все ладно и что – как бы я ни старался – я так и не смог положить конец странным россказням, которые, будь они древнее, могли бы сойти за фольклор, и странным воззрениям, и – даже там, где я в состоянии частично их пресечь, – странным воспоминаниям старожилов. На самом деле Уолдингу причинило непоправимый вред недолгое пребывание здесь человека, который называл себя преподобным Артуром Дэвидсоном, хотя я не смог бы привести в пример никакого его конкретного проступка. Я знаю, что он был рукоположен во времена задолго до вашего высокопреподобия и что не мне хулить тех, кто прислал его сюда. Я просто констатирую факт: с тех пор, как он исчез, духовное служение в Уолдинге сопряжено с немалыми трудностями, и трудности эти, пусть определения им и не подберешь, всё еще ощущаются спустя столько лет, и я прошу вас о них не забывать.
Итак, милорд, факты таковы. На закате или чуть ранее, потому что солнце опускается за холм Уолд и мы перестаем его видеть, с той стороны склона, что чуть левее заката (в это время года), раздается музыка. Это звуки свирели и вполне определенный мотив, но мотив этот никому здесь не известен – мне, во всяком случае, не удалось узнать, что это за мелодия. Музыка звучала едва ли не каждый вечер на протяжении всей весны и ежедневно в июне сего года. Сдается мне, что впервые я услышал отдельные ноты однажды вечером прошлой зимой, но сейчас этот мотив уже ни с чем не спутаешь. Иногда я слышу его в лунном свете. Он доносится словно бы от опушки леса на вершине Уолда, либо из-под сени деревьев, либо из зарослей шиповника на склоне. Позже музыка, по-видимому, уходит за холм, всё дальше и дальше. Поначалу я думал, что какой-нибудь местный юноша с помощью этой причудливой мелодии подает знак своей милой. Но нет: я проверял. Это не влюбленная пара бродит по лесу. Однажды вечером я пошел к Уолду. Мелодия звучала до боли отчетливо, но музыканта я не видел. И тут вдруг я заметил, что по тропке – по узкой стежке, что уводит от деревни за гребень холма, – поднимаются две-три девушки. Я остался на месте; музыка заиграла снова. Появились еще девушки. Одни шагали вверх по тропе, другие срезали путь по заросшему склону холма. Все они направлялись в ту сторону, откуда доносилась музыка. Затем я увидел еще трех-четырех знакомых мне девушек: они пробирались сквозь заросли шиповника поодаль от тропы и уже приблизились ко мне настолько, что я их узнал. Заметив меня, они умышленно развернулись, возвратились на тропу и быстро зашагали по ней вверх, в направлении вершины и леса, прочь от деревни. Не знаю, как это описать: едва завидев меня, они тотчас же прянули вспять, точно вспугнутые дикие зверушки, и поспешили к лесу. Я постарался изложить факты как можно подробнее, хотя я и боялся отнять слишком много времени у вашего высокопреподобия; но теперь, когда я высказался, я бы предпочел, чтобы фактов было больше: все они кажутся слишком ничтожными, чтобы оправдать мою обеспокоенность. Могу только добавить, что такое повторяется снова и снова. Но, о милорд, поверьте мне, когда я говорю, что этот мотив – не какая-то там обыкновенная песенка: я знать не знал, что из музыки способно родиться нечто подобное, и думать не думал, что простое сочетание нот может обладать такой властью, и, столкнувшись с этой бедой, я нуждаюсь в вашей помощи как никогда прежде.
Засим остаюсь покорным слугою вашего высокопреподобия,
Элдерик Анрел
Священник вышел в соседнюю комнату к жене. Чайные приборы все еще стояли на столе, хотя булочки с маслом уже остыли.
– Чай слишком крепко настоялся, дорогой, – промолвила миссис Анрел. – Кроме того, все давно холодное. Я позову Мэрион.
– Нет-нет, не надо, – покачал головой викарий. Он не обратил внимания на накрытый стол и про чай даже не вспомнил. – Последнее время я места себе не нахожу. Эта мелодия на закате… Не могу понять, что это такое и откуда. Как ни бьюсь, не понимаю. Я написал епископу.
Супруга задумчиво взяла письмо и заглянула в него. И правда: письмо к самому епископу.
– Так это ж юный Томми Даффин играет, – объяснила она. – Он и инструмент себе сам смастерил – не то из камыша, не то из тростника.
– Томми Даффин, – повторил ее муж. – Да, в деревне говорят, что это он. Но откуда бы Томми Даффину взять такой мотив – не из головы же?
Однако миссис Анрел ничего больше к тому не прибавила: она уже внимательно вчитывалась в письмо. Дойдя до конца, она помолчала немного, не выпуская его из рук. А затем сказала:
– Ты пишешь местоимение «Вы» и «Ваш» со строчной буквы, дорогой: вот, «нуждаюсь в вашей помощи».
– А это важно? – удивился викарий.
– Пожалуй, что и нет, не то чтобы важно, – согласилась она. – Но епископу может и не понравиться.
Викарий вернулся в кабинет и сколь можно аккуратнее внес исправления – да так и остался сидеть, размышляя над письмом. И чем больше он размышлял, тем яснее понимал, что собирается обеспокоить епископа безо всякой нужды: кто бы ни играл эту мелодию, Томми Даффин, семнадцатилетний парнишка, которого он лично крестил (в самом начале своего служения в здешнем приходе), или кто угодно другой, и какой бы интерес ни вызывала почему-то эта музыка у глупых девиц, проблема в любом случае яйца выеденного не стоит и покажется тем большим вздором, если письмо опрометчиво отослать в епископский дворец. Зря он так разволновался! И однако ж жена не возражала. Она почти ничего не сказала, но она ни за что не позволила бы ему отослать это письмо епископу, не будучи целиком и полностью согласна с мужем. В мелодии и впрямь ощущается нечто странное, кто бы уж ее ни играл. Но при виде лежащего на столе письма викарий испугался собственной дерзости – пристало ли отвлекать епископа от насущных дел по такому ничтожному поводу? – и все его былые сомнения разом воскресли. Вошла Мэрион в накрахмаленном белом переднике, и мысли викария снова вернулись к делам житейским.
– Сэр, еще письма будут? – спросила она.
– Нет, Мэрион, – ответил он. – Нет, спасибо.
И Мэрион ушла в деревню с запиской для бакалейщика, с письмом к сэлдемскому галантерейщику и с очередным посланием к своему ухажеру в Йоркшире.
И тут в небесах заполыхали неистово-яркие краски, над землей сгустилась сумеречная дымка, потянуло холодом, солнце скрылось за Уолдом, и с высокого холма над долиной в мерцающем вечернем мареве отчетливо зазвучал причудливый мотив, настолько далекий от людских помыслов, что казалось, он доносится сквозь века из тех земель, к которым никто из представителей рода человеческого не имеет никакого касательства. Такую песню поют скорее эльфы, нежели дрозды; более волшебная, нежели все соловьи, вместе взятые, она будоражила сердце священника невыносимой тоской, о которой он мог рассказать словами не больше, чем положить слова на эту музыку. Мелодия захлестнула его и приковала к месту. Он не просто застыл как завороженный – он даже не дышал. Все его помыслы, все его чувства, да сам его разум словно бы уносились в дальние долины – возможно, что и внеземные.
Внезапно музыка оборвалась и сумерки вновь потонули в безмолвии, и, подобно неспешному приливу, повседневные мысли хлынули обратно. Викарий кинулся к конверту, поспешно надписал адрес – «Сничестер, епископский дворец, епископу Уилденстонскому», – засунул письмо в карман, схватил мягкую черную шляпу и помчался вниз по холму к почтовому отделению.
Глава 2
Разговор с миссис Даффин
– Августа, я все-таки отправил письмо епископу.
– Да-да, – кивнула она.
Такие имена даются не без причины: какая-нибудь достославная родственница из прошлого века, какая-нибудь блистательная фантазия, пришедшая в голову одному из родителей; а может статься, что и надменное выражение, промелькнувшее однажды в лице ребенка, – причина есть всегда. Вот и эта пожилая добродушная толстушка носила имя Августа. Никто не знал почему.
В тот день супруги больше не вспоминали ни про письмо, ни про странный повод для его написания. Миссис Анрел видела, что ее муж немного подуспокоился; ей не хотелось неуместным словом заново всколыхнуть зыбь его сомнений. Но в течение следующих нескольких дней викарий потратил впустую невесть сколько времени, гадая про себя, что же ответит епископ. Он знал, что его высокопреподобие – человек с опытом; не сомневался, что тот с присущей ему проницательностью разгадает тайну куда успешней его самого, и однако ж продолжал встревоженно размышлять о том, что же все-таки скажет епископ. Ни днем ни ночью не знает покоя ум человека, истерзанный тревогами, так что викарию достало времени, чтобы рассчитать перемещения своего письма от города к городу, пока оно не доберется до Сничестера назавтра утром; а если епископ ответит безотлагательно, то его послание прибудет в Уолдинг поутру следующего дня – то есть на третий день считая от сегодняшнего. В своих расчетах он не ошибся.
С зарей викарий немного воспрял духом. После того как он отправил письмо, у него словно камень с души свалился, все уже не казалось таким мрачным – тем более что в окна струился вполне реальный солнечный свет и приборы для завтрака весело сверкали в его лучах.
– Пожалуй, схожу-ка я повидаюсь с Даффином, – промолвил викарий.
– От него толку не добьешься, – отвечала жена.
– А ты с ним уже говорила? – удивился он.
– Ну, не то чтобы напрямую, – покачала головой миссис Анрел.
– Нет, конечно, Даффин – не из тех, кто в таких вещах что-нибудь смыслит, – подтвердил викарий. – Но я его спрошу. Спрошу, где его сынок пропадает вечерами.
– Да он это, точно он, – подтвердила жена.
– Чудны дела твои, Господи, – пробормотал священник. – Даффины, надо же!
Покончив с завтраком, он взял шляпу и ясеневый посох и зашагал на ферму, где жил Даффин, где он прожил всю свою жизнь; ферма эта пряталась в долине за деревней. Викарий прошел по маленькой улочке, – вдоль одной ее обочины кустился боярышник, а временам года нужно было переходить на противоположную ее сторону, чтобы пробудить шиповник вдоль другой обочины, – прошел мимо Даффинова пса, конурой которому служила пустая бочка; пересек тропу, на которой поутру и ввечеру топтались коровы, превращая ее в грязное месиво; прошел через несколько ярдов розария и поднялся на крыльцо старого фермерского дома. Гость нашарил звонок в зарослях жимолости, которая еще не расцвела, и потянул проржавевший шнур на себя: скрип и скрежет отозвались по всему дому, прежде чем, очень нескоро, где-то в глубине непривычно звякнул колокольчик; и вот уже Даффин собственной персоной в одной рубашке вышел к дверям.
– Доброе утро, Даффин, – поздоровался викарий.
– Утречко доброе, сэр, – откликнулся фермер.
– Я зашел спросить, нельзя ли у вас прикупить еще яиц.
– А как же, сэр, с моим превеликим удовольствием, – заверил Даффин. – Да вы заходьте, не стесняйтесь.
Викарий вошел в прихожую.
– Мне бы таких коричневых, ну, вы знаете, – промолвил он.
– Конечно, сэр, конечно. Боюсь, в последнее время орпингтоны [1]мои несутся не ахти. Вам сколько надобно, сэр?
– Ну, скажем, полдюжины.
– И всего-то? У меня и две дюжины наберется.
Они уже вошли в гостиную, и викарий присел на черный-пречерный диван из конского волоса. Ему не нужно было больше полудюжины яиц, потому что, по правде сказать, он пришел не за яйцами. Шесть штук в хозяйстве всегда пригодятся, а вот больше деть некуда.
– Нет-нет, думаю, шести штук мне вполне хватит.
– Я легко мог бы уступить вам две дюжины, сэр.
– Нет, спасибо, не сегодня. Как-нибудь в следующий раз.
– Ладно, схожу принесу, – промолвил Даффин.
– Большое вам спасибо.
Даффин вышел. Судя по голосам и звукам в глубине дома, миссис Даффин затеяла было стирку; ей сообщили о госте; она, конечно же, ушла привести себя в приличный вид и выйдет чуть позже.
Викарий не спросил, сколько стоят яйца; вот так и знал, что-нибудь да забудет! Ждать пришлось долго.
Наконец вернулся Даффин, неся корзинку с шестью коричневыми яйцами.
– Только корзинку, сэр, верните как-нибудь при случае, уж будьте ласковы! Я ее у миссис Даффин позаимствовал. Она ею пользуется, когда огородничает.
– О, всенепременно, – пообещал викарий.
– Спасибочки, сэр.
– Да, кстати, – промолвил викарий, – а что ваш сынишка поделывает? Вы его уже куда-нибудь на работу определили?
– Да просто пособляет мне на ферме, сэр.
– Ах, на ферме пособляет, значит.
– За коровами ходит и все такое. Ну и когда сенокос начнется, понятное дело…
– А, ну да, конечно.
– Так что заняться-то ему есть чем, сэр.
– Ясно, – кивнул викарий, – выходит, лоботрясничать ему некогда?
– Ну, это как сказать… сами знаете, сэр, мальчишки – они мальчишки и есть.
– Да-да, конечно. – Викарий по-прежнему ходил вокруг да около, а вот краснолицый фермер сразу дошел до самой сути дела, к которой так долго подбирался его гость:
– Вечно он вечерами без дела слоняется, ворон считает. В сенокосную пору так не забалуешь!..
– Не забалуешь, вы правы, – подтвердил викарий, – и вы, конечно же, позаботитесь, чтобы в пору сенокоса юноша от работы не отлынивал!
– Уж насколько смогу, сэр.
– Конечно, в этом возрасте они так и норовят от рук отбиться.
– Да уж, в наши дни на детей никакой управы не сыщешь, это вы, сэр, в самую точку попали, – подтвердил Даффин.
– Так может статься, если вы начнете запирать его дома, ну, скажем, с закатом, к тому времени, как мальчик понадобится вам на сенокосе, он к дисциплине попривыкнет.
– Сейчас-то не то, что раньше, – посетовал фермер, – посмотрим правде в глаза: мир уж не тот! Новомодных идей поразвелось – пруд пруди. Вот мой папаша, который хозяйничал на этой ферме до меня, – ежели мы вытворяли что-то такое, что ему не по нраву, он даже и не говорил ничего, ему одного только взгляда хватало; он как зыркнет на нас из этого своего старого деревянного кресла, а ежели до кого не дошло, так еще и кнутом щелкнет: кнут-то вот он, под рукой на стенке висел – старикан его с собой брал, когда на лис охотился; и уж этого-то хватало завсегда, мы как услышим, так разом становились как шелковые. Теперь-то всё по-другому…
– Да, в каком-то смысле раньше было лучше, чем сейчас, это вы верно сказали, – подтвердил викарий.
– Во всех смыслах, сэр! – заверил фермер.
– И что, вам никак не удается удержать юного Томми дома по вечерам? – поспешно вставил викарий, видя, что хозяин того гляди примется рассуждать про цены на зерно.
– Нет, сэр, не удается, – вздохнул фермер. – Скажу как на духу: не удается, хоть тресни. Вечно он в холмы уходит.
– И что же он там делает? – спросил викарий.
Но прямой вопрос не приблизил его к цели: в ответ он услышал только:
– Не спрашивайте, сэр, чем молодежь в наши дни занимается. Мне их не понять.
Видя, что ничего больше он от хозяина не добьется, викарий поднялся на ноги, рассчитывая улизнуть до того, как в гостиную спустится принаряженная миссис Даффин. Но ему не повезло: не успел он схватиться за корзинку, как появилась и она, «вся в блестках», – во всяком случае, именно так запомнилось викарию ее черное платье вкупе с гагатовой брошью. Вместе с матерью вошел Томми Даффин: волосы его были со всем тщанием расчесаны на ровный пробор.
«Чисто оладушек на нутряном сале», – сказал себе викарий, который временами сам поражался неподобающим духовному лицу мыслям, что проносились в его голове. Но при виде краснощекого Томми с его круглой физиономией, безучастным взглядом и блестящими сальными волосами такая шутка напрашивалась сама собой.
– Я тут зашел прикупить ваших замечательных яиц, – объяснил викарий, обменявшись с хозяйкой рукопожатием.
– Вот и славненько, – разулыбалась миссис Даффин.
– Боюсь, я вас от работы отвлек, – посетовал он.
– Ничуть не бывало, – заверила она. Это было во времена задолго до того, как в обиход вошло выражение «не берите в голову».
– Я как раз уходить собирался, – промолвил викарий.
Но не тут-то было! Миссис Даффин принялась расспрашивать о миссис Анрел; за непринужденной болтовней, благожелательной, пусть и ни о чем, скоротали утро, и все это время Томми в своем парадном платье недвижно сидел на стуле, бездумно глядя в пространство.
– Я ведь его крестил, помните? – промолвил викарий.
– О да, – отозвалась миссис Даффин. – Мы как раз поженились за год до вашего приезда. Меньше чем за год, если на то пошло.
Последовали новые воспоминания. Наконец викарию удалось распрощаться. Подхватив корзинку, он вспомнил, что ее нужно будет вернуть, и в голове мистера Анрела тут же сложился план. А что, если он сам занесет корзинку незадолго до заката, немного посидит и поболтает с миссис Даффин – и понаблюдает за парнишкой, когда начнет смеркаться?
Глава 3
А вот и флейта!
– Я тут потолковал с Даффинами, – рассказал викарий жене. – Непохоже, чтобы это был юный Томми.
– Самые неожиданные поступки обычно совершают те, от кого ничего подобного не ждешь, – напомнила миссис Анрел.
– И то верно, – согласился викарий, вспоминая о разных приходских событиях.
Так над викариатом и над солнечной долиной прошел еще один день. В маленьком домике и над лужайками царила тишина, но в голове Анрела вихрем проносились мысли: он тщетно пытался предугадать, какие меры примет епископ и как подступится к проблеме, беспокоящей Уолдингский приход, или хотя бы что именно напишет в своем ответном письме.
В тот день мистер Анрел уже не стал возвращаться с корзинкой к Даффинам, рассудив, что два визита в один день – это чересчур. Вместо того ближе к вечеру он устроился в кресле перед домом и с напряженным беспокойством стал наблюдать за холмом Уолд. Но среди всех звуков, что пробивались сквозь золотую дымку вечерних чар, слуха Анрела достигали только такие, что имели явственно земное происхождение: в долине перекликались люди; доносился приглушенный, невнятный шум голосов и далекие переливы смеха, а еще лай собак, блеяние овец, кукареканье петуха – все то, чем человек, словно частоколом, отгородил свои дома от безмолвия звезд. Музыка раздавалась на холме не каждый вечер, и Анрел был уверен: пусть сейчас и тихо, назавтра вечером она точно зазвучит.
На следующий день он был встревожен и молчалив все утро. Викарий не был бойцом по призванию, и однако ж он по доброй воле подходил все ближе к некоей силе, которая внушала ему ужас; и, даже если колдовскую мелодию по вечерам играл не Томми Даффин, мистер Анрел понимал, что, спустившись в долину на ферму, в страшный для него час он окажется совсем близко к Уолду.
– Схожу-ка я вечерком к Даффинам, верну корзинку, – сказал он жене.
– Я могу отнести, – предложила миссис Анрел. – Я как раз собралась в лавку Скегланда.
– Нет-нет, – возразил викарий, – я не прочь пройтись.
Миссис Анрел возражать не стала: да и заговорила-то она только для того, чтобы убедиться: муж настроен серьезно. Она порадовалась про себя его решимости; ведь, хотя она всё больше помалкивала и даже про себя не облекала эту мысль в конкретные слова, она уже успела понять: в том, что слышится с холма Уолд в закатный час, есть что-то в корне неправильное.
Викарий не стал откладывать столь пугающую его прогулку: наоборот, он вышел из дому пораньше и добрался до фермы, пока солнце еще не село за холм. Даффин ввел его в гостиную; там уже ждала миссис Даффин – и Томми при ней. Они, верно, издалека заметили гостя.
– Я тут вашу корзинку назад принес, – объяснил викарий.
Он даже не стал придумывать повод, чтобы задержаться. Он отлично знал, что можно спокойно положиться на миссис Даффин. Конечно же, она спросила про яйца.
– Замечательные, очень вкусные, – заверил он, не моргнув и глазом и даже не попытавшись вспомнить, съели ли они с женой все шесть и успели ли попробовать хоть одно.
От яиц хозяйка перешла к курам – с ними столько возни! – а потом принялась рассуждать о жизни в целом; Даффин стоял и улыбался, а Томми обиженно супился – мало того, что на него нацепили жесткий белый воротничок, так еще и держат в четырех стенах! Викарий слушал, время от времени вставляя в разговор короткое замечание: так опытный путешественник, поддерживая костер, подбрасывает сухую ветку или кусочек коры в точности туда, куда нужно. Беседа текла своим чередом, а солнце между тем склонялось все ниже к Уолду.
Томми заерзал: ему явно не сиделось на месте. Викарий не спускал глаз с миссис Даффин: вот наконец она заметила нетерпение сына. В этот самый момент Анрел встал уходить. Миссис Даффин, которая любила посплетничать с викарием даже больше, чем сплетни сами по себе, разумеется, попыталась бы удержать гостя в любом случае – попыталась и сейчас, хотя бы чтобы укорить Томми. Уступив настоятельным уговорам, викарий остался, а солнце опускалось все ниже и ниже.
Теперь разговор зашел о репчатом луке: как его выращивать, как готовить и можно ли его есть сырым. Томми перестал ерзать; выражение его лица менялось на глазах. Щеки осунулись и побледнели, скулы заострились; но главное – взгляд, отметил про себя викарий: во взгляде парня пылала такая острая, неуемная тоска, что и салфеточка-антимакассар[2] на спинке дивана под его головой, и сам черный диван внезапно показались на диво несуразными. «Да, – подумал мистер Анрел, – этот мальчишка на все способен». Томми было не узнать.
– Мне кажется, целебные свойства весеннего лука куда важнее неодобрения соседей, – промолвил викарий.
– Я с вами целиком и полностью согласна, сэр, – заверила миссис Даффин, – но мне всегда немного боязно, ведь люди, они такие…
– Люди слишком склонны осуждать ближнего своего, – рассеянно подтвердил викарий.
А Томми Даффин сидел тут же, на диване, со странным выражением на лице, и вот солнце коснулось вершины Уолда, и громадные, длинные тени уже прокрадывались в долину, и левая рука Томми снова и снова непроизвольно тянулась к карману пиджака и тишком отдергивалась.
– Да-да, – приговаривала миссис Даффин, – я считаю, что не сыщешь лучшей породы, чем кохинхины, – такие неприхотливые и насиживают хорошо.
– Да-да, – кивнул викарий. И, чувствуя, что мальчишка того гляди сбежит и потом ищи его, свищи, мистер Анрел внезапно задал вопрос – просто так, наудачу, сам не зная, промахнулся или попал в яблочко, – как говорится, не попробуешь, не узнаешь! – А что у тебя за свирель такая в кармане?
Парень побледнел как полотно.
– Нету у меня никакой свирели, – буркнул он.
– Томми, как не стыдно, – встряла миссис Даффин, – покажи мистеру Анрелу, что там у тебя.
Томми замолчал, весь сжался, угрожающе зыркнул из-под нахмуренных бровей; казалось, он будет защищать свой карман до последнего. Смеркалось. Но вот, всё так же молча, угрюмо хмурясь, Томми Даффин достал что-то из кармана.
– Что это, милый? – спросила мать. В комнате, обшитой темным дубом, все предметы казались темнее, нежели обычно бывает сразу после заката.
– Да это ж точно такая штуковина, на которой в «Панче и Джуди»[3] играют, – промолвил Даффин. – Ты где ее взял-то?..
Но при взгляде на лицо Анрела хозяин осекся. Ибо в голове викария невесть откуда возникла безумная фантазия и, вопреки здравому смыслу, подсказала: «Это флейта Пана»[4].
Глава 4
Воздух Брайтона
Томми Даффин соскользнул с дивана из конского волоса и улизнул из гостиной; откланялся и викарий; теперь он торопился домой сквозь вечерние сумерки. Он с первого взгляда понял, что свою флейту юный Даффин, скорее всего, смастерил своими руками, как и говорила миссис Анрел, – из тростника, которым заросла речушка, протекающая через Уолдинг. У Анрела не было ровным счетом никаких безумных или языческих идей на этот счет. И однако ж та сумасбродная фантазия, что молнией сверкнула в уме и тотчас же была изгнана здравым смыслом, оставила по себе смутный след, неуловимое, но гнетущее предчувствие, что пронизывало все умонастроения священника и таилось за каждой мыслью; так что мистер Анрел едва ли не бегом поднимался вверх по холму, спеша оказаться дома, в знакомой обстановке, прежде чем в воздухе затрепещет пугающая мелодия – и затопит долину. Едва он переступил порог, едва затворился в своем кабинете и сел читать монографию об эолитах – обработанных осколках кремня и красной глины, этих грубых орудиях или оружии первобытных людей, которые сам он находил порою, прогуливаясь по лугам на возвышенностях, и приносил домой, и держал в выдвижном ящике, – как в вечерней полутьме зазвучал волшебный зов, чуть приглушенный стенами дома, но многократно усиленный неотвязными страхами Анрела, – зов, что подхватил и увлек его мысли далеко от науки и теории и, взбаламутив, зашвырнул на ошеломительные берега, где и призвание, и образование почтенного викария оказались совершенно бесполезны.
Спустя какое-то время мелодия оборвалась. Как долго она звучала, викарий не ведал: его с головой захлестнули эти разбушевавшиеся фантазии. Но спустя несколько секунд или минут музыка смолкла, и мысли викария медленно потекли вспять из нездешних пределов: путь им указывали голоса, доносящиеся из соседских садов, чириканье знакомых птиц и те приглушенные шепотки и шорохи, что не стихали в деревне и ее окрестностях не только на протяжении всех тех лет, что викарий в ней прожил, но в течение бессчетных веков. Все эти звуки возвращали мысли викария из необъятных просторов, как знакомые огни ведут корабли домой от дальних опасных берегов. Мистер Анрел гадал про себя, а как эта мелодия воздействует на других; может статься, то странное ощущение чужеродности, захлестнувшее приход еще до него, вобрало в себя и эту музыку, так что она теперь кажется вполне естественной? или натуры более грубые не так легко ей поддаются? или простецы, будучи ближе к природе и даже к язычеству, отзываются на чудесные чары с самозабвением, викарию неведомым? Он вспомнил, как деревенские девушки завороженно глядели в ту сторону, откуда доносилась музыка.
Но все эти размышления ни к чему не вели.
На холме Уолд все стихло, и Анрел постепенно вернулся к единственному своему источнику утешения – к мысли о том, что дело теперь в руках епископа и что ум более проницательный и не в пример лучше образованный, хорошо осведомленный о том, что происходит в сотне приходов, не понаслышке знающий Лондон и (сколь странное направление приняли смятенные мысли викария!) клуб «Атенеум»[5], посмотрит на тревожную ситуацию в приходе более масштабно – и мудро во всем разберется. Вновь понадеявшись, что письмо от епископа придет уже завтра, Анрел поужинал и вскоре лег спать.
И действительно, ясным солнечным утром письмо пришло. Долгожданный конверт, надписанный епископским почерком, лежал рядом с тарелкой мистера Анрела – там, куда положила его Мэрион. Миссис Анрел вскинула глаза на мужа.
– Да, – подтвердил викарий, – вот и ответ.
– Я так рада, – улыбнулась Августа.
Ей тоже верилось, что могущественная помощь уже грядет.
Анрел погрузился в чтение.
Вот что ответил ему епископ:
Епископский дворец, Сничестер
12 июня
Мой дорогой мистер Анрел, Вы были совершенно правы, написав мне, – уповаю, что любой священник в моей епархии, ни минуты не колеблясь, обратится ко мне в час нужды и поделится со мною своими сомнениями в любое время и со всей откровенностью. Я понимаю Ваши чувства и глубоко сокрушаюсь вместе с Вами. Я всегда знал, что вверенный Вам приход – не то чтобы синекура и поддерживать в нем дисциплину порою непросто; Ваше письмо лишь подтверждает мое мнение, даже если Ваш рассказ как таковой явился для меня некоторой неожиданностью. Воистину, я уже давно вижу, что почти все священники в моей епархии перегружены работой. Конечно, речь идет не об одной неделе и даже, наверное, не о целом годе, вот почему оснований для жалоб вроде бы и нет; такая усталость накапливается за долгое время: год за годом, фактически без отпусков, священники трудятся усерднее, чем, пожалуй, представители любой другой профессии – особенно в нашей епархии. У многих моих священников приходские обязанности не столь обременительны, как Ваши; хотя, конечно же, есть и те, кому приходится еще тяжелее.
Принимая во внимание, сколько с Уолдингом проблем и как давно Вы не были в отпуске, я категорически настаиваю, чтобы Вы съездили куда-нибудь отдохнуть (в кои-то веки!) хотя бы на неделю. Тут один знающий человек подсказывает мне, сколь живителен воздух Брайтона, и настойчиво его рекомендует как самолучшее лекарство от переутомления. Я лично позабочусь о том, чтобы подыскать Вам замену на обе службы в Уолдинге по меньшей мере на одно из воскресений и умоляю Вас не возвращаться до тех пор, пока не почувствуете себя в состоянии справиться со всеми проблемами Вашего прихода. Если позволите дать Вам совет, я бы порекомендовал Вам уехать в этот небольшой отпуск (разумеется, вместе с миссис Анрел), выбросив из головы все докучные мысли: в Ваше отсутствие об Уолдинге позаботятся должным образом – я все возьму на себя. Мой капеллан знает хорошее cъемное жилье совсем рядом с Брайтоном, на его взгляд идеально подходящее для отпуска, который мы с Вами пытаемся спланировать; он Вам напишет.
Искренне Ваш,
А. М. Уилденстонский
Анрел прочел письмо один раз, перечитал его снова. И только тогда поднял глаза.
– Что он пишет, дорогой? – спросила миссис Анрел.
– Он пишет… – голос викария сорвался, и, ничего больше не прибавив, он растерянно уставился на листок бумаги.
Миссис Анрел подошла к мужу и прочла письмо сама.
– Ну и ну! Он предлагает нам съездить в отпуск! – воскликнула она. Ни тени разочарования не прозвучало в ее голосе и не отразилось в ее лице.
Тон жены поразил викария: оказывается, в письме, внушившем ему такое отчаяние, возможно усмотреть что-то приятное! Анрел заметно приободрился.
– Да, в отпуск на неделю, – подтвердил он.
– А вот это, – подхватила миссис Анрел, берясь за второе письмо – оно лежало под епископским, ведь зоркая Мэрион сразу поняла, которое из двух важнее, – вот это, должно быть, от капеллана.
Так и оказалось. Капеллан писал:
Дорогой мистер Анрел,
епископ рассказал мне, что Вы подумываете съездить отдохнуть в Брайтон. Я знаю один очень славный пансиончик в Хоуве: его высокопреподобие подумал, Вам будет небезынтересно. Вы, конечно, знаете, что Хоув примыкает к Брайтону, у них общая набережная. Жилье сдает некая миссис Смердон; она берет всего лишь 7 шиллингов 6 пенсов в день за комнату на двоих, с завтраком, обедом и ужином. На таких условиях она принимает всех моих друзей, хотя, конечно же, в курортный сезон ей непросто противиться соблазнам. Однако я уже послал ей записку, чтобы никаких накладок не возникло, и попросил устроить вас с миссис Анрел как можно удобнее. Прилагаю также расписание поездов со всеми несносными пересадками; к сожалению, при междугородних переездах их не избежать. Поезд в 3:02 кажется самым удобным, не так ли? Епископ надеется получить от Вас весточку сразу после того, как Вы вернетесь из отпуска. Так что полагаю, Вы ему напишете недельки через две.
Искренне Ваш,
Дж. У. Портон
Миссис Анрел прочла начало письма из-за плеча мужа, но до конца страницы они дошли не одновременно, так что последние несколько фраз викарий зачитал ей вслух.
– Семь шиллингов шесть пенсов? – повторила она. – Семь шиллингов шесть пенсов за все про все? – И миссис Анрел умолкла и ничего больше к тому не прибавила.
– Да. Совсем недорого, – промолвил викарий.
– Еще бы! – подтвердила она.
Мистер Анрел мог бы часто ездить в отпуск. Но он смотрел на свою работу в здешних холмах не так, как тысячи людей смотрят на свою: те люди, которые торгуют чем-то таким, что сами, возможно, считают недушеполезным, в обстановке, против которой восстают все их чувства, для этих людей их работа – то, от чего следует бежать подальше, как Лот из Гоморры, ежели подвернулась редкая возможность, – увы, чтобы вскоре вернуться обратно. С каждым годом очертания здешних холмов все больше и больше сглаживали его мнения, мечты, взгляды и философию – все то, что человек называет своим мировоззрением, – и сглаживали так мягко и ненавязчиво, что, по-видимому, в их пологих склонах не было ровным счетом ничего такого, что могло бы покоробить бесхитростный ум.











