Читать онлайн Нравственная жизнь: советы из «Драгоценной гирлянды» Нагарджуны
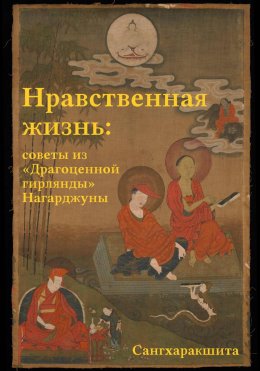
Введение
Буддийский монах Нагарджуна жил примерно через шестьсот лет после паринирваны Будды, во втором или третьем веке нашей эры. Для многих буддистов он является величайшим из индийских учителей Махаяны. Будучи оригинальным мыслителем, он стал автором «Мадхьямака-карики» (Коренные строфы о Срединности), основополагающего текста школы Мадхьямаки, а также популяризировал писания Праджняпарамиты или Совершенства Мудрости. Работа, на которой основана эта книга, «Раджапарикатха-ратнамала», или «Драгоценная гирлянда советов царю», – одна из менее известных работ Нагарджуны. Лаконичная, понятная и вдохновляющая, она является шедевром толковательной литературы Махаяны. Она касается двух определяющих, нераздельных аспектов жизни Бодхисаттвы, а Бодхисаттва – это идеальный буддист Махаяны. Эти два аспекты – это глубинная Мудрость, которая постигает истину пустоты, и безграничное сострадание, которое побуждает человека к деятельности на благо других. На самом деле «Ратнамала» – справочник по Махаяне, руководство в традиции Махаяны и путеводитель по жизни в согласии с принципами Махаяны. Труд посвящен безымянному царю, предположительно принадлежащему к династии Сатавахана в Южной Индии.
Тема «Драгоценной гирлянды» – это связь между практикой нравственности и обретением мудрости, и на протяжении этого труда Нагарджуна раскрывает эту связь с нескольких разных углов, в основном в соответствии с различными традиционными формулировками, такими, как десять наставлений в нравственности, шесть совершенств и пятьдесят семь ошибок, которых следует избегать. В ходе этого исследования он дает царю советы по целому ряду вопросов, касающихся нравственности, и именно на этом аспекте его советов царю и основана книга.
Тексты Махаяны, вероятно, не первые, к которым, естественным образом, обратится буддист, ищущий совета по вопросам нравственности. Среди разнообразных писаний и комментариев, доступных нам, кажется, более очевидно обратиться к писаниям раннего буддизма, многие из которых ясно и бескомпромиссно предписывают этическое поведение, которое помогает достичь Просветления. Однако Махаяне есть что сказать по этому поводу, и, хотя может показаться странным, что совет, данный монахом царю около двух тысяч лет назад, применим к современной жизни, слова Нагарджуны на самом деле чрезвычайно полезны для любого, кто стремится жить жизнью буддиста в наши дни.
Основной принцип нравственности, согласно Махаяне, – помогать другим, в то время как воззрение Хинаяны (как махаянисты называли раннюю форму буддизма) заключалось в том, что практика нравственности совершается главным образом в качестве упражнения в развитии сохранении позитивных состояний ума. Махаяна не противоречит этой точке зрения, но просто подразумевает чистосердечную заботу о других в качестве более позитивной мотивации, чем забота о собственном состоянии ума. Еще одно утверждение Махаяны касается того, что нравственное поведение укоренено в Совершенной Мудрости, и в то же самое время развитие мудрости возможно лишь на основе нравственной жизни. Эти взаимные отношения – контекст, как сказали бы последователи Махаяны, в котором стоит рассматривать практику нравственности. Следовательно, совершенно естественно, что в «Драгоценной гирлянде» Нагарджуна, прославленный толкователь Совершенства Мудрости, снова и снова возвращается к рассмотрению основ нравственной жизни и практики. Но, прежде чем рассмотреть то, что он говорит по этому вопросу, нам, возможно, стоит спросить, откуда мы знаем, что он говорил. Откуда к нам пришли эти строфы и как они до нас дошли?
В то время как Будда учил исключительно изустно, и его учения сохранялись в качестве устной традиции четыре столетия, прежде чем были записаны и позже стали известны как Палийский канон, ко времени Нагарджуны письмо было общеупотребительным. Работа Нагарджуны была сочинена как литературный текст, краткий труд, посвященный конкретному человеку и имеющий форму письма. Нагарджуна писал на санскрите, но текст, на котором основан данный комментарий – перевод с тибетского. Это требует некоторых объяснений.
Тибетский буддизм – это по сути великолепный и сложный буддизм династии Пала в северо-восточной Индии, дополненный влияниями из центральной Азии
Тибетский буддизм, который также распространился в Монголии, Сиккиме, Бутане и Лхадаке – одна из трех главных исторических форм буддизма, которые процветают и в наши дни. К другим относятся буддизм юго-восточной Азии (который можно обнаружить в Шри-Ланке, Бирме, Таиланде, Камбодже и Лаосе) и китайско-японский буддизм (обнаруживаемый в Корее и Вьетнаме, равно как и в Китае и Японии). Каждая из этих форм – продолжение индийского буддизма с определенного исторического момента его развития, которое продолжалось, пока не было искоренено в стране зарождения завоевателями-мусульманами в двенадцатом веке. На самом деле, важное положение, которое работы Нагарджуны заняли в тибетской литературе, – это свидетельство неразрывной связи между тибетским буддизмом и его индийскими предшественниками.
Тибетский буддизм – это по сути великолепный и сложный буддизм династии Пала в северо-восточной Индии, дополненный влияниями из центральной Азии. Передача буддизма из одной страны в другую не была перемещением артефакта из одного места в другое. Индийские буддисты, попадая из субтропических равнин и лесов Бенгалии и Бихара через огромную преграду Гималаев на заледенелые, обветренные плато Тибета, приносили с собой не только предмет, но и свою практику и учение. Это было подобно миграции живого вида, который продолжает точно передавать свои определяющие черты из одного поколения в другое, в то же время медленно адаптируясь к новому окружению и со временем создавая отдельный вариант изначального вида.
Посредством различных школ, посредством выдающихся личностей учителей, таких, как Миларепа и Цонкапа, тибетский буддизм внес свой оригинальный вклад в развитие буддизма, имевший большую ценность на протяжении его истории, в то же время, сохраняя сущностные черты индийской Махаяны. В своей монашеской организации и учении тибетский буддизм продолжает школу Сарвастивады древней буддийской Индии. Что касается практики тантризма, он сохраняет живую традицию символических ритуалов и эзотерических медитаций сотен различных линий индийских йогов и знатоков, а в текстах, которые он использует, тибетский буддизм сохраняет писания, привезенные из Индии, с великой степенью точности. Санскритские буддийские писания, если они вообще существуют, чаще всего очень искажены, но тибетские переводы очень точно воспроизводят оригинал.
Во всех буддийских традициях существует понимание, что самостоятельное прочтение труда на самом деле не принимается в расчет
Существует и еще одна причина доверять тибетскому переводу. Хотя текст – литературный труд, перевод, который мы будем использовать, основан на устной передаче, что подразумевает не только передачу текста, но и его объяснение. Если вы сами читаете текст, он может оказаться не слишком осмысленным, в то время как если вы достаточно удачливы, чтобы с ним вас познакомил компетентный учитель, вы, скорее всего, глубже поймете, о чем он. Поэтому в тибетском буддизме вошло в обычай обращаться к тексту, идя к гуру или учителю, который способен объяснить и истолковать его в свете того, что он знает о вашей собственной практике буддизма. Однажды вы, возможно, в свою очередь будете объяснять текст собственным ученикам, и таким образом сущностный смысл текста сохраняется в линии передачи.
Если непрерывность линии передачи нарушается, как иногда случается, верное истолкование может быть вообще утрачено, и его нужно будет открывать заново. В случае с некоторыми совершенно элементарными работами это, возможно, не столь важно, но если труд серьезен или сложен для понимания, что, несомненно, справедливо и по отношению к некоторым местам нашего текста, правильная интерпретация текста становится очень важной. Во всех буддийских традициях существует понимание, что самостоятельное прочтение труда на самом деле не принимается в расчет. Например, перед моим монашеским посвящением меня спросили, какие тексты конкретно я читал и изучал в сотрудничестве с учителем, и именно эти тексты были засчитаны мне как прочтенные в каком бы то ни было точном смысле. Такое отношение – наследие древнейших времен, и сама «Драгоценная гирлянда» была составлена для подобного изучения. Она написана не для неподготовленного читателя. Это содержательное преподнесение идей Махаяны, подходящее для устного объяснения таким учителем, каким являлся сам Нагарджуна.
Но если лучше всего положиться на интерпретацию учителя, какова роль ученого в расширении нашего понимания подобного текста? В любом обсуждении развития буддийских представлений есть, по крайней мере, два различных взгляда: современной науки, с одной стороны, и традиционного буддизма – с другой. Традиционная индийская и тибетская точка зрения заключается в том, что учения Махаяны были переданы во всей их полноте, в точности как они выражены в сутрах Махаяны, самим Буддой. Но считается, что ко времени Нагарджуны, примерно спустя семьсот лет после смерти Будды, они исчезли из виду и должны были быть возвращены к жизни и в некоторых случаях открыты заново мастерами Мадхьямики и Йогачары. С точки зрения современной науки, тем не менее, Будда не мог передавать сутры Махаяны, определенно не в той форме, в которой они дошли до нас. Возможно, некоторые слова, сказанные им, и некоторые учения из тех, что он давал, и содержали семена, которые в дальнейшем разрослись в Махаяну, но современный ученый сочтет, что Нагарджуна взрастил эти семена и создал из них нечто, чего до того нельзя было предугадать. Ученые не примут утверждения Махаяны, что Нагарджуна лишь вернул к жизни учения, которые уже процветали в изначальных проповедях Будды.
Эти две точки зрения явно противоречат друг другу, но это не означает, что одна верна, а другая неверна. Срединный путь заключается в том, чтобы должным образом оценить каждую. Очевидно, что невозможно принять утверждение, что сутры Махаяны были переданы Буддой в том самом виде, в каком они дошли до нас. В то же время, важно признавать, что они действительно полно отражают дух изначального учения Будды, хотя и появляются в другой форме в более поздние времена. В Палийских текстах, несомненно, можно увидеть не только семена, но и вполне явное провозглашение учений, которые появятся в более полном виде позже, в традиции Махаяны.
Эта проблема возникает, когда человек изучает любой буддийский текст, даже сутры Палийского канона, которые, как традиционно утверждают буддисты Тхеравады, в буквальном смысле являются словом Будды. Редко можно сказать, даже относительно них, в какой мере можно считать их действительно словами Будды, а в какой мере это – более поздние обработки его оригинального послания. По всей вероятности, такие тексты, как «Удана» или «Сутта-нипата», как ничто иное, близки в буддийском каноне к тому, чтобы передать нам то, что говорил Будда и как он говорил это, но работы, чья литературная форма дает понять, что они появились позже, могут отражать дух учений Будды столь же точно. Граница между духом учения и его буквой крайне тонка, и в то время, как наука очень полезна в исследованиях «буквы» текста как такового, руководство учителя приближает нас к духовному смыслу текста. Это процесс, который имеет место, когда кто-то, кто постиг дух учения, пытается передать это учение. Так, в «Драгоценной гирлянде» мы можем сказать, что Нагарджуна взращивает семена, которые уже присутствуют в сутрах Совершенства Мудрости (Праджняпарамиты) и Сутре десяти ступеней («Дашабхумике»), на благо его аудитории, царя, и придает новую форму глубинному духу этих учений. Изучая классику тибетской буддийской литературы, к которой относится «Драгоценная гирлянда» Нагарджуны, мы, следовательно, становимся намного ближе к основному потоку учений индийской Махаяны и практике, чем могло бы показаться нам на первый взгляд.
Мы можем быть уверены, что слова, приписываемые Нагарджуне, на самом деле принадлежат ему, и что «Драгоценная гирлянда» дает нам подлинное описание общения между учителем и его царственным учеником. Не стоит и говорить, что нет особого царского пути к совершенной мудрости: сам текст с очевидностью доказывает нам, что, подобно всем остальным, царь нуждается во внимании к своей нравственной жизни, если хочет стать действительно мудрым. Нравственная жизнь главным образом заключается в развитии сострадания, а сострадание, в глазах буддизма Махаяны, неотделимо от мудрости, поскольку они – два крыла, посредством которых может взлететь птица Просветления. Помимо великого множества особых советов царю по поводу того, как жить нравственно, Нагарджуна делает различные предположения, почему нужно это делать. Они разбросаны по всей «Драгоценной гирлянде», как будто царя снова и снова нужно вдохновлять или побуждать к большим усилиям. Нагарджуна использует метод кнута и пряника: с одной стороны, он отмечает, что нравственное поведение является основой мудрости, что искусные действия ведут к счастью, в этой жизни или в следующей, с другой стороны, он горько предупреждает о непостоянстве жизни и серьезности последствий неискусных деяний. Искусное поведение, таким образом, показывается как путь к мудрой и счастливой жизни, а также как способ избежать боли и несчастий. Далее следует краткий обзор размышлений Нагарджуны о необходимости нравственной жизни и природе воздаяния за нее.
О царь, я объясню практики, исключительно добродетельные,
Чтобы зародить в тебе учение,
Поскольку практики будут упрочены
В сосуде превосходного учения1.
Главная идея, отраженная здесь, заключается в том, что практика нравственности является основой, на которой развивается мудрость. Нагарджуна излагает свои цели, которые состоят не в том, чтобы передать информацию о вероучении, а в том, чтобы посеять семена Дхармы, учения Будды. Слово «учение», возможно, предполагает нечто, понимаемое интеллектуально, но Дхарму нужно постичь каждой клеткой своего существа. Органическая метафора Нагарджуны – «зародить» – отражает этот глубокий смысл. Это предполагает, что то, что он собирается сказать, должно стать искрой того, что станет собственным осознанием царя, того, что будет рождено внутри него, того, что будет жить и давать плоды.
Будда не говорил о Дхарме, он просто изрекал Дхарму
Другими словами, Нагарджуна предлагает зародить в царе не просто понимание Дхармы, но саму Дхарму, подобно тому, как Будда не говорил о Дхарме, он просто изрекал Дхарму. Нагарджуна не хочет просто говорить об истине. Он хочет пробудить царя к истине. Он напоминает царю о его внутренней возможности достичь Просветления, упрочиться в практиках и стать посредством этого сосудом Дхармы.
Когда Нагарджуна говорит о «превосходном учении» в четвертой строке, это прилагательное не просто добавляется для того, чтобы заполнить строку. В древней буддийской традиции, особенно стихотворной, каждое слово или слог вносит свой вклад в значение. Следовательно, он указывает на то, что несколько отличается от просто «учения» как такового, которое появляется во второй строке. Во второй строке Дхарма – это плод исключительно (или только) практики добродетели. Эта Дхарма вполне реальна, это живой духовный принцип, практическое понимание того, что искусно, а что неискусно, но ее может практиковать даже новичок. Мы можем заключить, что царь не слишком знаком с Дхармой, если вообще знаком. В результате, Нагарджуна начинает с разговора о нравственности.
Он хочет вдохновить царя, зародить в нем искру более позитивного состояния ума. Термин, который переводится как «превосходное учение» – на самом деле саддхарма, что означает истинная или подлинная Дхарма, совершенная Дхарма, Дхарма, которая напрямую связана с реальностью. Нагарджуна предсказывает, что когда царь утвердится в практиках нравственности, за которые он принимается, он станет восприимчивым к Дхарме на значительно более высоком уровне.
Когда люди впервые проявляют интерес к духовной жизни, они не обязательно ищут глубоких философских учений, а если это и так, эти учения могут вовсе не оказаться самым полезным для их слуха. Для начала нужно что-то, что даст ощущение более позитивных состояний ума, чем те, которые они обычно испытывали. Им не нужны факты и образы из истории буддизма. Им не нужны обращения за пожертвованиями. Поэтому Нагарджуна не нагружает царя обсуждением самых тонких моментов Абхидхармы или философии Махаяны – по крайней мере, пока. Не беспокоит он своего богатого и влиятельного ученика просьбами о средствах для постройки монастырей. Если ему не удастся вдохновить царя с самого начала, не стоит и беспокоиться о том, чтобы научить его чему бы то ни было, не говоря уже о «превосходном учении».
«Сосуд превосходного учения» Нагарджуны – это описание практики Дхармы. Другой учитель сравнивает четыре различных типа учеников с четырьмя видами горшков. Первый тип подобен перевернутому горшку, он совершенно невосприимчив. Второй подобен горшку с дырявым дном. Подобно тому, как любая жидкость, налитая в такой горшок, просачивается сквозь дыры, так и все, что передается такому ученику, входит в одно ухо и выходит через другое. Кажется, что такие ученики сейчас понимают тебя, но ничто не остается в них надолго и не оставляет подлинного впечатления. Следующий тип учеников подобен горшку с ядом: они полны негативных состояний ума, таких, как обида, цепляние и цинизм. Такой ученик испортит и исказит учение так, что оно станет причинять вред ему и другим. И, наконец, есть ученик, что подобен чистому, целому и пустому горшку, ученик, готовый к восприятию Дхармы. Такие ученики готовы получить Дхарму. Они – «сосуды превосходного учения», о которых говорит Нагарджуна. Задача царя – стать таким сосудом.
В том, кто прежде добивается высокого положения,
Явная добродетель возникает позже,
Поскольку, обретя высокое положение,
Человек постепенно приходит к явной добродетели2.
Высокое положение и явная добродетель – важные понятия в «Ратнамале». Высокое положение означает счастливые, хорошие и даже выдающиеся условия жизни внутри обусловленного существования. В контексте тибетского Колеса жизни3 этот термин обозначает благое перерождение в человеческом измерении или в мире богов. Это цель, которая традиционно предписывается мирянам, особенно в странах Тхеравады. Соблюдая наставления, почитая ступы, делая подношения и пожертвования монахам, человек создает благую карму и так зарабатывает благие, но все еще мирские плоды этой кармы, не обязательно заботясь о достижении конечной цели буддизма. С другой стороны, «явная добродетель» отсылает к тем качествам, которые приводят к проникновению, к освобождению от обусловленного существования, к нирване.
Если людям нужно продвинуться духовно, по-видимому, им нужно испытать несколько неприятных встрясок, просто чтобы они задумались об этом всерьез
Согласно Нагарджуне, тот, кто стремится к духовной жизни, сначала улучшает свое положение в сансаре (круге мирского существования), а затем обращается к взращиванию «явной добродетели», стремлению к освобождению. Изложенные подобным образом, его слова, несомненно, справедливы. Но разве каждый, кто обретает «высокое положение», обязательно начинает думать о «явной добродетели», в том смысле, что пытается осознать внутренне нематериальную и непостоянную природу обусловленного существования? Нет, конечно, нет. Нельзя утверждать, что это высшее устремление возникнет автоматически в результате чистого накопления пуньи, или заслуги, и достижения «высокого положения». Оно возникнет лишь тогда, когда вы всерьез задумаетесь о не приносящей удовлетворенности природе самого обусловленного существования – несмотря на удовольствие от «высокого положения» внутри него.
Подобно многим традиционным учениям, «Ратнамала» предназначена для определенной аудитории. Каждый нуждается в том, чтобы Дхарма преподносилась ему так, чтобы она отвечала его личным предрасположенностям и склонностям. Здесь Нагарджуна обращается к царю. Традиционно индийцы верили, что царское рождение является результатом предыдущей благой кармы. На самом деле, Нагарджуна говорит, что, поскольку в результате прежних добродетельных действий царь достиг «высокого положения», теперь ему нужно задуматься об обретении «явной добродетели». Он преподносит это как естественный следующий шаг, единственный выбор для разумного человека. Заслуги царя даровали ему высочайшее положение, которого только можно достичь в жизни, по-видимому, говорит он, так что ему осталось сделать лишь один шаг.
Часто бывает так, что мы делаем вывод, что определенный ход событий естественным образом последует из того, что мы делаем сейчас, и эти события действительно происходят. Если вы решили пройти этот путь, возникает чувство неизбежности, хотя вам и придется продолжать усилия в заданном направлении. Возможно, Нагарджуна пытается подбодрить царя, убедить его, что обретение им «высокого положения» – лишь основа для решающего шага на духовном пути.
Этот пример искусных средств не должен затмевать нам тот факт, что в действительности нет предела человеческому счастью. Нет момента, когда можно уверенно сказать себе: «Что ж, я получил все, что можно, от этого мира. Теперь обратимся к тому, что имеет совершенно иную природу». Нет, так сказать, конца человеческим желаниям. Человек никогда не ощущает, что ему достаточно. Даже тот, кому удалось подчинить себе целый народ, может возжелать еще большей власти. Если людям нужно продвинуться духовно, по-видимому, им нужно испытать несколько неприятных встрясок, просто чтобы они задумались об этом всерьез. Если все будет идти слишком гладко, вы можете начать принимать все как должное и перестанете осознавать непостоянство и хрупкость человеческого существования, и в таком случае ваше «высокое положение» вовсе не поможет вам продвинуться к цели.
Это тема, к которой Нагарджуна обращается в тексте позже:
Всегда памятуя об этом непостоянстве
Жизни, здоровья и владений,
Ты вследствие этого будешь усердствовать
Исключительно в практиках.
Видя, что смерть неизбежна,
И что, умерев, ты будешь страдать от дурных деяний,
Ты не должен совершать дурных деяний,
Хотя они и приносят временное удовольствие.
Иногда ужас незаметен,
А иногда зрим.
Если одно приносит покой,
Почему ты не страшишься иного? 4
Если обещание счастья – недостаточный стимул для практики, подумай, говорит Нагарджуна, как ненадежно наше цепляние за жизнь. Мы считаем, что проживем отведенные нам годы, но это, несомненно, не факт. Даже в условиях современной жизни есть миллионы причин для смерти, в то время как факторов, благодаря которым мы остаемся живы, сравнительно немного, и даже они могут стать причинами смерти. Пища, например, продляет нам жизнь, но во многих случаях, включая и самого Будду, она вместо этого приводит к быстрому концу.
Не ждите, пока у вас появится больше времени. Просто делайте это сейчас, посреди всего остального, что вам приходится делать
Факт непостоянства проявляет себя тысячами различных способов. Если мы отстраненно и подробно всмотримся в жизнь, мы увидим изменения почти в самый момент их появления. Хотя эти изменения могут быть довольно малы, по мере старения они вносят свой вклад в процесс усиливающегося физического и умственного упадка. Мы, скорее всего, признаем этот упадок печально и неохотно, даже испытываем беспокойство, но можно посмотреть на него как на нечто, в чем мы можем почерпнуть силу и решимость. Можно черпать вдохновение даже из тех событий, которые встряхивают нас и добавляют осознанности, например, внезапных изменений здоровья, неудачи или столкновения со смертью. На самом деле, у нас есть все причины принимать такие напоминания о непостоянстве как толчок к духовной практике. Очевидно, что времени у нас немного, и мы можем потерять возможности, которые имеем сейчас. Жизнь станет труднее, когда мы станем старше. Во многих отношениях мы, живущие в развитых демократических странах, живем как цари, но привилегии, которыми мы пользуемся, в особенности свобода и возможность практиковать Дхарму, не всегда будут доступны нам.
Как напоминает нам факт непостоянства, жизнь – краткая и драгоценная возможность, возможность, за которую нужно с энтузиазмом ухватиться. Не ждите, пока у вас появится больше времени. Просто делайте это сейчас, посреди всего остального, что вам приходится делать. Послание непостоянства – это послание самой Дхармы. Непостоянство – смертный приговор, но это и надежда на освобождение от смерти, если только мы примем это послание на глубочайшем уровне нашего существа и услышим его предупреждение. Для Нагарджуны непостоянство подразумевает не нигилизм, веру в то, что смерть – это конец. На Западе мы склонны рассматривать веру в будущую жизнь или жизни как нечто обнадеживающее, но такая перспектива не обнадеживает Нагарджуну, как и любого другого буддиста. Перевод «дурные деяния», вероятно, не лучший, но посыл ясен. Нагарджуна говорит нам: как можно утешаться тем фактом, что, несмотря на проступки, вы внешне наслаждаетесь хорошей жизнью здесь и сейчас? Вы можете расслабиться, если не видите ничего, что угрожало бы вам в этой жизни, но когда вы действительно ощущаете действие кармы, почему бы не принять это как предупреждение, что нужно исправиться? Такова парадоксальная природа человеческого самообмана. Это утешение для нас, когда мы не видим кармических результатов своих неискусных действий, но мы не внимаем предупреждению, когда видим их.
Таково, по крайней мере, традиционное послание. Однако я бы не выразил его таким образом. Я бы предпочел сказать, что неискусные деяния затрудняют наше развитие как человеческих существ и, следовательно, подрывают основу нашего счастья. Они, безусловно, подрывают основу счастья, которое является результатом чистой совести. Зачем жертвовать подлинным счастьем во имя краткого удовольствия?
Один из аспектов «высокого положения», который легко счесть духовно благоприятным, но это не обязательно так – это обладание физическим и духовным здоровьем. Можно предположить, что если вы физически здоровы и активны, умственно крепки и социально приспособлены, вы обязательно будете более восприимчивы к Дхарме. Однако здоровье иногда идет рука об руку с грубой силой и легкомысленной бесчувственностью, в то время как люди, которые не обладают здоровьем или успешностью в мирских рамках – даже люди, чьи эмоции расстроены – иногда более духовно чувствительны и восприимчивы. Другими словами, «искусный» в понимании буддизма не означает «здоровый». То есть критерии психологического здоровья, поддерживаемые психотерапевтическими или психоаналитическими теориями, не вполне соответствуют буддийским представлениям о том, что составляет умственно здоровое человеческое существо.
Духовно искусные состояния ума могут сопровождаться неспособностью приноравливаться к мирским ожиданиям, что делает человека практически нетрудоспособным
Например, общее правило, используемое для оценки здравости состояния ума, – это способность удержаться на работе, но обладание духовно искусными состояниями ума может сопровождаться неспособностью приноравливаться к мирским ожиданиям, что делает человека практически нетрудоспособным. Как будто крошечное постижение противопоставляет вас всему миру, может быть, вы становитесь несколько эксцентричны, даже неуравновешенны. Человек, здоровый в мирском смысле, может оказаться подходящим сосудом для Дхармы, но скорее более потрепанный образчик человечества, даже тот, кто только что вышел из неврологической лечебницы или тюрьмы, окажется гораздо более успешным практиком Дхармы. Быть искусным с точки зрения буддизма означает действовать, говорить и думать так, чтобы избегать того, что традиционно известно как три яда: цепляния, ненависти и замешательства или неразберихи ума. В мирском смысле вы можете быть здоровы, можете быть хорошим членом общества, быть успешным и даже счастливым, но пока у вас недостаточно постижения для того, чтобы понять, как на вас действуют эти три яда, вы не здоровы в буддийском смысле.
Высокое положение считается счастьем,
Добродетель ясности – это освобождение,
Сущность их средств –
Вкратце вера и мудрость5.
Здесь Нагарджуна проводит различие между двумя видами мышления. Вы можете думать об обретении счастья, и в этом случае вас все еще заботит мирское, или же вы можете думать об обретении освобождения. Разница довольно значительна. Человек, чей ум устремлен к мирскому, спрашивает, обычно бессознательно: «Что сделает меня счастливым?» Человек, устремленный к духовному, с другой стороны, спрашивает сознательно: «Как я смогу освободиться?»
Если вы здоровы в обычном, мирском смысле, вы, скорее всего, хорошо понимаете, что делаете относительно того, чтобы чувствовать себя счастливым. Это соответствует, объективно говоря, тому, что Нагарджуна обозначает понятием «высокое положение». Однако счастье – не слишком надежное руководство. Если вы делаете что-то, потому что считаете, что это даст вам счастье, есть шанс, что вас постигнет разочарование, и, по всей вероятности, ваши поиски способов обретения счастья продлятся бесконечно. Вы никогда не сможете найти объект, который дал бы вам желанное счастье. Вы просто будете переходить от одной вещи к другой, становясь все более и более разочарованными, расстроенными, неудовлетворенными и несчастными. С другой стороны, если вы думаете о «добродетели ясности», вас не слишком заботит немедленное счастье, что, как ни странно, означает, что у вас гораздо больше вероятности его обрести. Счастье – это побочный продукт поисков свободы.
Хорошо проанализировав
Все деяния тела, речи и ума,
Те, кто осознают, что приносит пользу им и другим,
И всегда совершают это, – вот мудрецы6.
Представление Нагарджуны о том, что мудрость включает осознание того, что «приносит пользу себе и другим», совершенным образом соответствует Махаяне в том, что принимает идеал Бодхисаттвы с его целью – Просветлением для себя и других. Традиционную формулировку не стоит принимать слишком буквально, потому что для Просветленного, в конечном счете, не существует никаких различий между собой и другими, но это имеет значение для непросветленного ума и помогает разрушить это различие на уровне эмоций. Это также абсолютно ясно указывает, что мы вовсе не должны отказываться от собственного счастья, заботясь о счастье других.
Желание быть счастливым – естественное и здоровое человеческое побуждение
Можно сказать, что цель Нагарджуны при написании этого письма царю – направить его к подлинному счастью, в отличие от преходящего счастья мирского успеха. Но если поиски счастья рано или поздно должны быть отвергнуты в переходе от стремления к «высокому положению» к стремлению к «добродетели ясности», это не означает, что в нашем желании быть счастливыми есть нечто неправильное. Это естественное и здоровое человеческое побуждение. Как мы можем желать счастья другим, если мы отвергаем собственное желание быть счастливыми?
К несчастью, многим из нас, живущих на Западе, с детства дали понять, что эгоистично желать счастья для себя, и мы, следовательно, ощущаем ненужную вину, желая его. В результате мы можем считать себя виноватыми даже по поводу того, что мы уже счастливы. «В конце концов, – как гласит эта извращенная логика, – со всеми моими эгоистичными желаниями обрести счастье для себя, как я вообще могу быть достойным счастья?» Это далее приводит к еще более извращенному убеждению, что вступая на путь духовного продвижения, мы неизбежно должны подвергнуть себя великому страданию. Такая глубоко укорененная вера в собственную недостойность и внутреннюю греховность помешает вашей практике Дхармы с самого начала.
Это неприятное положение вещей возникает частично из нашей неспособности провести различие между счастьем и благом, с одной стороны, и удовольствием – с другой. Если мы хотим вести духовную жизнь, необходимо, чтобы мы отличали счастье от удовольствия. Мы должны понять, что совершать то, что хорошо для нас, не то же самое, что делать то, что нам нравится, или то, что приносит нам удовольствие. Однако иногда так трудно распутать этот узел, что возникает соблазн заключить, что благое не может быть приятным, а приятное непременно причинит нам вред. Чтобы избежать следования собственным слепым желаниям, человек может даже взять для себя за правило следовать советам других и делать то, что они считают для него наилучшим. От этого всего лишь один шаг до мысли о том, что естественное желание человека приносить пользу самому себе и быть счастливым предосудительно.
Если вы обнаруживаете себя перед подобной дилеммой, вероятно, лучше всего делать то, что вам нравится, не обращая внимания на одобрение или порицание других, и таким образом восстановить контакт со своими чувствами. В идеале мы должны действовать спонтанно, легко и гибко, а не выражать в действиях ощущение существования, ограниченное со всех сторон самообвинениями или страхом преступить некий непреложный моральный закон. Несмотря на это, нашей высшей целью должен стать выход за пределы нашего личного счастья к тому, что должно нас заботить глубже, а именно, к принесению пользы другим. Если вам удастся это сделать, вы станете подлинным другом самому себе.
Всегда соблюдай дисциплину
Поступков, как это объяснялось,
Так, о великолепный, ты станешь
Лучшим из властителей на земле.
Ты должен все всегда хорошо подвергать анализу,
Прежде чем начать действовать,
И, видя вещи верно, как они есть,
Не полагаться полностью на других.
Посредством таких практик твой удел будет счастливым,
Великая сень славы
Покроет все направления,
И твои чиновники будут уважать тебя совершенным образом.
Причины смерти многочисленны,
А причины остаться в живых немногочисленны,
Они также могут стать причинами смерти,
Следовательно, всегда совершай практики.
Если ты всегда совершаешь эти практики,
Счастье ума, которое возникает
В мире и в тебе самом,
Наиболее благоприятно.
Посредством практик ты будешь спать счастливо
И просыпаться счастливым,
Потому что твоя внутренняя природа не будет знать изъянов,
И даже сны будут счастливыми.
Стремясь служить своим родителям,
Уважая старейшин своего рода,
Используя хорошо свои возможности, будучи терпеливым и щедрым,
С доброй речью, правдивой и не сеющей разногласий,
Следуя такой дисциплине в течение жизни,
Ты станешь царем богов,
Немедленно ты станешь царем богов,
Поэтому соблюдай эти практики7.
Здесь Нагарджуна предлагает царю, что, обретя наивысшую мирскую славу, богатство и счастье (выполняя добродетельные поступки в предыдущих жизнях), он должен предпринять следующий шаг – стать царем богов посредством новых добродетельных деяний в этой жизни. Конечно, положение царя богов будет еще более влиятельным положением. Стоит только подумать о Брахме Сахампати8, побудившем Будду учить Дхарме, чтобы получить некоторое представление о таком влиянии.
Счастье хорошо не только само по себе, но и приводит к дальнейшим позитивным результатам
Один из плодов духовной практики – это ясность, видение вещей, как они есть. Будучи менее окрашены эгоистичным интересом и личными неприятностями, воззрения человека становятся более объективными, и ему меньше приходится полагаться на мнения других в поисках объективности из вторых рук. Другой основной плод – это счастье. Напоминание Нагарджуны о том, что счастье плодотворно, может показаться очевидным, но его редко принимают в расчет. Счастье хорошо не только само по себе, но и приводит к дальнейшим позитивным результатам. Если ты можешь сделать людей немного счастливее, приободрить их, в пространстве появится больше положительной энергии. Слова «даже твои сны будут счастливыми», по-видимому, являются общеупотребительными в индийской литературе, когда речь идет об исключительно удачливой судьбе.
Посредством веры ты обретешь отдохновение,
Посредством нравственности твои перерождения будут благими,
Посредством знакомства с пустотой
Ты обретешь непривязанность ко всем явлениям9.
Результаты, к которым следует стремиться, не обязательно придут к нам в этой жизни. Если в этой жизни ты обладаешь верой, у тебя будет отдых – преимущественно для слушания Дхармы – в следующей. Так почему Нагарджуна связывает веру и обретение отдохновения? Дело в том, что, если у вас есть вера в Дхарму, вы будете наилучшим образом использовать все возможности практиковать здесь и сейчас, поскольку вы осознаете, сколь драгоценны эти возможности. На самом деле, вы сделаете все, чтобы увеличить их. Слово «отдохновение» не стоит воспринимать слишком буквально. Среди традиционного перечисления восьми условий отсутствия отдохновения наряду с различными очевидно более неблагоприятными перерождениями стоит перерождение богом-долгожителем. Цепляние за ложные взгляды также есть в списке.
Следующее последствие искусного поведения, упоминаемое Нагарджуной, относится к важному буддийскому учению. Практика нравственности – ключ к здоровому человеческому существованию, будь это в этой жизни или будущей. Связь, на которую он указывает далее, в каком-то смысле столь же очевидна. Проникновение ведет к отсутствию привязанности. Но идея знакомства с пустотой предполагает нечто большее, чем случайная вспышка озарения. Это подразумевает нечто, что проникло столь глубоко, что стало обычным способом видения вещей. Вопрос в том, должны ли мы прежде достичь этого, или разрыв наших привязанностей в ином случае сам по себе даст нам должную оценку пустоты.
По-видимому, это вопрос противопоставления свободы и дисциплины. Представьте, например, что вы очень привязаны к шоколаду. Вы можете либо объесться шоколадом до такой степени, что вас будет тошнить от него, либо можете приучить себя постепенно отказаться от этой зависимости. Оба метода работают. Это постижение может быть получено любым способом. Но ни один не приводит к постижению автоматически. Даже если вы не откажетесь от шоколада, вам в любом случае нужно продолжать поддерживать практику размышлений и медитации, чтобы видеть дальше цепляния. Если, с другой стороны, вы откажетесь от шоколада в результате самодисциплины, вы можете отсечь цепляние, поскольку ее достаточно, чтобы начать видеть свои привычки более ясно. Уменьшение цепляния дает вам больше свободы, чтобы исследовать его. Дисциплина склонна упрощать жизнь, она дает вам больше энергии и помогает поддерживать боевой дух и силу. Если несколько человек следуют одной и той же дисциплине и поддерживают в ней друг друга, это также укрепляет сангху, как называют буддийскую общину. Однако, хотя дисциплина, несомненно, делает проникновение более возможным, ослабляя цепляние, никакая дисциплина не заменит видения истинной природы вашего цепляния, а именно она является причиной страдания.
Что первостепенно, дисциплина позволяет вам увидеть свой ум в действии и получить ощущение того, как бы вы жили, если бы не увлекались конкретным желанием. Если, скажем, вы бы попостились три дня, вы бы увидели, как работает ваш ум без физической и эмоциональной поддержки пищи. Вы бы увидели, что вы ощущаете по поводу пищи, что она значит на вас. Это как лабораторный эксперимент. Вы устраняете из своей жизни определенный фактор, чтобы увидеть, что случается, когда этот фактор отсутствует. Вам не нужно гадать. Вы на самом деле видите и ощущаете результат, и, как следствие, лучше узнаете себя.
Затем вам, возможно, захочется дать обет. Обет – это всего лишь заявление, обычно публичное, о том, какие действия вы будете (или не будете) предпринимать в течение какого-то периода времени или до конца жизни. Не заявление о том, что вы попробуете, что вы это обещаете: вы это сделаете. Когда вы даете обет, он уже совершен, и не стоит вопрос о том, что вы его нарушите. Дать обет – это значит сдержать его. Даже если вы не произносите его перед другими людьми, вы произносите его перед Буддами и Бодхисаттвами и призываете их в свидетели своего обеда. Когда вы это сделали, нет пути назад, поэтому, давая обет, вы должны знать, что вы делаете и почему. Например, вы должны достаточно хорошо знать себя, чтобы не дать обет из-за ненависти к себе, просто чтобы усложнить себе жизнь, хотя, даже если этак, вам все же придется держать обет. Если вы нарушите обет, это будет означать, прежде всего, то, что вы на самом деле не дали его, и это покажет, что вы не целостны с точки зрения эмоций.
Совершение обета предполагает определенную степень целостности. Но если вы не обладаете ею, когда даете обет, тогда одна из целей обета – заставить вас стать более целостным в ходе следования ему. На самом деле, вы становитесь более целостным уже в тот момент, когда даете его. Без целостности вы не сможете соблюдать обет, а поскольку не стоит вопроса о том, что вы можете не соблюдать его, вам просто придется стать целостным. Другого пути нет.
Отказаться от всех дурных поступков
И всегда усердствовать в добродетелях
Тела, речи и ума –
Вот что называется тремя формами практики.
Посредством человек освобождается от превращения
В существо ада, голодного духа или животное.
Переродившись человеком или богом, он обретает
Всемерное счастье, удачу и власть10.
Состояния существования обитателей ада, голодных духов (претов) или животных обычно обозначаются как «три низших пути». Не только для традиционного буддизма, но и для индийской культуры в целом самоочевидно, что совершение добродетельных поступков поднимает нас по лестнице обусловленного существования и увеличивает счастье и благополучие. Другими словами, добродетель вознаграждается в форме того, что перевод называет «высоким положением». Это во многом индийское верование в то, что добродетельная жизнь не только возвысит уровень вашего сознания, но и принесет мирские награды в форме перерождения, в котором вы будете вести приятную счастливую жизнь, будете богатым, красивым и так далее. В большинстве буддийских стран миряне соблюдают наставления именно по этой причине.
Если принять это отношение к практике нравственности слишком буквально или зайти в нем слишком далеко, оно становится тем, что Свами Вивекананда однажды назвал «религией лавочника»
Я лично сомневаюсь, что карма действует столь прямолинейно. В любом случае, стремление измерить нравственность поступков тем, как далеко они должны продвинуть вас в этом мире или в следующем, вряд ли можно назвать духовным. Не более духовно думать об этом в рамках перерождения в небесном измерении, чем хотеть стать богатым и успешным в нынешней жизни. Оба стремления – неадекватные решения проблемы человеческого страдания. Утилитарная вера в карму является, в лучшем случае, стимулом к нравственным действиям для тех людей, которые способны рассуждать лишь крайней материалистично. Без сомнения, это важное представление: побудить людей к хорошему поведению заботой об их благополучии в будущей жизни – хорошее начало. Но нам нужно отучить себя от любой зависимости от подобной мотивации, потому что она неизбежно подрывает чистоту намерения, стоящую за нравственным поступком, и, следовательно, также подрывает и духовную эффективность этого поступка.
Если принять это отношение к практике нравственности слишком буквально или зайти в нем слишком далеко, оно становится тем, что Свами Вивекананда однажды назвал «религией лавочника» – торговлей благими деяниями в обмен на будущие мирские выгоды. Вы можете даже поймать себя на том, что высчитываете, например, что создав такой небольшой избыток нравственного доверия, вы можете вполне позволить себе немного расслабиться в определенной сфере своей практики нравственности. Такой наивный духовный материализм вряд ли привлечет многих людей в наши дни. Единственные, кого, возможно, удастся увлечь этим – это, вероятно, те, кто вовлекся в религиозные движения, которые истолковывают мирское благосостояние как знак одобрения Бога или обещают радости рая добродетельному верующему.
Единственное подлинно духовное мерило нравственных действий – ведут ли они к нирване или, по крайней мере, создают ли они основу для обретения нирваны: то есть, совершаются ли они из сознательной заботы о других, равно как и о себе, или нет. Еще один способ выразить эту мысль – просто сказать, что подлинно добродетельное действие является само по себе наградой. Что может стать лучшим побуждением для развития щедрого, открытого состояния ума, чем знание, что это приведет к еще более позитивным состояниям и, в конечном счете, к Просветлению? Если ваши искусные состояния ума приведут вас к богатству и благополучию, в этом нет никакого вреда, но подобные материальные награды могут быть лишь побочным продуктом подлинно искусного поведения, а не его смыслом.
Как могут те, чей ум бесчувствен и отвлечен,
Кто блуждает по пути дурных перерождений,
Кто несчастен и стремится обмануть других,
Понять то, что имеет смысл?
Как могут те, кто стремится обмануть других,
Управлять другими?
Из-за этого их самих будут обманывать
Во многих тысячах рождений.
Даже когда ты желаешь нанести вред врагу,
Ты должен устранить свои собственные недостатки и взрастить благие качества.
Так ты поможешь себе,
И твой враг будет разочарован11.
Это строфы разоблачают совершенную бессмысленность неикусных деяний тела, речи и ума. Такая деятельность лишает нас любой возможности достижения ясности ума. Мы не только причиняем страдания самим себе, мы утрачиваем путь, мы теряем видение пути, уводящего нас от страданий. Мы утрачиваем ясное понимание того, что является для нас благом, что на самом деле имеет смысл. Обманывая других, человек обманывает себя, и этот обман перевешивает любые возможные преимущества, которые он может получить от мошенничества. Но, конечно, очень трудно увидеть это, когда твоим умом овладевает обман. Что еще хуже, это значит, что человек чужд высокому позитивному опыту неограниченной и универсальной любящей доброты, известной в буддийской традиции как метта (пали) или майтри (санскрит).
Совет в третьей из этих строф звучит довольно цинично, хотя его и дает великий буддийский философ, но нам стоит помнить, что он дан, исходя из царских обязанностей правителя. У царя могут быть враги в том смысле, что это враги государства, в этом нет ничего личного, и с такими политическими противниками нам нужно сражаться эффективно и даже побеждать их, делая им не больше вреда, чем это необходимо. Принцип кажется очевидным: даже если твоя мотивация нечиста, и ты хочешь взять над кем-то верх, ты все же обязан сохранять разумность. Это принесет тебе пользу с кармической точки зрения, а также повлияет на то, как относятся к тебе другие, и ты расстроишь своих врагов, если им придется пересмотреть свое мнение о тебе. Святой Павел говорит нечто подобное: будучи добрым к своему врагу, ты «соберешь ему на голову горящие уголья»12.
Из недобродетелей проистекают все страдания,
А также все дурные перерождения,
Из добродетелей – все счастливые перерождения
И удовольствия во всех жизнях13.
Некоторые буддисты верят, что всеми нашими страданиями мы обязаны дурным поступкам, совершенным в предыдущих жизнях, так что нам нужно очень осторожно отнестись к тому, как мы понимаем эти утверждения Нагарджуны. Не то чтобы все наши страдания являлись прямым результатом неискусных действий с нашей стороны. Конечно, неискусное действие рано или поздно повлечет страдание человека, который его совершил, но это не означает, что, если с нами происходит что-то неприятное, это должно быть результатом наших предыдущих неискусных действий. На самом деле, иногда мы чувствуем, что страдаем совершенно незаслуженно, и с буддийской точки зрения это ощущение может быть верно. Некоторые из наших переживаний являются результатом кармы, но некоторые – результат условий иного рода.
Что мы действительно можем сказать, так это то, что все наши страдания косвенно являются результатом наших прошлых неискусных побуждений. Если мы оглянемся далеко в прошлое, мы обнаружим, что наши собственные мысли, слова и поступки – именно то, что привело нас к перерождению в человеческом измерении. Именно наши состояния ума привели нас в обусловленное существование, а обусловленное существование подразумевает страдание. Несчастья, которые мы переживаем, часто не по своей вине, являются неотъемлемой частью способа существования, внутри которого возникло наше сознание. Шантидева в «Бодхичарья-аватаре» выражает это так: если кто-то бьет вас, ему придется взять ответственность за то, что он взял палку, но вам придется взять ответственность за тело, которое подвергается побоям. Именно ваше собственное омраченное сознание привело к вашему перерождению в человеческом измерении, где случаются подобные вещи.
Поэтому неутомимо следуй практикам
И отвергай тех, кто против них.
Если ты и мир желают достичь
Несравненного просветления,
Его корни – альтруистическое желание просветления,
Твердое, как царь гор,
Сострадание, достигающее всех сторон света,
И мудрость, не полагающаяся на двойственность14.
Как мы видим, есть разнообразные традиционные стимулы и предупреждения, относящиеся к связи между нравственным поведением и счастьем и благополучием человека, но, безусловно, столь же важно – особенно для Махаяны – принимать в расчет благо других. Здесь Нагарджуна преподносит царю идеал Махаяны, то есть идеал Бодхисаттвы. Этот идеал – достижение «несравненного просветления», а его «корни» – три фактора, которые помогают его обретению. Первый из них – «альтруистическое желание», то есть бодхичитта, желание обрести Просветление на благо всех существ. Это высшее устремление столь проникнуто ощущением запредельности и в то же время столь тесно переплетено с нашей повседневной жизнью, что оно непоколебимо. Второй корень – сострадание, не имеющее границ, которое не сдается ни перед какими обстоятельствами, ни перед какими трудностями. Третий корень – это мудрость, которую нельзя уловить, которая не оставляет у эго почвы под ногами.
Ты должен стать причиной собрания
Религиозных и мирских людей
Посредством даяния, приятной речи,
Осмысленного и гармоничного поведения15.
Многие из советов Нагарджуны царю преподносятся в рамках традиционной этической формулы десяти наставлений, и это является основой последующих разделов книги. Однако Нагарджуна вкратце упоминает и еще один традиционный список, самграхавасту, четыре «средства объединения», посредством которых Бодхисаттва собирает людей для работы над общей задачей создания, мифически выражаясь, Чистой Земли.
Реальность – не слишком приятный опыт для эго
Первым идет даяние или щедрость – наиболее практичный способ обрести связь с другими. Мы ослабляем нашу хватку и отдаем то, что принадлежит нам – будь это материальные блага, деньги, время или энергия. То, что выражает наше чувство собственности, превращается в средство выражения совершенно противоположного чувства. Без сомнения, получатель рад обрести то, что мы даем, но более важно ощущение заботы и участия, которое передает сам этот жест. И, превыше всего, мы даруем Дхарму. Мы не проводим различия между нашей личной практикой Дхармы и передачей ее другим.
Второе из самграхавасту – мягкая речь. Как мы позже увидим во всех подробностях, правильная речь всячески подчеркивается в буддизме. Это не просто вопрос содержания нашего общения: большая часть нашего общения заключается в тоне голоса, который часто отражает наши подлинные чувства гораздо более точно, чем то, что мы говорим. В то же самое время, это качество нашей речи более сложно отследить, потому что оно гораздо ближе к подлинной передаче нашей сути. Однако, по той же самой причине, если мы сознательно развиваем мягкую речь, это может изменить нас на достаточно глубоком уровне.
Третье средство объединения – полезная деятельность. Это не просто вопрос помощи другим, это также вопрос понимания того, что принесет им наибольшую пользу, а также того, как лучше всего использовать свою энергию. В конце концов, нам предстоит сделать многое, а энергия ограничена. Что поможет людям больше всего, на глубочайшем уровне, это помощь им в получении доступа к собственной энергии – вы можете зажечь их, побудить двигаться, вдохновить так или иначе.
Четвертое самграхавасту – олицетворение, или воплощение в реальность того, что ты проповедуешь. Дхарма – это учение, которое нужно воплощать в повседневной жизни, и именно таким образом она действительно передается. Олицетворяем ли мы качества, которые просим развить других? Если нет, если существует расхождение между тем, каковы мы сами, и тем, какими мы стремимся быть, ясно, что чего-то недостает. Нам недостает не столько способности быть другим, не таким, как в настоящем, сколько смелости честно сказать себе, где ты на самом деле находишься. Если мы сможем это сделать, хотя довольно трудно или оскорбительно признавать свои недостатки – перед собой, не говоря уже о других, – это будет означать, что мы продвинулись уже далеко. В конце концов, реальность – не слишком приятный опыт для эго.
В «Драгоценной гирлянде» самграхавасту – часть наставлений Нагарджуны царю, а не Бодхисаттве, и действительно, эти практики значимы на каждом этапе духовного развития. Они воплощают фундаментальные ценности щедрости, мягкости, отзывчивости и подлинности и могут развиваться разными способами в обычной жизни.
Не убивать, не красть,
Отвергать супругов других,
Полностью отказаться ото лжи,
Сеющей распри, грубой и бесчувственной речи,
Совершенно отказаться от жадности, вредоносных намерений
И воззрений нигилистов –
Таковы десять сияющих путей деяния,
Противоположность которых – тьма16.
В этих двух строфах Нагарджуна вводит наставления, на которых главным образом основаны его советы царю. Стремясь показать, что основа мудрости – нравственность, он утверждает совершенно ясно, что подразумевает под собой нравственная жизнь. Эти строфы отсылают нас к десяти традиционным наставлениям, даша-кушала-карма-патхе, или «десяти способам искусных деяний»17. Наставление – принцип упражнения, руководство к нравственному поведению в определенной сфере жизни. Важность соблюдения наставлений заключается не в «подчинении правилам» или в том, чтобы «быть хорошим», а в развитии искусных способов бытия и поведения как таковых. В этом отношении всегда есть куда развиваться. Вы от всего сердца бросаетесь в практику нравственности, но в то же самое время вы осознаете, что иногда вы можете соскользнуть назад, по крайней мере, немного. Если это случается, вам придется начать с этого места и попытаться не увлекаться чувством вины и самобичеванием.
Эти наставления составляют путь практики, а не являются списком жестких правил или суровых запретов
Эти наставления составляют путь практики, а не являются списком жестких правил или суровых запретов. Наставление в нравственности не является абсолютом в том смысле, что вы либо соблюдаете его, либо нет. Пока вы живете, сохраняя наставления в уме, ваша практика всегда может стать и лучше, и хуже. Всегда есть куда падать и всегда есть куда идти дальше. Наставления, следовательно, тяжелее, чем может нам позволить понять наш ограниченный опыт. Потенциальная проблема заключается в том, что определение наставлений как «принципов упражнения» может послужить причиной того, что мы сознательно или бессознательно будем немного «увиливать». Можно сказать себе: «Что ж, возможно, я не слишком усерден в попытках стать вегетарианцем, но на днях я что-нибудь предприму по этому поводу». «Речь? Боюсь, небольшая невинная ложь – необходимая часть ведения дел, и, очевидно, несколько сочных словечек помогают добиться своего. Но, возможно, когда я стану руководителем…» «Да, конечно, я бы мог более осмотрительно распоряжаться мелочью – если бы только у меня получилось бы платить меньше налогов…» «Знаешь, я напиваюсь лишь пару раз в неделю теперь, когда я больше не работаю за стойкой, так что мое состояние ума гораздо лучше большую часть времени…»
Конечно, это карикатура, но, возможно, не слишком. Хотя нам стоит быть осмотрительными и не слишком буквально подходить к соблюдению наставлений, они требуют чего-то большего, чем расплывчатое намерение вести себя лучше в будущем. Мы можем попытаться, например, подходить к ним с большим воображением, особенно в том, что касается развития их положительных эквивалентов – быть добрее, щедрее, искреннее (в мыслях и речи, равно как и в поступках), правдивее, осознаннее. Мы можем поискать новые способы выразить эти позитивные, обширные качества. Как мы увидим в следующих главах, десять наставления заслуживают тщательного обдумывания и рассуждения, они идут намного дальше наших привычных представлений о нравственности.
Дружба
В своих советах царю Нагарджуна говорит об этом наставлении просто – «не убивать». Но первое наставление в обычной формулировке, «Я беру на себя ответственность воздерживаться от отнятия жизни», подразумевает нечто гораздо большее. На пали (древнем языке, на котором это наставление все еще читается многими буддистами), наставление звучит так: «Панатипата верамани сиккхападам самадиями». «Пана» означает живое, обычно дышащее, существо, «атипата» означает «вредить», «нападать» или «атаковать», «верамани» означает «шаг в упражнении», а «самадиями» можно перевести как «я принимаю». Следовательно, все наставление звучит как: «Я совершаю шаг в упражнении воздерживаться от вреда живым существам».
Легко предположить, что мы знаем, что лучше для других, но на самом деле мы очень редко это знаем
Самое вредоносное деяние, которое можно совершить по отношению к живым существам, – лишить их жизни, и в случае с животными это наша главная область сожалений. Однако когда речь заходит о человеческих существах, простое стремление воздерживаться от их убийства представляет собой лишь формальный кивок в сторону наставления. Причинять вред человеческим существам – не только вопрос лишения их жизни, причинения им боли и страданий. Он включает случаи, когда мы мешаем им осознать их потенциал, мешаем развиваться и расти как подлинным личностям. (Как далеко способны развиться животные, трудно сказать, но, несомненно, возможно украсть у них беспрерывное удовольствие их существования).
Наставление изложено в негативной форме, потому что очень трудно активно помогать другому человеку расти. Если вы на это способны, отлично, но, по крайней мере, вы не должны затруднять его усилия по возвышению и расширению сознания. Наставление, следовательно, как бы говорит: уважай индивидуальность других, не вставай на пути у их положительного развития.
Некоторым людям невозможно помешать. Можно воспрепятствовать их медитации или даже посадить их в тюрьму, но все это не сможет затруднить развитие их личности. Однако развитие подавляющего большинства людей гораздо менее явно и устойчиво, и его легко блокировать или сбить с пути действиями других людей, злонамеренными или нет. Легко предположить, что мы знаем, что лучше для других, но на самом деле мы очень редко это знаем. Самое большее, что мы можем сделать для других – обеспечить их наилучшими условиями для поиска собственного пути и позволить им, если это необходимо, учиться на собственных ошибках. Чтобы расти, людям нужна свобода. Если мы можем помочь этому, мы должны это сделать. В противном случае нам стоит, так сказать, оставить их в покое.
Охотиться на дичь – это ужасная
Причина короткой жизни,
Страха, страдания и ада,
Поэтому всегда непреклонно воздерживайся от убийства.
Те, кто пугают воплощенных существ,
Когда встречаются с ними, злобны,
Как змея, плюющаяся ядом,
Чье тело полностью покрыто нечистотами18.
В этих строфах Нагарджуна стремится отвратить царя от охоты, которая во многих культурах считалась царской забавой. Это была забава, которая требовала контроля над большими участками территории, обеспечивала отдых, напоминающий военные действия, и позволяла царю показать свое искусство наездника и тактические навыки. В то же самое время, охота представляла собой возврат к повседневным схваткам с другими видами, в которые наши неолитические предки были вовлечены до появления сельского хозяйства и животноводства. Помимо того, что это была аристократическая подготовка к войне, она позволяла мужчинам ощутить свою примитивную инстинктивную природу с ее жаждой возбуждения и жестокости. Также существовало желание съесть побежденное животное и таким образом впитать его силу. Более того, именно охота, по-видимому, первоначально определяла структуру власти в неолитических племенах, по крайней мере, относительно мужчин. Должно быть, древнему индийскому царю было непросто отказаться от этой забавы, не подвергая опасности свой авторитет.
Сильный страх может привести к распаду чувства «я» и даже стать причиной того, что мы отвергнем заветные личные ценности перед лицом угрозы собственной жизни
Нагарджуна, без сомнения, осознает все это, но, тем не менее, считает необходимым предупредить своего покровителя о духовной опасности поддаться соблазну охоты. Нашим предкам необходимо было охотиться ради пропитания, и для некоторых людей, ведущих племенной образ жизни, это неизбежно и в наши дни. Но когда нет нужды охотиться ради пищи, охота, как бы ее ни оправдывали, является погоней и убийством ради удовольствия, для насыщения жажды крови, и это совершенно не искусное нарушение первого наставления.
Внушение страха другим – один из способов ощутить себя более могущественным, и, в отличие от охоты, это выражение силы, которому поддаются почти все. Примечательно в этом отношении, что одной из форм даяния, практикуемых Бодхисаттвой, наряду с даянием Дхармы, является дар бесстрашия. Внушение ужаса другим можно посчитать столь же неискусным деянием, сколь искусно даяние бесстрашия.
В древние времена страх, вероятно, был более частой эмоциональной реакцией, чем в наши дни. Тогда существовало много сиюминутных угроз, с которыми можно было столкнуться, в то время как теперь мы от них защищены. Следовательно, мы менее склонны рассматривать выражение страха как нечто предосудительное, чем те, кто жил в те героические времена. Наше общество меньше нуждается в той физической храбрости, которая в прошлом обеспечивала защиту общины. Тем не менее, сильный страх все еще может привести к распаду нашего чувства «я» и даже стать причиной того, что мы отвергнем заветные личные ценности перед лицом угрозы собственной жизни. Внушение страха другим, следовательно, крайне неискусное деяние.
Как и желание, страх может быть позитивным. Подобно тому, как у нас должно быть здоровое желание измениться к лучшему, должен быть у нас и здоровый страх всего, что удерживает нас от следования пути духовного развития и преодоления себя. Многие из нас убаюканы повседневными делами до состояния ложного ощущения безопасности, но человеческое существование непрочно. Мы непременно умрем, и помнить об этом – вовсе не признак нездоровья. Мы должны «бояться» обусловленного существования как такового.
Но страх со стороны эго – неискусное состояние ума. Это прерывание, даже истощение энергии, и, следовательно, неискусно пробуждать подобный страх в других. Сам Нагарджуна сознательно использует пугающий образ, чтобы подчеркнуть это. Бойся бояться, как бы говорит он. Результат попыток внушить ужас другим будет действительно ужасным.
Страх – это примитивная животная эмоция, подобно похоти и ненависти, и примечательно, насколько популярная культура отвечает тому, чтобы подпитывать эти эмоции. Три жанра популярных фильмов, например, удовлетворяют нашу потребность пощекотать себя подобными эмоциями: порнографические фильмы, фильмы о жестокости и фильмы ужасов. Даже возбуждение приятного холодка ужаса, хотя это и не столь неискусно, как пробуждение ненависти или похоти, является несколько неискусным по той же самой причине.
В общественной жизни политики и журналисты, предсказывающие конец света, предупреждают нас об оружии массового поражения, терроризме, загрязнении окружающей среды, перенаселении, глобальном потеплении, результатах пассивного курения, опасностях велосипедной езды без шлема и так далее. Многие их предупреждения относятся к реальным угрозам и отражают искреннюю заботу о людях, и, несомненно, хорошо пробуждать заботу о благополучии других, включая благополучие будущих поколений, выбивая нас из склонности жить сегодняшним днем, ограниченно, в самодовольстве и заблуждениях. Однако мотивацию тех, кто сознательно стремится беспокоить людей, следует проверять. Люди могут впасть в ужас от насилия или его угрозы, но их можно напугать и более тонкими методами. Можно даже пристраститься к запугиванию других под маской заботы, и у некоторых людей определенно есть вкус к подобным вещам, как у других есть вкус к жестокости. Тот, кто приносит дурные вести, может втайне наслаждаться властью и влиянием на других и получать удовольствие, видя результат своих слов. Подобно этому, есть некое темное веселье в том, чтобы действительно внушать людям страх. Далеко не каждый, кто приходит с мрачными предупреждениями, заботится о благополучии других, кого он заставляет холодеть от ужаса. Во время Второй мировой войны тех, кто занимался «распространением тревоги и уныния», часто называли «угрюмыми Джимми», и это осуждалось по вполне понятным причинам, поскольку в те времена хватало серьезных реальных угроз. Любая оценка опасности должна быть реалистичной, но позитивной.
К несчастью, даже те, кто предупреждают нас о духовных опасностях, далеко не всегда лишены корыстного интереса. Подобно некоторым проповедникам геенны огненной в давние дни, они могут делать это для того, чтобы насытить собственное желание властвовать. Если кто-то вселяет в людей страх Божий не из заботы об их духовном благополучии, а просто для того, чтобы довести их до малодушного ужаса, лучше управлять ими и контролировать их, такое лицемерное поведение достойно всякого порицания.
Бодхисаттва, напротив, распространяет уверенность и счастье, как в следующей строфе:
Подобно тому, как крестьяне довольны,
Когда собираются огромные тучи,
Так и те, кто радует воплощенных существ,
Встречая их, приносят пользу19.
Здесь Нагарджуна отсылает нас к началу муссона. И в наши дни фермеры в Индии все еще беспокойно вглядываются в небо, ища первые муссонные облака, потому что если дожди придут даже несколькими днями позже, урожай будет бедным. Когда муссон все-таки приходит вовремя, фермеры действительно очень рады. Стремление порадовать существ, которое считается основным в буддизме, особенно в Махаяне, является очень важным. Сделать людей счастливыми, пробудить в них позитивные эмоции – одно из главных занятий Бодхисаттвы (а Бодхисаттва – идеальный буддист буддизма Махаяны). Это не означает, что он просто развлекает людей. Дарование радости всем существам не подразумевает ничего игривого, это означает пробуждение в них истинной радости, в том смысле, что Бодхисаттва помогает людям преодолевать их глубочайшие страхи и беспокойства и пробуждает их к истине Дхармы.
Самые важные качества для Бодхисаттвы, как и для любого, чья жизнь подразумевает учительство или руководство другими буддистами, – это вдохновение и метта
Это противоположно тому, чтобы сделать себя более могущественным. Это не попытки контролировать других в своих собственных целях. Вы подобны дождевой туче, вы даете людям, что они хотят и в чем нуждаются, чтобы стать подлинно счастливыми. Подобно дождевой туче, вы открываетесь и отдаете себя. Важное следствие из этого заключается в том, что желающий стать Бодхисаттвой должен быть радостен. Вы не можете доставить радость другим, если вы сами не радостны. Если вы хотите сделать других счастливыми не просто теоретически, если вы хотите сделать что-то, чтобы они стали счастливы, вам нужно самому быть эмоционально позитивным. Если вы зануда, прорицатель адских мук и катастроф, если вы угрюмый Джимми, вы вряд ли на пути к тому, чтобы стать Бодхисаттвой.
Поэтому, если вы ищете буддийское учение, следуйте радости. Буддийский центр или община должны жить в счастливой, дружной и мирной атмосфере. Самые важные качества для Бодхисаттвы, как и для любого, чья жизнь подразумевает учительство или руководство другими буддистами, – это вдохновение и метта. Если вы, например, не можете назвать семь бодьянг, это не так уж важно. Но вы не можете обойтись без вдохновения и метты, и их нужно развивать. Вдохновение можно развивать с помощью проведения пудж (поклонений) и посредством развития духовной дружбы. Метта пробуждается в практике метта-бхаваны, в которой вы развиваете чистосердечное желание благополучия прежде себе, потом близкому другу, потом какому-то человеку, к которому вы особо ничего не чувствуете, а, в-четвертых, тому, кто вам не нравится, прежде чем, наконец, не развить равную заботу обо всех людях, а со временем – и обо всех живых существах, где бы они не находились. Ни одна практика не способствует в большей мере соблюдению первого наставления или стремлению жить в соответствии с идеалом Бодхисаттвы.
Метта-бхавана – ключевая буддийская практика. Метта означает положительно и тепло реагировать на людей, независимо от их отношения к тебе. Не нужно практиковать другие брахма-вихары, каруну (сострадание), мудиту (сорадость) и упекшу (равностность) по отдельности, для того, чтобы проявлять подобную реакцию, хотя иногда вам и может захотеться исследовать их в контексте собственной медитации. Однако нужно понять, что остальные три брахма-вихары основаны на фундаменте метты. Если вы не способны практиковать метта-бхавану, не чувствуете доброго расположения ни к себе, ни к другим, практика любой другой брахма-вихары ничего не даст. Если попытаетесь зародить сострадание само по себе, например, без твердого основания метты, вы выдавите из себя только сентиментальную жалость или ужасное беспокойство. Или возьмем упекшу. Без метты это просто равнодушие. Как одна из брахма-вихар, упекша возникает, когда вы развиваете одинаковое ощущение метты ко всем живым существам, как на последней ступени метта-бхаваны.
Часто именно психологически слабый человек ведется на это, и, боюсь, что это может случиться даже в духовной общине
Если вам доведется не испытывать склонности к сессии метта-бхаваны, это, вероятно, случится потому, что вы будете ощущать легкое раздражение и желание, сознательно или бессознательно, потворствовать этому чувству. И вы говорите себе: «Сегодня мне что-то не везет с меттой – поделаю-ка вместо этого я осознанное дыхание»20. Но все должно быть наоборот. Тот факт, что вы чувствуете раздражение, – отличная причина практиковать метта-бхавану, потому что раздражение часто можно рассеять с помощью нее. Даже если обычно вы испытываете трудности с практикой, скорее всего, вы все равно ощутите пользу от нее – даже если эта польза проявится позже. Может быть, вам не удастся зародить никакой метты во время самой практики или даже сразу после нее, но изменения в вашем состоянии обязательно произойдут.
Если вам кажется трудной первая ступень практики метта-бхаваны, иногда полезно начать со ступени, к которой вам легче приступить. Я бы также предложил уделить меньше времени первым четырем ступеням и быстрее перейти к пятой, если так ваша метта открывается более полно. И, напротив, если, как часто случается, легче всего вам дается вторая ступень, вы всегда можете перейти от нее к развитию доброжелательности к самому себе. Например, обретя некое ощущение доброжелательности по отношению к другу, вы можете представить себя веселящимся вместе с этим другом, в ситуации, когда каждый из вас настроен к другому по-доброму. Так мы можем подтолкнуть развитие метты по отношению к самому себе. Даже если нам кажется трудным любить себя, обычно приходится признавать, что, по крайней мере, кто-то нас любит.
Этот опыт принятия и любви очень важен для нас, и группа контролирует нас посредством фундаментальной человеческой потребности в принятии. Ужасно ощущать себя отвергнутым группой, к которой ты принадлежал, и большинство людей сделают все, что угодно, чтобы восстановить добрые отношения с ней. Мы примем оценку со стороны группы и соответственно изменим себя, просто для того, чтобы она снова приняла нас в свои объятия. Допрос работает точно так же. Человек под допросом стремится порадовать кого-то, кого угодно: «Да, я еретик. Да, я шпион». На самом деле он говорит: «Я соглашусь со всем, что вы говорите, чтобы доставить вам удовольствие и быть принятым». Только человек с сильной волей может сопротивляться такому крайнему давлению.
Даже внутри сангхи или духовной общины необходимо быть осторожными и не давить на других, обращаясь с ними неблагожелательно или навязывая им обидные ярлыки. Часто именно психологически слабый человек ведется на это, и, боюсь, что это может случиться даже в духовной общине. Давление может не восприниматься как таковое, и большинство людей потрясает мысль, что они придираются или дразнят кого-то, но с легкостью может оказаться, что мы потихоньку выживаем человека, который оказался не слишком полезен, отнимает ресурсы общины или просто в чем-то отличается от нас. Мобилизация общего неодобрения группы по отношению к одному ее члену может причинить много вреда.
Большинство из нас инстинктивно ощущают, что мы не переживем изгнания из группы, к которой принадлежим, и в племенных обществах это было в буквальном смысле так. Шекспир выражает ужас изгнания в своей пьесе «Ричард II», в которой король изгоняет двух аристократов. Томас Маубрей, изгнанный навсегда, покидает Англию, чтобы, как он говорит, «уйти в зловещий мрак изгнанья» Генрих Болингброк возглашает, что в ссылке он сможет «похвастаться ни чем иным, чем тем, что был странником на пути к печали». Блуждать в мире чужаком – это рабство, свобода – это принадлежность.
Здесь трудность заключается в том, чтобы не исключать никого из круга нашей заботы, не отвергать человека, с которым нам приходится трудно. В более позитивном ключе, нам всем нужно предлагать другим членам общины, особенно тем, кто не столь популярен, любую поддержку и вдохновение, в которых они нуждаются, и выражать нашу высокую оценку и благодарность, когда это только возможно. Многие из нас испытывают некоторую степень ненависти или презрения к самим себе, что мешает нам воспринимать поощрение со стороны других, и важная функция духовной общины – дать нам понять, что есть люди, которые заботятся о нас. Так нам будет гораздо легче осознать свои собственные хорошие качества. Некоторые личности могут принимать и любить себя независимо от того, что думают и чувствуют по их поводу все остальные, но большинству из нас нужно одобрение других.
Даже даяние три раза в день
Трехсот горшков пищи
Не сравнится с долей заслуг
От одного мгновения любви.
Хотя (посредством любви) ты не обретешь освобождения,
Ты обретешь восемь благих качеств любви –
Боги и люди будут тебе друзьями,
Даже (нечеловеческие существа) защитят тебя.
Ты обретешь удовольствия ума и многие физические удовольствия,
Яд и оружие не причинят тебе вреда,
Без усилий ты достигнешь своих целей
И переродишься в мире Брахмы21.
Это напоминает некоторые строфы в главе 8 «Дхаммапады», одна из которых гласит: «Лучше, чем тысяча бессмысленных строф, собранных воедино, одна строка, услышав которую, обретаешь покой»22. Разница между ними в том, что палийские строфы сравнивают буддийскую практику с ведическими, в то время как Нагарджуна сравнивает одну важную буддийскую практику с другой. Он не говорит, что даяние (дана) бессмысленно. Он верит, что оно чрезвычайно полезно, и мы это увидим. Он говорит лишь, что любовь или метта еще важнее – важнее в том смысле, что она первична. Метта идет первой. Если есть любовь, дана возникнет естественно. Но вы можете, предположим, жертвовать три сотни горшков с едой три раза в день и без ощущения метты. Вашей мотивацией будет желание заслуг или удовлетворенность от ощущения, что вы необычайно щедрый человек.
Эта строфа подчеркивает превосходство состояния ума над внешним действием. Именно внутреннее, умственное или духовное состояние действительно имеет значение и, в конечном счете, определяет нравственный статус внешнего действия. И снова это возвращает нас к «Дхаммападе»: «Переживаниям предшествует ум, они ведомы умом и созданы умом»23. Конечно, если вы поступаете хорошо, вы повлияете в лучшую сторону на состояние своего ума, но, пока вы не сделали поддержание позитивных состояний ума своим приоритетом, ваши действия могут с легкостью стать менее нравственными.
Метта – основополагающая позитивная эмоция и фундамент для развития бодхичитты или «воли к Просветлению». Без метты между членами духовной общины невозможно возникновение бодхичитты в ее глубине. В конечном итоге, метта безлична, она не имеет объекта, но для начала ее нужно развивать по отношению к людям, а если вокруг нет людей, будет очень трудно ее развить. Вкратце, возникновение бодхичитты зависит от того, существует ли внутри духовной общины осязаемое ощущение метты.
Так можно ли освободиться посредством любви? Краткий ответ таков: не посредством любви самой по себе. Хотя это и нечасто подчеркивается в нынешнем буддизме Тхеравады, «освобождение сердца посредством любви (метты)», как это обычно переводится, появляется в палийских писаниях в связи с одним из двух аспектов освобождения – чето-вимутти, освобождением ума или сердца, и панья-вимутти, освобождением посредством мудрости. Чето-вимутти – это развитие сознания, позитивных состояний ума и эмоций до высочайшего возможного уровня, и это достигается посредством саматхи или практик «успокоения», подобных метта-бхаване или осознанному дыханию. Палийское слово «саматха» буквально означает «успокоение» и относится к успокоению, умиротворению всех неискусных состояний ума и последующему обретению дхьян, состояний высшего сознания, в которых присутствуют лишь искусные состояния ума. Чето-вимутти представляет собой полное очищение эмоциональной природы человека, это состояние необычайной ясности и позитивности. Однако оно само по себе не составляет полного освобождения, поскольку оно должно включать панью, или мудрость, которую иногда называют випассаной, словом, которое обычно используется для описания изначальных вспышек проникновения. Быть освобожденным мудростью означает быть свободным от всех ложных воззрений и обрести полное постижение истинной природы существования.
Чето-вимутти и панья-вимутти часто упоминаются вместе. Говорится, что обретающий Просветление освобождается в уме и освобождается в мудрости и так обретает нирвану. Можно сказать, что комбинация чето-вимутти и панья-вимутти в палийских писаниях соответствует описанию пунья-самбхавы и джняна-самбхавы в санскритских текстах Махаяны. Обе пары терминов имеют отношение к необходимости сочетания полной эмоциональной позитивности с полной ясностью видения и внутри соответствующих контекстов указывают на один и тот же духовный факт: в то время как возможно развить эти два аспекта духовной жизни по отдельности до некоторой степени, в конце концов, нужны они оба. Нужны оба «собрания»: и собрание заслуг, и собрание мудрости.
Если речь идет о Бодхисаттве, это равновесие качеств становится каруной и праджней, состраданием и мудростью, и тот факт, что здесь каруна – дополнение мудрости, а не саматха, дает нам представление о том, что саматха действительно значит для Махаяны. Это не просто умиротворение неискусных состояний ума. Это не безмятежность. Когда присутствуют лишь искусные состояния ума, они очень сильны и активно проявляются. Соответственно, ум становится гораздо более мощным, чем он был, отягощенный противоборствующими эмоциями.
Нагарджуна не говорит, что нельзя освободиться посредством любви. Можно, если развить любовь до такой степени бескорыстия, что она станет сочетаться с мудростью. Он говорит, что даже если ваша практика метты не приравнивается к освобождению любовью, вы все же обретаете восемь добродетелей любви. Они таковы: боги будут к вам дружелюбны, люди будут дружелюбны, нечеловеческие существа защитят вас, вы будете наслаждаться удовольствиями ума, вы будете наслаждаться умственными и физическими удовольствиями, яд и оружие не ранят вас, вы без усилий будете достигать своих целей и переродитесь в мире Брахмы.
Первые три из этих выгод практики метты довольно очевидны. Если вы дружелюбны по отношению к другим, другие – не только люди – будут дружелюбны к вам. Но значит ли это, что у вас не будет врагов? В случае с Буддой, например, против него послали безумного слона24. Будда смог усмирить слона добродетелью своей метты. Но кто послал против него слона? Это был завистливый ученик, Девадатта. Хотя даже безумного слона можно покорить меттой Будды, человек, который завидовал ему и вознамерился убить его, остался совершенно не восприимчив к той же самой метте.
Из этого можно заключить, что метта – это не непреодолимая сила. Если мы направляем ее на кого-то, это вовсе не означает, что им не остается ничего иного, как только любить нас. Метта оставляет людям свободу отвергнуть метту, которую им предлагают. Иначе это будет утверждение нашей воли против их воли. Метта – это искренняя забота о благополучии людей, нравимся мы им или нет. Если пытаемся использовать метту, чтобы понравиться им, это показывает, что мы неправильно понимаем природу метты и не сможем достичь успеха. Мы можем впасть в раздражение и даже испытать гнев по отношению к людям, потому что они упорствуют в отрицании нашей так называемой метты.
Угроза жестокости может быть чрезвычайно пугающей, и, если мы отвечаем на нее искренней меттой, как Будда делал не раз, это становится подлинной победой. Если вы способны ответить на нее так, это благотворно повлияет на ситуацию. С другой стороны, иногда мы встречаем людей, которые сознательно ведут себя плохо, которые упорствуют в причинении вреда другим и знают, что делают. Таких людей не тронет ваше дружелюбие или любовь. Скорее, ваша теплота усугубит их хладнокровную решимость ранить вас как можно сильнее. Однако существует традиционное буддийское убеждение, что вы можете в буквальном смысле отклонить стрелы и противостоять действию яда чистой силой собственной эмоциональной позитивности, и, вероятно, это так. Если вы полны метты, по, крайней мере, вы не будете проявлять активную враждебность по отношению к себе.
«Без усилий ты достигнешь своих целей». Другими словами, ты достигнешь своих целей, не напрягаясь. Все будет идти более гладко, более свободно, более спонтанно, без напряжения и сознательных усилий. Метту нельзя двигать силой. Если вы мощно создаете метту, вы уже в непринужденном, позитивном и спонтанном состоянии.
В данном контексте тот факт, что вы ощущаете «удовольствия ума и многие физические удовольствия», можно, вероятно, просто приписать вашему пребыванию в позитивном состоянии ума. Здоровое стремление к удовольствиям не слишком нуждается во внешних стимулах. Наконец, Нагарджуна говорит, что вы «переродитесь в мире Брахмы». Здесь подразумевается, что практикующий переродится в измерении, соответствующем умственному или духовному уровню, достигнутому и упроченному посредством опыта метты.
В «Меттанисамса-сутте»25 есть похожий список: хороший сон, дружелюбие других, защита от насилия, легкость сосредоточения, хороший внешний вид, ясная смерть и благое перерождение. В «Дхаммападе» также есть такое перечисление26. Важной темой всех этих списков является то, что метта защищает человека от случайной жестокости и даже от простых несчастных случаев. Люди, которые полны ненависти, часто сами привлекают к себе несчастья. Им кажется, что все идет не так, без очевидной причины, и это не обязательно прямое следствие их собственных действий. Словно у них есть враги, которые тайно вредят им. Коренная причина их проблем – по-видимому, ненависть к себе и даже бессознательная потребность вынести себе некое наказание. Трудно любить других, когда у тебя нет любви к себе, и в этом случае человек лишь инстинктивно выискивает ситуации, которые, скорее всего, нанесут ему вред или создадут другие проблемы.
С другой стороны, существование людей, которые позитивны и бодры, часто кажется волшебным. Они легко достигают своих целей. Им словно помогают тайные друзья. Коренная причина такой удачи, по-видимому, искренняя расположенность к себе и забота о себе. Трудно ненавидеть других, если по-настоящему любишь себя. И, если ты положительно относишься к себе, ты инстинктивно будешь заботиться о себе и выискивать ситуации, в которых тебе не нанесут вреда.
Если ты станешь причиной того, что чувствующие существа
Создадут альтруистическое устремление к просветлению и упрочатся в нем,
Ты навсегда обретешь альтруистическое устремление к просветлению,
Прочное, как царь гор27.
Чем больше вы побуждаете и вдохновляете других быть позитивными, тем более позитивными вы будете сами, потому что вы побуждаете и вдохновляете себя в то же время, как вы вдохновляете их. Но в первую очередь вы сами должны быть полны вдохновения, по крайней мере, до некоторой степени, поскольку в противном случае любое ваше вдохновение останется лишь на словах. Ваши слова должны выражать ваши собственные, действительно позитивные ощущения, если вы хотите пробудить чувства в других. И, наоборот, отклик, получаемый от других, также должен вдохновлять вас. Именно так работает взаимодействие внутри сангхи. Именно так может зародиться бодхичитта, и так она усиливается, зародившись в сангхе.
Бессмысленно жаловаться, что вы окружены бесчувственными, мрачными людьми. Вы должны создать «человека», который вам нужен
Есть история о суфийском мастере и его ученике. Ученик пришел издалека, и однажды пришло время возвращаться домой. Конечно, он печалился об уходе, но не только потому, что ему приходилось покидать своего старого учителя. Он был печален, потому что ему нужно было возвращаться к собственному, довольно неотесанному народу. Он сказал мастеру: «Здесь я наслаждался общением высочайшего рода, но там, куда я иду, мне не с кем будет так поговорить. Не знаю, как я смогу выжить. Что мне делать?» Мастер ответил в своей обычной лаконичной манере: «Создай человека, который тебе нужен». Он, конечно, не имел в виду создания в буквальном смысле. Он имел в виду, что ученик должен посеять семена вдохновения в сердцах людей, и, по крайней мере, некоторые из них со временем смогут обеспечить ему общение, в котором он нуждался.
Бессмысленно жаловаться, что вы окружены бесчувственными, мрачными людьми. Вы должны создать «человека», который вам нужен. Возможно, это покажется эгоистичным, но в то же самое время это в высшей мере альтруистично. Это просветленное своекорыстие в подлинном смысле, потому что «созданный» вами человек будет существовать не только для вас, но и для себя самого. На самом деле, он не может существовать для вас, если не существует для самого себя. Не стоит беспокоиться о мотивации, поскольку здесь разрушается само различие между эгоизмом и альтруизмом. Делая благо для себя, вы делаете благо для других. Делая благо для других, вы делаете благо для себя.
Те, кто презирают Великую Колесницу,
Источник всех благих качеств, потому что (она учит) получать удовольствие
От заботы лишь о целях других, не глядя на собственные,
В результате этого сжигают себя (в дурных перерождениях)28.
Эта строфа затрагивает практическую нравственную проблему. Если вы выражаете негативные чувства, вы должны взять на себя ответственность за то, что некоторые люди воспримут ваши слова достаточно серьезно, чтобы не связываться с объектом вашей критики. Это может оказать глубокое воздействие на их жизнь, особенно если вы критиковали духовную традицию. Нагарджуна идет еще дальше. Он предполагает, что, поскольку Махаяна заботится исключительно лишь о благе других, ее критика означает, что на самом деле вы препятствуете другим заботиться о ваших нуждах. С одной стороны, он обращается к узкому себялюбию, с другой стороны, он представляет идеал Махаяны как идеал чистого альтруизма, совершенно чистый от своекорыстия. Последнее – общее воззрение Махаяны, но его не следует принимать слишком буквально. Было бы более верно, хотя и менее театрально, сказать, что, делая добро другим, человек делает добро себе, с духовной точки зрения. Как можно разделить одно и другое. Когда вы искренне жертвуете собой на благо других, на очень глубоком уровне вашего существа или вне вас как будто появляется нечто, с чем вы чувствуете глубинную связь, и оно получает поддержку. И, напротив, если вы жертвуете собой лишь из ненависти к себе или чтобы быть «святее других», на самом деле другие вас вовсе не заботят.
Возможно, этот призыв совершенно игнорировать или презирать свои собственные нужды должен помочь нам преодолеть наше естественное самодовольство и эгоцентризм. Однако может оказаться более полезным подход, при котором мы рассматриваем себя как еще одного человека среди многих. Если вы хотите посвятить себя благу всех, эти «все» должны, безусловно, включать вас. Иначе вы придаете себе особый статус. Вы должны заботиться о себе, как заботитесь обо всех остальных, а не относиться к себе, как к кому-то особому, чьими нуждами нужно пожертвовать на благо человечества.
Буддийский идеал часто рассматривается как эгоистичный. Безусловно, это не связано со стремлением последователей Тхеравады обрести личное Просветление, потому что в христианстве есть похожее стремление к личному спасению (то есть спасению души). Думаю, западное представление о буддизме как об эгоистичной религии скорее коренится в важной роли монашества в буддизме в целом и в Тхераваде в частности и, следовательно, в необходимости покидать дом, работу и даже семью. Человек отправляется дальше, на поиски Просветления, оставляя других справляться, как им заблагорассудится.











