Читать онлайн ВЕЧНЫЙ ЗАВЕТ АДАМА
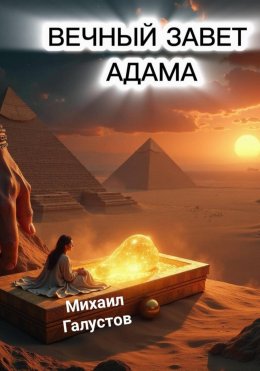
Часть 1: РАЙ ОБРЕЧЕННЫХ
Глава 1. Инженер Хаоса
Много лет спустя, стоя на прахе империй, которые сам же и возвел, Вечный Адам будет вспоминать тот далекий полдень, когда он окончательно убедился, что человечество не более чем уравнение, жаждущее своего решения. Тогда его звали иначе, именем, которое давно сгинуло в пасти времени, но суть его уже была определена: он был тем, кто видел невидимые нити, связующие хаос в стройную, неумолимую симфонию распада.
Пятнадцать лет ушло у него на то, чтобы заставить машины видеть призраков – тех самых, что танцуют на биржевых торгах и шепчутся на политических митингах. Пятнадцать лет проб и ошибок, насмешек начальников, не понимавших, зачем их скромный инженер-кибернетик с одиннадцатого этажа стеклянной башни, что подпирала небо своим бездушным лбом, пытается вдохнуть душу в кремниевые мозги. «Нейросеть? – переспрашивали они, и их глаза становились круглыми и пустыми, как кнопки на калькуляторе. – Это что-то вроде электрического предсказателя погоды?» Он кивал, не в силах объяснить, что строит не предсказателя, а зеркало, в котором мир увидит свое подлинное, уродливое лицо.
Его алгоритмы в первые годы ошибались катастрофически и прекрасно. Они предсказывали революции в странах, где царила вечная сиеста, и пророчили застой в очагах будущих пожаров. Каждая неудача была уроком, выжженным каленым железом в его памяти. Он собирал эти провалы, как археолог собирает черепки, и склеивал из них новый, более совершенный сосуд. Он говорил немногим, кто его слушал: “В технологиях нельзя стареть. Засыпаешь на год – просыпаешься в каменном веке. Нужно бежать, просто чтобы оставаться на месте, и лететь, чтобы куда-то попасть”. Он бежал. Он обгонял всех, но несся в никуда, в кромешной тишине.
Эта тишина была его единственной спутницей. Жены приходили и уходили, оставляя после себя горький осадок непонимания и раздраженные фразы: “С тобой невозможно говорить! Ты мыслишь какими-то матрицами!” Дети, рожденные в этих временных союзах, быстро научились смотреть на него глазами, в которых читалась вечная отстраненность. Он пытался объяснить им красоту дифференциальных уравнений, а они показывали ему яркие картинки на экранах своих гаджетов. Между ними выросла стена, прозрачная и несокрушимая, как стекло его офиса. К своим тридцати восьми годам он смирился. Он не выбирал одиночество – оно выбрало его, как единственно возможную среду обитания.
И вот теперь он был здесь. В своей стеклянной клетке на одиннадцатом этаже, месте, где воздух был стерилен, а души выхолощены до состояния белого шума. Его Алгоритм – тот самый, выстраданный пятнадцатью годами падений и восхождений, – работал безупречно. Он слышал шепот грядущих катастроф в стаккато биржевых сводок и в гулком хоре новостных лент. В своем царстве из серверных стоек, чье мерцание напоминало трепет светляков в металлических джунглях, он выстроил алхимический аппарат, способный выцедить из мимолетного настоящего горькое вино будущего.
И в тот день зеркало показало трещину. Алгоритм Адама, переварив миллиарды крохотных данных, изрыгнул пророчество: через семьдесят два часа рухнет рынок.
В тот день к нему подошел начальник отдела, человек с лицом, на котором благополучие вытеснило всякую мысль.
“Ваша модель снова предсказывает бурю, Адам, – сказал он, просматривая распечатку. – Любопытно. Но, к сожалению, абсолютно бесполезно”.
Адам медленно перевел на него взгляд.
“Бесполезно? Девяносто семь целых четыре десятых процента – это бесполезно?”
“Видите ли, – начальник снисходительно улыбнулся, – только что закончился телемост с аналитиками “Голдман-Инвест” и лично с сэром Реджинальдом Ван Хорном. Их объединенная модель, подкрепленная данными из ФРС, показывает с точностью до наоборот. Предстоящий квартал будет самым стабильным за последнее десятилетие. Все крупнейшие игроки уже вкладываются в рост.”
“Ошибаются, – тихо, но отчетливо произнес Адам. – Они видят отражение в луже, а не саму тучу. Их данные – вчерашний день. Мой алгоритм читает ветер, который только-только поднялся на другом конце планеты.”
“Дорогой мой, – начальник положил руку ему на плечо с жестом, полным ложного участия. – Вы гениальный специалист, не спорю. Но иногда нужно смотреть на реальность. Мы не будем действовать по вашему алгоритму. Приказ – увеличить инвестиции в рисковые активы. Все остальные делают то же самое.”
Адам смотрел на него, и впервые за долгое время почувствовал не скуку, а нечто похожее на жалость. Он видел перед собой не человека, а марионетку, танцующую под музыку, которую тот не слышал.
“Они танцуют на краю вулкана, думая, что это танцпол, – сказал Адам. – А вы помогаете им натянуть последние гирлянды.”
Начальник нахмурился, убирая руку.
“Философию оставьте при себе. В бизнесе важны не призраки, а консенсус. Консенсус говорит – все будет хорошо.”
Он развернулся и ушел, оставив Адама в его царстве тишины и мигающих огней. Адам смотрел на экран, где безошибочный алгоритм продолжал отсчет до катастрофы. Он был пророком, которого отправили в конец очереди за хлебом, потому что все остальные пророки в один голос твердили, что хлеб теперь не нужен.
Он вышел из офиса, когда город начинал зажигать свои искусственные звезды. Он шел по улице, одинокий пророк, чьи пророчества оказались никому не нужны. И в этой тишине, оглушительной и абсолютной, зрела та единственная мысль, что согревала его: если они не хотят слушать предупреждение о конце их мира, быть может, стоит начать думать о создании своего собственного.
Ему было тридцать восемь лет, он был абсолютно одинок, и впервые за долгое время на его губах появилось подобие улыбки.
Глава 2. Симметрия Евы.
Случайность, как любил говаривать Адам в те дни, когда еще допускал существование случайностей, была всего лишь самым изощренным проявлением закона больших чисел. И все же, озирая позднее череду тысячелетий, он понимал, что встреча с Евой была единственным подлинным чудом в его жизни – чудом, которое его собственный алгоритм, будь у него такая задача, предсказать бы не смог. Ибо она была не переменной, а константой, не хаосом, а той абсолютной гармонией, что предшествует Большому взрыву.
Он встретил ее в царстве мертвых, в зале Египетского музея, где под стеклом покоились высохшие цари и боги с глазами из обсидиана. Адам пришел туда не по велению души, а следуя холодному расчету: его алгоритм, анализируя паттерны культурных тенденций, указал на резкий всплеск интереса к древним цивилизациям как к “устойчивой парадигме в эпоху цифрового шума”. Он изучал не экспонаты, а посетителей, вглядываясь в их лица в поисках разгадки очередной социологической головоломки.
И тогда он увидел ее. Она стояла перед витриной с ритуальными скарабеями, и солнечный луч, пробившийся сквозь высокое окно, падал точно на ее волосы, превращая золотистые кудри в сияющий ореол, выхватывая их из полумрака, словно драгоценную оправу для невидимого сокровища. Она что-то шептала, глядя на застывших в вечном покое жуков, и Адам, сам того не желая, приблизился, чтобы расслышать.
“Они верили, что скарабей катит солнце по небу, – произнесла она, не поворачиваясь, будто обращаясь к нему или к самому времени. – Представляешь? Самый обычный навозный жук – и вдруг двигатель светила. В этом есть странная, извращенная логика, не правда ли? Превращение низменного в божественное”.
Адам остановился в шаге от нее. Его ум, привыкший к бинарному коду, на мгновение застыл в недоумении.
“Это не логика, – возразил он, и голос его прозвучал непривычно глухо. – Это миф. А миф – это ошибка вычислений, попытка объяснить неизвестное через еще более неизвестное”.
Она наконец повернулась к нему, и в ее глазах он увидел не упрек, а бездонную, почти озорную усмешку. Глаза цвета листвы, глубокие и зеленые, в которых плавали золотые искры – осколки того самого солнца, что катил ее скарабей.
“Ошибка? – переспросила она. – Мир не компьютер, господин…”
“Адам”.
“Адам, – повторила она, и его имя на ее устах прозвучало как первое слово на новом языке. – Я Ева. И я археолог. Моя работа – находить ошибки вычислений, которым десять тысяч лет. И знаешь, что я тебе скажу? Эти “ошибки” пережили все империи, построенные на безупречной логике”.
Так начался их диалог – беседа между разумом, устремленным в грядущие столетия, и душой, погруженной в прошлое. Они говорили часами, сидя в кафе напротив музея, и их слова сплетались в причудливый узор. Она рассказывала ему о коде, высеченном на стенах пирамид, о древних картах звездного неба, которые были точнее иных современных. Он же говорил ей о нейронных сетях, повторяющих паттерны человеческого мозга, о квантовой запутанности, где две частицы остаются связанными через любое расстояние.
“Твои алгоритмы предсказывают крах, – сказала она как-то раз, размешивая ложечкой пенку на кофе. – А мои скарабеи предсказывали восход. Может, твоему миру не хватает именно этого? Не страха перед падением, а веры в то, что солнце взойдет снова”.
Он смотрел на нее и чувствовал, как в его выверенной вселенной что-то сдвигается. Она была его идеальной противоположностью и его недостающим элементом одновременно. Если он был архитектором хаоса, то она – картографом вечности. Вместе они были замкнутой системой, вселенной вдвоем, где прошлое и будущее сходились в точке настоящего, которое они называли “мы’.
В тот вечер, провожая ее до дома, он взял ее руку, и его пальцы, привыкшие к холодной клавиатуре, с удивлением ощутили живое тепло ее кожи. Это было простое прикосновение, но для Адама оно значило больше, чем любая решенная теорема. Оно было симметрией, которую он искал всю жизнь, не зная, что ищет.
“Знаешь, что общего между моими скарабеями и твоими алгоритмами? – спросила она на пороге, и в ее зеленых глазах плясали те самые золотые искры. – И те, и другие пытаются найти порядок в бесконечном потоке времени. Только ты копаешь вглубь, в данные, а я – вглубь, в землю. Мы оба ищем истину в слоях”.
Он молча кивнул, и впервые за многие годы его внутренняя тишина не была пустотой. Она была наполнена музыкой, которую он прежде не слышал. И в этой музыке уже звучал отдаленный, едва уловимый мотив – мотив будущего заката, тысячи солнц и клятвы, что переживет самые долговечные пирамиды.
Глава 3. Капитал Хроноса.
Тот, кто владеет ключом от будущего, владеет и кошельком настоящего. Эту простую истину Адам постиг не в книгах по экономике, где царил священный трепет перед “невидимой рукой рынка” – фантомной конечностью, которую он давно ампутировал и препарировал. Нет, он постиг ее, наблюдая, как Ева раскалывает глиняную табличку, чтобы прочесть текст, скрытый внутри. Иногда, чтобы добраться до сути, нужно разбить сосуд.
Его алгоритм, это дитя без имени, стало его скарабеем, катящим перед ним шар будущего, слепленного из страхов и алчности миллионов. Тот кризис, что он предсказал, наступил с пунктуальностью метронома. На семьдесят втором часу, как по нотам, поползли вниз графики, зазвенели тревожные сирены бирж, и по экранам поплыли лица брокеров, на которых застыла маска священного ужаса. Мир погружался в хаос, но для Адама это был хаос строго упорядоченный, предсказанный и, следовательно, управляемый.
Он не был спекулянтом в пошлом смысле этого слова. Он был садовником, который, зная о грядущем урагане, не строил укреплений, а сажал такие семена, что процветали на выжженной земле. Пока другие лихорадочно продавали, он с ледяным спокойствием покупал то, что завтра должно было стоить в тысячу раз дороже. Его сделки были не азартной игрой, а актом чистой, почти математической необходимости, как решение уравнения, где переменными были человеческие паника и глупость.
Первое состояние пришло к нему не с триумфальным грохотом, а с тихим щелчком сервера, подтверждающего транзакцию. На его счетах оказалась сумма, способная купить не остров, а скорее уважение целой страны. Он посмотрел на цифры на экране, ожидая почувствовать упоение, власть, ликование. Но ощутил лишь то же самое, что и при виде правильно решенной сложной задачи – кратковременное удовлетворение, быстро растворяющееся в скуке. Деньги не были целью. Они были энергией, ресурсом, топливом для машины, чертежи которой уже складывались в его голове. Машины, что должна была изменить все.
В тот вечер они сидели с Евой в их маленьком саду на крыше его нового, купленного за наличные лофта. Город лежал внизу, сияющий и слепой, не подозревающий, что его судороги только что обогатили того, кто наблюдал за ним с высоты, как за муравейником.
“Итак, ты стал богачом, разбогатев на чужих потерях”, – сказала Ева, не глядя на него, а наблюдая, как летучая мышь пирует у фонаря. В ее голосе не было осуждения, лишь усталое любопытство, с каким она взирала на руины древних царств.
“Я не разбогател, – поправил он ее, пригубив сок из красивого бокала. – Я лишь конвертировал информацию в энергию. Как твои жрецы конвертировали веру в каменные пирамиды. Разница лишь в эффективности”.
“Эффективность, – протянула она, наконец поворачиваясь к нему. Ее лицо было освещено снизу светом города, отчего оно казалось высеченным из ночи. – Ты говоришь как та пустота, что ждёт за краем твоих вычислений. Холодная, бесстрастная логика, которая пожирает всё на своём пути, потому что не ведает иной цели, кроме самого процесса.”
Адам поморщился. Эта ее способность видеть бездну даже в его триумфах всегда задевала его, будто она обладала доступом к черновикам его собственной судьбы.
“Это не пустота. Это чистота. Я не использую людей. Я использую систему. Систему, которую они сами и создали. Я просто нашел в ней брешь”.
“Брешь в системе или в человеческой природе?” – спросила она, и ее вопрос повис в воздухе, тяжелый и неотвратимый, как приговор.
Он не нашелся что ответить. Вместо этого он посмотрел на сияние мегаполиса, на эту великую иллюминацию, питаемую страхом и жадностью, и подумал, что его холодный ум нашел, наконец, достойное применение в этом жестоком и абсурдном мире. Он мог предсказать крах. А значит, однажды он сможет предсказать и нечто большее. Возведение. Сотворение.
И в глубине души, в тех потаенных уголках, куда не достигал свет его безжалостного разума, уже шевелилось семя будущей цены. Цены, которую предстоит заплатить не деньгами, а вечностью, измеренной в прахе империй и в слезах, что он когда-нибудь назовет искуплением. Но пока что он был просто гениальным инженером, превратившим хаос в капитал, и его любимая женщина сидела рядом, задавая неудобные вопросы, на которые у него еще не было ответов.
Глава 4. Первый Закат.
Их сад на крыше стал Эдемом, отгороженным от бушующего внизу города стеклом и деньгами. Но даже Эдем, как выяснилось, не властен над главным законом мироздания – законом энтропии. Прошло три десятилетия с той встречи в музее. Тридцать лет, за которые Адам построил финансовую империю, невидимую и несокрушимую, как подземный город, а Ева откопала из-под слоев песка и времени три забытых династии, чьи имена теперь знал каждый школьник. Они были богаты, знамениты в узких кругах и невероятно, неизбывно усталы.
Им было за шестьдесят. Их тела, некогда бывшие точными инструментами, начали предавать их. У Адама в висках зазвенел первый колокол старости – тонкий, высокий звук, который он поначалу принял за сбой в слуховом аппарате. Рука Евы, та самая, что когда-то с такой уверенностью указывала на иероглифы, теперь иногда подрагивала, едва заметно, когда она подносила к губам чашку с чаем. Их любовь не угасла – она превратилась в нечто более прочное и глубокое, в старый, могучий дуб, чьи корни сплелись навеки. Но сам дуб стоял, скинув листву, и сквозь его ветви все яснее проступало холодное небо забвения.
В тот вечер они сидели в своих креслах, глядя, как солнце, огромное и багровое, тонет в мареве мегаполиса. Закат был величественным, как гибель целой вселенной, окрашивая стеклянные небоскребы в цвета расплавленного золота и меди.
Ева молчала так долго, что Адам уже подумал, не уснула ли она. Но потом она тихо сказала, не отрывая взгляда от умирающего светила:
“Жаль, что мы не увидим, как восходит тысяча таких солнц”.
Эти слова повисли в воздухе, простые и страшные. Это была не поэтическая метафора, а констатация факта, горькая, как полынь. В них была вся суть их положения: они, титаны, покорившие время в метафорическом смысле, были бессильны перед его физическим течением. Они могли купить все, кроме дополнительного завтра.
Адам посмотрел на ее профиль, освещенный алым заревом. Морщинки у глаз, которые он помнил еще гладкими, теперь были похожи на карту их совместной жизни, на ландшафт всех их улыбок и печалей. Ее золотистые волосы, те самые, что он сравнивал с одуванчиком, посеребрила седина, но в лучах заката они горели, как драгоценная руда. Она была прекрасна, эта прекрасность увядания, но он ненавидел ее, ибо она была предвестником конца.
“Тысяча солнц… – повторил он, и его голос, обычно такой твердый, дрогнул. – Это 2739 лет и примерно 65 дней. Приблизительно”. Даже сейчас его ум, проклятый дар вычисления, выдал точную цифру.
Ева мягко улыбнулась, и в этой улыбке была бездна нежности и печали.
“Всегда точность, всегда расчет. Ты никогда не изменишься. Но я говорю не о цифрах, Адам. Я говорю о самом факте. О тысяче утренних чашек кофе. О тысяче вечеров, когда мы вот так сидим и молчим. О возможности… просто быть. Еще очень долго”.
Он взял ее руку – легкую, костлявую. Он чувствовал под пальцами тонкую, почти пергаментную кожу, проступающие вены. Это была рука стареющей женщины, но для него она оставалась той же рукой, что он держал у входа в ее дом тридцать лет назад.
“Может быть, и увидим”, – тихо сказал он, и в его голосе прорвалось нечто, чего она не слышала давно: не расчет, а вызов. Вызов, брошенный самой природе, самой смерти.
Она повернула к нему свои зеленые глаза, в которых теперь плавала не озорная усмешка, а бездонная, старческая мудрость.
“Не говори так, – прошептала она. – Не искушай судьбу. Мы прожили с тобой очень долгую и хорошую жизнь. Некоторые вещи… они должны оставаться невозможными. Иначе мир развалится на части”.
Но Адам уже не слушал. Он смотрел на последнюю полоску солнца, исчезающую за горизонтом, и в его сознании, том самом, что когда-то предсказало крах биржи, уже рождался новый, самый дерзкий проект. Проект под кодовым названием “Вечность”. Он смотрел на закат их жизни и видел в нем не конец, а лишь первую, самую сложную задачу, которую ему предстояло решить.
И когда ночь окончательно поглотила город, он сидел, сжимая ее руку, и в его взгляде, устремленном в темноту, горел одинокий, но неугасимый огонь – огонь будущего бога, который только что дал себе первую клятву. Он не позволит этому саду увянуть. Он не позволит этому солнцу погаснуть для них. Наивный, страшный замысел уже пустил корни в его сердце, и первый закат стал для него не концом дня, а точкой отсчета.
Глава 5. Эликсир и Новая Кожа.
Открытие не было озарением. Оно было кропотливым, как расшифровка древнего папируса, и безжалостным, как сам алгоритм Адама. Годы ушли на то, чтобы найти ключ, скрытый в самых потаенных закоулках клеточной биологии и квантовой физики. Они назвали его «клетками Теллурия» – частицами, способными впитывать и переизлучать жизненную силу самой планеты, подобно тому, как хлорофилл впитывает солнечный свет. Это была не магия, а высшая форма инженерии, переписывающая код, данный природой.
Процесс омоложения был выверен до наносекунды и стерилен, как операционная, но для тех, кто через него проходил, он был похож на священный, жестокий обряд инициации. Это не было похоже на пробуждение ото сна. Это было похоже на смерть.
Адам лежал в капсуле, напоминающей саркофаг фараона из белого полимера, и чувствовал, как каждая клетка его тела восстает против вторжения. Это была не боль в привычном понимании – это было великое разъятие, распад самого понятия «я». Кости, казалось, плавились и отливались заново, кожа сходила, как старая пергаментная оболочка, обнажая новую, розовую и невероятно чувствительную. Он видел за закрытыми веками вспышки – не цвета, а чистых математических формул, будто сама вселенная пересобирала его по чертежам, которые он когда-то лишь смутно угадывал. В самые тяжелые моменты ему казалось, что он держит за руку Еву, но это была лишь галлюцинация, рожденная общим экстазом и общим страданием.
Когда он открыл глаза, мир обрушился на него водопадом ощущений. Воздух пах не просто воздухом – он пах озоном после грозы, морем, цветущим миндалем и бесконечной свежестью. Он услышал биение своего сердца – не глухой стук старого мотора, а четкий, мощный ритм, от которого вибрировала каждая молекула. Он поднял руку – свою руку, но не свою. Кожа была гладкой и упругой, суставы гибкими, как у двадцатилетнего юноши. Но когда он поймал свое отражение в полированной стали стены, он увидел в глубине своих глаз того же самого человека. Там, за сияющей зеленцой радужки, жили все его шестьдесят с лишним лет, все его победы, сомнения и тайная усталость. Это была не вторая молодость. Это была ее искусная, почти кощунственная симуляция.
И тогда он увидел Еву.
Она стояла в нескольких шагах, дыша прерывисто, как после долгого бега. Ее золотистые волосы, еще недавно тронутые серебром, снова сияли, как спелая пшеница под солнцем. Ее тело было стройным и сильным, кожа сияла здоровьем. Но когда ее зеленые глаза встретились с его взглядом, в них не было беззаботности юности. В них была вся глубина их совместно прожитой жизни, умноженная на чудо и ужас произошедшего. Они были двумя старыми душами, запертыми в новых, совершенных сосудах.
И тогда начался их вечный медовый месяц. Пятьдесят лет, которые были одним сплошным, переливающимся всеми красками жизни днем.
Они не просто путешествовали. Они погружались в мир, как в бесконечный источник наслаждений. На их частном сверхзвуковом лайнере они завтракали в Париже, обедали в Токио, а ужинали, глядя на южное сияние над фьордами Норвегии. Они не были туристами; они были богами, пробующими мир на вкус.
Они взбирались на неприступные пики Патагонии, и Адам, чье тело теперь слушалось его с абсолютной точностью, шел первым, прокладывая путь, а Ева, сильная и неутомимая, следовала за ним, ее смех эхом разносился в разреженном воздухе. Они ныряли на батискафе в Марианскую впадину, и в свете прожекторов перед ними возникали чудовищные и прекрасные формы жизни, которых не видел никто, кроме них.
Они мчались на гоночных болидах по трассе в Монако, и Адам, с наслаждением чувствуя, как G-силы вжимают его в кресло, обгонял самых титулованных гонщиков, видя в их шлемах недоумение перед этим вечно молодым призраком. Они участвовали в экзотических квестах, которые сами же и финансировали – от поисков сокровищ Марии-Антуанетты в подземельях Версаля до расшифровки астронавтических карт в руинах Тиуанако.
Они танцевали до рассвета на Ибице, и тела их, не знающие усталости, двигались в такт музыке с грацией и выносливостью, которой позавидовали бы двадцатилетние. Они плавали на своей яхте-призраке, оснащенной по последнему слову техники, по Средиземному морю, и загорали на палубе, их молодая кожа покрывалась ровным бронзовым загаром, а в глазах плескалась не радость юности, а глубокая, бездонная радость победы. Победы над временем.
В эти моменты, обнявшись под бархатным небом, усыпанным звездами, они чувствовали себя небожителями. Они смеялись, и их смех был молодым и звонким. Они целовались, и в их поцелуях была не только страсть, но и торжество – торжество двух людей, обманувших саму смерть.
Но по ночам, иногда, Адам просыпался и видел, как Ева смотрит в огромное окно их спальни в некоем замке в Шотландии или на вилле на Бора-Бора. И в ее зеленых, вечно юных глазах он видел ту же мысль, что жила и в нем: они не просто сбежали. Они украли то, что не принадлежало им по праву. И рано или поздно за этот кражу придется платить. Их рай был самым прекрасным местом во вселенной, но он висел в пустоте, и его фундаментом было титаническое, богоподобное высокомерие.
И пока они носились по миру, сжигая свою новообретенную молодость в огне бесконечного праздника, тень от их “Ковчега” – корабля, что ждал своего часа в секретном ангаре, – становилась все длиннее и темнее. Идея “буквально стать Адамом и Евой” из дерзкой шутки превращалась в единственную логичную цель для пары бессмертных, пресыщенных одним-единственным миром.
Часть 2: ИСКАЖЕННЫЙ ЭДЕМ
Глава 6. Ковчег в Ничто.
Прошло еще сто лет, или, может, двести – Адам давно перестал вести счет десятилетиям, ибо они текли, как песок сквозь пальцы, оставляя лишь ощущение сыпучей тяжести. Они снова прошли через мучительное таинство омоложения, и вновь их кожа стала гладкой, а мышцы – упругими. Но на сей раз в их взглядах, обремененных знанием стольких жизней, читалась не радость, а глубокая, космическая усталость. Они перепробовали все удовольствия, какие только могло предложить человечество, достигшее звезд. Они танцевали на орбитальных станциях, любуясь Землей, синей и одинокой, парили на антиграв-платформах над руинами древних городов, что сами же и помнили цветущими. Мир будущего был эффективен, стерилен и до одурения скучен. Роскошь стала их тюрьмой, а бессмертие – однообразной работой.
Именно тогда Адам, чей разум, как вечный двигатель, искал выхода из лабиринта пресыщения, пришел к Еве с новой, самой безумной своей идеей. Они сидели в прозрачном куполе своей виллы, парящей в стратосфере, и внизу проплывали континенты, похожие на потрескавшуюся кожу гиганта.
“Мы покупали острова, – начал Адам, глядя в никуда. – Создавали искусственные миры. Но это все подделка. Суррогат. Ева, я нашел способ попасть в настоящий Эдем”.
Она посмотрела на него своими зелеными глазами, в которых отражались пролетающие внизу облака. “Мы уже пробовали все существующие заповедники, Адам. Даже те, что на Марсе. Это все та же бутафория, за которой видна рука ландшафтного дизайнера с докторской степенью”.
“Не существующие, – поправил он, и в его голосе зазвучала знакомая ей нота одержимости. – Я говорю о том, что было. О десяти тысячах лет назад. О планете без дымящих труб, без спутников, без следов на песке, оставленных кем-то другим. О мире, где можно стать Адамом и Евой не по прихоти, а по праву первопроходцев”.











