Читать онлайн Рысья Падь
- Автор: Виктор Сенча
- Жанр: Современная русская литература
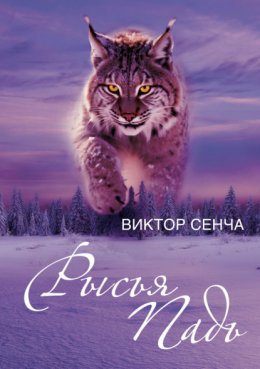
© Сенча В. Н., 2025
© Ждановская О. И., художник
© ООО «Издательство Родина», 2025
Моему брату, Александру Николаевичу, посвящаю…
Повести
Рысья Падь
Пролог
Падь – резко очерченная, глубокая, неширокая долина, обычно заросшая лесом… Урочище – местность, выделяющаяся среди окружающего ландшафта естественными границами, признаками…
Из толкового словаря Ефремовой
…Мороз ударил такой, что даже частый в эту пору снегирь – и тот, обессилев, падал на лету. Вятка, ещё накануне пестревшая чёрными пятнами промоин, за две лютых ночи побелела и, засверкав на солнце мириадами бриллиантовых искорок, наконец окончательно заснула. Лес на крутых увалах безмолвно затих, покрывшись солидной сединой. От небывалой стужи с лёгкостью от верхушки до корневищ лопались вековые сосны; и если б градусы перевести на джек-лондоновские Фаренгейты, показалось бы, что началось светопреставление.
Январь 1922 года оказался трескучим и малоснежным. Зимний солнечный диск был румян, напоминая масляный блин. Быть летом хорошему урожаю, улыбались, кутаясь в овчину, местные старожилы, не забывая добавлять, что до хлебной страды ещё дожить надо бы. Ведь с таким неурожаем, какой случился в минувшем году, недолго и ноги протянуть…
Вчерашний курсант седьмых Борисоглебских кавалерийских командных курсов, а ныне младший командир Рабоче-крестьянской Красной армии Алексей Озерков возвращался домой, в родную деревню Озерки, что в урочище Рысья Падь. На душе было светло и радостно. Грудь переполняла гордость – и за себя, и за Страну Советов, одолевшую-таки и белогвардейцев, и белополяков, и всяких там империалистов и иностранных наймитов. Но и это ещё не всё. За себя же гордость распирала потому, что где-то там, глубоко под шинелью, на Алёшкиной груди красовался главный секрет для всех родных и деревенских – орден Красного Знамени. Раньше такую награду красноармеец Озерков видел разве что на груди своего командира да у товарища Котовского; у прочих же его сослуживцев ничего подобного не было и в помине.
Нет, награждать-то, конечно, бойцов награждали, но только не орденом. Вон, товарища Топоркова за бой под Каховкой прямо перед строем облагодетельствовали «революционными шароварами»; а пулемётчика Ваську Речкина за срыв махновской кавалерийской атаки премировали трофейным серебряным портсигаром. Васька раньше и не курил вовсе, теперь вот пришлось держать марку. А как же? Все на привале потянутся, бывало, за кисетами с махрой, ну а для Речкина – тот самый случай блеснуть драгоценной вещицей. Не спеша достанет, степенно раскроет, подденет уже приготовленную загодя самокрутку, предложит одному-другому сослуживцу. Потом все затянутся, и он вместе со всеми – для блезиру, так сказать. Знает, что кто-нибудь из бойцов обязательно подойдёт и скажет:
– Покажь партсигару, браток…
– Держи, – ответит Васька, не в силах сдержать улыбки. – Сам товарищ Будённый вручил. Из рук, понимашь, в руки. Спасибо, грит, товарищ Речкин, что благодаря вам, Махно, значится, досталось по сопатке…
– Так и сказал? – не верили красноармейцы.
– Именно так, да ещё и руку крепко пожал, аж до боли…
– Красивый, – качали головами, рассматривая подарок, бойцы. – Офицерский, видать…
– Пожалуй, – подтверждал Речкин. – То ли графский, либо князя какова аль самого генерала. Однозначно – трофейный. Вот так-то, братцы…
Были на памяти у Алёшки и другие примеры того, как поощрялись бойцы его полка. Кузьму Артамонова командир полка, расцеловав, отпустил до родного хутора на целых десять суток. Потому как – заслужил. Во-первых, у Кузьмы одиннадцать дитёв, половина из которых, считай, семеро по лавкам, мал мала меньше. А супруга у него, как сказывал, уж слишком хворая; да двое стариков, да и семья-то безлошадная… Но не это главное, этим отпуск не завоюешь. Артамонов в бою с антоновцами пленил самого Яшку Санфирова, командира Особого повстанческого полка, по сути, антоновской гвардии. За ним ещё с зимы гонялись, а Кузьма – нате вам, товарищи, этого бандита, живого и пленённого. Вот за такое-то дело и отпустили Артамонова на побывку.
Алёшка Озерков отличился совсем в другой операции – там же, на Тамбовщине. Вызывает его как-то командир, товарищ Остроухов, и начинает с ним прямо на совещании доверительный такой разговор. Так, мол, и так, красноармеец Озерков, теперь вы уже младший командир, и на вас возлагается ответственное боевое задание государственной важности. Бандитский отряд Васьки Карася в триста штыков и сабель засел в Воронцовском лесу, километрах в тридцати отсюда. Люди в банде отчаянные и крайне опасные. Боевая задача: с группой красноармейцев, возглавить которую поручается вам, товарищ Озерков, отвлечь противника, постараться оттеснить на открытую местность, где бандитов будут ждать наши пулемётные команды.
– Для успешного исхода операции, – обратился комполка к собравшимся, – предлагаю отряд Озеркова увеличить до семидесяти человек. У бандитов должна возникнуть иллюзия, что против них выдвинуты все силы нашего полка. Вопросы есть?
– Есть, – привстал контуженный накануне командир взвода Пеньков. – Не совсем понял, товарищ комполка, что должно появиться у бандитов-то – профузия? Понос иль чё?
– Иллюзия, товарищ Пеньков, – нахмурил брови командир, – ощущение такое обманчивое, будто наших тьма-тьмущая, а на самом деле – совсем мало. Ясно, да?
– Уху…
– А насчёт «профузии», предупреждаю всех, чтоб яблок зелёных не грызли, да и воду где попадя не хлебали… Все свободны, Озерков останьтесь.
Комполка ещё битый час, тыча карандашом в оперативную карту, инструктировал Алёшку, где лучше устроить засаду, а куда вообще не соваться.
– Надеюсь на тебя, Озерков. Потому как от твоих грамотных действий зависит, понимашь, весь исход операции. Не подведи уж…
– Никак нет, не подведу, товарищ Первый!
– Ну и лады, сынок. А сейчас обойди бойцов, успокой. Да и сам, слышь, выспись хорошенько. Завтра ба-а-альшая заварушка намечается…
Поспать так и не удалось, а заварушка и впрямь выдалась ещё та. Отряд Васьки Карася отчаянно отбивался, не желая из густого леса выскакивать под пули. Тут-то и пригодилась Алёшкина молодецкая смекалка. Разделив по ходу боя красноармейцев на три группы, он приказал одной остаться в центре, а двум другим зайти во фланги. Потом поочерёдно организовывал атаки то с одной стороны, то с другой, то с третьей. Тогда-то у бандитов и создалась та самая «иллюзия», по вине которой они постепенно стали выходить к открытой опушке леса. Заметив, что карасёвцы совсем растерялись, Алёшка первым закричал «ура!» и, минуя густой ельник, повёл красноармейцев в решающую атаку.
В том бою отряд Васьки Карася потерял две трети личного состава, а ещё через несколько дней был полностью уничтожен; главаря же изрубили кавалеристы. Не уберёгся и Алёшка: бандитская пуля, попав в грудь, застряла глубоко под рёбрами. Ничего, сказал ему тогда товарищ Остроухов, были бы кости – мясо нарастёт…
Орденом красноармейца Озеркова наградили уже в госпитале. Приехал комполка, какие-то важные военачальники и сам товарищ Тухачевский. Он-то и прикрутил награду прямо к Алёшкиной пижаме. Будем посылать учиться в Академию, заверил красноармейца товарищ Тухачевский. Нам, сказал, такие командиры страсть как нужны…
Занятый мыслями, Алёшка шёл по заметённой снегом просёлочной дороге уже который час. От железнодорожной станции до Лебяжьей Слободки тридцать вёрст он проехал на нанятых крестьянских санях; потом, перейдя Вятку, заночевал у старого знакомого. А наутро, чуть свет, отправился в дорогу пешком. Пройти до родных Озерков ему предстояло ещё шестнадцать километров. Ох, велики вы, вятские просторы…
Мысли в молодой голове роились, словно пчёлы в июльском улье. Он вспоминал, как находясь в госпитале, закрутил нешуточный роман с медсестричкой Дашенькой. Правда, из затеи сделать ей предложение ничего путного не вышло, так как оказавшийся в том же госпитале по причине ранения руки Алёшкин командир Николай Григорьевич Остроухов, в отличие от младшего командира Озеркова, времени даром не терял и вскорости женился на этой самой Дашутке. Медсестричка уехала вместе с Остроуховым в Москву, в Академию, а Алёшка… Алёшка остался с носом.
За радужными мыслями красноармеец едва не заплутал. Засмотревшись на ровную верёвочку крупных следов, он как заворожённый шёл за этой цепочкой. Снег был неглубокий, иссиня-белый, искристый. Несмотря на то что сверху жарился солнечный блин, холод проникал, казалось, до самого сердца. «Молодец, что вместо обмоток валенки захватил», – мысленно похвалил себя парень. На душе было легко, а ноги сами несли к дому. В этом «дремучем» лесу для него всё было родным – и ели с соснами, и непроходимые заросли вересковника вдоль овражистых впадин, и засыпанные снегом пирамидки муравейников.
Алёшка решил немного срезать. «Если пойду по следам, как раз удачно обойду кряж, – подумал красноармеец. – Тем более, снег неглубокий, а под ёлками и вовсе замёрзшая трава просвечивает…»
Солнце ярко светило, деревья от мороза дружно трещали, а на душе было светло-светло – почти так же, как в бездонном небе. Впереди Алёшку ждал родной дом, тятя с маманей, братья и сёстры, куча родных и знакомых. Хорошо было Алёшке Озеркову, а потому и шлось ходко.
Здесь, в родных кущах, вдали от полей сражений и опасностей, красноармеец, несмотря на зимнюю стужу, настолько оттаял душой и настолько расслабился, что, будь он не здесь, а где-нибудь на войне, обязательно заметил бы те два глаза, что внимательно наблюдали за ним – с того самого момента, когда паренёк по неосторожности пошёл по следам лесного жителя…
Всё произошло мгновенно. Он лишь успел почувствовать сильный удар по затылку, сопровождаемый чьим-то до жути страшным рыком. Резкая боль в горле, звёздочки перед глазами, темнота и… светлый вход в конце длинного тоннеля.
Когда через час над лесом неожиданно занялась январская скорая вьюга, обещая долгожданное потепление, первая снежинка, всё ниже и ниже кружась, наконец упала куда-то под дерево. Туда же, под старую сосну, вскоре надуло тысячи искромётных снежинок. Многие из них, мягко ложась на расширенные зрачки красноармейца, уже не таяли…
Часть первая
Война никогда не проходит бесследно. Она – как старый шрам: кого-то калечит, кого-то делает краше. Но лучше, чтобы этих шрамов не было вовсе…
К. Симонов
…«Дух» оказался на редкость смелым, и в своей бесшабашной наглости показался Егору в оптическом прицеле где-то даже отважно-пижонистым. Боевик не гнулся под вжикающими над ухом пулями, не суетился, не вздрагивал от мерзких разрывов мин. Он двигался подозрительно спокойно, пытаясь пересечь широкий переулок, и так же спокойно вынимал из дорогих ножен сверкавший смертельно-матовым блеском прямой кинжал. И лишь звериный, нечеловеческий оскал смазывал картинку, обнажая всю сущность этого «смельчака»: позабыв об опасности, с раздутыми от будоражащего запаха крови ноздрями он, как хищный зверь, шёл убивать.
Егорка где-то читал, что даже африканская гиена бывает отважна, когда, зажатая со всех сторон львами и будучи обречённой, грызётся до конца – до того самого момента, пока её агонизирующее тело «царь зверей» со товарищи не раздерёт в разные стороны. На этом для льва вся охота и заканчивается. Чуть-чуть покуражившись и недолго поиграв крупным мослом, он бросает его, брезгливо косясь на пропахшее падалью мясо. Но чаще встречается другая гиена – хитрая, наглая, беспощадная – та, что в составе дикой бандитской оравы, загнав в густые заросли зазевавшегося несмышлёныша-львёнка, резко вонзается в жаркое мягкое горло, победно визжа и призывая к кровавому пиру всю ненасытную свору.
Этот, который с оскалом, напоминал именно гиену: уж слишком торопился поглумиться над безусым солдатиком-федералом, сбитым на мёрзлую землю бесшумной пулей снайперши-«белоколготницы». Засев в проёме окна дома напротив, наёмница безжалостно выбивала солдат, делая после каждого выстрела очередную насечку на прикладе.
От боли паренёк, слабо ойкнув, упал, ненадолго потерял сознание, а когда вновь открыл глаза, оказалось, что на том злосчастном перекрёстке он остался один-одинёшенек. К счастью, от опасных глазниц многоэтажки, в которой засели «духи», его по-матерински заслонила громада подбитого ещё прошлой ночью бэтээра. Обидным было другое: его, пожалуй, уже списали к «двухсотым», совсем не подозревая, что вот он, живёхонек! Только левая рука, залитая кровью, повисла плетью; да онемело всё от шеи до кончиков пальцев.
Заслышав приближающийся топот, солдат вздрогнул, вскрикнув от внезапно пронзившей всё тело страшной боли, и заскользил беспокойным взглядом по земле в поисках своего «калаша». Автомата нигде не было. «Видно, ребята, подумав, что меня убили, прихватили с собой, – догадался раненый, с облегчением нащупав на правом боку надежную «лимонку». – Если «духи», – живым не дамся…»
Эта кажущаяся простой фраза, не раз звучавшая в голове паренька, в эту минуту неожиданно обожгла и испугала его. «Неужели всё? А стук чьих-то шагов и есть мой конец? – с беспокойством думал он. – Ерунда, ещё поживём, повоюем! – старался успокоить он вдруг зашедшееся от частых ударов сердце. – Лишь бы сейчас мне отсюда выбраться. А там… Лишь бы сейчас…» Он не успел додумать уйму мыслей, вороньем облепивших контуженную при падении голову: прямо на него, тяжело ступая ботинками с высокими берцами, спокойно вышагивал одетый в федеральный камуфляж «дух», крепко сжимавший в правом кулаке смертоносный клинок…
Внимательно следя сквозь прицел снайперской винтовки Драгунова за «пижоном» в камуфляже, идущим к раненому солдату, Егор отметил, что сейчас поведение врага изменилось. Чем ближе он был к своей цели, тем больше лицо убийцы начинало походить на звериное; в нём уже не осталось ничего людского, – по сути, это было нечто, напоминающее гримасу мясника; а наполненные ненавистью глаза и по-кошачьи ловкие движения мускулистого тела ещё больше придавали этой фигуре черты хищного, осторожного зверя. Он не спеша подошёл к мальчишке, безропотно глядевшему на врага снизу вверх; когда же солдат потянулся к поясу, резко наступил тяжёлым ботинком на кисть. Потом внимательно, как все палачи, заглянул в лицо обречённой жертвы, что-то прогорланил и, свирепо оскалившись, схватил пленника за волосы. Далее отогнул голову и… взмахнул кинжалом.
Лезвие клинка вспыхнуло одновременно с Егоркиным лёгким движением пальца на спусковом крючке. Чпокнувшая посредине лба «духа» грязно-вишневая клякса напугала обезумевшего солдатика больше, чем кинжал: он рывком скинул с себя рухнувшее тело и от резанувшей резкой боли в левом плече вновь провалился в спасительное забытье…
Вятский паренёк Егор Озерков никогда не думал, что станет снайпером. И хотя на Вятке лесов предостаточно (а если забраться чуть севернее, можно набрести и на совершенно дикие медвежьи пади), на охоту он ходил не часто. Уходя же, брал с собой лишь старую отцовскую двустволку, которая, впрочем, и ружью помоложе могла дать фору: как отец в Егоркины годы отрегулировал винтовочный прицел, так за всё это время тот ни разу и не сбился. Вот что значит «школа», начавшаяся для его отца в трудные военные годы. Тогда обнаглевшие волки целыми стаями забегали в опустевшие без мужиков деревни, напоминая разбойничью лихую братию, резавшую всех подряд – собак, коров, людей. Именно это и заставило однажды баб да пацанов постарше взяться за ружьишки и самим осадить-таки волчью прыть. Правда, сказывали, не всегда те поединки с дикими сворами заканчивались победами: бывало, ружья находили, а люди пропадали бесследно. Тут поневоле научишься и заряжать, и пыж как надо вставлять, и метко стрелять, и порох завсегда сухим за печкой держать.
Но Егор по стопам отца не пошёл и заядлым охотником не стал, потому как, если честно, больше любил рыбачить – в тишине, наедине с успокаивающим шорохом волн и ласковым ветром, пропахшим рыбой и терпким дымком шипящего костра. Тем не менее до армии на его счету было десятка три косых и с пяток рыжих лисиц. Хороша матери позапрошлой зимой вышла лисья шапка, да ещё и роскошный воротник на шубу! Но не это главное. Он надолго утёр нос отцу: тот, хоть и охотник, ни разу лисьей шапкой мать не порадовал, а Егор-рыбак – вот вам, дорогая матушка, богатый головной убор из Лисы Патрикеевны…
Служить Егор шёл с большим желанием, придерживаясь устоявшейся догмы: парень – не парень, если не познал армейской лямки. Тем более что в райвоенкомате, на зависть многим, его заверили: служить пойдёшь в воздушно-десантные войска.
Одно огорчало: оставлял он дома, в родном Вятске, зазнобу – девушку Наташу, с которой пару лет просидел за одной школьной партой. Хоть и были они с Наташкой не разлей вода, при расставании тоска крепкой хваткой сжала сердце: а вдруг не дождётся? А потому, крепко обняв, посмотрел ей в глаза и прямо сказал:
– Любишь – дождёшься, разлюбишь – что ж, сердцу не прикажешь. Одно скажу: измену не прощу…
…В десантной «учебке» Егору досталось по полной. И хотя он никогда не считался хлюпиком и маменькиным сынком (и даже имел первый взрослый разряд по лыжным гонкам), очутившись в армии, окончательно убедился, что ВДВ – для самых сильных, упорных и выносливых. С трудностями помогали справиться частые письма из дома да дружеская поддержка товарищей по роте, которые были в той же шкуре, что и сам Егор.
К концу «учебки» стал курсант Озерков отличным заместителем командира разведвзвода. За трудолюбие, смекалку и добрый нрав парня в роте полюбили, и после окончания обучения комбатом было принято решение оставить его в постоянном сержантском составе роты.
Однако вскоре всё полетело кувырком…
…Новый 1995-й год ознаменовался трагическими событиями в Грозном. Наспех заваренная недальновидными политиками солёная от слёз, пота и крови каша стала остро попахивать пережжённым варевом. Когда же авантюра стала очевидной, за просчёт бездарных «стратегов» пришлось платить слишком высокой ценой и большой кровью. Началась Первая Чеченская война.
Младший сержант Озерков сидел без дела недолго, внезапно очутившись в охваченной огнём чеченской столице. Каждый дом, каждый камень и закоулок огрызались свинцовой тирадой. «Десантуру» бросили на подмогу захлебнувшимся в первые же дни уличных боев общевойсковикам. Растерянность, хаос, окружение, прорыв, мясорубка рукопашной…
Основные бои развернулись за железнодорожный вокзал, ставший для боевиков мощным оборонительным рубежом. Федеральные войска несли неисчислимые потери. В тех зимних боях девяносто пятого за омытый кровью грозненский вокзал были выбиты почти все командиры войскового звена – от взводных до комбатов. «Духи»-снайпера, засевшие в оконных проёмах и разных щелях, цинично били прямо в яркие кокарды офицеров, что заставило каждого быстро натянуть на головы безликие чёрные шапочки. Тогда снайпера стали бить всех подряд…
Больше всех досталось их «коллегам» по ту сторону окопов. Именно за ними, ребятами, замерзавшими в укрытиях в обнимку со снайперскими винтовками, боевики устраивали настоящую охоту. Практика ведения боевых действий в условиях многоэтажного города показала, что самым грозным оружием является снайперская винтовка Драгунова – так называемая эсвэдэшка, способная бесшумно, незаметно и быстро вывести из строя взвод, роту и даже батальон. Всё дело в количестве: чем больше снайперов, тем быстрее наступает победный исход боя. И пусть «калаши» поливают свинцовым дождём всё окрест, – слишком много от них шума и суеты. Снайперка бьёт редко и «в точку»: лёгкое нажатие пальца на послушный курок – и готова очередная зарубка на деревянном прикладе. Не случайно, что с первыми же выстрелами в Чечню потянулись привлеченные заокеанской «зеленью» прибалтийские чемпионки по стрельбе, прозванные с чьей-то легкой руки «белыми колготками». Какая тут совесть и мораль, если за пролитую кровь обещают пресловутые «баксы»! Поэтому и отношение к снайперам было адекватным: в плен их не брали…
Бои за Грозный на деле оказались настоящим кровавым месивом, своей жестокостью и беспощадным цинизмом порой доводившие до ступорного оцепенения. Только через неделю боёв свыкся Егор с мыслью, что отрезанные «духами» головы боевых товарищей нужно было собирать, а не отворачиваться, борясь с муторной тошнотой и головокружительной слабостью. И становилось совсем невмоготу, когда из глубоких глазниц на тебя немигающе смотрели мёртвые глаза убитого друга, с которым сутки-двое назад спина к спине сдерживал вражескую атаку…
Добрый и отзывчивый по натуре, однажды Егор поймал себя на мысли: в нём что-то изменилось. Нет, не сам он, а именно что-то в нём: то ли зачерствело, то ли окаменело. Незнакомое доселе чувство, дремавшее раньше где-то глубоко внутри, неожиданно пробудившись, оказалось востребованным в боевой обстановке. Он стал жесток, осторожен, беспощаден; желание выжить в бою заслонило собой жалость, сентиментальность и человеколюбие. Именно эти животные качества, данные человеку от рождения природой и тщательно маскируемые в обыденной жизни, – эти черты, как понял Егор, помогают выжить на войне.
Потому-то, вопреки смертоносному движению военного хаоса, Егор один из немногих продолжал оставаться в строю. Только ему, сержанту Озеркову, комбат доверял проведение сложной разведки, отправлял на ликвидацию «гнезда», а порой – и на опасный захват «языка». Вот где пригодились привитые в «учебке» навыки рукопашного боя: раз-два-три – и страшный в своей жестокости «дух» замирает, трусливо моргая глазами в ожидании последнего для него в этой жизни удара. «Аха, струхнул – значит, хороший будет «язык». Жить захочет – всё расскажет…»
Снайпером он стал случайно. Когда во второй раз отбивали здание вокзала, был наповал убит Толик Данжиев. Забайкальский бурят, «на гражданке», рассказывали, он без промаха бил соболя в глаз, не говоря уж о белке. На войне эти качества меткого стрелка пригодились как нигде. Но слишком высокий урон, нанесенный снайпером противнику, заставил «духов» вплотную заняться его поиском. Данжиев не ожидал, что боевики так озабочены его присутствием, поэтому, когда началась «охота», без труда вычислив двух снайперов, снял обоих, совсем не предполагая, что сам уже на мушке у третьего…
Его осиротевшую снайперку, которую мёртвый Толик, как невесту, продолжал прижимать к груди скрюченными пальцами, доверили Озеркову. В роте «драгуновка» была единственной.
В последнее время в Егоркином сердце надёжно поселилась месть. Он мстил за погибших друзей, за русые головы, одиноко лежавшие на битом асфальте, за убитых накануне ротного и комбата. Да, он изменился, но оставаться прежним не было никакой возможности. Он «снял» убийцу Толика уже через день. Но за этот несчастный день снайперша успела дел наворотить – будь здоров. Зато и сама наследила, торопясь, видимо, нахапать «зелени» на всю оставшуюся жизнь. Только зря старалась: погнавшись за лёгкой кровавой наживой, увлеклась и подставилась…
Сержант Озерков зарубок на прикладе винтовки не делал, потому как они, зарубки эти, навсегда оставались в нём, окончательно изматывая зачерствевшее, словно примороженное первым инеем, сердце. Но Егор верил – дай срок, и он отойдёт. А вот с сердечными зарубками сложнее: не привык вятский парнишка людей убивать, пусть и лютых врагов. А если и убивал, то не для зарубок: так требовали военные будни.
Война для Егора закончилась так же внезапно, как и началась. Они выбили «духов» из привокзальной диспетчерской, а когда туда прибыл слегка разомлевший и радостно-возбуждённый новый комбат, Егоркино сердце вновь сжала тоска: краем глаза парень заметил знакомый оптический блик в доме напротив. Инстинктивно подавшись вперед, он навалился на удивлённого комбата, и лишь потом всё его тело пронзил страшный по силе удар. Боли он не почувствовал.
…Едва отошли запоздалые майские заморозки, и оттаявшую землю забеленило прозрачными лепестками отцветшей душистой черёмухи, случилось невероятное: Наташка влюбилась. Неожиданно, самозабвенно и, что называется, вразнос.
Насколько она знала, ничего подобного у её подружек и близко не было. Да, влюблялись; да, крутили романы, дружили, целовались, порой доводя свои отношения чуть ли не до свадебного «горько!». Потом вдруг всё рушилось, и выяснялось, что бессонные ночи и страдания были всего лишь «глупым увлечением»; а тот, которого ещё совсем недавно называли умным и «не похожим на прочих», на самом деле оказывался не более чем тупицей и губошлёпом, каких ещё поискать!
У Наташки тоже был парень – Егор, с которым дружили со школы. Поначалу он просто доносил до дома её портфель; по дороге обычно долго болтали о том о сём – в общем, ни о чём. Любила ли она его? Вряд ли. Гораздо интересней был одноклассник Вовка Синицын – вихрастый мальчишка с глазами «в пол-лица», который не мог не нравиться. А если уж Вовка заговаривал, то не наслушаешься; любил, кстати, стихи поэтов Серебряного века, которые читал почти как Бродский – неспешно, нараспев, так и выбивая девичью слезу. Всем был хорош Вовка, но только с девчонками особо не водился, считая всю женскую половину этаким приложением к мужской. А потому большую часть времени проводил в библиотеке или в шахматном кружке.
– Не дозрел ещё наш Вовчик до серьёзного романа, – прыскали девчонки вслед Вовке, который, проходя мимо них с задумчивым лицом, как всегда, обдумывал очередной шахматный гамбит.
Егор, в отличие от болтливой Наташки, много не говорил. Он вообще больше молчал, хотя подружку свою понимал с полуслова: и когда приходилось ждать её после уроков, и на какой фильм следует брать билеты, и как лучше провести выходные. Постепенно рядом с ним Наташа стала чувствовать себя словно за каменной стеной. Озерков всегда был под рукой – как в школе, так и в свободное от занятий время. Егор, к слову, неплохо учился и даже помогал Наташе с домашними заданиями по алгебре и геометрии, с которыми у девушки были нелады.
И всё же любила ли она своего Егорку? Скорее, убеждала внутренне себя, привыкла. Как привыкают к повседневности или… к собственному отражению в зеркале.
И вот Егора забрали в армию. В отличие от большинства ребят, призванных вместе с ним и отметивших «провожанки» широко и лихо, он отнёсся к этому событию на удивление спокойно:
– Что за праздник такой? Обычное дело – отслужить и с честью вернуться…
В те дни Наташа с Егором были неразлучны; взявшись за руки, они подолгу гуляли, смеялись, да и, вообще, радовались жизни. Возвращались домой далеко за полночь, когда всё живое вокруг замирало. Лишь где-нибудь в прибрежном кустарнике у Вятки никак не мог угомониться местный виртуоз – соловей, бравший за душу заливистой трелью. Замолчит вроде, этак съёжится у воды, высматривая на ветках серую подружку, и вдруг, встрепенувшись, вновь засвистит-защёлкает, готовый тут же умереть в певческом экстазе.
Егор любил соловьёв. Ещё будучи мальчишкой, когда с ребятами ставил силки на всякую перелётную мелюзгу, соловьёв он жалел. А потому, передержав в руках почти всех пичуг – от синиц и снегирей до ястреба-кобчика, – не держал в руках лишь самой мелкой, серой птахи – соловья, к которому питал самую настоящую слабость. И даже не слабость, а искреннее удивление: как такая кроха, пожимал плечами Егор, способна издавать поистине божественные мелодии? Истинное чудо, подлинная загадка и подарок природы. А «подарок» обижать нельзя, считал мальчишка, разве что… слушать и восторгаться.
Именно под соловьиную трель Егор однажды, набравшись храбрости, признался Наташе в любви.
– А ты? – поинтересовался он у подруги. – Ты любишь меня?
– Да, люблю, – кивнула Наташка и жадно прильнула к его сухим губам.
Егорка ликовал! Ему было так легко и радостно, будто он вновь очутился в детстве, когда под Новый год мама доставала из русской печи праздничного ароматного гуся с хрустящей корочкой. В такие дни, сияя от счастья, Егор мечтал лишь об одном – чтобы эти радостные мгновения длились как можно дольше и, достигнув своего пика, не заканчивались никогда. Вот и в случае с девушкой, которой объяснился в любви, парень, убедившись в обоюдности своего чувства, наконец понял, что по-настоящему счастлив. И лишь где-то на донышке сознания он жадно ждал от судьбы нечто большего – того самого дня, когда Наташа станет окончательно его. И это непременно будет, ничуть не сомневался он: вот вернусь из армии – и…
– Когда приду, поженимся? – спросил как-то Егор девушку незадолго до отправки.
– Ишь, какой прыткий! Время покажет, – загадочно кивнула подруга. – Ты только вернись…
– Я обязательно вернусь, а вот ты дождись. Измену не…
– Опять заладил своё: «измену не прощу!», – перебила Егора Наташа. – Я разве подала повод, чтобы мне сто раз на день талдычить одно и то же?!
– Да нет, конечно. Просто я… слишком ревнивый. От отца это у меня, по наследству, так сказать.
– «По наследству», – передразнила его Наташа. – Ещё раз такое услышу, обижусь надолго и всерьёз, ясно?
– Ясно. Значит, будешь ждать?
– Буду, – ответила девушка. – Только возвращайся поскорее…
– Вернусь. А ты – пиши, ладно?..
– Ладно, ладно, – чмокнула его в нос Наташа.
Накануне расставания Егор был немногословен; больше болтала она – так, обо всём и ни о чём, лишь бы отвлечь друга от грустных мыслей. А Егор и в самом деле загрустил, словно предчувствуя, что слишком долгой окажется их разлука.
В день отправки, когда их выстроили на перроне, и уши резанули, помимо звуков «Прощания славянки», женские причитания, Егор, напрягшись всем телом, словно застыл. На миг вдруг показалось, что его оплакивают; потом, справившись с чувствами, закрутил головой, высматривая среди толпы родные силуэты матери и отца. Мама стояла с полными слёз глазами, но молодцом, держалась; отец был серьёзен. И в его грустных глазах сын прочёл строгое назидание: «Держись, сынок, не подведи фамилию. На таких, как Озерковы, вся Россия держится…»
Егор молча кивнул обоим, после чего заприметил на батиной щеке скупую слезу.
– Пиши, сынок! – крикнула мама, едва поезд тронулся. – Береги себя…
Он долго махал старенькой кепкой, пока старший вагона, молоденький лейтенант, не приказал всем покинуть тамбур и войти в глубь вагона. Занятые своими мыслями, ребята не сопротивлялись, один за другим исчезая в душном нутре плацкартного вагона.
Чем дальше поезд увозил от станции, тем сильнее стучало сердце. Егор выскользнул в противоположный тамбур, который, к счастью, оказался пуст (каждый, рассаживаясь, был занят тем, что занимал места для себя и товарища). «Отлично, никого, – радостно подумал Егор. – Теперь бы она не подвела…»
Наташка не подвела. Накануне они договорились, что ей ни к чему идти на вокзал. Она будет ждать состав на береговом откосе – там, недалеко от песчаной косы, где в последнее время длинными вечерами они любили гулять и слушать соловьёв. Наташка обещала ждать, и как только появится поезд, будет махать тем голубым, в цветочек, платком, что подарил ей Егор за два дня до этого.
Нет, Наташа не подвела. Именно там, у косогора, его зоркий взгляд выхватил в нежной майской зелени мелькавшее голубое пятнышко. Лица девушки он не видел, слишком далеко мелькал ситец. Но всё же хорошо расслышал вынырнувший откуда-то издалека любимый голос:
– Возвращайся скорее! Я буду ждать тебя, Егорка-а-а-а…
Он сильнее рванул дверную ручку, попытавшись распахнуть дверь. Тщетно. Тамбурная тяжёлая дверь была намертво закрыта. Егору ничего не оставалось, как начать яростно махать руками, стараясь привлечь девичье внимание. И ему на миг показалось, что дорогое пятнышко вдали затрепыхалось сильнее.
В груди тоскливо задавило, глаза стали липкими. Но, не поддавшись предательской слабости, он тряхнул головой и упрямо прошептал:
– Я вернусь, Наташ, обязательно вернусь…
Их переписка длилась больше года. Но на восемь последних писем девушки не пришло ни одного ответа. И хотя Наташа знала, что её парня не так давно перебросили служить куда-то на Северный Кавказ, неотвеченные письма вызывали неподдельную тревогу и даже обиду.
Конечно, можно было справиться у родителей Егора – уж они-то наверняка знали, где он и что с ним. Но её отношения с матерью парня не сложились с самого начала. Марья Николаевна почему-то считала, что девушка сына «ещё та стрекоза» и «совсем не пара» Егорушке, у которого за плечами был лесотехнический техникум. Да и вообще, учиться надо, поучала она сына, а не «по девкам бегать».
Если б всё по уму, то следовало, наплевав на предрассудки и обидную «стрекозу», пойти к родителям Егора и обо всём их расспросить (ведь ноги не раз приносили её прямо к Егоркиному дому). Однако что-то отпугивало – то ли внутренний страх и неуверенность, то ли что-то ещё… Ну вот, спросят, а тебе-то что, кокетка, нужно? Какое дело до Егора? Да мы с ним, Марья Николаевна, дружим. Ага, дружите! Да у тебя, стрекоза, только одно на уме – разные завлекалочки! А Егорке, небось, ох как тяжело там, в армии-то, не до танцев-обжиманцев. Отслужит – дальше пойдёт учиться, уже решено, в сельхозакадемию, на ветеринарного врача…
И как только Наташа представляла себе подобную сцену, так, раскрасневшись, тут же уходила куда подальше.
А тут ещё подружка Катюха подлила масла в огонь:
– Не пишет совсем? У них это бывает, первый знак, так сказать…
– Какой знак? – насторожилась Наташа.
– Ну, тот и знак, что… финита ля комедия. Сперва на письма не отвечает, потом и вовсе знать не желает. Вернётся, на тебя и вовсе смотреть не станет. Говорю же, первый знак. Он ведь тебе не муж, не суженый какой…
Весь город знал, как жестоко обошёлся с Катькой её бывший парень Мишка Кузнецов. До армии они дружили несколько лет, дело уже к свадьбе шло. Но Мишку призвали одним из первых, и о свадьбе оставалось только мечтать. Катька тогда по нему все слёзы выплакала, писала чуть ли не по два письма на день. Она – ему, он – ей. В отпуск, правда, не приезжал; «из-за злого командира», говорила всем озадаченная девчонка. И продолжала отчаянно писать.
Где-то через полтора года Мишкины письма постепенно сошли на нет. А по весне и сам приехал. В военной форме, возмужавший и, как потом рассказывали девки, «весь в медалях, значках и при акселях». Но не «медальки» разбили Катькину жизнь, а другая, которую парень привёз с собой из далёкого Челябинска. Люблю, сказал тогда матери (отца у Мишки не было), буду жениться…
Через месяц сыграли свадьбу. Стоит ли говорить, что бедная Катюха готова была в омут головой? В общем, досталось ей тогда здорово, даже лечилась то ли с неврозом, то ли с другой какой нервной хворью. С ней, любовью-то, нужно осторожно, позже не раз гова́ривала подругам Катька, потому как любовь зла: мягко стелет, а затем так ударит, что не каждый и очухается…
И всё же она «очухалась», стала встречаться с другим парнем (неким Саней, бывшим Мишкиным дружком) и, казалось, совсем забыла о былых отношениях с Мишкой. Но так лишь казалось. Катя ничего не забыла (а разве забудешь?) и, проходя мимо дома бывшего возлюбленного, хотя и ускоряла шаги, но от заветных окон взгляд отвести не могла. Больно это, когда предают…
А теперь влюбилась и Наташа. Внезапно, со страданиями и слезами…
Произошло это на свадьбе всё той же Кати. Торжество проходило в престижном ресторане «Космос», где четверть века назад гуляли Катины отец с матерью. Оглянуться не успели, как их дочурка стала невестой. Народу собралось прилично, а по местным меркам даже много – человек с полсотни; одних только тёток, дядек, свояков да золовок насобиралось десятка два. Но для прижимистых родителей невесты (не зря же прозвали «куркулями») гораздо важнее были не родственнички, а именно гости – зажиточные парочки, которые «не с деньгами, так с положением», как гордо шептала всем мать новобрачной.
Наташа оказалась на свадьбе почти случайно. Во-первых, из бывших подруг Катя принципиально никого не пригласила (мало ли, наболтают чего лишнего про загубленную прежним ухажёром безответную любовь); а во-вторых, из этих самых подруг у неё и осталась-то всего одна – Наташа. Ну хоть одна подруга, согласитесь, должна присутствовать на таком мероприятии?
Свадьба завсегда дело тонкое и, если честно, непредвиденное. Как та драка: известно начало, а вот чем закончится, не скажет самая завзятая сваха – то ли плясками и разудалыми песнями-частушками, то ли яростным мордобоем. На то и свадьба, чтобы люди потом дольше вспоминали. Тем не менее праздник, как отметила Наташа, удался; по крайней мере, изрядно буйных не было. Но именно такая «чинность и мирность» ей и показалась несколько скучноватой. Тем более что кругом веселились одни женатые – как в той песне: «все подружки по парам в тишине разбрелися…» В общем, все пребывали, что называется, «при своих». Отсюда и скука. Какое веселье гулять с женатыми?
Хотя одна пара обратила-таки цепкое девичье внимание. Это были молодые муж с женой, сидевшие особняком, недалеко от неё. Оба красивые и шикарно одетые: у мужчины костюм явно «от кутюр», в ушах женщины сверкали крупные бриллианты. Однако эти двое не выглядели радостными и счастливыми. Оба молчали, тупо ковыряясь в своих тарелках, не в силах повернуть в сторону другого голову. Удивительно, они сидели рядом, но даже издали было заметно, что находились в это время будто по разные стороны зала. Достаточно было простого взгляда, чтобы понять: это чужие друг другу люди. Когда веселилась дамочка, мужчина задумчиво смотрел в тарелку; если вдруг на его лице появлялось нечто вроде улыбки, «половинка», сидевшая рядом, выглядела непроницаемым соляным столпом. Сказать, что этим двоим здесь было скучно или неуютно, значит, было бы просто промолчать. Скорее – невмоготу сидеть рядом, разговаривать и даже смотреть туда, где взгляд одного из них мог пересечься с ненавистными глазами другого.
– Кто такие? – спросила (скорее из любопытства) Наташа у сидевшего рядом одного из родственников невесты. – Какая-то странная парочка…
– Согласен, странная, – кивнул тот. – Сколь их помню, как кошка с собакой. Привёз кралю откуда-то с Прибалтики. Я б с такой женой и дня не прожил – ведьма, а не баба! Не поверишь, всё денег не хватает, хотя живёт как сыр в масле: и машина, и дача, и, как говорится, полны закрома́. А ей всё мало. Зато вот ребёнка завести никак не могут. От её злости, видать, ничего не получается. А Валерка-то парень ничего, нашенский; мне по жене каким-то двоюродным племяшом, что ли, приходится. В своё время работал на местном заводе, а потом из начальников отдела подался в коммерсанты. И ведь опять из-за жены – денег подавай! Сейчас и деньги есть, а счастья – никакого. Вишь, жёнка-то – что собака цепная. Подойди-ка к ней – так облает, мало не покажется. Не-е, я б такую давно взашей прогнал…
Интересно, что, в отличие от большинства гостей, даривших молодожёнам тостеры-ростеры, мясорубки-соковыжималки и прочую дешёвую электротехнику, когда очередь дошла до странной парочки, каждый из них долго не разглагольствовал. Сначала пару слов сказала она, потом – глава семьи, который после остроумного спича о зловредной тёще и такой же свекрови, вызвавшего всеобщий хохот, достал из внутреннего кармана пухлый конверт и вручил жениху. (Когда Наталья встретилась взглядом с невестой, Катя ей незаметно подмигнула: вот с такими, мол, и нужно знаться!)
Ближе к окончанию веселья этот самый Валерий пригласил Наталью на танец. Произошло это опять же случайно. Как она заметила краешком глаза, между супругами случилась почти незаметная для посторонних перепалка. Мужчина, не проронивший, кстати, ни слова, тяжёлым взглядом буравил недовольное лицо своей спутницы, которая ему что-то зло выговаривала. Поняв, что гневная тирада супруги начинает привлекать любопытные взоры окружающих, мужчина встал и, быстро скользнув взглядом вокруг себя, решительной поступью направился в сторону Натальи.
– Разрешите на танец? – обратился он к удивлённой девушке.
Не привыкшая жеманиться, та встала и, галантно присев, положила свою ладонь в его. А потом… вошла в новую жизнь, о начале которой ещё минуту назад не догадывались ни он, ни она.
От незнакомца пахло хорошим парфюмом (кажется, «Oui» [1], отметила она про себя), дорогими сигаретами и чем-то едва уловимым – скорее, тем самым, что и должно исходить от ухоженного и холёного мужчины. Хотя, одёрнула она себя, её мало волнует этот избалованный жизнью мужик. Скорее любопытно: как и почему дошёл «до жизни такой»? Может, и не стоит юлить, а вот так, со свойственной ей напористостью, сейчас взять да спросить? Девушка уже открыла было рот, но кавалер оказался проворнее её:
– Как звать-величать? – спросил он.
– А вас?
– Вот так, да? Хорошо, меня зовут Валерий. Бывший заводской работяга, нынешний коммерсант…
– Бывшая ученица соседней школы, абитуриентка-неудачница и секретарь в местной администрации Наталья…
– Очень приятно, Наталья, – улыбнулся её новый знакомый. – А каково, интересно, Наташа, ваше, так сказать, жизненное кредо?
– Смысл жизни, что ли? – быстро среагировала девушка.
– Именно так, – утвердительно кивнул Валерий. – Вообще, мне начинает нравиться, что вы всё схватываете на лету. Итак, ваше жизненное кредо?
– Если честно, вопрос совсем не праздный, а очень даже серьёзный. Тем не менее я готова на него ответить. Правда, не сейчас… вальс заканчивается.
Музыка оборвалась, все потянулись к столикам.
– Надеюсь, мы продолжим беседу? – негромко спросил Валерий, когда они очутились у столика Натальи. Та лишь пожала плечами.
Они станцевали вместе ещё пару раз. И за эти несколько минут Наташа так расположилась к своему новому знакомому, что выложила ему почти всё. Рассказала, например, о своём «жизненном кредо» – стать хорошей женой, не забыв добавить, что для этого ещё нужно найти хорошего мужа. И чтобы они с мужем друг в друге души не чаяли, пройдя по жизни крепко держась за руки. А если бы ещё родить двух детей (обязательно девочку и мальчика!), то жизнь, наверное, удалась бы на все сто. И они, дети, обязательно будут, совсем уж разоткровенничалась Наташка, если они с будущим супругом станут одним целым, этаким единым организмом…
– Чтобы заиметь мужа, для начала нужно обзавестись хотя бы женихом, – засмеялся Валерий.
– А у меня уже есть, – выпалила Наташа. – Правда, пока ещё не жених, но хороший парень, с которым мы уже несколько лет…
– Ты его любишь? – вдруг перейдя на «ты», серьёзно посмотрел на девушку мужчина.
Его умные серые глаза, не мигая, глядели в девичьи зрачки; эти глаза будто гипнотизировали Наталью.
– Да, люблю, – медленно ответила та, вдруг зардевшись. – Только… только что-то давно от него нет писем из армии.
Внезапно Наталье стало так тоскливо и одиноко, что она поймала себя на мысли, ещё немного и по-настоящему расплачется. Да и вообще, вдруг нахмурившись, подумала девушка, с какой это стати я должна выворачивать душу перед первым встречным-поперечным? Кто он такой, этот щёголь, в конце-то концов?! Что ему до моей жизни?!
– Я хочу на место, за свой столик, – вдруг подняла она на Валерия покрасневшие глаза.
– Что? – не понял тот.
– Хочу за столик, – как отрезала Наташа и первой направилась к столу.
Сбитый с толку кавалер медленно шёл сзади; потом, усадив Наталью, он вернулся к себе. Едва Валерий присел, как его благоверная, гневно сверкнув глазами, резко встала и, коротко бросив какую-то фразу в сторону ничего не понимающего мужа, быстро направилась к выходу. Валерий не двинулся с места и вновь принял свою излюбленную (по крайней мере, в этот вечер) позу, тупо уставившись в тарелку. Никто и не заметил внезапной ссоры за соседним столиком – разве что Наталья. Праздник продолжался; веселье шло своим чередом…
Поздним вечером Валерий проводил Наталью до её дома. Уж как-то так получилось. Когда все «разбежались по парам», мужчина предложил проводить девушку до дома. Та согласилась.
«Почему бы и нет? – мелькнуло в голове. – Не замужняя, молодая, красивая. Егор мне только парень, которого я то ли люблю, то ли… А любила ли вообще? Так что ничего зазорного в том, что меня проводит другой мужчина, думаю, не будет…»
Пока шли, она молчала, дав возможность выговориться своему попутчику. К чести последнего, тот ни словом не обмолвился о жене и ссоре, произошедшей между супругами. Разговаривали, по сути, ни о чём, не касаясь личностей.
– Так, говоришь, хотела бы стать хорошей женой? – спросил на прощание Валерий.
– Ага, женой, – просто ответила Наташа. – И чтоб двое детей…
– А моей женой смогла бы стать? – вновь серьёзным взглядом впился он в Наташины глаза. – Хорошей женой?
– Не поздновато? У тебя же есть жена, – теперь уже она, перейдя на «ты», осадила холодком дерзкого знакомого.
– Ошибся, Наташа. Бывает. Сильно ошибся…
Потом, подавшись вперёд, Валерий крепко обнял Наталью и ошеломил долгим поцелуем в губы.
Губы были жаркие и с горьковатым привкусом. ««Мальборо», – мелькнуло в голове. – Какая я дура-а-а…»
…Он очнулся лишь на десятые сутки. Врачи только пожимали плечами, не понимая, как вообще выжил этот солдатик. Пуля снайперши, раздробив рёбра и изувечив левое лёгкое, задела сердечную сорочку и ушла навылет через спину, проскользнув в межреберье. Обычно от такого умирают в первые минуты, прямо на месте – от болевого шока и обильного кровотечения. Выживают единицы – те, кому повезёт с быстрой эвакуацией.
Егору с эвакуацией повезло. Не повезло в другом: где-то на полпути к медицинскому батальону колонна из двух санитарных «таблеток» наткнулась на фугас. Рвануло так, что первую машину разорвало в клочья, а во второй, где и находился раненый Озерков, в живых остался только он – уже почти истекший кровью и еле дышавший. Подбежавшие солдаты в суете из документов взяли те, что валялись поблизости и чудом не сгорели. В результате Егор оказался, по сути, безо всего.
Нет, в полевой, а потом и в окружной госпиталь в Ростове его доставили с документами. Другое дело, что военный билет, медицинская книжка и все прочие справки были не его. Так десантник старший сержант Озерков стал сержантом-танкистом Назаровым, которому на самом деле не суждено было оказаться на операционном столе.
Пока медики боролись со смертью, тяжёлая машина неповоротливой военно-бюрократической канцелярии занималась поиском пропавших. Безымянных мальчишеских тел, разбросанных по всему Кавказу в виде оторванных рук-ног-голов, либо просто неопознанных, в одном только морге Ростовского госпиталя скопилось столько, что пришлось заказывать огромные рефрижераторы. И это лишь доставленная туда «вершинка айсберга», показывавшая официальные потери. Сколько оказалось ребят в плену или затерянных по ошибке, не знал, пожалуй, никто.
На какое-то время Егора потеряли. И по месту службы, и дома – везде. Так продолжалось бы и дальше, если бы месяца через три он не начал… разыскивать себя сам, постепенно возвращая к жизни старшего сержанта Озеркова Егора Михайловича, русского, уроженца города Вятска Кировской области. Сначала с трудом, потом всё увереннее он стал самостоятельно писать письма – домой, любимой девушке, друзьям и сослуживцам.
Первое письмо из госпиталя родители потерянного солдата получили где-то в конце весны, когда уже отчаялись увидеть сына живым. Начиная с января, Михаил Иванович и Марья Николаевна Озерковы жили, что называется, как на вулкане. В последнем письме, отправленном ещё зимой, их сын писал, что его перебросили на Северный Кавказ, в район Грозного. И больше о нём не было ни слуху ни духу.
А что там происходило в те дни, было понятно уже по одним телевизионным сводкам: война! Кровавая, безжалостная, на уничтожение – какой и бывает настоящая война, разменной монетой в которой становятся сотни и тысячи мальчишеских жизней. В Грозном творилось что-то несусветное. На фоне горящих домов, взрывов и выстрелов метались солдатские тени. Танкисты сгорали заживо в стальных машинах; пехота выбивалась засевшими в развалинах снайперами; десантура гибла при очередном прорыве, выручая и тех, и других, оказавшихся в смертельном мешке. Самые ожесточённые бои развернулись в районе грозненского железнодорожного вокзала. И вот где-то в этом кровавом месиве воевал их Егор.
Когда однажды по телевизору передавали репортаж из горящего Грозного, мать и отец, словно по команде, прильнули к экрану: в глубине кадра, сбоку от дававшего интервью офицера, на них вдруг глянуло лицо сына. Утомлённый и чумазый, он был всё-таки жив! Но в душу родителям запали Егоркины глаза: взгляд их сына, всегда такой весёлый и жизнерадостный, теперь был до неузнаваемости серьёзным. Таким становится взгляд человека, находящегося в смертельной опасности. И тот факт, что этот солдатик с винтовкой, находившийся на переднем крае, их Егорка, лишил отца с матерью сна.
Через день после увиденного у Марьи Николаевны случился гипертонический криз. Да и Михаил Иванович чувствовал себя не лучше. Другое дело, что он не мог себе позволить свалиться в постель – кто же тогда присмотрит за женой?
А потом сын пропал. Не обрадовали и в районном военкомате, сообщив, что Егор Озерков «без вести пропал где-то в Грозном». После этого родители солдата совсем сникли. Хотя военком, старый афганец майор Габидуллин, как мог старался поддержать павших духом Озерковых.
– Надежда умирает последней, – сказал он, пожимая руку Озеркову-старшему. – Мы его будем искать. Уже сегодня отправил письмо в областной военкомат, находимся в тесной связи с комитетом солдатских матерей. Подключим все связи, выйдем на любые инстанции, но парня найдём. Сколь помню, наши, вятские, всегда находились. Будем надеяться, обойдётся…
Обошлось. Лёгкой оказалась рука у военкома. Можно только догадываться, сколько слёз было пролито над тем сыновьим письмом, полученным дома родителями. Хотя Егор был предельно краток: жив, выздоравливаю после ранения, обещают выписать. И просил сильно не волноваться, всё позади, скоро приедет домой.
Отец с матерью быстро оформили отпуска и уже через неделю были в Москве, в Главном военном госпитале; чуть меньше суток езды – и уже в столице. Людская сутолока, теснота, метро, трамваи, троллейбусы, автомобильные «пробки»… «Как люди живут?! Впору помешаться! – дивились Озерковы. – Нет, у нас всяко лучше – тихо, всё ладком, упорядоченно, в общем – чин чином…»
В госпитальной проходной на них уже были выписаны пропуска. Вот и хирургический корпус, нужный этаж, палата…
– Сыно-о-ок!!!
Слёзы бисеринками заскользили по материнским щекам. Отец крепился, но и он чувствовал, что долго не продержится. А потому, взяв, что называется, быка за рога, подошёл ближе к закутанному в бинты сыну и нарочито твёрдо произнёс:
– Здравствуй, Егорка… Ну, ты молодца, сынок…
– Папка, – первое, что прошептал при виде отца Егор. – Да ты у меня, оказывается, совсем белый…
Егор вернулся домой в конце лета – в те самые тёплые денёчки, когда лето, перемахнув Ильин день, постепенно, по чуть-чуть, отдаёт пальму первенства сонной, златокудрой осени.
Всю дорогу он мучился одной и той же мыслью о Наташе, хотя, трясясь в поезде, думать о плохом не хотелось. Вспоминал армейские будни, своих товарищей, погибшего комбата. Как-то там его ребята? Была б его воля, прямо сейчас, на очередной станции, пересел бы в вагон, идущий в обратном направлении, и помчался к ним…
Ещё год назад всё было не так: тихо и спокойно. Главное – стабильно. И вдруг – на́ тебе, война! А с другой стороны, размышлял он, кавказская война какая-то круглобокая: она есть – и вроде как её нет. Сколько людей ехали с ним в этом вагоне, и хоть бы кто слово о Чечне – всё больше о ценах, инфляции, дороговизне и собственной работе. Как будто нет никакой войны, сотен мальчишеских трупов и угрозы скатывания в широкомасштабную бойню. Какой-то закамуфлированной получается война. А вот для Егора она останется глубокой зарубкой – этаким шрамом на всю оставшуюся жизнь. На теле и в душе. А также в сердцах его отца с матерью.
Чем ближе сибирский поезд, натуженно гудя, подъезжал к Вятску, тем сильнее стучало в израненной груди: наружу выползали думы о Наташе, которая, как он помнил, когда-то обещала ждать. Родители в своих письмах о ней ничего не рассказывали, ссылаясь на то, что у них и раньше с девушкой не было хороших отношений. Работает сейчас в городской администрации, писали они, учится где-то заочно. И хоть бы раз к ним зашла, сетовала мать.
Но то родители. Зато дружок школьный, Сергуня, оказался более откровенен. В своих письмах другу он всегда рассказывал ему о всех домашних новостях. Написал, к примеру, что Жэка Городилов из параллельного класса, который, как и Егор, пошёл служить в ВДВ, погиб в чеченском Гудермесе; Танька Сергеева вышла замуж и, к удивлению мужа-выпивохи, родила ему двойню; Шурик, самый мелкий пацан из класса, дабы ускользнуть от армии, уехал в Америку да так там и остался. Скорее всего, писал Сергуня, Шурик подвизается среди нелегалов, дурачок.
Написал и о Наташе. Осторожненько так, но вполне доходчиво. Легкомысленной, мол, оказалась Наташка и, позарившись на красивую и «упакованную» жизнь, закрутила роман с каким-то «новым русским», разбив у того семью и, надо думать, Егоркино сердце. Да ну их, Егор, этих девок, утешал Сергуня. Ты, главное, писал он, возвращайся живым-здоровым, а уж всяких надек и танек на наш век хватит. В одном ошибался Сергуня: в «надьках» и «таньках», которых якобы на их век хватит, Егор не нуждался. Ему достаточно было бы одной-единственной – Наташи.
Потому-то всё чаще и чаще Егор чувствовал нечто вроде страха, почти панического ужаса от той правды, которую ему предстояло узнать. И, надо думать, правда эта, которой паренёк страшился сейчас больше всего на свете, будет не из лёгких. Главное, убеждал себя он, следует приготовиться к самому худшему, неотвратимому, чтобы, приняв удар по-мужски, не раскиснуть и не поддаться излишним сантиментам. Но для начала нужно было увидеть Наташу, заглянуть ей в глаза. Может статься, и говорить-то не придётся – глаза сами всё расскажут…
За те долгие месяцы, проведённые Егором вдали от родного дома, в Вятске многое изменилось. Изменился не столько сам город, сколько люди. До чеченской войны, из пекла которой старший сержант Озерков вышел едва живой, здесь, казалось, никому не было дела. Разве что солдатским матерям, отправлявшим сыновей на форменную бойню. Мысли остальных были заняты совсем другим: «баксы», «деревянные», проценты, строительство дач, покупка иномарок, пригоняемых откуда-то «из-за бугра». Страна активно торговала – покупала, продавала и меняла. Отцы-демократы, ловко обмишуривая собственный народ, ратовали за пресловутую приватизацию, хотя уже всё давно было «прихватизировано».
Егор только диву давался разительным переменам в обществе. Дивиться же было чему. Так, после «прихватизации» (народное словцо!) трёх городских детсадиков (в один из которых, кстати, когда-то водили и его) в их стенах выросли коммерческие банки – один самостоятельный и два, что покрупнее, филиалы областных монстров. Гуляя по улицам родного города, он их тоже не узнавал. Вот здесь, на улице Луговой, когда-то были детские ясли, теперь – частный магазинчик; на углу Ленина и Урицкого, где находилась лыжная база для подростков, появилась кооперативная лавка; на месте хоккейной коробки – два торговых ларька; баскетбольная площадка разбита в хлам…
С улиц исчез детский смех; пацаны, с остервенением жуя заграничную жвачку, совсем забросили футбол; куда-то исчезли молодые мамаши с детскими колясками. Некогда, видать, стало рожать, играть, веселиться, да и просто жить. Деньги, деньги, деньги… Все кинулись хорошо жить.
Родной Вятск превратился в одну торговую палатку. Всюду сновала спекулянтская сволочь, называвшая себя важно «коммерсантами»; всякого рода лотошники и менялы с потными руками и скользкими глазами занимались открытым грабежом. Железнодорожный вокзал и речную пристань оккупировали так называемые «челноки» – невесть откуда появившиеся деляги, завалившие всё и вся дешёвым турецко-китайским контрафактным ширпотребом.
Деньги, деньги, деньги… Казалось, все сошли с ума и от одного только звука «бакс» чуть ли не теряли человеческое обличье. «Обогащайтесь!» – кричал, будто одурев, телевизор, рассказывавший о том, как чиновники разбазаривают захлёбывающуюся кровью страну направо и налево.
Пока государственная верхушка обогащалась, «прихватизируя» самые лакомые куски от когда-то жирного пирога под названием «Советский Союз», за кусочки поменьше шла отчаянная драка на всей территории бывшей социалистической Империи. Страх и насилие стали нормой жизни «обретшего свободу» народа. Бойня развернулась не только на Кавказе: страну захлестнул бандитизм.
Егор с болью смотрел на любимый Вятск. Единственный в городе завод, и тот приказал долго жить: признаки жизни подавали лишь несколько когда-то мощных цехов. Дикий капитализм изменил приветливых когда-то земляков, превратив их в замкнутых и отчаявшихся людей, этаких себе на уме индивидуумов. Сильнодействующий яд купи-продайства, казалось, сковывал волю и мысли, подчиняя навязанному из-за океана правилу капиталистического бытия.
Сильно изменились и многие из Егоркиных знакомых; а кое-кого из одноклассников он вообще едва узнавал. Нет, они были всё те же – красивые, цветущие, энергичные. Изменились лица этих ещё вчера таких открытых и добрых ребят, которым, бывало, только свистни, и они за тебя свернули бы горы (как-никак – одноклассники!). Теперь же эти лица вдруг потеряли душевную теплоту и искренность, и сквозь маски высокомерного равнодушия, слегка прикрытого дежурными улыбками, выдавался неприкрытый цинизм вперемежку с огромным, поистине необузданным желанием разбогатеть. Самое страшное, что в глазах когда-то хороших людей появилось даже нечто пострашнее простого желания разбогатеть – в них навсегда поселилась ненасытная алчность.
«Обогащайтесь!» – вновь и вновь неслось из телевизора. И люди бросились обогащаться. В этой битве за «светлое и богатое будущее» их не смущали ни страдания окружающих, на слёзы, ни кровь. В стране громыхнула Великая Криминальная война…
Нужно было продолжать жить. Ему необходим был, как он сам называл, «реабилитационный период» – время для того, чтобы прийти в себя духовно и физически. А ещё… всё расставить по полочкам в личной жизни. Последнее пугало больше всего. О чём говорить?! Ведь, если верить товарищу, его девушка уже давно нашла того, с которым пытается устроить свою личную жизнь – жизнь без него. И это особенно удручало.
«Как она могла так быстро всё позабыть? – мучился вчерашний солдат. – Ведь я же помню всё до мельчайших подробностей – и поцелуи, и её глаза, и пышные волосы… И даже соловьёв… А что запомнила она? Неужели отныне я для Наташки пустое место? Впору сойти с ума…»
Но для начала необходимо было обрести прежнюю форму и былую физическую силу, которую за время «болтания по госпиталям» совсем растерял. Так не пойдёт, брат, корил себя Егор.
Несмотря на то что местный завод практически прикрыли, заводской спортзал продолжал функционировать исправно, держась на плаву за счёт сдаваемых в аренду помещений. Присмотрев подходящий зал, он познакомился там с ребятами (хотя особенно знакомиться ни с кем не пришлось – в маленьком городке шапочно знаешь почти каждого), и в разговоре с одним из руководителей выяснилось, что в спортзал срочно требуется тренер по рукопашному бою.
– Меня возьмёте? – с ходу спросил его Егор. – Имеется боевой опыт. Правда, если только месяца через полтора, необходимо обрести форму.
– В стойке против ножа долго продержишься? – усомнился тренер.
– Можно попробовать, для начала – с деревяшкой… Хотя не против, если и со сталью…
Минут через десять радостный тренер вынес вердикт:
– О’кей, парень, берём! Но сразу предупреждаю: контингент у нас, так сказать, специфический. А потому и отношение потребуется особое. Впрочем, сам всё увидишь. Зато главный «плюс» – хорошая зарплата. Согласись, для дембеля не самое последнее дело…
Так в один день был решён вопрос и с работой, и с «реабилитацией». А вот с личной жизнью всё оставалось в подвешенном состоянии.
После встречи с Валерием Егор Озерков стал для Наташи не чем иным, как «перевёрнутой страницей», этаким прошедшим этапом жизни, который, видимо, ей необходимо было пройти. И она его прошла. Правда, не совсем красиво, но прошла. Когда-то кричала «люблю!», строила планы на будущее с этим самым Озерковым и даже какое-то время писала ему в армию нежные письма. Но теперь всё это в прошлом – с тех самых пор, когда в её жизни появился Валерий.
Конечно, Валерка сильно отличался от безусого Егорки. Даже целовался решительно и умело, подчиняя женщину своей стальной воле. Нравилась девушке и его решительность. Сказал разведусь – и вскоре развёлся. Обещал жениться, значит, была уверена Наташа, женится. Достаточно того, что она теперь живёт в его шикарном загородном особняке, ездит на собственной иномарке, да и вообще, жизнью вполне довольна. По крайней мере – сейчас, когда рядом её Валерий. А Егор… Ну, дружили, слушали пташек до утра, целовались. И что с того? Смешно, право…
Хотя где-то в глубине женской души колыхалось нечто тягостное, порой железной хваткой сжимавшее горло. От кого-то Наташа слыхала, что именно такими бывают муки совести.
Рассказывая о своих терзаниях подруге, однажды она не сдержалась:
– Ничего не пойму, о каких муках совести можно говорить, если у меня с Егором, по сути, ничего не было, не говоря уж о каких-то обязательствах? Никаких, Кать, понимаешь?
– Не совсем, – не согласилась с ней Катя. – Ты же его в армию провожала, а теперь говоришь, ничего не знаю – моя хата с краю…
– Но ведь так и есть!
– Так – да не так. Ты что, не могла ему пару строк черкнуть, когда узнала, что парень в госпитале раненый лежит?
– Вот это как раз и не даёт мне покоя, – сникла собеседница. – Именно это, Кать, именно это… Ведь в то время в моей жизни уже появился Валерий…
– Тем более нужно было написать, поддержать парня в трудную минуту. Чего тебе стоило-то? – продолжала та бередить рану. – Ему, может, всего-то две строчки и нужно было, чтоб бороться дальше, а ты…
– Тварь я – это хочешь сказать? Продажная тварь, да?
– В данном случае, уж извини, попала в точку, – смело заявила подруга. – И ты сама это знаешь…
– Я на тебя даже не сержусь, – тихо ответила Наташа. – Просто ты назвала вещи своими именами. И по отношению к Егору так оно и есть. Да, я тварь! Только объясни мне тогда, такой низкой и продажной твари, как я могла писать одному, если уже любила другого? Объясни мне, пожалуйста, замужняя женщина, вся такая честная и высоконравственная…
– Знаешь, ничего я тебе объяснять не стану… Одно скажу: я своему парню, пусть даже и бывшему, обязательно бы протянула руку помощи. А ты… Ты…
– Да знаю, знаю я, кто есть! – прекратила разговор Наташа. – Ты мне уже об этом сказала. И это… увидишь Егора, скажи, чтоб меня не искал. Мне нечего ему сказать.
– Увижу – передам…
– Прощай…
– Гуд бай…
…Этой зимой в Рысьей Пади стало безлюдно. После того как старик Авдеич, лучший охотовед здешних мест, покинул урочище, его хибарку замело аж под конёк, не говоря уж о нескольких полуразрушенных домишках – последнем напоминании о когда-то зажиточных Озерках.
Было время (как раз перед Великой Отечественной), когда молодёжь валила сюда гуртом – уж слишком хорошим местом считались Озерки. И то сказать, Вятка недалече, кругом великолепный сосняк, до больших дорог ехать и ехать… Глушь да благодать. Река здесь делает резкий поворот, образуя крутой кряж, заросший столетними соснами. Но даже не это всегда влекло сюда дальних странников. То ли по причине природной аномалии, то ли из-за крутизны вятского изгиба, но не было в этих краях на десятки вёрст выше и ниже вдоль по Реке более тихого места. Среди разбросанных у кряжской стены светлых песчаных кос не услышишь, бывало, ни ветряных задуваний, ни всплеска встревоженных волн, ни даже обычного на Вятке гомона чаек – тишина правит балом у Кряжа близ Рысьей Пади. Этакая Русь Изначальная по-вятски на фоне неземного покоя.
Потому-то сюда и тянулись молодожёны. Зачем строить хутор где-нибудь в поле или перелеске (а на правой стороне Вятки всюду одно и то же – поля да перелески), если, переплыв Реку, можно среди лесов отстроиться. А леса на левобережье – всюду, до самой Рысьей Пади и дальше. Вот и разрослись хутора вокруг Озерков, как опята у пня. Перед войной здесь сильные хозяйства были; все тридцать дворов – зажиточные и добротные.
В старообрядческой деревне Озерки люди жили хорошо – дружно и чинно. Как рассказывали старики, пройдёшь, бывало, от одного конца деревни до другого – ни одного пьяного, ни бранного слова. У каждого встречного глаза светлые, чистые, одухотворённые. Будто младенческие. Только от детских их отличали скрытые в прищуре глубокий ум да житейская смекалка.
Но если вдруг какой из хозяев зашалит-загуляет, а то и вовсе ударится в беспробудный загул, выкрикивая для крепости речи бранные словечки, для такого имелся свой укорот. Для начала местный актив отправлял к «загуляю» мальчонку-посыльного с требованием явиться к озерковскому старосте, якобы для беседы. Как правило, такому нерадивцу давалось денька два «для опохмелу», но чтоб к старосте прибыл «как штык». Обычно «штык» являлся вовремя, будучи «терёзв как стёклышко», с понуро-виноватым выражением на опухшем лица.
Вызов к старосте был для озерковцев всё равно что повестка в суд. Ещё не входя в старостин дом, провинившийся знал: помимо главы дома, там будут самые именитые местные мужики – этакие присяжные поверенные, которым и суждено будет вывести «смутьяна» на чистую воду. А уж те были строги. Крепкие в вере, честные в помыслах и чистые на руку, они редкий раз вызывали дважды. Беседовали неторопливо, степенно, зная цену себе и старосте; да и провинившегося мужичонку старались не унижать – больше журили-стыдили да «вразумляли», вспоминая деда с бабкой и родителей «негодника», осмелившегося осквернять их светлую память. Если же те были живы, приглашали на суд и их. А потом виновника выставляли вон – подумай, мол, на досуге, одумайся, пока не поздно; и впредь не шали, не по-людски это, нехорошо.
Возвращался мужичок от старосты весь красный, будто рак ошпаренный, снедаемый стыдобой лютой за себя и за весь свой род, на который по дурости безобразной «навёл тень на плетень». Потому-то быстро брался за ум, тут же отстраивал баньку иль сараюху новую, а в сенокос день-деньской горбатился на далёкой вятской покосине, где так же отчаянно строгал детишек. А вот к самогонке – ни-ни!
Хотя, по правде, были и такие, коим стариковский наказ с некоторых пор становился даже не наказом, а истинным унижением в собственных глазах заражённого гордыней смутьяна. Такой мог позволить себе и вовсе никуда не являться, продолжая пить-гулять и куролесить. Из-за таких пару раз по пьяному делу доходило и до смертоубийства. С этакими «умниками» старики и вовсе не беседовали. Придёт, бывало, сосед, поздоровается вежливо, а потом намекнёт так с нажимом – уходить, мол, нужно отседова, вот прямо завтра и снимайся, голубь сизый, не житьё тебе больше здесь. Уже через неделю лихого человека в деревне как не бывало. Куда, чего и как – никого не интересовало: не жилось по-людски, живи – как хошь…
Великая Отечественная прошлась по Рысьей Пади и Озеркам двойной метлой – всё припомнили: и «сладкую жизнь» при коллективизации, и кулачество. Местных староверов вымели на фронт подчистую. С войны вернулись единицы, да и те – без рук-ног. Работящих вдов да девок тут же сосватали в соседние деревни (к некоторым сватались аж из района, из Вятска).
С годами Озерки постепенно захирели, как та старица в когда-то стремительном русле. Молодёжь разъехалась по городам и весям, старики поумирали. Последние годы всё держалось на единственном старожиле – Акиме Авдеиче, которому, несмотря на годы (сколько было старику, никто не знал, хотя, поговаривали, помнил ещё колчаковцев), приходилось быть и за лесника, и за егеря, и даже за рыбнадзор. Этот «последний из могиканов» (слова самого Авдеича) до конца держал «озерковскую марку»: хозяйственных мужиков старался привечать в деревню то охотой, то знатной рыбалкой. Понимал, всегда выгоднее, когда «рукастый» в здешних местах осядет. Зато с выпивохами у Авдеича разговор был короткий – «чтоб ноги в деревне не было»; не хватало ещё, кричал старик, чтобы оставшиеся дома спалил. И те уходили, не рискуя нарушать глубокие корни местных традиций.
Не только в деревне, но и во всей округе Авдеич поддерживал должный порядок – ни браконьеров тебе, ни алчных лесных вырубщиков, после которых у тех же соседей остались лишь заболоченные просеки, превратившиеся в непроходимые буреломы. Неподкупный старик зорко следил за всем. Порой рисковал жизнью. Браконьерская пуля безжалостна: сколько просвистело их мимо непокорной седой головы…
Нынешней зимой Рысья Падь осталась без Авдеича. Пошёл через Вятку на противоположный от Кряжа правый берег, где высится холм, прозванный «плешкой», за которым в деревушке Еловка проживает дочь Настюшка с внучатами, да на самой стремнине угодил в полынью.
Вятка на повороте всегда была неспокойной. Всю зиму, будто вздыхая, выворачивает она ледяной покров, нагромождая полутораметровые торосы. Ещё от стариков знал Авдеич, что глубоко на дне бьют в этом месте богатые ключи, которые и заставляют Реку недовольно ворочаться – да так, что треск идёт. А потому на изгибе Вятку старались не переходить – опасно, мало ли. Но до этого две недели стояли трескучие морозы, вот Авдеич и решил скоротать: как-никак – километра три срезал бы.
Не вышло. На самой стремнине под валенком старика гулко треснуло, лёд вокруг покоробился, и забулькало… Но не таков был Авдеич, чтобы в родной Вятке сгинуть. (Где-нибудь в Чёрном море, которого и в глаза-то не видел, быть может, но в своей реке – никогда!) Едва льдиной ударило в горло, вывернул из тёмной бездны локоть и задержался на зыбкой глыбе. С другой руки скинул под водой набухшую гирькой пуховую варежку и лихорадочно принялся рвать-расстёгивать овчинный тулуп, через минуту уже тянувший на полцентнера. Тулуп – полбеды: вниз утягивали превратившиеся в гири кукморские валенки-подшитки. Пока скидывал тулуп, пару-тройку раз успел хлебнуть водицы – студёная, однако.
Так уж природой дадено, что в случае, когда человек ли, зверь неожидано проваливается в пучину, он рефлекторно поворачивается назад. И это правильно, выверено жизнью. Потому что там, позади, откуда пришёл, и должно быть спасение, ведь что по другую сторону полыньи – никому неведомо. А если двигаться навстречу своим следам, рано или поздно выберешься на твердь. Но об этом тонущий не думает, некогда ему о чём-то думать, кроме как о желании выбраться. Попавший в беду действует, и все его движения продиктованы данными природой инстинктам и рефлексам.
Старик Авдеич всё делал правильно. Зацепившись за предательскую льдину, он избавлялся от самого тяжёлого. Ещё миг – и изодранный тулуп скрылся где-то в бездне; а вот с валенками – беда, будто приклеились, окаянные, став смертельно-тяжёлыми. Та-ак, попробовать, какая слабее держится… ага, правая. По правой пятке левым носком… раз-другой. Эге… опять хлебнул. Нет, валенок никак, ни туда, ни сюда. Что ж ты, милай? Ещё разок… вот так, дорогуша, совсем чуть-чуть… уж больно медленно…
Между тем правая рука, которой Авдеич сдирал тулуп, совсем закоченела и начала синеть. Но он этого не замечал: главное – валенок! А тот, казалось, окончательно вмёрз в голень. Шут с ним, попробовать, разве, подтянуться… Куда там! Сантиметров на двадцать – не больше…
А вот этого, пожалуй, делать не следовало. Льдина под рукой, хряснув, резко обломилась, и Авдеич с головой ушёл в темноту…
…Кошка грациозно обходила свою вотчину – густой бурелом в урочище Рысья Падь. Сахарный снег искрами играл в прищуренных жёлтых глазах самца рыси и ласково тёрся о мягкий живот. Где-то неподалёку, в километре-двух охотилась Она, его подруга, с которой когда-то обживали эти места.
Рыси обычно живут обособленно. Кончились февральские брачные игрища – и поминай как звали: самцы в одну сторону, самки – в другую. Личная свобода дороже всего. Хотя, конечно, бывают исключения, а порой даже встречаются сильные пары.
Его мать застрелили охотники, когда малыш едва научился добывать своего первого беляка. Дальше Он охотился, надеясь лишь на собственные мышцы, клыки и когти. Друзей же у Него не было вовсе – свободолюбивая натура самца не выносила постороннего присутствия рядом чьего-то дыхания. Да и с подружками старался долго не общаться – не выносил сюсюканий.
Но не так давно всё изменилось. Безлюдную деревню Он приметил ещё поздней осенью, когда затяжные холодные дожди вынудили неутомимого бродягу спрятаться в притулившейся у опушки старой, полуразвалившейся баньке. К удивлению рыси, здесь было хорошо – сухо и не ветрено. А ещё ноздри приятно щекотал запах мышей, которые до появления здесь кошки чувствовали себя, как купцы на ярмарке. Хотя мыши были здесь не одиноки. Кто только не шастал в здешних развалинах! То лиса забредёт, хитро петляя цепочкой следов; то волчья стая нагрянет (тогда берегись!), заглянув в каждую щель и нору. О зайцах и живности помельче и говорить не приходится. Бывало, вваливался и косолапый, которого больше интересовали старые ульи да запущенные овсяные поля.
Однако для отчаянной рыси, казалось, не существовало авторитетов. Мелкоту кошка разогнала в два счёта, а для остальных «хозяев тайги» хватало того, что куда бы ни сунулись, везде натыкались на отвратительные рысьи метки. Вроде мелочь, но из разряда таких, с которыми не хотелось бы иметь дело – высок риск не только остаться без глаза, но и заполучить глубокие раны. Проще уйти, выразив крайнее презрение и равнодушие. Новый жилец быстро отвадил с этих мест и своих кошачьих конкурентов, расправляясь с ними, как с лютыми врагами. Вот так этот самец стал властелином озерковской вотчины, которую с некоторых пор любая животина старалась обходить стороной.
Зато ранней весной туда любили захаживать молодые кошки, манимые древним инстинктом размножения, но хозяин, наигравшись, тех всегда выпроваживал. А если вдруг какая начинала мнить из себя этакой павой с привилегиями, заявляя о своих правах на угодья самца, тут же получала такую взбучку, после которой навсегда забывала о своих захватнических аппетитах.
Никто из нынешних обитателей Рысьей Пади не мог знать, что ещё в давние времена, лет двести назад, в здешних местах бродило столько рысей, что позволило жителям края старое название урочища – Северный Кордон – переименовать в Рысью Падь. Однако в первую Отечественную, в период наполеоновского нашествия, спрос на рысьи шкуры резко возрос – в те годы из них оторачивали офицерскую зимнюю форму, а генералы предпочитали тёплые подклады, – вот и потянулись в губернскую Вятку обозы с рысьими шкурами. Вышло это для края не то чтобы боком, но всё же ощутимо: половина рысьего племени оказалась на генеральских подкладах и оторочках. Рысь – не заяц, и даже не волк; для восполнения довоенной численности ушёл потом чуть ли не век. Да и кошки пошли какие-то беспородные – без прежней стати и грации; а с серебристым оттенком, каких когда-то было немерено, стало вообще не сыскать. Словом, поизвели породу. Под Вятском же о кошках напоминало лишь урочище под названием Рысья Падь. Самих же рысей жители края встречали не чаще одной-две в год, да и то случайно – либо в овин забредёт, либо в зимнюю стужу облюбует какую-нибудь заброшенную развалину. Особенно в голодный год, когда всё живое тянется к человеку.
Своё название местечко стало оправдывать лишь в последние годы, когда староверческую деревню Озерки покинули все местные. И в немалой степени такое дело было связано с появлением в покинутой деревне рысьего молодого самца, своим авторитетом заставившего тянуться к местечку весь кошачий род.
И вот с надменным хозяином что-то случилось. Всегда гордый своим независимым одиночеством, однажды Он сдался. Хотя на первый взгляд всё было как всегда. Однажды ночью в Озерки заскочила молодая самка и, попетляв-покуролесив, набрела на старожила. Тот для порядка непрошенную гостью погонял по загонам, а потом дал понять, что не прочь и познакомиться. Теперь уже куролесили вместе, гоняя за околицей зайцев. И так недели три, покуда медовый месяц не пошёл на спад. Однажды наступил момент сказать, что пора и честь знать. И Он это сделал. Подружка вроде как собралась, почти ушла, успокоив чуткое реноме нервного друга. А под утро – неожиданность: перед глазами вновь кошачья мордашка, мурлыкавшая извечную песнь любви.
И вот тут-то с ним произошло нечто странное. Вскинувшись, как обычно, в охотничью угрожающую стойку, самец уверенно и грозно подошёл к нахалке, замахнулся было сильной лапой и… оторопел. Ласково замурлыкав, кошка лизнула его в раздутые ноздри и принялась игриво кататься прямо у лап. Негодница! Ему ничего не оставалось, как положить ей на шею лапу и, лизнув премилую кисточку, чуть ли не с позором отойти прочь. Его впервые победили без когтей и клыков: хозяин округи пал жертвой любовных чар. В общем, стыдоба и только.
Только с какого-то момента без вида её игривых петляющих следов самцу становилось не по себе. В такие минуты Он бывал угрюм, ещё более нервозен, и часто, забегая в Озерки, с волнением смотрел вдаль, на деревенскую околицу – туда, где у оврага проказница любила бродить в густом валежнике.
В сравнении с остальными кошками, которых Он познал немало и которые теперь казались ему глупыми как тетёрки, эта пришлась самцу явно по сердцу, завоевав расположение старого забияки ласковым обхождением, весёлым нравом и грациозной осанкой. А уж кисточки! Перед такой никто бы не устоял, порой оправдывал себя в душе самец, продолжая молча неистовствовать от своего легкомыслия. Иногда, правда, срывался, давая волю праведному гневу. Когда во время охоты на раззяву-глухаря подружка, не вовремя выбежав из укрытия, спугнула всю глухариную стаю, тяжёлая оплеуха привела-таки в чувство разгорячённую охотничьим азартом кошку. Возмутившись, та было вскинулась, впервые обнажив на обидчика мощные клыки, но удар сбоку второй лапой, наконец образумил нахалку. И всё же Он прикипел к ней как последний котёнок. Любимые бранятся – только тешатся…
Рысь уже обошла всю округу, когда, дойдя до Кряжа, принялась обходить участок меж заиндевелых молодых сосен вдоль левого берега Вятки. И у очередного изворота встала как вкопанная. Далеко-далеко, на середине речного изгиба, острый зрачок выхватил некое мельтешение. И как бы ни всматривалась кошка в непонятное видение, она никак не могла уяснить – что это?
Не отрывая хищного взгляда от Реки, рысь инстинктивно двинулась в направлении предполагаемой добычи. Спуск, изгиб, продирание сквозь заросли, вновь спуск и вновь заросли… Внезапно пахнуло опасностью: открытая вода. Кошки боятся воды, они её игнорируют и ненавидят; много воды – это смерть. И лишь любопытство или сильный голод могут заставить пойти на заведомый риск. Обошла промоину, оставив тёмное пятно позади. Впереди показались торосы. Глаз животного инстинктивно нашёл самый высокий – прыг, и вершина одолена. Морда помимо воли и направления туловища повёрнута только туда – к центру реки, где копошилось что-то живое. Ни-ко-го…
Зверь занервничал. Стоило рисковать попусту? В доли секунды молниеносный импульс передался мышцам тела. Кошку словно подкинуло; она прыгнула вниз и, пробежав несколько метров, вновь взгромоздилась на высокий торос. Пусто. Оглянулась кругом – никого.
В последний раз Его так обманывала наглая куница, вознамерившаяся было безнаказанно пошарить в одном из деревенских заброшенных лабазов. Хлопот тогда с этой животиной хватило; одно отрадно, что никто из сородичей не видел – засмеяли бы. Куница умудрилась нырнуть в снег и, невидимая сверху, прокралась за угол сарая, где вновь скакнула под стреху. А хищник, ждавший добычу у свежевырытой норки, безнадёжно надеялся на удачу. А потом в замешательстве обнаружил хитровку на крыше. Но это не прошло для куницы безнаказанно. Опытный охотник, Он перехитрил свою жертву, принявшись кружить вокруг сарая и не давая той вырваться из западни. Тогда загнанная на крышу зверюшка затаилась. Затаила дыхание и рысь, спрятавшись за угол; и как только куница бросилась в снег, хищник мгновенно перехватил добычу в воздухе. Клац! Дуэль окончена. Даже не дуэль, а нечто похожее на финал извечной игры в кошки-мышки.
Итак, среди торосов оказалась лишь пустынная, опасная полынья и какие-то доски, которые сейчас следовало обнюхать. И вдруг…
И вдруг всё изменилось. Внезапно раздался громкий всплеск, и из воды, тяжело пыхтя, кто-то вынырнул. Подавшись ближе, кошка, грозно заурчав, стала наблюдать, спрятавшись за очередной торос. «Двуногий!» – пронеслось в голове животного при виде человеческой головы. Сразу захотелось убежать куда подальше – с Двуногим лучше не связываться. От досады в голодном желудке аж забулькало: плакал сытный ужин. Хотя… ещё неизвестно, как всё обернётся.
Человек в рысьей Книге выживания давно числится в разряде категоричного табу. Как Косолапый, Серый или, скажем, Сохатый. Впрочем, как и луна. Во-первых, она (луна) ничем не пахнет; а во-вторых, её нельзя ни откусить, ни испугать. А потому, несмотря на довольно аппетитный вид, для еды никак не годится. Не годится и Двуногий. Этот имеет собственный запах, и при желании может быть съеден, но только от безысходности; может быть просто убит – но лишь при угрозе жизни, опять же от безысходности. Коварен Двуногий, опасен и кровожаден – именно это когда-то внушила ему мать. А уж та их знала! Дважды опытная рысь попадала в безжалостный капкан и дважды уходила. Третья встреча с Двуногим закончилась брызгами огня из Огненной Палки, от которых мать истекла кровью. Об этом ему никто не рассказывал, зато хорошо поведало место трагедии у Сосновой Балки, где старая рысь когда-то обожала охотиться.
С тех пор Он ненавидел Двуногих. Ненавидел и сторонился. Но знал, в минуту опасности его никто не удержит, чтобы расправиться с могучим противником. В ту минуту, когда рысь повстречала беспомощного Двуногого, мозг хищника ещё не принял какого-то определённого решения. Первое, что хотелось, подчиниться инстинкту и, подскочив к проруби, перегрызть жертве горло, утолив голод горячей струёй. Но кошка не тронулась с места: всем своим существом она противилась тому первому порыву. Отпугивала и вода, ну и… Двуногий. Даже в таком жалком состоянии Двуногий – угроза!
Как будто кто-то невидимый удерживал хищника от решающего прыжка…
Авдеича от верной гибели спасла случайность. Старик не любил случайности, слишком дорого приходилось за них платить. А потому старался жить степенно и по правилам, подчиняясь людским и нравственным законам, коррективы в которые могли внести разве что суровые законы Леса.
Старожила спас… его собственный шарф. Пока он, борясь с тяжеленным тулупом, барахтался в проруби, выбившийся длинный конец пухового шарфа угодил на край излома, где его тут же прихватил крепкий тридцатиградусный мороз. Когда старик ушёл под воду, ему показалось, что всё кончено. По сути, так оно и случилось бы, если б не валенки и шарф. Тяжёлые кукморские гири, повисшие на ногах, потянув резко вниз, не дали течению унести человека далеко под лёд. Авдеича потянуло вниз, ко дну.
Нахлебавшийся воды и оглушённый холодом, он уже почти не сопротивлялся предательской тяжести снизу. И тут почувствовал некое сопротивление. Покинувшее было сознание вновь вернулось к нему. Старик схватился за полутораметровый шарф, связанный когда-то его покойной женой, приостановился и, поднатужившись, на последнем издыхании бросил измученное тело вверх. От резкого движения шарф отцепился, уйдя под воду, но своё дело эта штуковина уже сделала. Преодолевая смертельную силу тяжести, повинуясь извечному инстинкту самосохранения, руки Авдеича лихорадочно искали край проруби. Где-то над головой призывно белело пятно. Если б снесло метра на три, лихорадочно вертелось в голове, всё – хана! И всё-таки его несло. На счастье, значительно меньше: тяжёлые валенки, они спасли старику жизнь!
Кромка льда неожиданно резанула болью, расцарапав левую кисть. Но это продолжалось доли секунды, дальше боли Авдеич не чувствовал. Голова, словно пенопластовый поплавок, выскочила из воды; горло сжали лихорадочные спазмы кашля. Сильно тошнило. Старик выплёвывал и выплёвывал воду, стараясь глубоко вздохнуть. Морозный воздух обжёг горло, застряв где-то в лёгких. Его снова затряс приступ удушливого кашля. Опять пошла вода…
Неожиданно Авдеич почувствовал, что стало легче – и дышать, и… ногам. То ли от резкого кашля, то ли от непомерной тяжести, правый валенок, будто спохватившись, плавно сполз с ноги и исчез в тёмной глубине. Старик инстинктивно задёргал левой ногой, пытаясь избавиться от другой гири. От старания он даже высунул язык, но, скользнув глазами по сторонам, чуть его не прикусил: за одной из ледяных глыб увидел хищную рысью морду. Или привиделось? Нужно выбираться, иначе тут и останешься…
Авдеич вдруг осерчал. И на судьбу-злодейку, вознамерившуюся столь зверским способом расправиться со старым охотником; и на свою халатную самонадеянность, с которой отправился не на лыжах, а пешком через вятскую стремнину. Стоп! Старика словно ударило током: лыжи! Перед тем как пробраться через торосы, он снял охотничьи лыжи и, просунув верёвки сквозь носы, поволок их за собой. Когда он провалился, лыжи должны были остаться на льду. Но где они? Только сейчас он поймал себя на мысли, что его лицо было направлено туда, откуда пришёл. Он почти не обращал внимания, что творилось по сторонам. А ведь где-то должны быть лыжи. Лыжи, лыжи… Теперь только в них Авдеич видел своё спасение…
Старик, щепкой заколыхавшись в полынье, повернулся вправо, помедлил; теперь – влево. В воде он уже находился минут пять-шесть, для него – как шестьдесят, битый час, а то и больше. Авдеич уже почти ничего не чувствовал ниже солнечного сплетения; впрочем, руки – тоже как чужие, поцарапанная левая – в крови. Ну, где эти лыжи-то, не утонули же?
Они валялись буквально в двух шагах, эти его проверенные временем и Лесом старые охотничьи помощники. Однако из проруби добраться до них не было никакой возможности. Вот ведь они, эти спасительные соломинки, только руку протяни! А вот это вряд ли, не дотянуться. Но не умирать же в смертельной ловушке! Ослабевшими руками старик попытался слегка подтянуться… Лёд угрожающе затрещал: о том, чтобы выбраться, не могло быть и речи. Неужели конец? Врёшь – не возьмёшь… Не может такого быть, ведь не в первый раз в полынье, всегда обходилось…
Ног Авдеич не чувствовал, лишь ощущал, что левая тяжелее правой. Если валенок-гирю скинуть, тогда, пожалуй, можно будет постараться выползти. Пробиться дальше влево, ближе к лыжам? Но тут совсем не лёд, а бумага – вообще не за что ухватиться, унесёт! Это только в книжках пишут, что так можно вырваться из цепких ледяных лап – держи карман шире, враки! Вятка так просто не отпустит. Отламывать края льдины бесполезно, от них, отколовшихся, ещё хуже – мешают, пытаясь подмять под себя; за какую ни возьмись – тонет, а с ней – и тот, кто цепляется. Пока барахтаешься, унесёт под лёд.
Как дотянуться до лыж? Думай, старик, думай, поторапливал он себя. Промелькнула ещё минута… Как вечность. Думалось с трудом, мысли становились вязкими, сонными. Авдеич замерзал. Но и под воду не хотелось. Хорошо хоть, хищника поблизости не видать. (Рысь давно умчалась в лес: животному хватило одного взгляда Двуногого, чтобы запаниковать!) Он уже стал цепенеть (или показалось?), когда почувствовал некое движение в левой ноге: валенок. Тоже неплохо, глядишь, спадёт…
И тут старик, обращаясь к себе же, прохрипел:
– Валенок… Скинуть любой ценой…
Сбросив тяжеленную гирю, можно было не только удержаться на плаву, но и добраться до лыж, которые могли стать спасительными поперечинами в полынье. Подтянуться – и…
Ногу, не спеша, согнуть в колене… Вот так. Не гнётся, родимая, застыла. Левую руку вниз, по животу вдоль тела… Тело как будто отсутствует. Бедро, колено… Валенок нехотя скользнул до щиколотки. Хорошо, полдела сделано. Легонько пошевелить ногу… Пошла, пошла…
Увлёкшись, Авдеич в который раз хлебнул, вновь дёрнулся; на этот раз вода придала ему бодрости. Теперь показалось, что обе ноги освободились. Выплюнув воду, он принялся нашаривать ниже колена… Ещё чуть-чуть… Есть, родимый, висит на голяшке. Но продолжает сидеть, самошитка кукморский. Давай, ещё…
Опять хлебнул. Поперхнулся, закашлял, задёргался. Но прямая, как лом, рука осталась недвижимой. Вдруг испугался: руку в локте словно заклинило, совсем не гнётся. Успокоиться, Аким, не паниковать. Всё путём… Получилось! Валенки на дне. Сейчас ещё один манёвр. Последний, как он решил про себя. Удастся – конец мучениям; ничего не получится – прощай, Акимушка…
Держись, Аким, держись… Наступал самый ответственный момент. От волнения Авдеич вдруг натуженно закашлял и едва вновь не ушёл с головой под воду. Ледовая кромка угрожающе заколыхалась. Прикинул расстояние, собрался с силами, мысленно перекрестился и… опершись правой рукой, резким движением выскочил по грудь из полыньи, одновременно выбросив вперёд руку, пытавшуюся ухватить конец лыжи. Сюда лыжу-то, к себе. Вот они, молитвы православные, к которым набожный старик всегда относился трепетно и серьёзно…
Ухватив одну лыжу, Авдеич тут же подтянул ею другую и, развернув поперёк полыньи, укрепил, как смог, у края. Секунду-другую вновь собирался с силами, после чего, опершись локтями на деревяшки, лёгкими толчками стал тихонько выбираться наверх. Лёд противно гудел и потрескивал, грозя предать в очередной раз, но это старика ничуть не смущало. Через несколько минут он уже был далеко от полыньи. Выбрался!
Что дальше? Оказавшись на льду, старик встретился с не менее страшным врагом – лютым морозом; кроме того, с верхов задувал ледяной северный ветер. Несмотря на ослепительное солнце, одежда Авдеича стала на глазах превращаться в ледяную корку. Бр-р… Кажись, лютая смертушка!..
Выбора не было. Оставив лыжи на льду, старик на едва гнущихся ногах (в одних чугунных шерстяных носках!) рысцой заспешил к противоположному берегу Вятки. В полутора километрах от реки пролегала автомобильная трасса. Если повезёт, скоро будет в тепле, у дочери. Но это – если повезёт…
Последние дни в душе Егора творился кавардак. Мало того, что все его друзья-приятели, с которыми призывался в армию, отслужив положенное, давным-давно вернулись домой («при акселях» и с богатыми дембельскими альбомами), так теперь каждый уже был чем-то занят: кто-то работал и даже успел жениться; кто-то уехал на заработки; некоторые «ушли в бизнес», другие «делали карьеру» на государственной службе. Казалось, только он один оказался в каком-то подвешенном состоянии. В отличие от прочих ребят, исполосованный вдоль и поперёк и еле выживший, Егор чувствовал себя от этого весьма удручённым. Кому такой нужен-то, убивался он. Да никому! Вот и Наташа ушла к другому – ещё не старому и богатому. А калеки, извините, всем без надобности.
Егор не считал себя инвалидом, поэтому всякие справка, какие ему вручили в госпитале, он даже не думал читать: жив – и ладно. Дайте срок, господа-товарищи, и он прочно встанет на ноги: устроится на хорошую работу, найдёт себя в жизни и заведёт достойную семью. А вот с будущей женой, пожалуй, будет сложнее – не представлял он своего будущего без Наташи…
Прошёл месяц, а он так и не встретил её, не переговорил, как надеялся накануне, не заглянул в любимые глаза. И уж собрался было, но опять Сергуня смутил: «Если невеста уходит к другому, ещё неизвестно, кому повезло»… Ему, Сергуне, легко рассуждать, он с девчонками долгих отношений не поддерживает. Незачем, говорит, себя оболванивать. Хитрюга, однако.
А на днях Егор к тётке Анне зашёл, маминой сестре. Попили с ней чаю, посудачили.
– Болит? – спросила тётушка, показывая глазами на его израненную грудь.
– Болит, – мотнул тот головой. – Только не сердце, а душа…
И поведал ей всё как есть – про службу в армии, про ранение и про то, что девчонка не дождалась. Вот, мол, и болит душа-то. А как успокоить – не знает.
– Понимаю, самой пришлось через такое пройти, – удивила Егора тётя Аня. – Никому не рассказывала, но тебе, так и быть, поведаю. Давно это случилось, тебе-то тогда годика два всего было, но помню всё до подробностей…
Как выяснилось, его тётушка, хотя и была женщиной видной и статной, в своё время «засиделась в девках» не случайно. Была, оказывается, тому своя причина – даже не причина, понял Егор, а обида, которую она сохранила на всю жизнь.
С Юркой Пыркиным они познакомились в доме отдыха, в красивом местечке под названием Берсут. Аннушка хорошо танцевала; легко это у неё получалось – откаблучивать на деревянных подмостках. Ну и Юрка не отставал. Там, на местной танцплощадке, они и познакомились. Помимо твиста, объединяло их ещё одно – оба росли без отцов, погибших на фронте. И хотя знакомы были всего ничего, как-то сразу прикипели друг к другу, словно чашечка с блюдечком. В общем, крепко подружились; а когда разъехались, стали переписываться. Вскоре вместо Аннушкиной фотографии, висевшей у зеркала, появилась другая – Юркина, в полный рост, в модных штиблетах.
Сёстры, ясное дело, дёргали Аннушку: когда да когда замуж-то за своего Пыркина выйдешь? Но та лишь отмахивалась: в армии отслужит, вот тогда. Вскоре Юрку действительно забрали в армию, куда-то под Красноярск. Через какое-то время рядом с его фотографией в штиблетах появилась новая – обритый наголо Пыркин. А глаза у парня, отметили подружки, искренние такие, простые и открытые. Ох, сколько Аннушка тогда слёз пролила, глядя на ту фотку, где на фоне сидевшей на макушке зимней шапки торчали Юркины оттопыренные уши. Красавец! Сколько она ночей не спала, мучимая думами о том, как тому «служится, с кем ему дружится». А уж писем отправила в этот самый Красноярск, о котором раньше и не слыхивала, и не счесть! Об этом знали только она да Юра.
А потом… потом наступила развязка. Дембель, насколько известно, неизбежен, как крах империализма. Наступило время приезжать домой и Юрию. Влюблённые списались, договорившись о том, что Аннушка приедет к нему, откуда они уже вдвоём поедут к его матери, а после – в Вятск. Так и порешили.
Провожая Анну в дальнюю дорогу, сёстры наказывали, чтобы домой без Пыркина не возвращалась. Маманя, подумывая о свадьбе старшей дочери, уже втихаря скрупулёзно собирала приданое – платья, одеяла, скатерти и подушки. Одним словом, «дурманом сладким веяло»…
Ждали Аннушку ровно десять дней. Она приехала на одиннадцатый. Одна, без Пыркина. Осунувшаяся, серьёзная и какая-то постаревшая. На сестёр Аня даже не взглянула, с матерью тоже особо не разговаривала. Дня три ничего не ела, появляясь поутру с заплаканными глазами. Лишь через неделю девушка стала приходить в себя, разговаривать и более-менее адекватно реагировать на окружающих. Постепенно «оттаяла» и кое-что рассказала.
До Красноярска Анна доехала хорошо. Воинскую часть, где служил Пыркин, нашла без труда, почти сразу. Солдат поразил девушку хорошей выправкой, широкими плечами и вихрастым чубом – словом, перемены были налицо, причём к лучшему. И всё бы ничего, если б не Юркины глаза. Они стали какими-то тяжёлыми, цепкими и… бегающими. Сначала она не придала этому никакого значения, хотя что-то такое остренькое в сердце стрельнуло: изменился всё-таки Юрка, изменился.
Дело к вечеру шло. Через день-другой парня должны были демобилизовать (так, по крайней мере, обещал его командир), и все их планы, которые они в письмах своих обговаривали, оставались в силе: сначала едут к матери Юры в Омск, потом – к ней.
Едва вызвездило, парень проводил Анну до гостиницы в военном городке, а сам отправился в казарму.
Девушка уже собиралась ложиться спать, когда в дверь номера постучали. Открыла, думала, вернулся любимый. Но на пороге стояла молодая женщина. Ярко накрашенная, с вульгарным, надменным лицом и глазами, полными ненависти. Анне стало не по себе.
– Вам кого? – спросила она непрошенную гостью.
– Юрий Борисович – мой парень, – с ходу начала намалёванная. – У нас с ним большая любовь, уже почти год. По сути, он мой муж. Я жду от него ребёнка. (Анна, машинально посмотрев на живот той, поняла, что так оно и было.) И я тебе его ни за что не отдам! Глаза выцарапаю, если завтра же отсюда не уберёшься…
Дверь резко захлопнулась, оставив Анну наедине с бессонной ночью.
Утром прибежал счастливый Юрка. Весь сияющий, возбуждённый.
– Ну, всё! – крикнул он с порога. – Думаю, уже сегодня к вечеру вопрос с моим дембелем окончательно прояснится! А завтра мы с тобой – ту-ту!..
Анна не спеша подошла к парню и, глядя тому в глаза, дала пощёчину:
– За меня!
Юрка побледнел; его зрачки широко расширились.
– За маму!
Парень опустил голову, лицо солдата стало багровым, напоминая спелый помидор.
– За нашу растоптанную любовь!
Пыркин буквально упал на стул, не в силах вымолвить слова. Девушка развернулась и, подхватив свой лёгкий чемоданчик, быстро вышла из номера.
– Аня! Аннушка моя! Подожди, любимая…
Но Анна его уже не слышала: в её жизни Юрки Пыркина больше не существовало.
– Где-то через месяц к нам приехала его мать, – рассказывала Егору тётя Аня. – Хорошая, добрая женщина. Мне, если честно, её до сих пор жаль. Она долго разговаривала – и со мной, и с моей мамой. Случись это сегодня, я постаралась бы восстановить порванные отношения уже ради этой несчастной женщины. Но тогда… молодая была, много на себя взяла. Молодо-зелено, как говорится. Тётя Дуся – ну, мать Пыркина, – проговорила с мамой до утра; потом, уже на следующий день, они обе (она и мама) просили меня одуматься и простить парня. Я, конечно, ни в какую: видеть, говорю, его не желаю! Лучше, кричу, в старых девках останусь, чем за него замуж! После таких слов его мать тут же и уехала…
– С тех пор что-нибудь о нём слышали? – поинтересовался Егор.
– Никогда, – покачала головой тётушка. – Да и не хотелось, знаешь ли, старое ворошить. Замуж, правда, поздно вышла – уж когда за тридцать было. Всё боялась вновь опростоволоситься. Искала свой «идеал». Теперь-то понимаю, что такого вообще не бывает.
– Пожалуй, вы правы…
– Ну, а насчёт твоей Наташи, я так скажу: хочешь не хочешь, тебе придётся её забыть. И, если ещё любишь, не лезь в её жизнь. Только дров наломаешь, себе и девушке судьбу испортишь. Она сделала свой выбор, а уж как там всё сложится, покажет время. Тебе сейчас следует взять себя в руки, поостыть, так сказать, и всё, вот увидишь, уладится.
– Думаете?
– Уверяю, – спокойно ответила тётя Аня. – Дай срок, Егор, непременно уладится…
Всё же не зря он забежал к тётушке. Той каким-то шестым чувством удалось найти секретный ключик к сердцу племянника – тот самый, который так долго искал в себе сам Егор.
Всё правильно, размышлял парень, если он Наташу ещё любит, значит, должен уйти в сторону и не мешать её женскому счастью. К прошлому возврата нет, а что будет дальше, никому неведомо. Придётся, видать, строить новую жизнь, вздохнул Егор. Жизнь без Наташи…
Однажды он встретил своего хорошего знакомого, с которым учился в одной школе. Антоха Бобров, как и Озерков, когда-то закончил лесотехнический техникум, правда, года на три раньше Егора. После техникума и срочной Антоха какое-то время служил по контракту в частях МВД и даже умудрился заслужить престижный краповый берет. Потом уволился, поступил заочно на юрфак и пошёл служить в милицию, куда-то в оперчасть. Взяли, рассказывал Антоха, исключительно потому, что хорошо владеет приёмам рукопашного боя; да и… фактура, смеялся он, как у «маленького мамонта». Мне такие мамонты, сказал, увидав его, милицейский начальник, позарез нужны!
– Привет, – первым поздоровался Мамонт.
– Салют, – кивнул Егор. – Как говорится, и вам не кашлять.
– Что-то ты хмурый… – двинул «мамонтёнок» товарища по плечу. – Не поверю, что вчера весь вечер пил. Ты ведь, знаю, не пьёшь.
– Всё-то ты знаешь, Антоха… А уж когда форму надел, к тебе вообще не подойди…
– Ну, насчёт формы мы с тобой ещё поговорим, а вот то, что ты стал якшаться со всякой шушерой, мне доподлинно известно. Куда там тебя Сергуня-то вовлёк, а? Ты же боевой гвардии старший сержант воздушно-десантных войск, а позволил себя вовлечь в компанию каких-то рэкетиров. Удивишься, но тебя уже взяли на заметку и наши, и, заметь, бандиты.
– Не понимаю, какие бандиты?
– Ты как с луны свалился, – теперь уже удивился Мамонт. – Весь город живёт бандитскими разборками, а он – «какие бандиты»? В общем, так. Если ещё раз поступит информация, что тусуешься с рэкетирами, пеняй на себя: вызовем официально, тогда разговор будет иной!
– Испугал…
– А ты посмейся-посмейся… Теперь о форме. Ты куда устроился работать-то? Знаю, подвизаешься где-то в спортзале…
– Со спортзалом пришлось расстаться…
– Эт почему? Ты же рукопашник…
– Не поверишь, и зарплата приличная, и коллектив классный, а вот ушёл. Правы были ребята, слишком уж «специфической» оказалась там клиентура. Я им про традиции самбо и дзюдо, про культуру борьбы… Гляжу, лица скучные, смурные такие, тяжёлые. Потом подошёл один, старший, видать, с перебитым носом, и негромко так, но с нажимом: «Ты нам, пацан, не мути про традиции-то. У нас свои традиции… Мы те вдвое заплатим, научи только, чтоб ударять лишь дважды: первый раз – куда надо, а второй – по крышке гроба! Вот ты и покажи те места, чтоб дважды бить не пришлось…». Представляешь, убийцы, а не ученики…
– У нас бы с твоим-то боевым опытом – ты же снайпер! – очень даже сгодился. Подумай, и приходи к нам…
– Не-а, не приду…
– Смотри сам. У нас, кстати, сейчас неплохие льготы.
– Да знаю я, что у вас льготы; и тебя знаю как хорошего и честного парня. А вот служба ваша не по мне, понимаешь?
– Не понимаю…
– Какая-то, уж извини, с душком, что ли, – серьёзно ответил Егор. – Сказал бы больше, но, боюсь, обидишься. Хотя, повторюсь, бывают и у вас неплохие ребята – например, ты, Антоха. В общем, работать у вас я никогда не буду, а вот пожать тебе руку – всегда пожалста…
– Смотри, Озерков, твоё дело, – покачал головой милиционер. – Не оступись только…
– Да, чуть не забыл, – стукнул себя по лбу Егор. – Слышал, Рысья Падь осталась без егеря. Не помог бы мне устроиться туда. Во-первых, как-никак – родные места; а во-вторых, у меня же лесотехнический техникум за плечами…
– А чё, это мысль, – почесал за ухом Мамонт. – Не хочешь к нам, давай в егеря. Договорились, чем могу – помогу…
– Лисья шапка с меня! – обрадовался Егор.
– Рано радуешься, дурак! Замолвить слово, чтоб егерем, за кого-то другого никогда бы не взялся. А вот за тебя… За тебя, пожалуй, можно. Ты опытный, обстрелянный – тот самый «стреляный воробей», словно специально созданный для такого дела.
– Вот-вот, – поддакнул «стреляный воробей».
– Ну что ж, тогда по рукам, – протянул ладонь Мамонт. – Просто ты ещё многого не знаешь, дружище, вот и радуешься. Там, в лесу, ещё почище, чем в городе…
– Не понял… – удивился Егор.
– Война, Озерков, война…
История, на которую Егору намекал Антоха-Мамонт, несмотря на её сугубо криминальную составляющую, к его удивлению, оказалась в центре внимания всех заинтересованных лиц. Последними были люди из отделения, где служил Антоха, и конечно же их местные оппоненты – от примитивных гопников до уважаемых в определённых кругах людей. Суть дела сводилась к одному: в городе появился работающий снайпер!
На первый взгляд ничего особенного – подумаешь, снайпер. Да если рассуждать шире, каждый охотник – это самый что ни на есть «ворошиловский стрелок». Если не учитывать одного: стрелков много, а настоящий снайпер — товар всегда штучный. В этом-то как раз и состояла проблема. Во-первых, он, этот снайпер, был из числа так называемых универсалов; а во-вторых, уже успел засветиться в одной из рэкетирских разборок.
А Егор на самом деле засветился. Причиной его дальнейших неприятностей стал всё тот же старый дружок Сергуня. Веяние времени сказалось на том довольно заметно: к удивлению многих, товарищ сумел проявить себя удачливым предпринимателем и смекалистым бизнесменом. Начинал парень со всякой всячины: приторговывал импортной жвачкой, чупа-чупсами, журналами и видеокассетами сомнительного содержания; заключал какие-то сделки; давал деньги под проценты; что-то закладывал-перезакладывал и даже откровенно шельмовал. Бизнес – есть бизнес, разводил руками Сергуня.
Появились деньги, а с ними и кураж. Захотелось новоявленному коммерсанту шагнуть шире, как купцы в старину. Шагнул. И вскоре понял, что у него получилось.
И вот однажды у Сергуни появился собственный магазин на улице Ленина – считай, в самом центре. Небольшой такой магазинчик, который, насколько помнил Егор и сам Сергуня, на этом месте был всегда. И когда новый хозяин поднял необходимые документы, так оно и оказалось: ещё на рубеже веков одним местным купцом здесь был построен магазин-бакалея. Всё это значительно повысило в глазах Сергуни и без того высокий статус своего нового приобретения.
Магазинчик, однако, стоил денег, причём немалых. Занимать пришлось больше половины, под приличные проценты. Выплачивал почти год, буквально выбиваясь из сил. Наконец-то рассчитался и даже новую «газельку» прикупил. Только встал на ноги, начав, что называется, работать на себя, как всё и закрутилось.
Однажды в магазинчик к Сергуне заявились бравые накачанные ребята, одного из которых, к слову, он немного знал по школе. Войдя, посетители повели себя развязно и прямо с порога едва не разбили новую витрину. Бакалейщик ринулся навстречу и, решив показать, кто в доме хозяин, высокомерно произнёс:
– Господа, па-а-пра-шу…
– Ты, буржуй занюханный, проси девчонку, а не нас… – осадил хозяина один из мордоворотов.
– Не понял… – прошелестел, вмиг скинув «буржуйский» лоск, Сергуня. – Вы что-то, господа, желаете купить?
– Сначала хотели, а теперь, завидя тебя, вмиг расхотели, – стал откровенно хамить один из мужиков, буравя продавца тяжёлым взглядом. – Вот увидел тебя, живого буржуя, и после этого всякое желание базарить с тобой, падла, пропало…
– Не понял, – повторил, словно заученное, Сергуня.
– Да ты издеваешься, гад! – рыкнул быкообразный качок в кожаной куртке, после чего Сергуня испуганно попятился. – Буржуй недобитый…
– Не… Да-да, теперь понял, – пробормотал коммерсант, вдруг догадавшись, что его пришли грабить.
В голове у Сергуни всё смешалось, и он никак не мог вспомнить, где же встроена проклятая «тревожная кнопка». Лихорадочно думая, он смотрел на «быков» выпученными от страха глазами.
– Чё уставился, буржуинская рожа? – вновь прикрикнул тот, что был в кожане (старший, смекнул Сергуня), и ринулся на коммерсанта.
Работавшая у Сергуни молоденькая помощница, взвизгнув, юркнула куда-то в подсобку. Бедолаге даже не за кого было спрятаться, он находился на грани обморока. Побледнев, Сергуня стал тихо сползать вдоль дверного косяка.
– Стоять! – заорал «бычок» с тяжёлыми глазами, схватив увядшего бакалейщика за шиворот. – Ты, вообще, платить-то собираешься, буржуй?
– Это ограбление, что ли? – выдавил из себя, находясь в полуобморочном состоянии, Сергуня.
– Нет, он точно над нами издевается, этот чокнутый, – стал терять терпение старший. – Или ты сейчас же платишь, или… или будешь убит при ограблении. А раз платить не собираешься, значит… значит… – кивнул он другому, толстому, что стоял сбоку, – Васёк, займись…
В повисшей тишине вдруг гулко щёлкнул металл. Сергуня, громко икнув, вновь привалился к косяку.
И тут у дверей звякнул колокольчик, известив о вошедшем в магазин очередном посетителе. Вслед за этим в проёме показалась некая молодая дамочка.
– Здравствуйте! Можно к вам?..
– Нельзя! Ревизия… – рявкнул один из бандюг, стоявший позади дружков-мордоворотов (тот, которого старший назвал Васьком), и тут же выпроводил внезапно появившуюся гостью.
«Ну, точно, сейчас они меня начнут убивать… – мелькнуло в голове Сергуни. В его обезумевших глазах появилась влага. – В собственном магазине… Обидно как. Уж не сон ли?..»
– Платить или сдыхать?! – снова на него наехал «бык» в кожане. – Больше спрашивать не буду!..
– Платить! – выпалил коммерсант. – Только разъясните, что к чему…
Похоже, смекнул Сергуня, убивать его пока не собираются – им деньги нужны! Поняв, что лишать жизни (по крайней мере – сегодня) не будут, Сергуня начал понемногу приходить в себя.
– Давно бы так, – осклабился старший. – Слушай и запоминай, буржуйская морда. Ах да, отныне ты для нас – Буржуй, а мы… Мы – твоя «крыша».
– Ка-кая крыша? – не понял Сергуня.
– Не перебивай, Буржуин, когда разговариваешь с Кибой! – вдруг разозлился старший.
– Может, хватит с ним уже возиться, Киба? – подал голос толстый. – Отрезать язык – да и все дела?
– Куда спешить, Васёк? Успеется, – покачал головой громила-Киба. – Так вот, «крыша» – это мы, которые тебя будут прикрывать и охранять от всяких-разных бандитов. Мы – твои друзья. Придут какие-нибудь крутые, бандюганы всякие, так им и скажешь: дружу, мол, с Кибой, Васьком и Козей. Ясно?
– А-а, понятно, – кивнул Сергуня.
– Ты не акай, Буржуй, а слушай, – одёрнул того рэкетир. – За эту услугу будешь отстёгивать своей «крыше» триста баксов ежемесячно…
– Сколько?! Да вы чё, ребята?! – воскликнул возмущённый Сергуня. – Да у меня лишних денег вообще нет, едва с заёмом и процентами расхлебался…
– Всё ясно, – буркнул Киба. – К концу месяца отдашь… э-э… пятьсот баксов. Без базара, точка!
– Ребята… – взмолился коммерсант. – Откуда мне нарыть такую кучу «капусты»?
– А ты подумай, барыга, – наставительно сказал ему Васёк. – Если честно, ты уже достал! Поэтому двести баксов отдашь уже через неделю! Иначе – лично пришибу!
Сжав пудовые кулаки, тот, которого звали Васьком, кинулся на испуганного Сергуню, замахнулся… Но коммерсант его опередил, успев-таки упасть без чувств.
– Оставь его, Васёк, – сказал Киба. – И так ясно, этот отдаст…
Из подсобки слышались частые девичьи всхлипывания…
– Алло! Привет, дружище, – услышал Егор в телефонной трубке голос Сергуни.
– Здорово, Серый! – поздоровался тот в ответ, дожёвывая сушку с маком – обязательный атрибут его утреннего чая. – Почему так рано, случилось что-нибудь?
– Ну… это… как его… – замямлил вдруг Сергуня. – Будет время, может, забежишь в мой магазинчик?
– У-у, видать, и впрямь что-то стряслось… Если память не изменяет, не припомню, чтоб ты меня на открытие твоего магазина приглашал, – издевнулся Егор.
– На презентацию… – поправил тот.
– Хрен редьки не слаще…
– Обычно презентация организовывается для всяких городских чинуш и местных шишек – обязательный, так сказать, ритуал. Поэтому решил друзей не приглашать, хотел как-нибудь попозже…
– Понятно. Только ты, Сергуня, не забывай: деньги быстро кончаются, а совесть долго болит. Насчёт совести понял?
– Да ладно, Егор. Просто всегда считал, что бизнес – это бизнес, а друзья – совсем другое, – заюлил дружок. – Жизнь, правда, показывает, что без друзей никуда…
– Правильно мыслишь, Сергуня. Хорошо, сегодня загляну…
Сергуня хотел от товарища только одного – совета. Он и сам мог давать какие угодно советы, но исключительно связанные с бизнесом – сколько, куда, где, по какой цене и под какие проценты. А вот как вести себя с бандюками – увольте; и не хотел бы думать, да пришлось считать каждый день до очередного появления непрошенных гостей. Сунулся к одному, к другому и выяснил для себя неутешительную истину: обращаться в милицию себе дороже, тогда уж точно пришьют. А завтра истекал срок. Тогда-то и решил обратиться к товарищу. Неудобно, конечно, но смысл в этом был: у Егора как-никак имелся боевой опыт, может, чего-нибудь сумеет подсказать…
Егору история не понравилась с самого начала, причём – до зубовного скрежета.
– Они что, совсем сдурели? – взревел он. – Какая «крыша», ёлы-палы? Свои же ребята, с соседней улицы, не арабы-наёмники какие… Говоришь, один Лёшка, другой – Васька, Гошин брат? А третий?
– Впервые вижу, – промямлил Сергуня.
– Значит, так, – принял решение Егор. – Платить никому ты не будешь.
– Как это? – испугался коммерсант. – Они же меня… это… того…
– Чё – «того»? – нахмурился Егор. – Яснее ясного: те, что приходили, сявки мелкие, гопота слюнявая…
– Ага, как же, – не согласился с ним Сергуня. – Эти, как ты говоришь, слюнявые, меня чуть не прикончили…
– С ними дело иметь не будем – пусть сведут со своим старшим. Вот с ним-то и поговорим. А то… гоп-стоп какой-то! Грабёж средь бела дня…
– Тебе хорошо, пришёл-ушёл, а мне-то как быть? – захныкал Сергуня.
– Я с тобой, – стал успокаивать друга Егор. – Ты же знаешь, десантура друзей в беде не бросает. Буду твой компаньон – для них. На самом деле ничего мне от тебя не нужно, разве скидку какую при покупке другу сделаешь, бизнесмен. – Лицо Егора стало серьёзным. – А завтра я буду с тобой…
Рэкетиры явились в обещанный день, ровно в двенадцать. Ввалились, как в пивную в разгар веселья.
– Ну, Буржуин, заждался, поди?..
Сергуня, бледный как смерть, глядел на вошедших с видом затравленного кролика при приближении голодного питона.
– Чё молчишь-то?
Было видно, что у Кибы сегодня хорошее настроение.
– Дык… это… Все финансовые вопросы за меня теперь решает… э-э… Егор Михалыч…
– Что ещё за фрукт? Чё за фокусы такие, Буржуй?! – рассердился бандит. – Какой ещё, к чертям собачьим, Егор Михалыч?! Издеваешься, что ли, барыга?!
– Это ты издеваешься, Киба, – ответил за испуганного товарища, выходя из подсобки, Егор.
Все взоры устремились на вошедшего. Рэкетиры напряглись: неожиданно появившаяся барыгина подмога никак не вписывалась в их планы.
– О, Егорша… – удивился Киба. – А ты здесь каким ветром? Ты-то при чём?
– При том. Мы с Сергуней работаем вместе, и я отвечаю, так сказать, за связи с общественностью…
Лицо Кибы стало серьёзным; те, что стояли за его спиной, зло запыхтели. Боковым зрением Егор внимательно наблюдал за дружками своего собеседника: у кого-то из них, как рассказал Сергуня, имелся пистолет.
– Насчёт «крыши» вы, парни, надеюсь, пошутили? – пошёл в атаку Егор.
– А чё, какие-то вопросы? – Киба подозрительно посмотрел на Егора. – Сумма не устраивает, что ли? Так мы накинем… этак вдвое, как?
– Да никак! Объясни мне, Киба, на каком основании мы обязаны тебе вдруг регулярно платить честно заработанные бабки? Мы с тобой учились в одной школе, потом служили в одной армии, теперь вот крутимся кто как может… Это с какого перепугу Сергуня должен платить вон тому громиле, который, уверен, и в армии-то не служил; ведь в то время, когда мы от всякой нечисти Родину защищали, этот, наверняка, лечился от энуреза или «косил» под дурика в областной психушке. А вот Сергуня в армии служил! И теперь он, кровь из носу, отдай ссыкуну деньги?! Я знаю, ты, Киба, с честью солдатскую лямку тянул и в психушках не прятался. Так что, Киба, ты не прав…
За спиной у Кибы что-то запыхтело-задвигалось. И тут тонкий слух Егора уловил лёгкий щелчок. Аха, снял «собачку»-предохранитель, негодяй. Правая рука под курткой – правша. Внимание…
Ответить Киба не успел. Егор сделал отвлекающее движение, его собеседник отошёл на шаг в сторону, открыв тем самым громилу. Последний уже доставал пистолет. Левой – удар по предплечью, правой – лёгкий перехват; разворот на девяносто градусов и резкий удар локтем в солнечное сплетение… И опять же с разворота – сильный удар пяткой в грудь второму.
Итак, двое присели. В руках у Егора появился «пээм», который он уважительно держал за ствол.
– Спокойно, Киба! – сказал Егор разволновавшемуся было рэкетиру. – И скажи своим пацанам, чтоб не суетились. Давай поговорим…
– Хороший получается базар, когда у тебя в руках волына, – съехидничал Киба.
– Пушка ни при чём, – покачал головой Егор. – Дело в другом: мы не будем платить ни тебе, ни этим двоим. Ни сейчас, ни потом. Конечно, я мог бы сблефовать, сказав, что перестреляю, мол, всех! Ни в кого стрелять не собираюсь. Ни сейчас, ни потом. Мы одной крови, Лёшка, хоть ты и Киба, а я просто Егор. Встреться мы на войне, пришлось бы плечом к плечу стоять насмерть с реальным врагом, а здесь нам нечего с тобой делить. Никто никому ничего не должен. Повторяю: никто никому…
– Должен, парень, должен, – спокойно заметил Киба. – Пока мы с тобой служили, здесь многое изменилось. Уйдём мы, придут другие и начнут с ходу стрелять, без всяких разговоров. За нами стоят большие люди…
– Я хочу поговорить со старшим…
– Ах ты, гнида!.. – заорал вдруг очухавшийся амбал и кинулся на Егора.
Тот едва успел отскочить, и как только громила пролетел мимо, стрельнул над его головой в потолок. Громила подпрыгнул от неожиданности, а потом медленно повалился на пол. К удивлению присутствующих, его тело вдруг пошло судорогами, а изо рта повалила пена.
– Ему в больницу надо, а не с оружием бегать, – спокойно заметил Егор. – Птицу видно по полёту: таких в армию точно не берут…
Бритый оказался мужиком серьёзным, и «долго базарить», как он выразился, не собирался.
– Не будете платить – спалим: сперва машину, потом – и бакалейку. Для начала. Дальше всерьёз примемся за каждого в отдельности. О твоём компаньоне-хлюпике я вообще тереть тут не собираюсь: барыга – он барыга и есть. А вот ты, снайперок, мне кажешься пацаном правильным, хотя и влез туда, куда совсем не следовало бы…
Вслед за этим пошла-поехала сплошная феня, которая, впрочем, ничуть не смутила парня. Смущало другое – опасность, притаившаяся в каждой морщине его бледно-жёлтого лица, в стальных, жестоких глазах, зэковских наколках и глухом, скрипучем голосе. И эту опасность, которую Егора научила чувствовать война, он ощущал буквально всей кожей. Звериная интуиция, впервые давшая о себе знать на Кавказе, не раз спасала жизнь; если б не она, не вернуться бы домой живым никогда. Кто бы подумал, что здесь творится такое?
Егору стало как-то не по себе. На войне с подобным типом он не только бы не вёл никаких разговоров, но мог запросто пришибить. Таких он чаще видел лишь сквозь оптический прицел. В Чечне было проще: здесь – свои, там – враги; какие с негодяями могут быть разговоры и прочие тары-бары?! Руки вверх – вот и весь разговор. А здесь, дома, выходит, приходится терпеть…
– Так вот, встретился с тобой исключительно потому, что у меня к тебе свой интерес, – продолжал между тем Бритый. – За всё нужно отвечать. А ты в бакалейке сильно набедокурил, пацан. Предлагаю исправить…
Глядя на Бритого, Егор чувствовал, что его втягивают во что-то грязное, липкое и опасное. А потому чего-либо «тереть» с этим типом очень не хотелось. Но, как говорится, назвался груздем – полезай в кузов. Мысль о Сергуне заставила продолжить беседу.
– Твой барыга отделается лёгким испугом, если ты поможешь нам в одном… э-э… деликатном дельце. Дело мелкое, плёвое – в общем, лёгкое, – продолжал Бритый.
– Если лёгкое, почему бы вам его не обделать без меня?
– Погодь, не гоноши. Твоя сноровка нужна, снайперок. Есть тут один фраер, денег куча, а делиться с хорошими людьми не желает. Так вот, замочить его из винтовочки…
– Мочить никого не буду! – Егор резко встал. – Считаю, разговор окончен…
– Сидеть! Здесь я считаю – окончен или нет! – ударил кулаком по столу Бритый. – И когда тебе уйти – тоже скажу я! Ты не дал мне договорить, пацан. Никого не нужно будет мочить – только припугнуть, понятно? При-пуг-нуть…
– Как это? – нахмурился Егор.
– Частности – потом. Обещаю, если всё сделаешь как надо, барыгу оставим в покое, – прохрипел на прощание бандит.
На этот раз Бритый приехал для разговора с Валерием Юлиановичем лично. Однако получасовая беседа тет-а-тет ни к чему не привела; коммерсант, хотя и был молод, оказался очень неразговорчивым. Два серьёзных наезда братков накануне закончились пшиком: ничуть не смущаясь, «барыга» смеялся рэкетирам в глаза, заявляя, что, даже убив его, деньги они не получат. Ну и… резонанс, которых ждёт тех после его устранения.
– Ну что, может, проводишь до крыльца? – обратился Бритый к коммерсанту. – Мило поговорили, ничего не скажешь…
Они вышли на крыльцо роскошного офиса, отделанного дорогим мрамором. На дворе стоял пасмурный зимний день. Начинало примораживать.
– Так вот, – обратился Бритый к своему собеседнику. – Шутки кончены. Если часть акций не уступишь так, ты нам станешь не очень интересен…
После этих слов над их головами вдруг раздался звон разбитого стекла, и сверху посыпались осколки вдребезги разбитого большого фонаря, стоявшего у входной двери. Коммерсант испуганно вздрогнул.
– Это я отдал приказ стрельнуть в плафон, – спокойно сказал Бритый, злорадно отметив про себя, что лицо собеседник буквально на глазах побледнело, напоминая сейчас какую-то маску. – А мог приказать, чтобы стрелок взял чуть ниже…
Винтовка с прицелом оказалась у самой чердачной трубы, как и было оговорено. Охотничий вариант, но и он для такого дела сгодится. Егор взял оружие, проверил оптику, настроил; быстро нашёл крыльцо нужного здания напротив. А вот и фонарь. Всё, теперь ждать.
Минут через тридцать появились двое – Бритый (в костюме и при галстуке!) и молодой элегантный мужик, который, в отличие от первого, совсем не раскрывал рта и сильно жмурился.
Затрещал приборчик рации:
– Цель!
Егор, прицелившись, нажал на курок. Через оптику увидел, как плафон разлетелся на мелкие осколки. Бледный, испуганный парень схватился за косяк. Снайпер уже собирался уходить, когда сквозь треск рации отчётливо послышалась ещё одна команда. Странным показался даже не сам голос, который неудачно старался подстроиться под предыдущий, а суть команды – жестокая и циничная:
– На поражение!
Через пару секунд тот же голос продублировал команду:
– На поражение! Прошу подтвердить получение команды!..
– Как же, умники, дождётесь! Проси свою жену, – прошептал Егор и, выключив прибор, тихо выскользнул с чердака…
Через неделю у Сергуни сожгли «газель». Ещё через несколько дней некто Валерий Юлианович Ломакин, несказанно удивив компаньонов, треть своих акций продал малоизвестному ООО «ЛРМ-Инвест» («ЛесРыбаМясо-Инвест»), подарив тому же «рыбе-мясу» и свой шикарный офис. Вскоре на его месте выросло другое шикарное учреждение – казино «Русалка». На презентации присутствовали важные чиновники из городской и районной администраций, были гости из области; среди приглашённых сновало много крепких ребят в дорогих пиджаках и при галстуках.
После того как разрезали атласную ленточку, и все поочерёдно направились внутрь заведения, неожиданно вдребезги разлетелся огромный фонарь у входа. Дамы весело взвизгнули, а мужчины зааплодировали, приняв это за удачный сюрприз праздничного антуража.
Но один человек стал не по-праздничному серьёзен. Он стоял у входа, и его бледно-жёлтое лицо с ходящими желваками на скулах, выдавало не только сильное волнение, но и удивление. Взгляд удивлённого был обращён куда-то в сторону и вверх, где располагались крыши близлежащих домов. И чем дольше этот человек всматривался вдаль, тем бледнее становилась его и без того смертельно-блёклая физиономия. Он впал в некий ступор. И лишь чуть позже, встрепенувшись, быстро скрылся в дверном проёме.
В тот же месяц, когда «в расход» пустили несчастную «газельку», Сергуня быстренько продал свою бакалейку. Со слезами и охами, заработав нервный срыв. Сделка вышла, считай, себе в убыток: хотя все долги удалось-таки погасить, на выходе остался мыльный пузырь. Ну какой это бизнес?
А ещё через какое-то время Бритый пропал. Ходили слухи, что его исчезновение было связано с появлением в городе некоего Хмурого, с которым у первого были какие-то давние непростые отношения. Новоявленные братки, ходившие под Бритым, вмиг осели на дно, однако часть всё же переметнулась к Хмурому.
Сергуня, благодаря стараниям друзей, хорошим связям и «богатому» предпринимательскому опыту, устроился на местный завод замом коммерческого директора. Ну а Егор всё ещё надеялся найти работу по специальности, стараясь не вспоминать недавние события.
По крайней мере, с коммерцией было покончено раз и навсегда. «Завязал», как сказал бы приснопамятный Киба…
Антоха-Мамонт слово сдержал и сделал Егору неплохую протекцию в деле устройства его егерем в лесном хозяйстве в урочище Рысья Падь. Урочище пустовало. Чудом выживший Авдеич после случившегося на реке долго болел, едва не скончавшись от двусторонней пневмонии. Потом, немного отойдя, оформил-таки инвалидность и преспокойно зажил у дочери, растя внуков и правнуков.
А Рысья Падь на какое-то время оказалась под властью лесных жителей. Зайцы, лисы, волки, рыси, кабаны, лоси и даже медведи облюбовали её безлюдные окрестности – красивые и безмолвные.
Когда-то почти половина местных была Озерковыми. Вот и последний из старожилов, Аким Авдеич, тоже считался Озерковым – сын кузнеца Авдея Озеркова. Потому-то Егору и хотелось в Рысью Падь, ведь он тоже был одним из них. До этого съездил в Еловку, к старику Авдеичу, привёз ценный для деревни подарок – новенький радиоприёмник, – чтобы радовал того и новостями, а при желании – и музыкой. Конечно, хорошо поговорили.
– Ты же, Егорка, как я слышал, из нашенских, озерковских, – неторопливо начал старик. – А потому в тебе, как и во всех нас, крепко сидит этот дух хозяина земли русской – трепетного, заботливого и бескорыстного. При мне в Пади-то ни браконьеров не было – ох, скольких мне пришлось перегонять! – ни беспредела всякого. Где Лес тебе помощником будет, где звери, а иногда и люди. Главное, парень, чтоб стержень в тебе не сломался.
– Какой такой стержень? – поинтересовался Егор.
– Да тот самый, что совестью зовётся: если продашь, назад не выкупишь. Не будь падким до главного лихоманья – денег! Чтоб каждый по ту и эту сторону Реки знал: Озеркова не подкупить! И тогда всё у тебя получится: зверь доверится, Лес будет защитой, да и сам себя больше уважать станешь. Кумекаешь, о чём я, Егор?
– Ага, Аким Авдеич, кумекаю, – кивнул парень. – Правильные слова говорите, только людишки-то нынче больно распоясались, нелегко, видать, будет…
– Нелегко, – согласился Авдеич. – А тебе на войне-то легко, што ли, было? Я те так скажу: там была своя война, здесь – своя! И везде, слышь, приходится Родину защищать! Потому как природа наша, та же Рысья Падь, – это и есть матушка-Родина, самая её нежная и беззащитная часть. Кумекаешь?
– Не поспоришь, полностью согласен…
– Дом мой в Озерках крепкий, ещё с отцом ставили перед войной, из сосны да лиственницы – на века. Печка разве чуток дымит, так это мелочь. Моё какое там барахлишко снесёшь в чулан… ну и живи. Лайку ещё тем летом медведь задрал, а нового щенка так и не успел прикупить…
– Тяжело без собаки-то было?
– Само собой. Собака в лесу – первое дело… Да, чуть не забыл, у реки, там, на развилке, издавна рыси балуют, нравятся им эти места. Ещё дед сказывал, как после Гражданской одного нашего, из Озерков, красноармейца рысь загрызла. Зимой дело было, в морозы. Обычно не бросается кошка-то на людей, а вот, гляди ты, решилась. Шёл парень пешком, а рысь и подстерегла. Видно, ошибся да по следу и двинулся. Оглушила, уронила и глотку парнишке-то перегрызла. Нашли нескоро, вороньё подсказало; по ордену Красного Знамени только и опознали. До сих пор помню имя – Алексей Озерков. У самого Тухачевского служил, герой! А поди ж ты… Природа, парень, она осторожности и уважения к себе требует, не забывай. Я вон тоже намедни вяточной водицы-то нахлебался досыти, слыхал, поди?
– Слыхал. Удивляюсь, как это вы Вятку-то перехитрили?
– Жить захошь – и не такое сможешь, – засмеялся старик.
Потом вдруг поперхнулся, закашлялся гулким, нездоровым кашлем. Больные лёгкие напоминали о себе кашлем и периодической резкой болью где-то под нижними рёбрами.
Просидели дотемна. Авдеич угостил настоящими вятскими пельменями (три трети: говядина, свинина и лосятина), а потом напоил душистым чаем с терпким запахом ромашки, зверобоя и местной шипицы. А на дорогу дал ещё пару мешочков вяленой малины и связку сушёных боровиков.
– Удачи тебе, Егор Озерков! – помахал на прощание рукой Авдеич.
– А вам – здоровья, Аким Авдеич, – улыбнулся в ответ новый егерь.
На том и расстались…
…В приёмном отделении Вятской ЦРБ царила такая сутолока, что, если бы не спокойствие дежурного врача, могло показаться, будто очутился при строительстве Вавилонской башни. Здесь так всегда, когда на город ложится пятничный вечер. Пятница – день особый, предвыходной. А потому народ расслабляется, что называется, по полной, будто официально объявили о конце света на следующей неделе.
Возможно, именно поэтому пятничное дежурство Елена Борисовна воспринимала со свойственным ей спокойствием, достойным драйзеровского стоика. Хладнокровная деловитость, сосредоточенность и даже какая-то боевая снисходительность уже давно стали некой визитной карточкой врача. Передний край есть передний край; когда-то меньше, когда-то больше, что ни есть – всё твоё.
И всё же дежурство выдалось ещё то: почечная колика, которую с трудом удалось купировать; два аппендицита: один – классический, другой – с осложнением в виде начавшегося перитонита; холецистит – хотя и хронический, но с таким обострением, что легче было разобраться с тремя острыми; перелом лодыжки (хорошо, что сегодня не «день травматолога» и на улице нет гололёда!). Ну и «пятничная бытовуха»: колотые, резаные или рубленые раны разной локализации вследствие семейных или уголовных (чаще – семейно-уголовных) происшествий. В этот раз оказалось одно колотое в ягодицу и резаная рана предплечья. В первом случае пьяная драка; во втором – та самая бытовуха (подвыпивший муженёк прошёлся по разъярённой жене).
Пятница, господа-товарищи, пятница! А значит, расслабление требуется. Тяжкое нынче житьё-бытьё, неокапитализм за окошком. Оттарабанил господин рабочий у станка очередную неделю, а с зарплатой – шиш! Лишь на бумаге, нет денег – и всё! И где теперь их возьмёшь? Ни пивка с друзьями выпить, ни в сауну приличную сходить, ни… ни… Ни туда, понимаешь, ни сюда.
И вот приходит господин-товарищ домой. Настроение и без того ниже плинтуса, а тут оказывается, что танталовы муки ещё впереди. На пороге встречает благоверная: вся в бигудях, грудь колесом, брови выщипаны, рожа чем-то измазана (ну да, это ж очередная «омолаживающая» маска-фантомаска). Видать, куда-то уже намылилась.
– Деньги принёс?! – первое, что от неё слышишь.
При слове «нет» благоверная заканчивается, на глазах превращаясь в фурию. Получасовой истеричный крик, сопровождаемый зубовным скрежетом, постепенно смолкает, извещая о том, что вслед за непродолжительным затишьем обязательно грянет буря. И о её начале извещает первая разбившаяся тарелка. Началось! Вслед за тарелкой гремит любимый заварной чайничек-«эгоист», пара чашечек с цветочком (дарил ей на восьмое марта, дурак!), старенький отцовский аккордеон (а он-то при чём?)…
Пока терпимо, пока не больно, а если и больно, то как-то ещё не обидно. А вот дальше – больнее, чувствительнее, нестерпимее. В ход идут «шекспировские» терзания на тему «быть или не быть?», рыдания о «загубленной молодости» и стенания о том, с кем же всё-таки останутся дети в случае скорого развода? Когда «комаринская» подходит к концу, наступает черёд «цыганочки с выходом»: разъярённый и задетый за живое усталый и голодный хозяин дома (а кормить его, дармоеда, нынче, оказывается, никто не собирается!) встаёт наконец с дивана и…
Если честно, он поднялся лишь для того, чтобы угомонить вошедшую в раж жёнушку; однако та уже летает по комнате в каком-то дьявольском неугомонном экстазе в разгар Вальпургиевой ночи. Тут-то всегда спокойный мужичонка, наш господин-товарищ, ей и… того. Вроде как отмахиваясь от назойливой мухи. Хрясь кулачищем, а иногда и чем потвёрже (лишь бы под руку не попался острый предмет!) – и всё, сползла, любимая. Иногда помогают нашатырь или валериановые капли. Но порой доходит и до приёмного покоя. Вот такая она, пятница…
Бывает и похуже. Не каждому удаётся устроиться на местный заводик – только счастливчикам. Поэтому многие уезжают на заработки; не навсегда, конечно, на время, но всё же – разлука. Вернулся, а дома, глядишь, и без него жизнь налаживается, с более «респектабельным». Тут уж глаза сами ищут, где что потяжелее да поострее. Теперь уж точно всё заканчивается больничным приёмником. В лучшем случае для «респектабельного», ибо в худшем… Впрочем, об этом даже не стоит говорить.
За два с небольшим года работы врачом-хирургом в центральной районной больнице каких только пациентов не встречала Елена Борисовна. Бывали такие случаи, о которых ни в одном самом умном учебнике не прочтёшь. Явился как-то пациент, а у него огромный гвоздь в сердце сидит. Пока железяку не вытащили, жил, разговаривал и даже пробовал шутить. Но медики знали, стоит только его (гвоздь) тронуть, и пациента уже не спасти. Отправили в областную, в Киров, и где-то на полпути молоденький сердобольный доктор, сжалившись, всё-таки вынул. Везти дальше не имело смысла…
Был пациент с пулей в головном мозге, тоже сам явился. Все удивлялись: как же так, входное отверстие есть, а где же выходное? Рентгенография показала, что выходного и не будет: пуля-дура застряла между мозговых полушарий. Повезло, братец, такой один на миллионов десять.
Помимо всех этих колотых и резаных, частенько к вечеру в приёмник набиваются старики и старушки из разряда пациентов, действующих под лозунгом: «Чтоб лекарю служба мёдом не казалась». Их цель – напомнить о себе. Часть этих бедолаг, набегавшись днём по торговым лавкам и рынкам, к вечеру неожиданно «обнаруживают» повышенное давление; другие, забыв за целые сутки прикоснуться хотя бы к одной «спасительной» таблетке, к вечеру вызывают «скорую». Бывают и такие, кто, доведя до больницы соседку и насмотревшись здесь всякого и наслушавшись чего не положено, вдруг начинают чувствовать себя так, что впору госпитализировать. Тем более что этим всё равно – пятница ли, воскресение. Возраст ведь не выбирает дни недели…
И всё же Елена Борисовна свою работу обожала. Стать хирургом она мечтала с первого года учёбы в медицинском, хотя девчонки отговаривали: женщина хирург – явная ошибка, уж на худой конец – гинекологом. «А как же семья?» – справедливо возмущались они. Ленка молчала, но выбор свой сделала уже на третьем курсе.
Правы были подружки: на семейной жизни её профессия сказалась очень даже болезненно. Был и любимый парень (тоже местный, из Вятска), и большая между ними любовь, и даже шикарная свадьба. А вот семейного счастья не получилось. Хватит, сказал однажды Сашка, либо семья, либо хирургия! Она выбрала последнее, чего тот, по-видимому, никак не ожидал. Но отступать уже было некуда, а терпеть и подавно. Детей у них так и не появилось (с её-то работой, шутил муж), пришлось расстаться. Два года замужества, и вновь одиночество. Правда, у неё была любимая работа, пациенты, операции, дежурства… Но что это в сравнении с семейным счастьем, которого Лена, увы, так и не успела обрести? Семья осталась позади, сохранившись в памяти какой-то спринтерской дорожкой: на старте в белоснежной фате, у финиша – в операционном халате…
Потом к ней многие «подкатывались»; однажды зашёл и «бывший». Только на этот раз «поговорить по душам», как он выразился, у Сашки не получилось: слишком много утекло воды, чтобы два ручья вновь слились одной речкой. И оба поняли, что опоздали. Тем более что у него уже кто-то был… А вот она – по-прежнему сидела одна. Всё недосуг как-то было, не до личной жизни; да и не дело это, считала Елена Борисовна, размениваться по мелочам. Единственная отдушина – работа и операционный стол.
Потому-то Елена Борисовна не боялась «сумасшедших» пятниц. Даже наоборот, без труда подменяла коллег, если вдруг в такой день у кого-то что-то срывалось дома или на личном фронте.
– Елена Петровна, подмени, голубушка, – просил, бывало, кто-нибудь из коллег. – Так уж получилось, сегодня гости из Сарапула нагрянули…
– Гости – дело хорошее, – негромко заметит она. – Только вы, уважаемый коллега, и в прошлую пятницу каких-то там гостей встречали…
– В ту – не гостей, – замнётся разоблачённый врач. – Тогда свекровь из Ижевска угораздило нагрянуть. А теперь вот эти, из Сарапула…
– Ладно уж, где наша не пропадала, – вздохнёт Елена Борисовна. – Поставьте в известность заведующего…
– Спасибочки, «штрафник» вы наш! Чмоки-чмоки… Пока!
– Пока…
И вновь Елена Борисовна, засучив рукава, оказывалась на «переднем крае». Так уж на роду, видать, ей было написано, тащить врачебную лямку на острие социальной бритвы – в хирургическом отделении центральной районной больницы провинциальной глубинки. Лишь она знала, случись что серьёзное (дорожная сочетанная травма, черепно-мозговая и прочее), на помощь никто не придёт. Разве что советы какие-нибудь последуют от заведующего или из областной клиники, но спасать человека придётся ей – здесь, на этом самом переднем крае. И в глаза родственникам умершего потом смотреть тоже ей! А все «советники» аккуратненько отойдут в сторону, будто их и не бывало.
Именно поэтому, стоя днями и ночами за операционным столом, Елена Борисовна научилась смотреть в глаза людям честно и прямо. Одного лишь боялась – предательского сомнения, мешавшего порой сосредоточиться. Нет, смелости этой женщине хватало с избытком, а вот мысль о том, что в схватке за человеческую жизнь это самое сомнение может стать коварным врагом, угнетала. Из-за этого приходилось часами просиживать над книгами, торчать в секционном зале и подолгу не выходить из операционной. Передний край не терпит дилетантов. А слабые и трусливые никому не нужны. Вот и приходилось быть смелой – и перед больными, и в глазах собственных…
В середине ночи, закончив очередную операцию, она спустилась в приёмник. В такое время там уже обычно пусто. Последним пациентом оказался тот, которого только что прооперировали – с ущемлённой паховой грыжей. Крайне коварная штука, встречается не так уж редко, но требует к себе особого внимания.
Утомлённая, поднялась в отделение. Но едва вошла в ординаторскую, чтобы закончить дневник в истории болезни новенького, как снизу позвонили:
– Елена Борисовна, срочно зайдите в приёмный покой!
– Что случилось? – спросила у дежурной медсестры.
– Привезли какого-то парня из леса, – испуганно кричала в трубку молоденькая медсестричка. – Весь в рваных ранах! Кровищи…
Начальнику губернской милиции тов. Сорокину.
РАПОРТ
Настоящим докладываю, что 25 августа с. г. в квадрате между деревнями Осиновка и Поддубки, близ урочища Рысья Падь, местными жителями обнаружены останки неизвестного мужчины. Труп сильно повреждён – обезображен дикими зверями. Документов и личных вещей на месте трагедии не оказалось. Предположительно – военный. Позже, чуть в стороне, на обрывке гимнастёрки обнаружен орден Красного Знамени. Причину смерти ввиду плохой сохранности останков определить не представляется возможным. Проводится дознание.
Боевой орден (для сверки по номерному знаку) отправлен в Вятку нарочным.
Начальник уездной милиции г. Вятска Пуговкин.
26. VIII.1922 г.
ТЕЛЕГРАММА
19. IX. 1922 г. 13 час. 15 мин. г. Вятка
Начальнику усовмилиции Пуговкину
«Обнаруженный орден Красного Знамени согласно его номерному знаку принадлежит пропавшему без вести младшему командиру РККА Озеркову Алексею Пантелеевичу 1901 года рождения уроженцу деревни Озерки Вятского уезда Вятской губернии».
Начальник губмилиции Сорокин.
…Если задуматься, все Озерковы пошли из Рысьей Пади. И не важно, кто и где родился и вырос: Озерков – значит, отец или дед из этих мест, из деревни Озерки. Других с такой фамилией в здешних краях больше не было. Вот и Егоркин отец родился в Озерках, да и все родственники, почитай, оттуда же.
Егор в Озерках бывал несколько раз – ещё в те времена, когда был жив дед. То по грибы приезжал с ночёвкой, то куропаток с отцом пострелять. Позже, когда деревня уже совсем опустела, появлялся там редко, по пороше с другом погонять зайчишек. Ездил бы чаще, но далековато, да и бездорожье страшное: места за Падью кругом непроходимые, грязюка. Зато куропаток! Сами из-под ног выпархивают. Они-то и приманивали сюда осторожных охотников – рысь да лисицу.
Последний раз он был здесь аккурат перед армией. Приезжал не столько пострелять, сколько отдохнуть душой, собраться с мыслями, почувствовать, так сказать, генетическую связь времён. Отец потом смеялся: приехал с охоты с двумя куропатками.
– Ты что там, стихи писал? – издевался он.
– Не поверишь, ходил вокруг сосен, а рифмы сами рождались в голове, – рассказывал Егор. – Никогда такого не бывало…
– Странно, – удивился тогда отец. – Влюбился, наверное…
– Ну да, влюбился…
И вот он снова здесь. Для начала Егору предстояло всё увидеть на месте, как бы познакомиться вновь, проведя этакую рекогносцировку. Надёжные охотничьи лыжи, скрипя на морозном снегу, уверенно несли вдоль косогора. Перелесок, долгий спуск, вновь перелесок, опушка, заброшенная просека… А вот и тень густого сосняка, быстро укрывшая под размашистыми лапами. Егор шёл легко, не спеша, стараясь держать «свой ритм»: чтоб было тепло, но без испарины. Где испарина – там предательский холод, который навалится на первом же привале. А мёрзнуть никак нельзя, последнее дело для человека в зимнем лесу.
Несмотря на местные красоты, мысли парня были далеки от окружавшей его реальности. Последние события никак не выходили из головы. Как рассказал Антоха-Мамонт, в районной администрации были не в восторге от предложенной им кандидатуры егеря в урочище Рысья Падь. Местных чиновников даже не смутило специальное образование Озеркова. Имеется, мол, и другой кандидат – некий Алексей Козлов, тоже отслуживший в армии, молодой предприниматель. Как будто не знают, негодовал Мамонт, что этот самый Козлов есть не кто иной, как известный в городе рэкетир по кличке Пуля, ходящий под Кибой.
– Вот такие, брат, дела, – вздохнул, обращаясь к Егору, Мамонт. – Но не на тех напали. Уж я-то хорошо знаю, чем этих хмырей взять. А компромата на многих из них у нас предостаточно. Поэтому – утвердили как миленькие. Киба перебьётся. Не хватало ещё, чтоб бандитам Лес отдать! И так уже всё живое перебили…
За невесёлыми мыслями Егор неожиданно для себя отвлёкся и совсем не заметил, как лыжи уже минут пятнадцать скользили… по рысьему следу.
Рысь не нападает на человека. Лесная кошка предпочитает этакое мирное сосуществование с Двуногим; идеально – если это коварное создание не попадает в её поле зрения вовсе. Для рыси в Двуногом противно и противоестественно всё: его неуклюжесть на двух шатких и толстых ногах; отвратительный запах, какой не встретишь среди обитателей лесного мира; и самое страшное – безмерное коварство. Двуногий – самый хитрый и опасный хищник в местных кущах. Несмотря на свою неповоротливость (с виду – почти беззащитен!), Двуногий может установить страшную ловушку, заманить в клетку или просто забить палкой. И не обязательно, что только мелкого животного.
И совсем опасно, когда в руках Двуногого оказывается Огненная Палка. От грохота этой Палки лесной обитатель лишается слуха и воли. И только быстрые ноги порой спасают хрупкую жизнь. Палка убивает. Она изрыгает огонь и дым. Но и это не всё. Чудовищный враг убивает любого, будь тот на бегу, на лету или на плаву – нет от него спасения! И вся надежда на сильные ноги, мощные клыки или крепкие крылья. Оттого-то увидеть Двуногого с Огненной Палкой не останавливает даже природное звериное любопытство, ибо из поколения в поколение передаётся: Двуногий с Палкой – это смерть! Другое дело, когда вдруг встретится Детёныш Двуногого или тот же Двуногий без Палки. Только тогда (и то на мгновение!) можно, застыв в густых зарослях и затаив дыхание, чуть-чуть рассмотреть этого опасного врага. Правы были предки, рассказывая, что те ужасны. О да, просто уроды! Безносые, с плоскими голыми мордами; всё остальное тело покрыто непонятно чем – ни шкурой и ни кожей. Иногда из их уродливых ртов выделяется такой удушливый дым, от которого хочется быстрей убежать. Нет, сто раз были правы предки, предупреждавшие держаться от Двуногих как можно дальше.
И всё же, если Двуногий в Лесу, это ещё не значит, что он здесь полноправный хозяин. Хозяева здесь – Обитатели, а Двуногий – разве что гость, нежелательный прохожий. Опасный гость. Однако местные его терпят только до поры до времени: когда Двуногий начинает угрожать жизни зверей и их детёнышей, те зачастую вступают в открытое противоборство. Только угроза жизни может толкнуть Обитателя на тропу войны. Вот тогда-то Двуногому несдобровать!
Рысь не нападет первой на человека, даже если находится в засаде и хорошо видит своего противника. Кошка обычно лишь наблюдает, внимательно рассматривая Двуногого. И от поведения последнего зависит дальнейший расклад. Если Двуногий проходит мимо (иногда – буквально в двух шагах от замаскировавшейся в ветвях рыси), зверь не шелохнётся. А вот если…
Схватка с Двуногим всегда непредсказуема. Как с волком или росомахой. Велик риск самой стать добычей. К чему такие сложности, когда зайцев кругом – как грибов по осени? Потому-то, встретив Двуногого, лесная кошка лишь затаится, постаравшись не обнаружить себя. Но если Двуногий пойдёт по рысьим следам… След этого животного, несмотря на его кажущуюся ровность, замысловат и загадочен. Но какими бы хитрыми не были длинные зигзаги, они обязательно приведут к тому, кто их оставил. Лесная Азбука выживания гласит: свежий след всегда ведёт к зверю. И знает об этом каждый Обитатель. А значит, преследователь – враг, который должен быть уничтожен! Иначе он убьёт оставившего след. Всё та же Азбука выживания.
…Зверь внимательно наблюдал за Двуногим. А тот, хоть и неуклюже, всё ближе и ближе приближался к цепочке неглубоких кошачьих следов. Вот он эти следы пересёк, прошёл дальше, взял в сторону и вновь упёрся в цепочку. Потом ненадолго замер и… пошёл прямо по следу. Встревожившись, кошка привстала на сосновом суку, ставшем в этот день неким наблюдательным пунктом за заячьим хороводом. Гуляй, Косой, у тебя сегодня праздник, повезло! От возбуждения задрожали кисточки на кончиках ушей. Каждый мускул и каждая клеточка самца нервно затрезвонила, извещая: тревога! Невероятно, Двуногий двигается по Его следу! Зрачки рысьих глаз хищно сузились.
Проследив путь врага, Он осторожно спрыгнул с дерева, быстро перебежал к другому, забрался повыше, высматривая Двуногого, и, обнаружив, вновь очутился в снегу. Теперь предстояло самое важное – узнать случайно или целенаправленно пошёл по Его следу Двуногий. Опередив врага метров на триста, кошка, вновь выйдя на свои следы, чуть потопталась и медленно пошла на круг, вскоре очутившись не так далеко от места первой встречи с врагом. Вскочила на ветку густой ели, притаилась, зорко всматриваясь вдаль. Двуногий плёлся по свежему следу. А это уже серьёзно.
Мозг животного ожил в виде мощного протуберанца инстинктов и рефлексов. Явная погоня, Двуногий с Огненной Палкой. Мясо съеденной поутру куропатки помогало голове ясно мыслить, а мускулистому телу трепетать от вожделения. Враг устроил погоню, но даже не догадывается о засаде; Двуногий так ни разу и не взглянул вверх. Какой смешной, этот Двуногий – неуклюжий, медленный, беспечный… Но крайне опасен!
И всё же самец никак не мог принять решения. В этих местах Его знали как сильного противника – своенравного и безжалостного. Правда, эти качества в полной мере проявлялись лишь в том случае, когда Он бывал голоден, а также при несоблюдении потенциальным врагом Правил Леса. На счету Рыси было несколько блестящих побед над одинокими хищниками и одним молодым Косолапым, по дурости залезшем в валежник, куда совсем не следовало соваться: там скрывались кошачьи Детёныши. Впрочем, были и неудачи. Так, при кровавом столкновении с Сохатым, тот перебил копытом кончик хвоста и едва не пригвоздил к дереву – хотя и сам едва не остался без глаза. Одним словом, Обитатели не любили связываться с этим хищником.
Подвергаться опасности от Двуногого Ему ещё не приходилось. И это несмотря на то что последняя встреча с этим племенем состоялась не так давно, на Реке. Двуногий тогда едва не погиб, следовательно, не представлял из себя никакой опасности.
Рысь вновь скользнула вниз. Итак, проделав круг, Он уже почти не сомневался: враг шёл следом. Можно, не торопясь, приготовиться к атаке. А когда подойдёт… И всё-таки что-то удерживало хищника от решающего шага. Всё тело ещё больше забила нервная дрожь: Он волновался.
Ещё не видя, но уже заслышав удары деревянных досок по снегу, Он пошёл на второй круг – своеобразную «восьмёрку», желая окончательно проверить намерения Двуногого. Если и сейчас тот двинет за Ним, сомнения улягутся: Враг! И если это действительно окажется так, Он не будет церемониться с Двуногим! Самец поступит с ним так же, как с тем глупым Косолапым…
Егора как будто что-то остановило. Подняв наконец-то голову, он понял, что чуток приплутал; пришлось вернуться туда, где прошёл с полчаса назад. Ага, вот и следы от его лыж. Тьфу ты, сколько времени потеряно! Присел на пень, достал термос и бутерброды, подкрепился. «Очень хорошо, что сальце-то прихватил, – подумал он. – В мороз сало, говорил комбат, самое лучшее согревающее…»
Допил чай и, дожёвывая съестное, аккуратно уложил термос в рюкзак. Накинул на плечи лямки, поправил карабин – и айда, паря, дальше. Впереди ещё вёрст пять, не меньше. Выехал на свой след, забиравший вправо, ухмыльнулся и… круто взял влево – как раз вдоль свежих рысьих следов.
А минут через пятнадцать в Егоркиной груди зазвенел колокольчик. Был такой, ещё с войны. На самом деле ничего осязаемого у него не имелось, за исключением, разве что, обострившейся до самой верхней планки интуиции. Вместе с неким теснением в израненной груди Егор вдруг до тошноты ощутил чувство смертельной опасности. Он приостановился, огляделся по сторонам внимательным взглядом, но, так ничего и не заметив, тронулся дальше. В груди трезвонило и жало. «Надо бы к врачу, – подумал на ходу. – Видать, рана даёт о себе знать…»
В какой-то момент в глазах, смотревших на рысий след, мелькнула догадка. Но только на миг! Остановился, снова огляделся, снял рукавицы, подул на руки, чтобы немного согреть озябшие кисти, и только хотел ухмыльнуться своим бредовым мыслям… Глядя перед собой на чистый, яркий снег, Егор лишь успел заметить, как на ровном сугробе промелькнула чья-то тень, предупредившая об опасности позади него. Инстинктивно дёрнувшись в противоположную сторону, отработанным движением скользнул рукой за голенище правого валенка, где у него был спрятан охотничий нож.
Он коснулся ножа одновременно с сильным ударом сзади. Молниеносная реакция спасла ему жизнь. Удар сверху пришёлся не на затылок, а на левое плечо. Мощная когтистая лапа, пройдясь касательно по голове, щеке и шее, обездвижила левую руку. От навалившегося веса Егор рухнул в снег. Страшный рык, от которого захотелось поглубже зарыться в снежное одеяло, на миг парализовал волю. Но только на миг. Пронзительная боль в шее и руке заставила собраться. Он дёрнулся, но от этого кошка ещё больше рассвирепела и, войдя в охотничий раж, начала всеми четырьмя лапами раздирать на Двуногом одежду.
Сильная рысья челюсть, захлопнувшись между левым плечевым суставом и шеей, почти сделала противника недвижимым. Если бы не меховой воротник, от смертельного захвата было бы не увернуться. А когтистые маховики безостановочно работали, раздирая одежду и всё, что под ней. Стало нестерпимо больно. Челюсть, уже сжавшая шею (сразу сломать хребет помешал всё тот же воротник куртки), никак не могла добраться до артерии. До заключительного акта охотничьей драмы оставались секунды…
И тут в воздухе блеснул нож. Человек не собирался сдаваться так просто! Война научила Егора никогда не сдаваться без боя – да и вообще, не сдаваться! Смерть всегда беспощадна, но перед храбрым пасует. Так… сначала ударить за спину справа, затем – обескуражить врага сильным боковым, испугать болью, ещё… ещё… Ну вот, дёрнулся. Максимально сомкнуть плечи, сгруппироваться, защитить горло, горло… Доберётся до сонной – каюк! А теперь, сжавшись, с разворота через левое плечо – наотмашь… Работать рукой мешал глубокий снег. Хватка усилилась. Если промазал – кранты… Ещё снизу – раз, другой, и в сторону…
Руку саданула резкая боль. Громкий рык. Тигр, что ли? Или схожу с ума?! Шея свободна, но саднит невтерпёж…
– А-а-а… – заорал он вдруг, пытаясь вытащить себя из смертельного гипноза. Попытался привстать, получилось; поняв, что сверху уже никого, быстро перевернулся влево.
Для верности взмахнул клинком. Чуть привстав, скосил глаза и увидел недалеко от себя, у кустов, согнувшееся тело огромной рыси. Безумные глаза хищника продолжали неотрывно наблюдать за Двуногим. И в этом взгляде ненависть перемешалась со смертельной болью. Кошка страшно шипела, вся её поза говорила о том, что она вот-вот прыгнет вновь. И от увиденного Егору стало не по себе.
Он стал тихонько отползать в сторону, подальше от опасного зверя. Краем глаза видел, как рысь приподнялась, надеясь преследовать жертву, но тут же вновь прилегла. Егор успел заметить у противника в области шеи огромную кровоточащую рану. Путь от места схватки до животного был окроплён рысьей кровью. Один из ножевых ударов, по-видимому, стал для кошки смертельным.
Отползя подальше, Егор понял, что и сам серьёзно ранен. Сбросив разодранный в клочья окровавленный пуховик, он вдруг увидел, что отовсюду течёт и капает, а оставленный позади след сделался розовым. Бинта, оказавшегося в рюкзаке (Егор никогда не забывал про аптечку), хватило на то, чтобы перевязать пару рваных ран и наложить жгут на левое плечо. Шея и спина были мокрыми. Пришлось вновь одеть рваный пуховик.
Дикое мяукающее урчание внезапно прекратилось. Когда он проходил мимо хищника, его глаза уже начинали стекленеть.
– Вот ведь, зараза, едва не убил… – незлобно ругнулся Егор.
Потом, кряхтя, подошёл к приметной сосне-рогатине, снегом засыпал под ней карабин, с трудом укрепил лыжи и коротким путём двинулся в сторону соседней Осиновки. Несколько километров, однако. Дойти бы. Его уже начинало знобить…
…В операционной было тихо, светло и как-то невыносимо тоскливо. Пахло ультрафиолетом, спиртом, йодом и чем-то ещё – кажется… болью. Этот запах не спутать ни с каким другим.
Егора сначала втащили в какой-то коридор, где, погрузив на каталку, куда-то повезли. Пока раздевали-разували, медсестричка с грустными глазами успела сделать укол и приспособила капельницу. Потом он заснул. Снился Грозный, перестрелка и душный подвал многоэтажки, который долго не могли отбить. Из-за частой стрельбы всё пропахло пороховым дымом; у ниши под окном лежали раненые, запах йода и крови. Сейчас будет команда на прорыв. Не забыть проверить оружие…
От невыносимой духоты Егор дёрнулся и проснулся. Открыв глаза, он быстро понял, где находится, и вот тогда ему стало тоскливо. Мысли постепенно возвращались. Эвона как… Снова белые халаты, уколы и вынужденная несвобода. А ведь даже не приступил к новой работе. Принял должность – и на́ тебе, тут же на больничный. Неприятно. Да и неудобно как-то. Что за егерь, скажут, если его в первый же день зверь порвал?
Он лежал на правом боку, медики колдовали над его плечом; потом перевернули на живот…
– Однако… – простонал Егор, когда противная боль ударила куда-то внутрь.
Сказал – как ругнулся, так, для облегчения. От духоты было тяжело дышать.
– Э, да он ещё и разговаривает, – послышался насмешливый женский голос. – Если честно, мы думали, ты раньше разговоришься, когда над плечом твоим работали. Там было такое…
– Однако… – скрипнув зубами, вновь выдохнул он.
– Ну, заладил… – тут же отреагировал голос. – Покричал бы, что ли… А то «однако» да «однако»…
– Десантура не кричит, десантура – терпит… однако.
– О, да мы десантники! – голос повеселел. – А как зовут-то тебя, десантура?
– Егор…
– Какое красивое имя – истинно русское.
– Ага, русское…
– Тебя что, десантник, леший, что ли, в болото тащил, что ты весь такой изодранный?
– Ну да, пятнистый, с кисточками на ушах, рысью называется, – попробовал пошутить Егор.
– Рысь? – удивился голос. – Впервые слышу, чтобы лесная кошка напала на человека. В логово её залез, или как?
– Да никак… – Егора разговор начинал утомлять. Ему бы сейчас чуток поспать, глаза самопроизвольно смыкались. – Случайно пошёл по рысьим следам да и увлёкся… А она… кошка… это… ну это…
– Так, всё… – услышал он сквозь сон. – Слева закончили, теперь ещё раз грудь…
В лицо ударил мощный блик света, исходивший от хирургической бестеневой лампы. Спать явно не давали… Потом свет заслонило чьё-то лицо в хирургической маске. Когда он открыл глаза, показалось, что всё заслонили два васильково-голубых глаза. Егор даже зажмурился, потом вновь посмотрел – так и есть: лоб и всё, что выше, прикрыто белоснежной шапочкой; всё, что ниже носа – под марлевой маской; остальное пространство занимали красивые глаза.
– Васильки… – вырвалось у него. – Василёчки…
– Какие васильки? – спросила женщина-хирург, не понимая, о чём речь. – Слегка бредим, да, Егор?..
– Разве что – слегка, – попытался улыбнуться тот. – Глаза… как васильки. Красотища какая…
От увиденной «красотищи» Егора вдруг совсем развезло, он прикрыл веки и погрузился в мягкую темноту…
Как потом оказалось, он проспал ровно сутки. Сказалась сильная слабость, вызванная большой потерей крови, а также действием препаратов. Показалось, что проснулся совсем здоровым. Правда, увидав на себе «панцирь» из бинтов, приуныл.
– Не знашь, друг, как скоро выпишут? – обратился Егор к самому ближнему от себя соседу по койке.
– Во даёт! – удивился тот. – Не успел глаза раскрыть, а ему уже выписку подавай. Скорый больно. Вчерась только положили… Как Елена Борисовна скажет, так и будет.
– Это кто ж такая, Елена Борисовна?
– Врачиха наша, – встрял в разговор другой – тот, что лежал слева от Егора, с перевязанной рукой. – Классная женщина! И лучший в районе хирург, не смотри что молода. Я б на такой женился. Если бы не она, руки́ бы точно лишился. Отходила она мне руку-то, сейчас заживает…
– Тебя, что ли, рысь-то порвала? – спросил первый сосед.
– Да уж, «покусала»…
– Слышали мы. Как угораздило-то? Я ведь тоже охотник, но впервые о таком слышу…
– Угораздило вот… По следу закрутился, вот и получил по сусалам.
– Быват, – кивнул сосед. – Я восетта с медведём нос к носу столкнулся, так не помню, сколь на берёзе-то просидел. Думал уж – каюк! Кому рассказать, так засмеют, а мне, веришь ли, до сих пор страшно. Берёза-то потом подо мной – хрясь да обломись! Метров пять летел, перелом ноги. Если б медведь не ушёл – хана, братцы, заломал бы…
– Тебе надо было сразу спускаться-то. Зверь ушёл, а ты – в другую сторону, – издевался ещё один сосед, что лежал позади первого и знал, по-видимому, эту историю наизусть.
– Если честно, боялся слезать-то, – оправдывался охотник. – Вдруг шатун вернётся? А берёза-то – хрясь! В общем, открытый перелом голени. Думал, там и скончаюсь. Хорошо, напарник на снегоходе выручил. А иначе…
– Ты-то хоть в лесу, а я вообще по дурости сломался…
Все головы повернулись в самый дальний угол, у окна, где на кровати сидел средних лет тщедушный мужичонка, у которого перехваченная бинтом загипсованная рука висела на косынке.
– Жена, поди, палкой хватила? – начал подтрунивать кто-то.
– Хуже, – серьёзно ответил мужик. – От собственного хряка, можно сказать, пострадал.
– Это как же?
Теперь уже все с интересом смотрели на рассказчика, в надежде услышать интересную байку.
– А так. Только хватили морозы, пришла пора кабанчика заколоть. Обычно у нас с этим проблем никогда не было. Приходил из посёлка свояк и резал. А реза́ка, надо сказать, он знатный. Несмотря на то что одна рука ещё с детства покалеченная, другой, здоровой-то, Толян убивает свинью всегда одним точным ударом в сердце. Я, как правило, поросёнка придерживаю, а он, достав из-за голенища отточенный нож, р-раз! И готова свинья. И всё бы ничего, если б свояк мой не был большим выпивохой. Потом за один точный удар целый месяц его опохмеляешь. Вот и решили в этот раз без него справиться. А чем, спрашивается, я хуже сухорукого свояка?
В общем, наточил нож, позвал соседа. А сосед у меня смирный, непьющий – слышал, сектант, ли чё… Вот и сговорились, что потом всю печёнку ему отдам. Вывели, значит, хряка из хлева-то, повалили на бок, сосед приподнял переднюю ногу, ну а я… В опчем, промазал, ударив аккурат в ребро…
Хряк, знамо дело, взвизгнул и, раскидав нас с соседушкой, давай обоих гонять по двору. А вымахал он у меня нынче чуть ли не по пояс, сильный, гад. После того как сосед оказался на земле, пришлось ему, горемычному, быстро юркнуть на забор. Мне же ничего не оставалось, как бегать за свиньёй по всему двору. А из борова кровь хлещет, как из брандспойта. Догнал уж было порося-то, но тот вдруг с оскалившейся пастью возьми и кинься на меня. Я – от него; где нож – убей, не помню! Потом как поддаст мне сзади-то, вот я, поскользнувшись, и бухнулся. Да как-то неудачно, левую руку до сих пор плохо чувствую. Хряк через меня, потом давай кусать. Как в каком фильме ужасов!
Ружьё, кричу соседу, тащи! Пока с поросём ужастился по всему двору, наконец-то принесли двустволку. Отходи, вопит сосед, стреляю! Я в сторону, хряк – за мной; я на крыльцо, и он туда же. Опять бегу, он на пятки наступает; споткнулся, хряк – через меня. Тут-то Иваныч и стрельнул. Открываю глаза – о, ужас! Боров с разинутой пастью летит на меня! Секунда – и я вместе с соседом повис на воротах. А раненый хряк, будто взбесился, начинает налетать на эти ворота, заходившие вдруг ходуном. В общем, это… Хиччок, иль как его там, отдыхает…
– Хичкок, – подсказал кто-то. – У него одни ужасы…
– Так и у нас ужасы, хоть книжку пиши! Выходит, значит, моя баба: «Закончили уже?» Но, увидав этакую канитель, завизжала и, убежав обратно, закрыла за собой дверь изнутри на крючок. «Ты чем зарядил-то?» – спрашиваю соседа. «Чё было, то и схватил», – отвечает. «А чё было-то?» – тормошу его. «Ну… это… дробь»… «Да-а, повисим ещё…» Висели минут пятнадцать, пока хряк не обессилел. А когда спустились, чувствую, с рукой моей совсем нелады – повисла. В общем, боров во дворе в кровищи валяется, а мне «скорую» пришлось вызывать. Пока те ехали, свинью уже убрали. Фельшар во двор заходит, а там стою я с переломанной рукой, а вокруг всё залито кровью. У вас тут что, спрашивает, убийство, што ль, иль как? Нет, говорю, скорее – покушение на убийство, только на кого, не понять…
Вся палата сотряслась от дружного хохота. Егор смеялся вместе со всеми, хотя одновременно приходилось корчиться от боли.
– Теперь ста граммами не отделасся от соседа-то, – хохотнул сосед. – Придётся в ресторан вести, в самый дорогой…
– Да уж, наверное, придётся, – согласился мужик. – Баба сказывала, что на следующий день свояк явился: дай, грит, Петровна, похмелиться чего. Та – нет, не до тебя, мол. Свояк не отстаёт: хошь, грит, хряка сейчас тебе быстренько заколю, только налей. Она ему: зарезали уж, где ты раньше-то был? Налила тому и выпроводила взашей…
Палата вновь огласилась громким смехом…
– Что за шум такой? – раздался вдруг строгий женский голос.
Теперь все головы повернулись в сторону дверей. В палату в сопровождении врача и медсестры вошёл заведующий хирургическим отделением Виктор Михайлович Волгин. Одной из женщин, как догадался Егор, была та самая обладательница прекрасных васильковых глаз, Елена Борисовна, которая вчера его и спасала.
Начался утренний врачебный обход. Заведующий подходил к каждой кровати, о чём-то спрашивал пациентов, осматривал их, потом давал рекомендации и кое-какие распоряжения «свите». Егор не вслушивался в непонятный «птичий» язык Виктора Михайловича, да и не смотрел ни на кого. Взгляд парня был обращён исключительно на молодую докторшу, на её «васильки», которые без марлевой повязки на лице, казалось, ещё больше расцвели. Ему никогда прежде не приходилось видеть такого открытого, лучезарного лица, которое, несмотря на всю его серьёзность, было прекрасно. Одно смущало: за все десять минут, пока группа находилась в палате, эти васильковые звёздочки ни разу не скользнули в его сторону.
Егору вдруг даже стало обидно за себя. Он-то думал, что почти герой. С рысью сразился, вышел победителем, весь, понимаешь, израненный, а на него ноль женского внимания. И если равнодушие Виктора Михайловича он ещё мог понять, то аналогичное поведение Елены Борисовны просто-таки возмущало. Хотя бы разочек взглянула на израненного героя! Нет, ей не до него, всё что-то пишет, пишет; вставит два слова и снова уткнётся в свою тетрадочку. Егор нахмурился и тупо стал пересчитывать прозрачные капельки в поставленной незадолго до этого капельнице. А потом и вовсе задремал…
– В отношении пациента Озеркова, как я уже докладывала, проводится весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, – услышал сквозь сон Егор голос Елены Борисовны. – Состояние его на сегодня средней тяжести, ближе к удовлетворительному, однако сказывается большая потеря крови – более двух литров. Да, и сопутствующая патология: парень год назад перенёс тяжёлое ранение перикарда… Внимательно отслеживаем состояние сердечного ритма и всей сердечно-сосудистой системы. Во второй половине дня пациент будет осмотрен заведующим терапевтическим отделением…
– Согласен, – мотнул головой Виктор Михайлович. – Взять пациента под особый контроль. О его состоянии докладывать мне ежедневно. Как лицо-то, красавец? – наклонился он над Егором. – Лихо по тебе кошка-то прошлась, а? А шрамы – они ведь только украшают настоящего мужчину, не правда ли?
– Да лучше бы как-то без них, – промямлил Егор.
– Не женат ещё? – поинтересовался заведующий.
– Не-а, не на ком…
– Ты это, парень, брось. Было бы желание. Так что… до свадьбы заживёт, – улыбнулся Виктор Михайлович.
– Спасибо, вдохновили…
Потом Егор взглянул на Елену Борисовну и… И успокоился. Васильковые молнии пронзили всё его тело. Он закрыл глаза. Было стыдно, что всё его мужество, оставшись один на один с этими глазами, вдруг ушло куда-то в пятки. Не выдержав и секунды, Егор просто трусливо зажмурился.
– Через полчаса Озеркова – в перевязочную, – вновь услышал он голос врача.
Лёжа с закрытыми глазами, Егор блаженствовал. Ну вот, всего каких-то полчаса (каких-то тридцать минут!) – и он снова увидит глаза цвета васильков. Сердце, гулко тукая, отдавалось в ушах…
Эту неделю он жил почти в забытьи. Утро начиналось с радостной мысли, что сегодня вновь увидит ЕЁ. Посмотрит в глаза, услышит голос, понаблюдает за точными, красивыми движениями рук… У него уже когда-то нечто подобное было. Правда, давно. Да и не так сильно билось в груди. Сейчас Егор стал немного другим, а потому был уверен: на этот раз своё счастье он ни за что не упустит.
Поборов свою природную скромность, пациент Озерков даже стал разговорчивее при общении с обаятельной женщиной-врачом. Ещё один день, ещё одна встреча, и вновь… любимые глаза. Теперь Егор уже не сомневался: эти васильки стали любимыми. Как это здорово – снова любить…
…В начале февраля, едва закружили сильные метели, в груди молодой кошки вдруг вспыхнула страсть. Она отчего-то занервничала, стала пугливой и ещё более диковатой; совсем пропал аппетит; с лёгкостью догнав беляка, теперь не хватала жадно, торопясь насытиться горячей животной плотью, а начинала играть с этим пахучим комком. А ещё полюбила, катаясь на пушистом снежном покрывале, внезапно застыть, устремив свои жёлтые глазищи куда-то вдаль, навстречу солнцу.
Но что бы Она ни делала – охотилась ли, играла или просто нежилась в снегу, – все её мысли были о Нём, чей красивый силуэт, порой замеченный меж сосен и кустов валежника, вызывал в душе бурю страстных эмоций. В отличие от большинства обитателей здешнего леса, эта кошка не боялась Его; скорее, восхищалась силой, ловкостью и неотразимой походкой – такой грациозной и величественной, что заставляла, как ей казалось, любоваться даже неповоротливую тётушку-Кабаниху.
Все Её чувства во время этих метелей были подчинены одному: чутким носом поймать запах Любимого. И это, опять же, раздражало. Ведь никогда не страдала. Да, иногда заигрывала и даже заставляла понервничать своенравного самца, пробегая гордо мимо, будто не замечая. Но чтобы тосковать и страдать…
Нервную дрожь вызывало и другое: Она слышала Друга. Порой из далёких лесных зарослей неожиданно вырывался зовущий мяукающий крик: «Где ты, Любимая?! Если ищешь меня – я здесь! Здесь!..» Заслышав такое, Она быстро вскакивала и кидалась на призывный зов. И лишь пробежав немного, всё замедляя и замедляя бесшумную поступь, наконец останавливалась. Но дни шли за днями, зов становился всё яростней, а томление и страстное трепетание в груди всё неотступнее.
И однажды Она решилась. Услышав страстный зов, лапы сами понесли на милый запах. Теперь уже не было желания ни вернуться, ни остановиться. Осторожно высматривая очередной отрезок пути, Она всё ближе и ближе приближалась к заветной цели. Случайно наткнувшись на выпорхнувшую из снега куропатку, сбила на лету; быстренько, мимоходом закусила и устремилась дальше. Инстинктивно подчиняясь врождённым рефлексам, рысь двигалась с подветренной стороны, чтобы не быть обнаруженной загодя.
Всё ближе и ближе… Запах Друга заставил напрячься каждой мышце молодого тела. И всё же Он обнаружил её раньше, недаром считался самым опытным в этих краях. А ещё мудрым и искушённым в любви. Самец не подал вида, что знает о крадущейся позади него самке. Он лишь слегка пригнулся, надёжно опершись всеми четырьмя лапами в твёрдый наст. «Дурёха, – подумал. – Как будто не знаю, что сейчас прыгнет…»
Ловкий прыжок с тыла, сопровождаемый мягким ударом, едва не сбил Его с ног. Самец, сколько мог, пытался изобразить удивление неожиданным появлением проказницы, потому что знал: кошки это обожают – удивлять. Пришлось упасть в снег, вроде как беспомощно дёргая лапами, и когда Та уже совсем было расхохоталась-замяучила, бросил на шею тяжёлую, мощную лапу и, несильно схватив передними зубами ухо с кисточкой, уверенно повалил. И замер. Перестала дышать и Она. Лишь два молодых и горячих сердца колотились, пытаясь вырваться из рёберной западни.
Тишина продолжалась недолго. Первой, застыдившись, вскочила Она (второпях в чужой пасти едва не оставила ухо с кисточкой!), а за Ней и Он, ухвативший с притворно-рассерженной миной заднюю лапу подруги. Куда там! Когтистой передней лапой Она тут же прошлась по его наглой физиономии, отбилась и устремилась в засыпанные снегом заросли. Пара кровавых капель, что стекли с его пораненного носа, лишь придали Ему решимости. Встряхнувшись и дико зарычав, Он бросился догонять милую обидчицу…
Их страстное общение затянулось почти на целый месяц, что для лесных кошек несвойственно. Хотя Она готова была покинуть Его уже после двух недель ласковой страсти. Тихо ушла, укрывшись в густой кроне на толстом еловом суку где-то в Сосновой Балке. Но самец беглянку быстро разыскал и задал такую нежную трёпку, что остаться после этого равнодушной смогла бы разве старая, дряхлая кошка…
А потом Он… исчез. Внезапно, без видимых на то причин, на пике их любовных отношений. Она, конечно, могла бы обидеться, но чутким женским сердцем сразу почувствовала что-то неладное. Лес с раннего детства приучает быть готовым к самому худшему. Потому-то кошачья интуиция словно прокричала: беда! Она не стенала, не плакала. Просто было обидно, что недолюбила. Слишком быстро всё закончилось, не успев, казалось, начаться. И этот миг Она будет помнить всегда!
И всё же, раздув как-то чуткие ноздри, кошка поймала тот запах, заставивший вздрогнуть и двинуться в путь. Он лежал на снегу неподвижно, неподалёку от того самого места, где им когда-то было так хорошо. Всюду валялись кровавые снежные комья, указывавшие на признаки недавней смертельной схватки. Отважный, Он бесстрашно дрался с Двуногим и, ранив того, погиб в неравном бою.
Подойдя ближе и поняв, что Ему уже не помочь, Она лишь лизнула стеклянные, когда-то такие страстные глаза, и огласила Лес гневным, плачущим рыком…
– Ну что, в конце недели выпишем, – озадачила Егора во время очередной перевязки Елена Борисовна. – Лицо твоё до ума доведём, а остальное быстро затянется, молодой ведь…
– А шрам на щеке, наверное, на всю жизнь останется? – поинтересовался он.
– Останется, – подтвердила врач. – Рана оказалась глубокой. Но не волнуйся, мною проведена своего рода косметика. Пожалела твоё лицо, мальчишка ведь совсем, и со шрамом… Не годится.
– Какой же я мальчишка? Подумаешь, немного младше кое-кого…
– Но-но, Озерков, – осадила ершистого пациента Елена Борисовна. – Много разговариваешь, как посмотрю. Я тут, понимаешь, стараюсь для него, волосы рву, а он…
– Какие волосы? – не понял Егор.
– «Какие, какие»… Свои собственные, белокурые, – улыбнулась женщина. – Взяла волос, простерилизовала, а потом вставила в иглу и сшила твою рану на лице. Ясно, друг ситный? Твой шрам никто и не увидит…
– Не понял… А при чём здесь волосы-то?
– Сам подумай, ведь волос намного тоньше шёлка, поэтому и шрам останется едва заметный, вот так.
– А-а, наконец-то дошло…
– Чем вот только расплачиваться будешь, герой, за бесценные женские волосы? – засмеялась Елена Борисовна.
– Насчёт подарка вопрос решённый – рысья шкура! – улыбнулся Егор. – И вообще, приезжайте как-нибудь ко мне в гости, в Рысью Падь. Я там сейчас за лесного хозяина. Красота неописуемая, прозрачный воздух, тишина…
– Так ты хочешь, чтобы и меня рысь или медведь, как моих пациентов, растерзали? Нет уж, спасибочки… А шкуры не нужно: я животных, хотя и боюсь, но люблю.
– Я серьёзно, со мной вас никто не тронет. У нас там такая тишина! В общем, буду ждать…
– Ну, разве что… послушать тишину.
Сохатый не любил Двуногих. Сколько помнил себя, от них всегда исходила угроза. Даже в дремучих удмуртских лесах – и там достали. Он был ещё не стар, этот Сохатый, с огромными, как крупные вилы, рогами. Разве может быть старым восьмилетний самец? Но невзгоды последних лет не прошли бесследно.
Лось стал подозрителен, излишне осторожен и каким-то дёрганым. Дошло до того, что пару раз едва не сорвался на спутнице – молодой корове, порадовавшей его минувшей весной родившимся сыном. Хороший получился малыш. Под бдительным оком матери он быстро набирал силы и хорошо рос. Но главное, пошёл весь в отца: такой же необузданно-строптивый и в то же время – любознательный и игривый. Совсем как Сохатый в молодости.
Сохатый перебрался в Рысью Падь не от хорошей жизни. За последние три года он потерял уже две семьи. И всё по вине Двуногих с их Огненными Палками. Когда-то о Двуногих он слышал из рассказов матери, поучавшей его сторониться этих страшных чудовищ. Они – не Обитатели, они – Пришлые, втолковывала малышу умная лосиха. А Пришлые всегда опасны. Да и Обитатель Обитателю рознь, знал Сохатый. Он убедился в этом после того, как в морозную зиму его мать зарезала стая Серых, загнав в непролазное болото. И всё же Сохатый в Лесу не сторонился Обитателей, боясь лишь наткнуться на Пришлых, самый опасный из которых – Двуногий.
В Рысьей Пади Сохатому нравилось. Здесь было спокойно, тихо, неопасно. А по весне, как раз тогда, когда родился сын, случилось совсем непонятное – он подружился с Двуногим. Получилось так, что как-то недалеко от одинокого жилища лось набрёл на большие охапки душистого сена. Пришёл туда другой раз – опять сено, душистое-душистое! Привёл туда подругу, бывшую на снося́х. Та, изголодавшись на одной осиновой коре, не могла нарадоваться, с радостью поедая сухую, пропахшую летом траву. А через несколько дней быстро и удачно принесла Малыша.
Сохатый был тёртым калачом, а потому быстро смекнул: Двуногий оставил сено для Него. И когда однажды увидел у кормушки пожилого Двуногого, не испугался. И даже совершил невероятное: не решаясь подойти ближе, он трубно прокричал старику слова благодарности.
– Покричи, покричи… – пробурчал в ответ Авдеич, едва заметно усмехнувшись. – Весна ведь, изголодались, поди…
Так постепенно завязалась негласная дружба Сохатого с Двуногим, который, в отличие от своих собратьев, помогал Обитателям выживать. И зверь в этом не сомневался. Именно поэтому уже не первый раз лосиная семья встречала у кормушки других Обитателей – Секача, Косуль и даже Рыжую. Всех понемногу подкармливал этот Двуногий. Вон, Секач, не стесняясь, явился сюда со всем своим выводком – суетливой Свиньёй и с десятком прожорливых полосатиков. Тяжело таких весной прокормить.
Да, надо бы, конечно, ещё раз привести к кормушке Малыша, пусть поест вдоволь. Молодой ведь, тело силой наливается, постоянно есть хочется. А какой красавец – плоть от плоти Сохатый: изящный изгиб сильного носа; а что за чудные ноздри, дышит – словно песню поёт! Глаза – две Луны, а не очи! Но это уже не его – матери. Та ещё красавица. Ни одна из бывших с ней не сравнится: молчаливая, покладистая, ласковая. Потому и любит.
Одно заботило Сохатого: в последнее время здесь, в Рысьей Пади, стали чаще встречаться сородичи – и одинокие, и семейные. А это опасно. Во-первых, каждый из встречных самцов с вожделением косится на его половинку, что очень даже отвратительно. А во-вторых, новички могут привести за собой Двуногих с Огненными Палками. Верный признак, уже проходили. Именно так он лишился предыдущей семьи. Двуногий всегда опасен, с Огненной Палкой – смертельно опасен! Будь бдителен, Сохатый, внушал он себе, всё чаще и чаще заботливо оглядываясь на тех, кто шёл за ним следом…
Секач терпеть не мог, когда рядом сновал кто-то из Обитателей. А ещё его воротило от одного вида Двуногого. Увидав неподалёку от себя Сохатого, хряк от досады злобно засопел, а потом не выдержал и громко хрюкнул. На всякий случай, не поленился сделать ложный выпад в сторону вислорогого. Но тот, даже не оглянувшись, лишь цокнул острым, как копьё, копытом прямо перед мощным пятаком.
Что ж, придётся вернуться к корыту. Хрюкнул ещё раз, созывая всю свою дружную компанию в кучу, чтоб, того гляди, не растерялись.
От корыта до ужаса пахло Двуногим, зато внутри него оказалась такая вкуснятина! Конечно, не свежие жёлуди под дубом, но всё же… Голодный выдался год, лучше и не вспоминать.
Хрю-у-у… Секач громко вспылил, когда один из полосатиков выхватил из-под самого носа кусочек чего-то до умопомрачения вкусненького…
Зверья в Рысьей Пади и в окрестных лесах, как отметил новый егерь, действительно хватало. Даже в Хвойном Увале, где, в отличие от Сосновой Балки и Утиной Заводи, ни кабанов, ни лосей отродясь не бывало, сейчас егерь обнаружил свежие следы тех и других. Правда, Хвойный Увал растянулся почти от Кряжа до Балки, а это никак не меньше десяти кэмэ, прикинул он. Тут тебе, помимо сохатых, и лисица, и волк, и даже медведь. Да и рысь теперь не только в Сосновой Балке, но и на Увале, где беляков – как воробьёв на базаре; опять же куропатка; есть парочка глухариных токовищ…
Авдеич, конечно, хорошее наследство оставил. Хозяйство ухоженное, везде кормушки расставлены, кое-где тропы проделаны. Всё по уму. Привольно зверям в лесу, спокойно. Здесь почти как в заповеднике. Когда много ко́рма, зверь хорошо размножается и меньше мигрирует.
И в то же время Егор тревожился. Сказывалась военная выучка, умение быстро оценивать обстановку. Если в лесу много животных, появляются кое-какие вопросы. Что привело зверей в Рысью Падь? Едва ли кормушки старика Авдеича. Кормушки могут разве что поддержать животных в трудное время, а потом они уходят. А если не торопятся уходить? Значит – некуда. Причиной скученности зверя наверняка стала массовая вырубка лесов в соседних регионах и, конечно, неприкрытое браконьерство. Оставшись без леса, а значит, и без дома, зверь оказывается перед человеком с ружьём один на один, совсем беззащитным. И он бежит от убийц туда, где леса и кущи.
Мудрому Авдеичу удавалось в течение нескольких лет обводить вокруг пальца начальников всех уровней, заявляя, что леса́ в его владении, в частности – и урочище Рысья Падь, – находятся в так называемой «отдышке». Лишь лесные работники знают: леса, как и поля, не только используются, но и «отдыхают». Если, скажем, в Болотном урочище три сезона подряд проводилась охота, то потом охотничья забава переносится на Сушинскую Гряду или в тот же в Хвойный Увал; а вот Болотное урочище переходит в разряд «отдыхающего» леса, то есть два-три года находится в «отдышке».
Пресловутая «перестройка», к несчастью животных (и людей!), «перестроила» и Лесные Правила: оказались загубленными сложившиеся десятилетиями законы в сложной социальной цепочке «зверь-человек». Было время, когда не только копытных, но и зайцев-то всех повыбивали «вольные стрелки». И противостоять этой вакханалии было практически невозможно. Леса вырубали, зверей убивали. Вот она, «перестроечка»…
Насколько знал Авдеич, двух его знакомых лесников, наиболее яростно отстаивавших зелёное богатство, подло ранили в спину. Да и в него стреляли не раз и не два. Сопляки, куда им Авдеича свалить? Припугнул для острастки картечью над соплячьими головами – вмиг разбежались. Но это не решало общую проблему: браконьерский беспредел набирал обороты. А защитники Леса, брошенные государством на передний край невидимого фронта, вынуждены были принимать бой.
Егор не боялся переднего края. Он боялся другого – не успеть защитить доверенный рубеж. Едва очутившись в Рысьей Пади, егерь сразу понял: враг на подходе. Это чувствовалось по всему. И по одиночным трусливым выстрелам то у Реки, то за дальними болотинами, то за Вересковниковой Падью. Так уж вышло, что его участок вместил в себя многие километры Леса. Не только свои километры вошли сюда, но и безбрежные веси «ничейного» приграничья, где, казалось, уже не осталось ничего живого. Именно оттуда, как рассказывал Авдеич, обычно и появляются браконьерские когорты, своими набегами наводящие ужас на несчастных лесных обитателей. Оттуда и жди беды…
Однако, сам того не ведая, егерь был намного ближе к той линии огня, о которой пока лишь только догадывался. Но даже если б и знал, это ничуть бы его не смутило. Егор Озерков не сомневался в одном: на фронте есть только враг и Родина. А ты – посередине. Тут главное, чтобы чувствовать Родину спиной. Всё остальное зависит от тебя…
Часть вторая
Выстрелить легко. Намного труднее жить с муками совести за содеянное, если, конечно, эта самая совесть имеется…
В. Астафьев
…Где-то за полночь у моста, близ Изиверской Горки, аккурат у изгиба, резко бухнуло, заполошило-зашоркало, испугав до смерти запоздалых гуляк, а в заречной деревне – всю собачью свору. Повеяло теплом; затем и вовсе разухарилось, разгулялось-заве́трило, раздирая у берега тополиные безлистные кроны. И уже на утре́, после скорого ливня, сквозь бегущие хмурые космы стало быстро алеть, приближая весенний рассвет. Потом в нежной сини как-то враз брызнуло солнце, возвестив о приходе нового дня. Всё кругом ожило, заиграло под аккомпанемент гулкого ледяного шороха. Река, проснувшись и начав свой обычный весенний громоход, сейчас влекла к себе каждого, когда ещё встанет-то?
В этот раз ледоход ожидали давно и с опаской. Вплоть до декабря Река никак не могла успокоиться. Уже встала было, укрылась и будто вся съёжилась; но неожиданно потеплело, с низов задуло, подмокло. Вятка грозно заворочалась, сдвинулась, озадачив местных нешуточными торосами, опасными промоинами, коварными разводами. Дважды снималась и уходила, унося шугу́ и на́ледь, но потом всё повторялось сызнова. По-настоящему улеглась лишь к Рождеству; тогда же появились и первые «лисьи» тропинки-переходы.
Однако зимний сон оказался коротким. Уже в марте лёд на Реке посинел и взбух; но ни разводы, ни прибрежная наводь так и не сдвинули упрямицу с места. Лишь апрель-озорник решил исход дела. Зазвенел ручьями-колокольчиками, засвистел-защёлкал скворчиным хором, заиграл солнечными зайчиками. При таком затейнике хочешь не хочешь, а пора просыпаться.
Ленива ранней весной Вятка, заспана, нетороплива. Апрель и так к ней, и этак – ни в какую! И лишь орошённая освежающим ливнем, жеманница постепенно приходит в себя. Застонет, заохает, затрещит по-бабьи, а потом вдруг – раз! И пошла в пляс – с шумом и с грохотом, чуть ли не присядкою. Русская река – как русская женщина: если радости мало – хоть дай поплясать! Вот и пляшет, колышется, то стесняясь, то мощью наваливаясь. Не часто ей такая радость – только в апреле, когда звонко, ярко, вольготно и весело…
За прошедшее время Егору удалось в Рысьей Пади многое. Наследство Авдеича оказалось куда как приличным. Дом большой, просторный, обустроенный; всё чистенько, досочка к досочке, чинно и пристойно. Пристройки и хозяйство тоже были в порядке. Правда, пришлось полностью разложить и вновь соорудить печь. Старая «русская дымовуха» (как называл её сам Авдеич) действительно оказалась «дымовухой» – дымила, как Егоркин ротный, Василич, не выпускавший изо рта цигарку даже во время боя.
Пригодились навыки, привитые Егору отцом. Однажды они уже перекладывали такую же печь у деда, здесь же, в Озерках, когда он ещё был подростком. Теперь же приходилось перекладывать даже не одну, а сразу две – и в бане тоже. С банькой, кстати, пришлось повозиться. Вообще, «повозиться» – сказано не совсем точно: ветхую постройку, сгнившую по старости вчистую от конька до фундамента, пришлось разносить по брёвнышку, чтобы потом, завезя хороший сосняк, отстроить новую – жаркую, белую, пахнущую просмолённой древесиной.
Хорошо, помог местный лесничий Семёныч, земляк, отсюда родом. Здесь он не жил; места дикие, кому хочется в глуши-то? Так, периодически наезжал из Гусиных Озёр, где у него и семья, и два дома (в одном – дочь с зятем живут), да и какое-никакое хозяйство со скотиной.
– Был бы помоложе, ездил бы на Север, – ворчал Семёныч. – Сам посуди, там в месяц столько бы зарабатывал, сколь здеся за год накапывает. Жена по хозяйству, дочь в декрете со вторым, а от зятя какой прок, если постоянно торчит на вахте? Остаётся одно – лес исподтишка татарам продавать. И продавал бы, как покойничек Михал Пахомыч. Да только он, Пахомыч-то, недолго продавал, так в лесу и нашли. Но даже не в том дело. Через себя перешагнуть не могу, жалко лес-то наш, красивый уж очень… Из таких сосен, как в Рысьей Пади, раньше-то, отец сказывал, мачты для фрегатов делали. Эх, Расея-матушка, всяк её, голубушку, норовит обидеть-обобрать. А сколь зверья убивают – страсть. Хорошо хоть, ты сейчас, а до этого Авдеич порядок в лесу держал, иначе давно бы уж кругом пусто было…
– Да ладно, запричитал, – одёрнул его сверху Егор, заделывавший на трубе последние зазоры на швах. – Подай-ка лучше ещё раствору…
– А чё, я не зря говорю, – обиделся Семёныч. – Теперя каждый знат, что в Рысье Пади новый егерь, справный и честная голова. И ведь всё равно с ружжами лезут. Ладно бы с лицензией и когда положено, а то ведь браконьер на браконьере. Я б их, слышь, Михалыч, тут бы на месте и расстреливал…
Пока Семёныч продолжал свою обычную бодягу из цикла «Сталина на них нету!», Егор думал о другом. Как оказалось, в Рысьей Пади и прилегавших к ней лесах было не так уж и спокойно. И не только потому, что всюду шла варварская и бесконтрольная вырубка лесных угодий. Нашествие браконьеров, особенно со стороны «соседей», начинало серьёзно озадачивать: негодяи стреляли в любого лесного зверя и птицу. Преступники не считались ни с чем – ни с сезонами охоты, ни с собственной совестью. Хотя с последней такие вряд ли были знакомы. Неуважение к зверю стало основным правилом поведения человека в лесу.
Взять того же медведя. Устав за лето и нагуляв жир, зверь в зимнюю стужу спокойно спит в берлоге, никому не мешает. Сезон охоты в это время на него закрыт. Тем более что там же, в берлоге, обычно появляются медвежата. Но стало модным (Егор от досады аж скрипнул зубами!), выследив берлогу собаками, обложить её, а потом, разбудив косолапого и вынудив выскочить, из десяток ружей сделать из животного решето. Ну разве не варварство? Герои! Иногда, правда, подобные «герои» получали вполне достойный отпор.
– Слышь, Семёныч, я тебе не рассказывал, как в марте браконьеры медведя разбудили? – решил порадовать лесника Егор.
– Не-а, – покачал головой тот. – А чё оне в марте-то, рано ведь?
– То-то и оно, что рано. Ну, слушай. В марте, как ты знаешь, из-за яркого солнца, которое целый день ваяет в лесу прочный наст, охотникам проще добраться в самые непроходимые чащобы. Однажды два горе-сыскаря наткнулись на медвежью берлогу. Сунулись, точно, там косолапый мирно почивает. Давай, говорит один, сделаем так: я с винтарём заберусь на дерево, а ты слегой [2] мишку-то расшевели. Зверь выскочит, и тут мы его с двух стволов-то и завалим…
– От эть, чё творят, – покачал головой возмущённый Семёныч.
– Слушай дальше. Другой, у которого в голове оказалось не больше, чем у его товарища, согласился. Рассредоточились, значит. Тот, который со слегой, просунул палку в щель и давай ею шурудить – туда-сюда, туда-сюда… Достукался. Косолапый попался будь здоров, зверь-зверем, с чёрным отливом. Вылетел оттуда разъярённый, что твоя тёща! И ну на того, который с дубиной. Тот, слышь, забыл, как его звать, и, схватясь за сердце, а может, ещё за какое место, драпанул в кусты. Мишка, знамо дело, за ним. Но тут очнулся другой, что на дереве: бух! бух! Видать, зацепил косолапого-то, отчего тот, окончательно озверев, бросился на дерево. Мужик, поняв, что лезут по его душу, едва в штаны не наворотил, никак не может перезарядить свою старенькую двустволку. Руки трясутся, как у старой Меланьи из Еловки. Один патрон в снег уронил, за ним и второй. Видит, до третьего уже дело не дойдёт – зверюга его вот-вот залапает…
– Дык… ружжом надо бы ему… прикладом-то… – разнервничался вдруг Семёныч.
– Ну, он так и сделал, – продолжал рассказывать Егор. – Стал махать двустволкой и орать что есть мочи. Вопил, видно, так громко, что смутил даже смелого мишку, который, перепугавшись такого неудержимого сопрано, поспешил сползти. Спрыгнул – и дёру в те же кусты, в которых бесследно сгинул первый недотёпа. В общем, мужик, просидев на дереве часа три, решил податься до дому. Спустился и по-тихому, чуть ли не на цыпочках, побрёл подальше от берлоги. Дошёл до высокого ельника и, обойдя кусты, нос к носу столкнулся… с медведем! Бедолага-косолапый, нагло выгнанный из собственной берлоги, просто одурел от столь активного преследования. С ужасом глядя друг на друга, заорали дружно враз! Надо думать, в тех местах так не кричали со времён вымерших динозавров. Короче, мужик дал дёру к «своему» дереву, медведь – куда подальше. Где винтовка, горе-охотник не смог бы сказать и под пыткой. Пришлось просидеть на сосне до утра. Где шлялся всю ночь косолапый, сказать трудно, но в берлогу свою не вернулся. А сбрендивший от такой охоты мужик на следующий день прибрёл в Рысью Падь. Чуть живой и хорошо помороженный. Помоги, грит, друг, готов штраф на месте заплатить, но выручи, доведи до деревни…
По мере повествования Семёныч то посмеивался, то громко хохотал, мелко трясясь и не в силах держаться на ногах. Потом поднялся и медленно побрёл к стоявшей в тенёчке большой корзине; сел рядом, привалился, достал махры… Вдруг прямо за спиной лесничего послышался какой-то шорох, а потом и грозное шипение, перемежающееся с непонятными мяукающими звуками. Семёныч подскочил так быстро, как будто ему было не полсотни годков, а лишь семнадцать.
– Змея! – дико закричал он, отскакивая от корзины. – Чуть, гадина, не ужалила… Рогатина есть или грабли какие? – обратился мужик к Егору.
– Да угомонись ты, Семёныч, – улыбнулся егерь, сползая с крыши. – Никакая это не змея. Это Пшика. Пшика, Пшика, красавица моя… – позвал он, направляясь к корзине.
Не веря своим глазам, Семёныч увидел, как оттуда высунулись два острых уха, увенчанных мохнатыми кисточками. Вслед за ушами появились жёлтые хищные глаза, враждебно нацеленные на лесничего.
– Успокойся, дурёха, – запустив в густой подшерсток руку, ласково заговорил с рысёнком Егор. – Дай я тебя поглажу…
Рысёнок съёжился, но всё же дал себя погладить и, зажмурившись, громко замурлыкал.
– Эту красавицу, Семёныч, я в лесу нашёл. Пшикой назвал, любимица моя…
– А почему так чудно назвал-то, не по-нашенски?
– Так уж вышло, Семёныч. Так вышло…
Одиночество не долго терзало овдовевшую кошку. После гибели друга незаметно для себя Она вдруг стала сдержанней в чувствах и эмоциях; пропала игривость и желание оттачивать мастерство на сосновых крепких ветвях. К прежней осторожности добавилась излишняя осмотрительность и плавность в движениях. Через какое-то время Она поняла, что не одна: где-то там, пониже рёбер, вдруг заявило о себе что-то живое и чрезвычайно дорогое.
Опыт приходит с возрастом, а кошка была слишком молода, чтобы не испугаться столь разительной перемене внутри себя. Поначалу Она долго и настороженно прислушивалась к тому, что творилось с её телом, пытаясь понять происходящее. Но интуиция и инстинкт подсказали: ничего страшного нет, просто… так и должно быть. И рысь успокоилась, привыкая к своему новому состоянию.
Несмотря на растущий живот и набухавшие с каждым днём сосцы, Она оставалась достаточно ловкой, чтобы зайчатина на обеденном столе не переводилась. Правда, теперь приходилось поглощать всё – мышей, кротов и даже лисиц, не говоря уж о всякой пернатой мелюзге. Голод заставлял совершать многокилометровые переходы, а это тоже утомляло. Иногда шла на очередную хитрость и, обнаружив свежие следы беляка, пробиралась к месту заячьих игр, где, устроив засаду и затаившись, терпеливо ждала единственного мгновения для удачного прыжка.
Но были дела и поважнее, нежели часами лежать в засаде. Она долго искала чего-то ещё, пока не понимая – чего именно. В отличие от большинства зверей, загодя готовящих для будущего потомства гнездо, логово или берлогу, рысь занимается этим, когда, что называется, деваться некуда. За несколько часов до того, как окотиться, будущая мать инстинктивно определяет, что ей сгодится – дупло или непроходимый валежник. Дупло, конечно, лучше и надёжнее, но его труднее найти; в валежнике – проще, зато опаснее. Можно устроиться в чужой норе, но там детёнышей быстро обнаружит росомаха. И если материнский инстинкт очень силён, рысь обязательно приметит, что ей может сгодиться в будущем.
Два дупла на первый взгляд вполне сносные, Она отбраковала сразу же. В одном, просторном и сухом, где сосну побила молния, останавливаться было крайне опасно: изъеденный огнём ствол, не ровен час, вот-вот мог рухнуть. Другое тоже оказалось неплохим, но из-за широкого входа и близкого расположения медвежьей берлоги, от убежища пришлось отказаться. Да и росомахи там шныряют, как поняла позже. Третье было занято, и свежие метки внизу мощного соснового ствола напоминали об этом. Пришлось присматриваться к валежинам. Худший вариант, но что поделаешь?..
Котята появились, когда уже было совсем тепло. Всё-таки пришлось котиться в валежнике, причём в таком, на который Она наткнулась случайно, за несколько часов до ответственного момента. Да и выбрала лишь потому, что к нему почти невозможно было пробраться. Но только не Ей! Рысь добралась до самого нутра хаотичного нагромождения, быстро освоилась, нашла уютный, непродуваемый и сухой уголок и стала его обустраивать. Вскоре появилось лежбище, в котором кошке и предстояло произвести на свет потомство.
Заслышав писк, Она и тут не растерялась. Быстро вылизала шевелящиеся комочки, аккуратно перетащила в сухое место, а потом осторожно прилегла рядом. Эти беззащитные существа принесли матери некоторое успокоение; приложив их к набухшим сосцам, обессиленная, Она тут же заснула…
Природа так подгадала, что крупные кошки растят своих детёнышей в семье: пока один добывает свежее мясо, другой неотлучно находится рядом с котятами. Иначе – никак; иначе, лишившись детёнышей, придётся всё начинать сначала. А врагов у рыси хоть отбавляй – тот же волк, росомаха. Но самый опасный из всех врагов – Двуногий. Этот силён, умён и беспощаден. Словно рождён, чтобы уничтожать рысий род; потому-то кошки стараются держаться от него как можно дальше. Ведь если росомаху или серого можно обмануть, запутать и даже запугать, то с Двуногим нет смысла тягаться: его Огненная Палка не даст и шанса на спасение.
Рыси-одиночке с котятами всегда нелегко. От её ловкости и природного умения ежедневно добывать свежее мясо зависит не только собственная, но и жизнь детёнышей. Именно поэтому, где бы Она ни находилась, чем бы ни занималась – сидела в засаде, гналась за зайцем или закусывала куропаткой, – одна неотступная мысль не давала матери покоя: как там Детёныши? И, крепко ухватив чьё-то трепыхающееся тельце, тут же устремлялась к валежнику.
А там её уже ждали. Через месяц рысята были совсем не теми немощными комочками, какими их впервые увидела мать. Светло-рыжие, игривые и с жёлтыми огромными (как у отца!) глазами, они встречали Её радостным писком, хватая ещё почти беззубыми челюстями пахучее свежее мясо и начиная жадно рычать друг на друга. А потом, повозившись с вкусной, но тяжёлой для разжёвывания пищей, с радостью накидывались на сладкие материнские сосцы. А вот это – самое желанное! Вкусно, сытно и быстро. И, насосавшись, они с раздутыми, как шары, животами, засыпали под горячим, родным брюхом…
В отличие от рысят, их мать в последнее время сильно сдала, исхудала. Молока уже не хватало, а за добычей порой приходилось бегать за многие километры. Но выбора не было, и Она старалась как могла.
Но следовало держать ухо востро. Однажды рысь-кормилица, исходив в поисках еды всю Сосновую Балку, всё-таки поймала за хвост огромного тетерева, схваченного Ею на одном из токовищ; птица должна была стать хорошей наградой за потраченные силы. Мохнатые лапы сами несли кошку к валежнику. И уже приблизившись, вздрогнула и резко остановилась: отвратительный и ненавистный запах врага вдруг нестерпимо защекотал раздутые ноздри.
Это был запах Серого. Сначала подумала, что показалось. Но чем ближе подходила к валежнику, тем ощутимее становился отвратительный дух. Зашла с подветренной стороны, затаилась. Так и есть – Серый. Хищник-одиночка с озабоченным видом бродил вокруг рысьего лежбища. С одной стороны подойдёт, с другой, но справиться с тяжёлыми валежинами было не под силу даже ему. Но мать об этом уже не думала. Рысь осторожно выпустила из пасти тетерева и крадучись пошла навстречу злоумышленнику. «Ах ты… собака серая, – пронеслось в рысьей голове. – Пёс смердячий, щенок!..»
Кошка знала, как драться с псами, не одним из них утолила голод в зимние холода. Серый – тот же пёс, интуитивно догадывалась Она, только не друг, а враг Двуногого. И Её личный враг! Рысь стремительно кинулась на противника, сбила его с ног и, пройдясь острыми когтями от груди до живота, быстро отскочила. Обескураженный волк, взвыв от боли, попытался было кинуться на обидчицу, но вдруг взвизгнул и, оставляя за собой кровавый след на свежей зелени, быстро засеменил восвояси.
Рысь уже давно нашла самое слабое место всех псовых – живот. Он слишком плохо защищён, и стоило, сбив животного на землю, полоснуть когтями по светлому, беззащитному брюху, как грозный зверь тут же превращался в слабого щенка. Она не ошиблась: Серый без стаи – тот же пёс, только не лает…
И всё же при всей своей осторожности, ловкости и знании Леса однажды Она допустила фатальную ошибку. Лес не прощает ошибок – ни малых, ни больших. Лес учит: будь внимателен и осторожен. Ошибка – это гибель! И Она ошиблась. Возможно, потому, что рысята быстро росли, требуя еды всё больше и больше… Мать же старалась.
Зайчатину рысь почувствовала издалека. В эти дни Она была страшно голодна, ведь всё, что добывала за сутки, отдавала ждавшим в валежнике детёнышам. Самой же оставалось питаться на ходу – случайно схваченная птичка, пара-тройка яиц, полёвка… Добыча посолиднее – Им. Приходилось охотиться днём и ночью. И вдруг такая удача: запах свежего мяса.
Она напряглась всем телом и направилась в сторону приятных флюидов. Чем ближе подходила, тем ощутимее чувствовался отталкивающий запах Двуногого. Хотелось, не поддавшись соблазну, пройти мимо, но трудно не поддаться, когда не один месяц впроголодь. Нужно просто быть очень осторожной, внушала себе кошка.
Рысь вышла на лесную тропу и у поворота, где раскинулась старая ель, увидела заячью тушку. От зайца пахло свежей кровью, но он был мёртвым, и это настораживало. Лесные кошки не питаются падалью – слишком чистоплотны и брезгливы; да и вообще, такое ниже их достоинства! Питаться мертвечиной – значит, совсем себя не уважать. Кошка – зверь гордый, способный прокормить себя свежим мясом. А если нет сил – пора умирать. И лишь иногда, в самых исключительных случаях, рысь может позволить себе съесть не добытое ею, а найденное свежее мясо.
Находка отпугивала. Как же здесь пахло Двуногим! И от земли, и от травы, и от близлежащих кустов. Даже мясо, которое, несомненно, было заячьим, отдавало Двуногим. Кошка подобралась и, навострив уши с подрагивающими кисточками, осторожно подошла к пахучему лакомству. Обнюхала – зайчатина, почти свежая. Потом жадно загребла находку лапой и…
Дальше произошло непонятное. Раздался резкий щелчок, и кошку рефлекторно подбросило вверх. Но отскочить не удалось: кто-то невидимый и сильный, больно ударив, смертельной хваткой вонзился в переднюю лапу. Такого с Ней ещё никогда не было. Рысь знала, как опасна Река во время разлива; как предательски потрескивает хрупкий лёд, готовый вот-вот провалиться и увлечь неосторожного зверя; Она даже знала, как увернуться от голодной волчьей стаи… А вот что делать с этим, не могла взять в толк. Сначала, грозно рыча, извиваясь всем телом и перебрасывая нечто, больно зажавшее лапу, из одной стороны в другу, кошка старалась избавиться от безмолвного врага. Тщетно. Неживой и жестокий, он продолжал удерживать Её подле себя. Пыталась рваться и перекусить железку – бесполезно.
Мысли прыгали, путаясь в голове и заставляя то царапаться, то кусаться, то просто отчаянно рычать. Вдруг в кошачьем сознании возникла спасительная искорка. Зрение не обмануло: это нечто привязано к старой ели тонкой верёвкой. А если… верёвку перегрызть? Она ещё не до конца обдумала своё решение, а острые зубы уже впились в эту… в эту железяку. То была не верёвка, а прочная перекрученная проволока, которую, точно знала Она, зубами не взять. И всё же впилась, и кусала, и рвала, и металась…
Через какое-то время рысь вновь кинулась на пленившего Её железного монстра; схватив, принялась неистовствовать. Железяка равнодушно скрипела под зубами и продолжала молчать. Обессилев и тяжело дыша, кошка прилегла рядом. Нет, Она будет биться до конца! В любом случае, без боя не сдастся никому. Тем более – Двуногому. Это конечно же его проделки, не зря же отовсюду такой противный запах. Как глупо попасться! Решено: Она убьёт Двуногого, и в этом нет никакого сомнения. Только после того, как перегрызёт ему глотку и утолит жажду мести, погибнет сама. Так и будет!
После этого пленница чуть успокоилась, но вдруг вскочила вновь: а как же Они?! Ведь котята так любят Её! Один из них совсем слаб, если не поест сегодня – долго не протянет. Нет, нет, нет, Она должна вырваться из ловушки Двуного!!! После таких мыслей кошка, продолжая надеяться на спасение, вновь неистовствовала, раз за разом бросаясь на ненавистный капкан.
И даже тогда, когда рысь осознала, что вырваться из смертельной ловушки уже не удастся, Она никак не хотела с этим смириться, до последнего грызя неподдающуюся твердь…
– Я те чё говорил, Кент, здесь она бродит, и никуда от нас не денется, – рассыпа́лся в суетливом словоблудии один из браконьеров, продираясь из густого вересковника на тропу.
– Ещё не факт, что угодит в капкан, – ворчал другой, которого называли Кентом. – Вспомни, Серёга, как ты у Кряжа упустил рыжую-то – перекусила верёвку – и поминай как звали…
– Не хотел с проволокой возиться, – оправдывался тот. – Теперь без неё никуда. А рысь всё равно возьмём; здесь она, я эти места хорошо знаю…
– Всё-то ты знаешь, – продолжал ворчать Кент. – Мне уже достало бродить по этим твоим местам! Если к концу недели зверя не добудем, заказчик пойдёт на попятную – и плакали наши денежки!
– Да нет, всё будет тип-топ, Кент, не кипятись, – успокаивал собеседника Серёга. – Возьмём живую, в целости и сохранности, как и договаривались. Не зря же местечко называется Рысья Падь – тут этих рысей испокон веков столько водилось! Места-то глухие…
– Глухие-то глухие, а если нового егеря встретим? Вот тебе и неприятности «по самое не хочу», – не унимался Кент.
– Сплюнь, Петрович… Слышал, вредный мужик-то, «прынцыпыальный». Хотя, говорят, пацан совсем, молодой и зелёный. Ишь, «прынцыпыальный» выискался…
– Ха-ха, не таких «прынцыпыальных» обламывали, а, Серый?
– Было дело… Только не время щас на рысь-то охотиться, котята у них теперича. Можно и не сговориться…
– Говорю же, хорошие «бабки» пообещали за живую кошку, – взвинтился Кент. – Тебе деньги нужны, нет?
– А кому не нужны-то?
– То-то. А на зарплату не прожить, согласен?
– Спору нет, не проживёшь…
– Поэтому, чё те эти зверушки: в мешок – и дело с концом!
Когда эти двое подошли к уже притихшей кошке, прошло никак не меньше шести часов после того, как капкан захлопнулся. Увидев людей, рысь свирепо заурчала…
– Попалась, попалась! – закричал ещё издали Серёга. – Говорил же, говорил!
– Угомонись, егеря накличешь, – зашикал Кент. – Лучше скажи, как брать-то будем?
– Да просто. Мешок накинем, запеленаем – ну и всё…
– Легко сказать – «запеленаем», – опять заворчал более осторожный Кент. – Руку-то оттяпает, смотри…
– Не оттяпает, кишка тонка, – хищно ухмыльнулся напарник.
Взяв в одну руку рогатину, а в другую – мешок, – он осторожно двинулся в сторону зверя…
Двуногий шёл Её убивать. И это было столь же очевидно, как скорое изменение погоды: что зима позади, а впереди – тёплое, зелёное и сытое лето. Только Её уже не будет. Но смерть не страшна; страшно другое – судьба Котят. И при воспоминании о них рысьи глаза на мгновение потеплели. О, Она отдала бы даже собственный хвост, чтобы сейчас прильнуть к этим милым проказникам, так похожим… на Него.
Мысль о Нём, чью жизнь растоптал один из Двуногих, заставила вновь напрячься; гневно блеснув глазами, рысь грозно зарычала. И когда Двуногий подошёл ближе, кошка резко бросилась на врага, намереваясь вцепиться в гусиную нежную шею…
Браконьер просчитался. Пленница оказалась истинным исчадием ада. Она выбила из его рук рогатину, вырвала мешок и, схватив клыками за плечо (лишь чудом увернулся – а то б за шею!), смертоносными когтями рванула одежду и плоть.
– А-а-а… – дико заорал охотник, обезумевшим взглядом глядя на товарища. – По-помоги… Помоги, слышь…
– Говорил же, говорил… – подбежал к бедолаге Кент, норовя вырвать того из цепких рысьих лап.
Но кошка, заметив рядом ещё одного Двуногого, тут же схватила его клыками за запястье.
– У-у-у… – раздалось над лесом. – Зараза…
Еле отбившись, Кент, держась за прокушенную руку, кинулся к карабину:
– Ах ты, зверюга…
С этими словами он стал прикладом наносить животному тяжёлые удары по голове, туловищу, лапам…
Последнее, увиденное Ею, было что-то тяжёлое, упавшее меж широко раскрытых глаз. Когда-то этими огромными жёлтыми глазами, находя их весьма красивыми, любовался один самец, погибший от рук Двуногого. И от этой мысли, уже теряя сознание, Она никак не хотела сдаваться, и всё билась и билась…
Кошке казалось, что неравный бой всё ещё продолжается, хотя на самом деле это была лишь агония…
Егерь уже возвращался, когда на одной из заброшенных лесных троп обнаружил свежие человеческие следы. Присутствие человека в трущобе всегда вызывает вопросы, тем более – у егеря.
Не к добру, вздохнул Егор, ох не к добру. Ничего не поделать, придётся идти по ходу следов. Тропа петляла, порой терялась, но он её быстро находил. Неизвестные шли тяжело, ломая ветки и оставляя глубокие следы от сапог. Сразу видно, торопились. Чужаки, отметил про себя, не за грибами же приходили, рановато для грибов-то. Лес «на отдышке» – однозначно, браконьеры.
Теперь уже егерь, как взявшая след гончая, ходко шёл по тропинке: вверх, круто влево, пряменько, теперь пробежимся вниз… У старой ёлки передохнуть…
Однако у ели пришлось задержаться. Сильно натоптано… А вот и следок от капкана, брызги крови на примятой траве, на листьях ракиты… Ага, клок рыжей шерсти, рысьей. Теперь понятно, здесь кошку взяли капканом. Добивали, видать. Твари, сейчас у рысей котята; даже если забили самца, тоже плохо, ведь котят поднимает на ноги семейная пара, одной кошке будет тяжело. Плохо дело, теперь – глядеть в оба!
Этой весной Егор-следопыт выискал одну медвежью берлогу (уже покинутую её обитателем) и два потаённых логова – волчье и рысье. К логовам подходил осторожно, чтобы не встревожить хозяев. Потом долго изучал в бинокль. В волчьем кипела жизнь. Один из взрослых постоянно был начеку, опекая выводок. А вскоре появились и сами волчата – пять игривых серых пузанов, не дававших родителям ни минуты покоя. В общем, с этими всё обстояло нормально.
Зато рысье не подавало признаков жизни. Ведь кошки более пугливы, осторожны, недоверчивы. Увидев рысь первый раз у валежника, он сразу понял: логово. Слишком уж осторожно пробиралась кошка к тем валежинам. Принюхивалась, несколько раз отходила, петляя и путая следы, и лишь после этого юркнула в ворох тяжёлого хвороста. Как правило, днём отсыпалась, а вечером выходила на охоту. Егор проверил – рысь одна. Обычно выкармливают двое: самец – добытчик, а мать – больше с котятами.
Потом в Утиной Заводи набрёл ещё на одно рысье логово, на этот раз – парное. Так что первое надо будет иметь в виду, подумал тогда, мало ли что… И вот теперь о нём вспомнил. Вообще-то, далековато от места трагедии, но проверить следовало бы.
То ли сбился, то ли бес попутал, только искал он тот валежник весь день. Будто в воду канул. И лишь потом дошло, что в те разы широкую болотину обходил слева, а сейчас, когда после дождей всё разлилось, пробирался с другой стороны. Вот дубинушка-дубина! Пришлось плестись по трясине… Промок весь аж до самых… в общем, по пояс будет. Ага, вот и перелесок, и просека, заросшая молодым сосняком. Три пирамидки старого муравейника… Точно, здесь!
Осторожно присмотрелся, прислушался: тишина. Приложился к биноклю, ещё раз осмотрелся (на шее заможжил рубец от острых рысьих клыков). Не хочется, чтобы ещё раз так-то. Никого. Вновь прислушался – ни звука. Помяукал, слегка пошипел… Мёртвая тишина. Ну да, дураки они тебе, мяукать-то. Не мать – так не мать. А может, уже и в живых-то нет? Делать нечего, придётся разбирать. Но не сразу. Для начала часика на два нужно присесть в сторонке, на дереве. Кто знает, может, здесь всё в порядке…
Пара часов ушли коту под хвост, рысь так и не появилась. Теперь уже Егор был полон решимости. Он быстро расшвырял замшелые валежины, пошарил внизу и… Ничего и никого. Неужели ошибся? Расстроившись, сел на бревно и, стеганув палкой разросшийся можжевельник, бросил её куда-то в сторону. И вдруг подскочил от неожиданности. Оттуда, куда закинул сук, явственно послышалось мяуканье. Затаив дыхание, прислушался. Так и есть, мяукает. Но откуда? Хитрая мать устроила логово для своих чад не под самим валежником, а чуть в стороне, за большим пнём, забросанным крупными ветками. Какая молодчина! Не знай Егор о логове, ни в жизнь бы не отыскал.
Осторожно разобрав ветки, егерь наконец нашёл тех, кого искал. Из глубины тёплой, выложенной мхом, сухими листьями и веточками небольшой норы на Егора смотрела пара широко раскрытых жёлтых глаз. Рядом с маленьким рыжим комком лежал ещё один. Казалось, рысёнок спал. Но, как выяснилось, малыш был без признаков жизни; ещё немного, и та же участь могла постичь и другого, глазастого.
Вытащив из логова царапающегося и шипящего рысёнка, Егор бережно положил его в рюкзак и быстро зашагал домой…
…Лето нагрянуло почти внезапно, оглушив ослепительным солнечным светом, частыми радугами и тёплыми, нещадными дождями. Сосны и ели, раскинув начищенные до блеска тёмно-зелёные макинтоши ветвей, вместе с принарядившимися берёзами соблазнительно манили окунуться в спасительную прохладу. Пушистые шмели, крепко держась за тычинки и роясь в лучезарной пыльце, медовыми каплями повисли в цветочном ворохе лугов. Ожили дальние болотины, напоминая о себе клёкотом одуревших от жары наглых лягуш. Травы вымахали с человеческий рост, и даже сохатый мог безбоязненно пастись на лугу, выдавая себя разве что ветвистыми вилами. Эскадрильи непоседливых стрекоз стремительно атаковали невидимые цели, оставляя на водной глади такие ровные кольца, что впору было заказывать свадебный марш Мендельсона.
Рысья Падь, укрытая летней зеленью до самой макушки, жила своей, тихой и неторопливой, жизнью. Егор не случайно сравнивал увиденные им на воде круги с кольцами: неожиданно для себя он погрузился в очередной омут любви. Молодость не терпит пустоты – всё та же природа.
Елена Борисовна явилась в Рысью Падь без предупреждения. Хотя, если честно, все последние дни Егор её сильно ждал. В конце мая, будучи у родителей, он заглянул в районную больницу. Нужно было сдать кое-какие анализы, снять ЭКГ, показаться участковому врачу. А с врачами только свяжись – заобследуют насмерть! Вот и обследовался.
Блуждая по путаным коридорам районной больницы, Егор случайно (может, и не совсем случайно!) встретил ту, которую так страстно желал увидеть.
– Здрасть, Елена Борисовна, – первым поздоровался Егор.
– Добрый день, Егор… э-э… забыла по батюшке… – остановилась та, немного растерявшись.
– Михайлович… Но это и не важно, можно просто – Егор.
– Да-да, Егор Михайлович, вспомнила. Я уж лучше буду так… Или всё-таки – Егор?
– Лучше – Егор. И – на «ты»…
– Как твоё здоровье, Егор? – поинтересовалась Елена Борисовна.
– Вполне прилично. Душа, правда, страдает…
– Отчего так, влюбился, что ли? Значит, дело совсем на поправку пошло, и скоро всё окончательно залечится…
– И да, и нет… Да – что влюбился. А душа болит не от этого. Просто… волнуюсь, что не держу слова. А когда я чего-то обещаю, привык всегда выполнять.
– Ох, загадками говоришь, не понимаю тебя, о чём это ты сейчас, Егор?
– Да о подарке, который обещал кое-кому ещё зимой. Хотя, знаю, обещанного три года ждут – всё равно неловко…
– Кажется, начинаю догадываться, – внимательно посмотрела на него Елена Борисовна. – Ты хочешь сделать мне подарок ко дню рождения?
– Вот именно, – потупив глаза и покраснев как рак, сказал Егор. – Знаю, что завтра у вас… это… ну… день рождения… и я… как бы…
Он совсем запутался и готов был провалиться сквозь больничный кафельный пол куда-нибудь в спасительные тартарары. Когда же услышал, как над его абракадаброй звонко смеётся женщина, к которой он неравнодушен, Егор готов был провалиться ещё глубже – ближе к центру Земли…
– Извините, если… если… чем-то обидел, – совсем смешался он, не зная, куда девать глаза. – В общем, с днём рождения вас, Елена Борисовна… Самый лучший доктор в мире!..
Последние слова, вылетевшие из его уст как бы сами собой, заставили парня окончательно смешаться и ещё сильнее покраснеть. Да уж, в подобном переплёте он ещё не бывал…
– Спасибо, Егор, очень приятно…
– Если честно, настоящий подарок вас ждёт в Озерках, – вновь осмелел Егор, решив – была не была!
– Ой, как интересно! И что же это за подарок?
– Сюрприз! – загадочно произнёс Егор. – Уверен, вам очень понравится, ведь ничего подобного вам никогда не дарили…
– Ну, ты меня прямо-таки заинтриговал…
– Приезжайте в Озерки – не пожалеете. Ехать, конечно, далеко, но подарок стоит того. До Гусиных Озёр на автобусе, а там спросите лесничего Семёныча, он вас в Озерки и доставит. Вот как немного подсохнет, вы и приезжайте, мы будем вас ждать…
– Кто это – мы? – не удержалась Елена Борисовна.
– Мы. Я и… сюрприз.
…Грозная Пальма громко залаяла, давая понять, что на горизонте появился чужак. Сибирская лайка, подаренная по весне старым другом (специально заказывал щенка в областном питомнике), пришлась как нельзя кстати. Без собаки в лесу никак. Она тебе и за друга, и за помощника, и за охранника. А если пёс ещё и умный, тогда ему вообще нет цены.
Пальма оказалась умницей. Быстро научилась брать след, хорошо ориентировалась в чащобе, не плутала, а при встрече со зверем вела себя достойно и, не паникуя, всегда становилась на линии между Хозяином и лесным обитателем. Егора же понимала с полуслова.
К рысёнку, которого Хозяин принёс откуда-то из леса, собака поначалу отнеслась с прохладцей – недружелюбно облаяла, а потом, сердито посматривая на новичка, долго рычала. Когда наступила ночь, Пальма никак не могла успокоиться, всё ворочалась и до утра не сомкнула глаз. Но, видя привязанность Хозяина к этому шустрому котёнку, лайка понемногу отошла, смирившись с его присутствием во дворе. А потом и вовсе подружилась со зверем.
За несколько месяцев в хозяйстве егеря возник целый стихийный зверинец. В загоне паслись две хромоногие косули; там же прихрамывал кабанчик-сеголетка, найденный им в лесу умирающим. По-видимому, кабанья семья куда-то торопилась, вот его в спешке кто-то из взрослых и подбил. Так бы и остался на звериной тропе, если б не егерь.
В другом загоне вышагивала красавица-лосиха, а если точнее – лосёнок-полугодок: зашиб колено и (о, умница!), придя к кормушке, так здесь и остался. Егора лосёнок полюбил; когда егерь подходил к загону с осиновым веником, малышка чуть ли не начинала танцевать, норовя длинным шершавым языком дотянуться до щеки.
– Отстань, Маша, не шали, – обычно отмахивался Егор, теребя ту за загривок. Затем осматривал зашибленное колено: – Как чувствуешь себя, милая? Вечером сделаем перевязку, а сейчас – ешь давай…
Иногда, выйдя из леса, к загону с лосёнком осторожно (обычно ранним утром) подходила мать-лосиха и о чём-то перешёптывалась с больным детёнышем. Волнуется, догадался Егор, не раз наблюдавший из окна идиллическую картину лосиного свидания. Словно в больницу навестить приходит… Ничего, скоро поправится. Сейчас же пусть побудет здесь, иначе волки покоя не дадут, зарежут…
Рысёнок, которого егерь принёс домой, освоился в домашних условиях быстро. Едва Егор вывалил его из рюкзака, как тот, осмотревшись, тут же юркнул за тёплую печь и там затихарился. Но как только хозяин сунул руку за печь, новый жилец тут же показал свой характер, сильно исцарапав хозяину ладонь.
– Ишь ты, нахалёнок какой, – одёрнул руку Егор. – Значит, так, да? Посмотрим, как поведёшь себя, когда проголодаешься…
Голод сказался быстро. К вечеру рысёнок, умяв брошенный ему небольшой кусочек свежей зайчатины, настойчиво замяукал, давая понять, что не прочь подкрепиться ещё.
– Пока хватит, – осадил обжору Егор. – Начнём с малого, иначе живот прихватит…
С первых же дней егерь активно занялся приручением найдёныша. Каждый раз он клал мясо всё дальше и дальше от печки, зато ближе к столу и к себе. Малыш поначалу огрызался. Он раздражённо шипел и даже грозно урчал, но голод, как известно, не тётка: постепенно пришлось принять правила навязанной человеком игры. Вскоре он уж давал себя погладить; но нет-нет да срывался, яростно царапая Егору руки. Но позже понял, что приятнее хозяйского поглаживания может быть разве что кусочек свежей зайчатины. А уж если тот начинал перебирать шерсть где-нибудь за ушами или на животе, рысёнок испытывал такое наслаждение, что начинал громко мурлыкать.
«Добаловал, называется», – ворчал с некоторых пор Егор, видя, как молодая рысь не отходит от него ни на шаг. Раньше, когда тот был совсем малышом, егерь постоянно угощал котёнка кусочками мяса. Теперь же, когда рысь подросла, Егор посчитал такой «прикорм» баловством, однако котёнок продолжал ходить за ним буквально по пятам, выпрашивая лакомство.
Любовь, пусть и звериная, вещь загадочная…
Пальма всё лаяла и лаяла. Егор спустился с чердака, где разбирал старый столярный инвентарь Авдеича, и пошёл на собачий лай. Лайка, увидав Хозяина, загомонила ещё громче.
– Чего расшумелась-то, Пальма? – посмотрел на собаку егерь, недовольный, что его оторвали от дел.
Та, поняв вопрос, повернула голову и стала лаять в сторону заросшей просёлочной дороги. Вдали, переваливаясь на рытвинах, словно сонный жук на проталине, урчал старенький грузовичок.
– Видать, Семёныч кирпич везёт…
Егор не ошибся. Семёныч, лесничий из Гусиных Озёр, привёз кирпич, цемент, доски, гвозди – полный кузов всякой необходимой всячины.
– Как и обещал, Егор, всё доставил в целости и, так сказать, в сохранности, – показал Семёныч на кузов. – Ну и… это… гостью встречай!
– Ага, гостей мне ещё здесь не… – начал было Егор и осекся.
Из кабины автомобиля ловко спрыгнула какая-то женщина, скинула капюшон куртки, сняла платок и… Егор обомлел: перед ним собственной персоной стояла Елена Борисовна.
– Елена Борисовна?! – единственное, что смог пробормотать обескураженный парень. – Какими судьбами?! С приездом…
– Здравствуй, Егор Михайлович! Думала, не доеду – такая грязюка в лесу. Далеко, однако…
– А я предупреждал, – улыбнулся егерь. – Проходите… И ты, Семёныч, – пригласил он гостей в дом. – Подкрепимся с дороги, а потом уж разгрузимся…
– Нет-нет, Михалыч, – заупрямился Семёныч. – Мне ещё одну ходку нужно сделать, в Утиную Заводь. А это, сам знашь, если чаи распивать, то засветло не управиться…
– Ну, смотри…
Егор провёл Елену Борисовну в дом и, быстро ознакомив ту со своим нехитрым хозяйством, вдруг заторопился:
– Вы тут располагайтесь, а я – мигом…
Пока женщина приходила в себя, егерь с лесничим уже вовсю разгружали машину…
Через полчаса Семёныч уехал. Один. А Елена Борисовна… Она осталась.
Когда между двумя полыхает любовь, третий, как правило, лишний.
С сюрпризом вышла настоящая хохма. Едва они в первый вечер сели обедать, как под стулом, на котором расположилась Елена Борисовна, раздалось грозное шипение. Женщина, слегка побледнев, ойкнула и едва не подпрыгнула вместе со стулом.
– Спокойно, – командным тоном приказал ей Егор. – Не шевелитесь…
– Ой, мамочки, змея! – взвизгнула гостья, в глазах которой промелькнул ужас. – Она же укусит… Здесь наверняка нет противоядия…
– Не укусит…
– Почему? – спросила Елена Борисовна шёпотом, боясь взглянуть вниз.
– Потому что… это и есть сюрприз! – чуть торжественно сказал Егор.
Затем хозяин дома подошёл к стулу и, сунув руку куда-то вниз, вытащил оттуда обескураженного рысёнка.
– Ой, кто это?..
– Наш вам сюрприз!
При этих словах животное, слегка зажмурив свои огромные жёлтые глаза, грозно зашипело: пши-и… пши-и…
– Просто прелесть, – от восторга Елена Борисовна захлопала в ладоши. – У, пшика какой! Если честно, думала инфаркт хватит… А как зовут этого пшику?
– Следует понимать, что с этого момента… Пшика.
– Серьёзно? У него что, не было имени?
– Не было, – кивнул Егор. – Всё вас ждал. Приедете, думал, и как-нибудь назовёте. Вот и назвали…
– А что, Пшика вроде неплохо звучит, а?
– Да просто отлично! Иди сюда, Пшика… Красавица моя…
Котёнок завилял хвостом-обрубком, заиграл кисточками и стал тереться о Егоркину ногу.
– Ты, Пшика, не со мной заигрывай, а со своей новой хозяйкой, – пожурил рысёнка Егор. – Елена Борисовна, он теперь – ваш!
– Не знаю даже, что сказать… – замялась та. – Спасибо, конечно, Егор, но куда мне его девать-то в городе?
– Да никуда. Он – ваш, а жить будет за городом, у меня. Договорились?
– Прекрасно! Пшика, красотуля, кис-кис, иди ко мне… – потянулась женщина к малышу.
А вот этого делать не следовало. Рысьи острые коготки живо впились в мякоть. Елена Борисовна резко вскрикнула и вновь схватилась за сердце…
…Егор нервничал. Впервые за всю свою короткую жизнь ему вдруг стало страшно обидно. И хотя жаловаться парень не привык, хотелось выговориться.
– Представляешь, Лена, – говорил он, держа за руку идущую рядом с ним по луговине Елену Борисовну, – мне ещё нет и двадцати пяти, а я уже мог сто раз умереть. И лишь после твоего приезда сюда вдруг стало как-то особенно спокойно и хорошо. Странно, я ведь запросто мог и не дожить до этих радостных минут встречи с тобой. Счастье могло обойти стороной, понимаешь? Если честно, даже не хочется банально признаваться тебе в любви, потому что ты и так видишь, что для меня значишь…
– И ты для меня… – тихо прошептала она, обняв Егора за шею и прильнув к его губам. – Милый мой, как я давно тебя ждала…
После этих слов Егор стал нежно целовать её глаза, щёки, волосы… Потом тоже перешёл на шёпот:
– Ты не представляешь, как дорога мне…
Они уже гуляли несколько часов. Солнце ярко светило, норовя ослепить; на луговине отчаянно гудели шмели, резвились стрекозы. И очень хотелось, чтобы сказка не заканчивалась…
– Совсем недавно я поймал себя на мысли, Лена, что в жизни слишком много несправедливости, а потому… потому как-то обидно, – вновь заговорил Егор.
– Обидно? За что? – удивилась она.
– За нас. Столько времени прошло… без счастья. Воевал, умирал, выкарабкивался… Да и ты – училась-училась, а теперь дни и ночи в операционной. Вот и вся жизнь А счастье-то едва не пробежало мимо. Ведь могло и проскочить, понимаешь?.. А если бы мы не встретились? Обидно…
– Дурачок ты мой! – нежно погладила Лена Егора по голове. – Не проскочило бы. Мы всё равно нашли бы друг друга, обязательно нашли. Наше счастье тем и дорого, что оно вымученное. Понимаешь, вы-му-чен-ное-е. А такое счастье бывает самым сладким…
В эти тёплые летние дни они часто гуляли в окрестностях Озерков, обходя чуть ли не всю Рысью Падь. Гудение пчёл, дружный птичий гомон и ласковое солнце навевали сонную негу, вызывая душевное умиротворение.
Однажды Егор привёл любимую к вятскому крутому Кряжу.
– Какая красотища! – не удержалась Лена. – К своему стыду, я здесь никогда не бывала, хотя, насколько знаю, моя бабушка как раз из Озерков.
– Вот те на́! – изумился Егор. – Этак покопаться, так мы с тобой какие-нибудь дальние родственники… Ну вот, слушай теперь её…
– Кого?
– Ну… тишину. Где ещё такое услышишь?
И, раскинувшись на пахучей траве, они долго лежали, наслаждаясь несравненной тишиной.
Неожиданно зарычала Пальма и, встрепенувшись, помчалась в сторону леса.
– Пальма, назад! – крикнул Егор.
– Куда это она?
– Почувствовала журавлей. Не так давно одна журавлиная пара поблизости устроила гнездо. Пойдём, посмотрим…
– Не испугаем?
– А мы осторожно, тихохонько…
Лайка вернулась и молча повела их к спрятанному где-то в зарослях гнезду.
Добраться до птиц было сложно. Осторожные и пугливые, журавли соорудили гнездо на середине болотины, заросшей камышом и осокой. Но умная Пальма умудрилась провести их посуху чуть ли не к самим птицам.
– Смотри, – шепнул Егор, раздвигая траву. – Фу! – топнул он в сторону зарычавшей было собаки.
В последний раз, когда Егор был здесь, семейная пара заботливо высиживала яйца. Сейчас ситуация изменилась: у птиц появилось потомство. Два уже повзрослевших птенца, на одном из которых местами сохранился детский пушок, тёрлись о длинные ноги своей матери. Отец ходил неподалёку, периодически что-то подбрасывая в гнездо. При виде его малыши начинали громко попискивать, но мать чётко поддерживала порядок, успевая вовремя разделить лакомство поровну.
– Идиллия… – не удержалась Лена. – В первый раз такое вижу…
– Раньше у нас журавушек-то вообще не было, редкая для этих краёв птица, – шёпотом рассказывал Егор, выводя подругу из болота. – Но благодаря Авдеичу постепенно начинают заселяться. Красивая птица, благородная. Говорят, журавли очень верны друг другу; я слышал, овдовевшая птица может умереть от тоски…
– Почти как люди, правда?
– Только честнее. Сердечнее, что ли…
Пальма бойко изучала близлежащие кусты и, торопясь заглянуть под каждый, выгоняла оттуда пернатые стайки. Однако приходилось постоянно возвращаться. Эти двое, нервничала лайка, идут слишком медленно; а то и вовсе встанут посреди тропы – и ни туда ни сюда! Так молча стоят и стоят… С места не сдвинешь!
Приближалась осень, а с нею заканчивался и охотничий «тихий час». За лето Егор обжился в Рысьей Пади и даже поставил в деревне сруб нового дома на месте дедовского. Неудобно как-то постоянно проживать в доме Авдеича: чужое есть чужое.
Скучно стало, тоскливо. Короткий отпуск у Елены Борисовны закончился, и она уехала. Остались лайка и Пшика. Но даже если б он, этот отпуск, был длинным, всё равно пролетел бы как один день. Слишком хорошо этим летом им было вдвоём. И теперь Егор сделает всё, чтоб никогда не потерять эти глаза-василёчки.
Предыдущий сезон охоты отстреляли спокойно, планово, без всяких неожиданностей. Лес под присмотром, зверя и птицы достаточно, пусть гуляют-летают. Одно заботит – браконьеры. Та самая «ложка дёгтя в бочке мёда». То в одном месте обнаружит капкан, то в другом. И хотя этих негодяев не так уж много, зато вреда от них – как от татарской Орды! Рысь почти повывелась; кабаны, ища спасения, забрались в самые кущи Ореховской Запруди; лось мигрирует из одного леса в другой. На днях слышал волчий вой; кинулся к старому логову – разорён!
Правда, он уже, что называется, взял след. Во-первых, преступник (по крайней мере – один из них), возможно, даже не догадывается, что сапоги у него особенные; вернее, не сапоги даже, а их подошвы, имевшие характерный узор. Импортные сапожки-то, ненашенские, сразу смекнул наблюдательный Егор. А потому, понял он, человек, который балует в здешних лесах, пришлый.
Был ещё один вещдок – пуговица. Тоже чужая, с двойным кружком посередине и надписью по кругу: «Made in USA». Именно её Егор обнаружил у капкана в Сосновой Балке, где забили рысь.
Потом сапожки «погуляли» в Утиной Заводи и в Хвойном Увале, «пробежались» по Кряжу и даже «покрутились» вокруг Рысьей Пади. У волчьего логова тоже отметились. Хищник, однако, почище волка… Гиена какая-то чужеземная. Ничего, и на старуху бывает проруха, рано или поздно попадётся…
В этот раз Егор бодро петлял в Ореховской Запруди – тихом лесу, где, знал точно, обитала семья сохатого и волчий выводок. Они, конечно, мигрируют, уходя на десятки километров, но возвращаются. Сюда же порыться под дубами иногда приходят и кабаны. Хороший лес – живой, настоянный.
Впереди зарычала собака. Егор ускорил шаг, за ним засеменила Пшика. В последнее время он постепенно стал приучать кошку к лесу. Молода ещё, всего боится, шарахается. Но, бывает, увлечётся, погонится за какой-нибудь пичугой, потом её не дозовёшься. И всё же – молодец, на днях поймала первого косого. На просеке, правда, где всё открыто, но взяла же, взяла!
Пальма стояла над свежей горкой кабаньего помёта.
– Молодец, Пальма, – похвалил он лайку, потрепав по загривку. – Ищи дальше, ищи…
Ну что ж, сюда вновь вернулись кабаны, скорее – сеголетки, нынешнего замеса.
Километра через три – опять лай. На этот раз Пальма взяла свежий след сохатого. Тоже неплохо. Хотя им, лосям, уже и бежать-то особо некуда, кроме как оставаться в здешних лесах. А туда дальше – всё повырублено. Да уж, лес рубят – щепки летят…
– Пальма, идём к ручью, – сказал Егор. – Наведаемся на Афанасьеву Гряду…
И вдруг егерь резко вздрогнул. Пшика, зашипев от страха, вскочила ему на плечи. Где-то далеко справа гулко забухали выстрелы – один, второй, третий… Бьют около Фокиной Горки, понял Егор, за просекой. Ба-бах! Ба-бах! – неслось справа, отзываясь по всему лесу многократным эхом.
Вскинув карабин и подхватив Пшику, Егор бросился в сторону выстрелов. Свистнул Пальме, но та уже поняла, что от неё требуется, и умчалась куда-то вперёд.
Ба-бах! Ба-бах! Ба-бах!!! Казалось, лес очутился во власти разбушевавшейся стихии – с громом и молниями. Однако было понятно, что на Лес накатилась настоящая беда. И для его обитателей это не было преувеличением…
…Уже который день Сохатого мучили нехорошие предчувствия. Он плохо спал и, заботливо обходя границы очередной ночёвки, тщательно принюхивался. Теперь лось отгонял даже любопытно-назойливых лисиц. И хотя всё было спокойно, ему всё равно что-то не давало покоя.
Поначалу, дабы избавиться от навязчивого предчувствия, он попытался увести подругу и Малыша куда-нибудь подальше – туда, где и лес пореже, и травы посуше. Но не сделал этого. Пройдя какое-то расстояние, ещё издалека Сохатый заметил, что того леса, куда шёл, больше нет, его вырубили Двуногие. И он даже успокоился, ведь теперь не придётся метаться, а в этом лесу, который облюбовал, значительно лучше. Разве что… предчувствия, не дававшие ему жить и спать спокойно.
К предчувствиям этот битый жизнью лось относился серьёзно. Они его не раз выручали. И когда ушёл от волчьей стаи, выбежав на ровную дорогу; и когда вброд переводил Семью перед самым наводнением; и даже в тот раз, когда ловко ушёл от пули Двуногого… Слишком часто выручало Сохатого это его врождённое шестое чувство.
Когда лось услышал громкий хруст под тяжёлыми ногами первого Двуногого, идущего прямо на них, он даже не вздрогнул, просто понял: началось. Началось то самое, чего больше всего боялся с самого рождения – погони! Сохатый тут же поднял своих и, раздув ноздри, впился ими в ставший вдруг горячим воздух. Так и есть, Двуногие охватывают их дугой. Они не оставляют путей отхода, кроме единственного – идти по прямой. Плохой знак. Ну что ж, по прямой так по прямой…
Только не на того напали! Там, перед дальней просекой, есть ручей. Двуногие боятся воды, а ручей широкий, и он с Семьёй спокойно перейдёт его вброд; даже Малышу вода будет по живот. Малыш уже ходил по воде, он смелый, в отца, и когда вырастет, у него будут такие же ветвистые рога. Мысль о сыне придала Сохатому силы. Оглянулся, промычал: «За мной!» – и смело двинулся, ломая жидкие кусты.
В спешке передней ногой угодил в глубокую яму, заросшую бурьяном, споткнулся, упал на колено, быстро вскочил. В колене что-то хрустнуло, ударив нестерпимой болью. Без спешки, без спешки, корил себя за допущенную оплошность опытный лось и, хромая, уводил своих подальше от Двуногих – туда, к дальней просеке.
Неожиданно сбоку задрожала земля. Сохатый остановился, развернулся вправо, наклонился, приняв боевую стойку, выставил рога, приготовился… Фу, свои… Рядом пронеслось стадо кабанов. Весь покрытый чёрной как смоль щетиной, вожак уводил свиней-сеголеток подальше от опасности.
У Секача был свой план спасения. Он не так глуп, как его сосед, этот старый Сохатый, что хромает сейчас мимо него. Не время хромать, сосед, ох не время! Секач отведёт сеголеток к ручью, а потом… Нет, он не будет его пересекать (какая глупость переплывать холодный ручей, если Двуногий тоже умеет плавать!); просто уведёт стадо в сторону – туда, где далеко против течения есть заросший камышом переход. И об этом переходе знает только он, мудрый Секач. Не робей, молодёжь, держись меня! Вперёд!
Стадо промчалось, едва не сбив Малыша с матерью. Да, серьёзные, видать, дела, если даже Секач так струхнул, подумал на ходу Сохатый. А уж тот-то не из трусливых. В Лесу каждый бурундук знает, что Секачу сойтись с Двуногим один на один – пара пустяков. Только у того – Огненная Палка, а потому-то… где те смельчаки, что живыми вернулись с таких поединков?
В густом ельнике мелькнули две тени: Серые. И эти уходят, забеспокоился Сохатый. Для него эти двое сейчас не опасны; если бы стая – да; а двое – и сами не подойдут. Главное теперь всем уйти от стада Двуногих! Сохатый оглянулся на своих, не отстают; подруга держится молодцом, помогая Малышу плечом. Ничего, ничего… Скоро она, эта просека…
Благополучно проскочили ручей. Малыш показал себя достойно – прошёл будто по зарослям майского папоротника. Кабаньи следы уводили куда-то вверх, уходя вправо вдоль ручья. Сейчас взгорок, густая чащоба, распадок и… Сохатый остановился, прислушался, тяжело втянул ноздрями воздух. Позади всё спокойно – пока спокойно, ведь Двуногие где-то там и продолжают преследовать… Они всегда чрезвычайно настойчивы, эти непрошенные гости…
А что впереди? Что впереди?.. Запахи для Сохатого всегда были некой азбучной истиной. Он безошибочно обнаруживал врага задолго до того, как тот появлялся в поле зрения. Но сегодня то ли от спешки, то ли от сильного волнения, лось никак не мог сосредоточиться. Вот пахнет взмыленным Секачом; вот – всем кабаньим выводком; от ручья резко пахнуло трудягой-бобром; чуть в стороне – лисой и мышами… И вдруг… Нет, показалось… Двуногий! И даже два. Стремительным прыжком резко устремился назад, к руслу. Сейчас обратно вброд, затем немного вверх по течению – и в ельник. Уф, пронесло…
Передохнуть… Сохатый вновь зашевелил ноздрями… Теперь ошибаться никак нельзя.
Скоро, скоро та спасительная просека. Её перейти – а там… Там – жизнь, там – спасение!
Оставалось совсем чуть-чуть, когда всё окрест забухало. Сохатый вновь остановился, прислушался. Позади тяжело дышали остальные. Оттуда, где просека, резко несло Двуногими; да, так и есть. Теперь запахло ещё нестерпимее – удушающей гарью их Огненных Палок. Плохи дела, плохи…
Вновь забухало, ещё и ещё… Это пробивался сквозь просеку Секач, понял Сохатый. Засада! Двуногими теперь пахло буквально отовсюду – спереди, сзади, с флангов. Хотят загнать, бросить под огонь, уничтожить…
Голова работала чётко и слаженно. От того, какое он сейчас примет решение, будет зависеть их жизнь. Малыш начинает терять самообладание и дрожащим боком боязливо прижимается к матери.
Впереди снова гром. Раздаётся душераздирающий визг и крик о помощи секачовых сеголеток. Бойня! Похоже, кабаны сегодня полягут все… Сохатый грозно покачал рогами; ему ещё никогда не приходилось попадать в столь страшный переплёт. Сзади напирали Двуногие, он это отчётливо чувствовал. Эти гнали Обитателей к другим Двуногим – Двуногим-убийцам. Запах врага на каждом шагу; начинает казаться, что даже листья и павшая хвоя пропахли Двуногими…
Подруга подошла к Сохатому и, молча посмотрев в глаза, с тоской положила голову ему на шею. Она всё понимает, эта нежная красавица с глазами утренней Луны; как ему с ней было хорошо всё это время… Нет! Он спасёт их даже ценой собственной жизни!..
Слева Двуногими почти не пахло – туда! Он сделал осторожный шаг, другой и, словно корабль среди подводных рифов, стал медленно выводить семейство из западни. До развесистого дуба дошли благополучно; от него – метров триста до густых осиновых зарослей. Этот осинник он хорошо знал; сколько раз зимой приходили они сюда вдвоём лакомиться осиновой корой. А вот дальше – просека. Обойти бы, обойти… Но в зарослях, подсказывает ему чуткий нос, Двуногий, наверняка – с Огненной Палкой. Рисковать нельзя, он не один!
Потоптался у старой осины, нервно покусал пахучую ветку… Н-да… Выход один – прорываться! Готовы? Оглянулся и, встретив полные надежды глаза, мотнул ветвистыми рогами: за мной!
Лосиное семейство выскочило на широкую просеку – на роковую полосу, которая совсем недавно казалась им спасительной. Но только не сейчас. Они были слишком умны, чтобы не понимать, какую опасность теперь таила в себе эта полоса. Несмотря на то что троица торопилась, спасительная стена тёмного леса не приближалась ни на метр. Словно они плыли по воде, беспомощно мельтеша копытами. Очень медленно… Ну вот и первые кусты колючей шипицы, за ними – пахучий вересковник, а дальше… дальше – спасение!
Он даже успел оглянуться, чтоб посмотреть, как бегут остальные. Но боковое зрение животного быстро выхватило у дальнего пня-выкорчёвыша серую фигуру Двуногого. Враг держал Огненную Палку и целился ею… в Малыша. Сохатый от неожиданности остановился и громко протрубил: «Скорей!..» Мать и Малыш уже подбегали к нему, когда раздался грохот. Что-то огненно-горячее промчалось над их головами. Малыш от испуга споткнулся, но шустро вскочил и кинулся к отцу.
Сохатый тяжело дышал. Нет, не от страха – от гнева. Он видел, что Огненная Палка по-прежнему направлена в их сторону. Потому-то, как только к нему приблизились Мать и Малыш, закрыл их своим мощным телом, встав живым щитом между ненавистной Палкой и Ими. Сохатый уже начинал понимать, что вряд ли ему удастся выбраться из сегодняшней заварушки, поэтому его не испугал вид ещё одного Двуногого, появившегося рядом с первым. Протрубил, обращаясь к Семье: «Бегите! Я догоню!..»
Ба-бах! Ба-бах!!! Ещё не стих раскат последнего грохота, а самые дорогие для него существа уже скрылись в чащобе. К опушке, шатаясь и хромая, подходил израненный лось. Очутившись у старой сосны, он привалился к ней боком и, повернувшись мордой в сторону своих, в последний раз что есть мочи промычал: «Бегите! Я догоню!..»
Этот ещё не старый Сохатый был мудр. Он уже знал, что никогда не только не догонит, но и не увидит милых сердцу Малыша и подругу с лунными глазами. Но в свой последний миг он обязан был хотя бы их обнадёжить.
А теперь можно смело взглянуть на врага. Их было несколько, вооружённых Огненными Палками Двуногих. Сохатый с трудом развернулся, упёрся израненным бедром к сосне и, закинув окровавленную шею, выставил на трусливое племя свои мощные ветви-рога.
Да, он был мудр, этот лесной красавец. Сохатый не сомневался, что в этот раз рога ему не помогут. Старый лось давно изучил коварство Двуногих и подозревал, что кто-то из них уже наверняка заходит раненому с тыла, чтобы выстрелить в ухо.
Когда он об этом только подумал, раздался выстрел…
Егерь подоспел к заключительному акту затянувшейся драмы. Бессильно сжимая цевьё карабина, Егор мог лишь издали, в оптику, наблюдать за бойней, организованной браконьерами. Тоска и отчаяние больно сжимали сердце. То был самый трагический момент, когда зверей валили всем кагалом…
Весь израненный, Секач не желал сдаваться без боя. Встреченный огненным шквалом, ошеломлённый вожак был вынужден дать команду к отходу. Но было слишком поздно. Сеголетки один за другим падали неподалёку, скошенные с близкого расстояния. Некоторые, истекая кровью и пронзительно визжа от боли, отползали в близлежащие кусты. Но зелень тут же облетала под градом свинца, и крики о помощи постепенно смолкали.
Сделав небольшой круг и получив несколько неопасных ранений, Секач с несколькими сеголетками отошёл на исходную позицию – в спасительный вересковник позади. Кровь в нём кипела, шерсть вздыбилась. Сородичи содрогнулись: сейчас он походил на грозного Косолапого. Вожак оглядел жавшееся к нему стадо – нет и половины. Сеголетки слишком молоды, чтобы спастись самостоятельно; давно ли бегали за ним смешными «полосатиками». Сейчас не было сил даже пересчитывать: мало. Другая небольшая группа, которую повела Сама, как он успел заметить, полностью полегла на противоположной опушке, где-то далеко справа. Её страшный крик, полный отчаяния и боли, Секач не забудет до конца своих дней…
Не до сантиментов. Ясно, что попали в ловко расставленную ловушку, Двуногие на это мастаки. Куда двигаться, чтобы спасти если не себя, то хотя бы оставшихся? Назад – нельзя, там тьма Двуногих; впереди, на опушке, через просеку, выставлена засада. От Огненных Палок не уйти…
Ба-бах! Ба-бах!!! Над кабанами, обдав жаром, прошипела раскалённая картечь. Ага, у Двуногих кончается терпение, начинают выдавливать. Единственный выход: скрываясь за кустами, медленно продвигаться туда, где меньше стрельбы. Кто-то под случайным огнём, конечно, погибнет, но иного пути нет, это единственный шанс спастись. Оглянулся на своих – те испуганно жались друг к другу, вопросительно поглядывая на вожака. Секач постарался приободрить павшую духом пацанву и даже нашёл в себе силы прохрипеть: «Не вешать пятаки, прорвёмся!» Потом первым ринулся к просвету…
Сбоку забухало, противно завжикало, кто-то взвизгнул, потом ещё один дико закричал от боли. Он не оглядывался; внимание вожака было приковано к одному – к вспышкам на опушке. Так и есть, слева большая брешь – туда! Добежав до густого ельника, Секач резко остановился, поджидая остальных. По-прежнему не оглядывался, не хотелось: слишком больно видеть плачущих и стонущих от боли сеголеток… Бедняги, от всего стада их осталось не более трети.
«Хэй! Хэй!..» Они знали, эти смелые пацаны, что значит двойной отцовский «хэй». То был призыв к атаке. Удивляться не было времени; каждый подобрался, посмотрев на брата слева и справа. Ах, какие этим летом они совершали блестящие атаки! И вспоминалась лобовая со свирепым стадом Серых, и фланговая с Косолапым; а о том, как однажды загнали Двуногого на дерево, до сих пор шепчутся в Лесу. Но даже сейчас, когда вокруг шныряла уйма Двуногих с Огненными Палками, о срыве атаки не могло быть и речи. Авторитет вожака непререкаем.
«Хэй! Хэй!!!» – ещё раз повторил команду Секач и кинулся на прорыв. Тяжёлая коричневая лава, ломая ельник и вытаптывая всё на своём пути, ринулась сквозь смертоносную просеку. Секач впереди, позади – стадо, ставшее сейчас его боевым отрядом. Ах, как они бежали, как бежали! Ровно, грозно, опустив красивые морды с сильными пятаками… Как он гордился ими, видя набухавшие бугры на верхних челюстях: когда-нибудь (замирало сердце!) у них вырастут такие же мощные клыки, как у него. И от мысли, что не всем удастся дожить до этих самых клыков и до высокого звания Секача, всё его тело наливалось грозной силой. И всё же они молодцы. Красавцы – как на подбор! Вот что значит порода!
И желая ещё больше взбодрить молодняк, старый Секач что было силы прохрипел: «Вперёд, пацаны! Мы пробьёмся! Хэй! Хэй!..»
Звуки его призыва потонули в грохоте. Обжигающий металл теперь визжал всюду, норовя сразить наповал. Пока атака получалась, до спасительной опушки осталось несколько прыжков. И вдруг впереди взорвалась стена огня; грохот ватой затянул уши. Захотелось глубоко зарыться в землю, и если б лежал снег, наверное, он так бы и сделал; но под ногами расстилалась лишь сушёная трава.
Он опять ошибся. В той стороне, куда повёл стадо, как оказалось, затаились Двуногие. Коварства им не занимать. И сейчас за эту оплошность расплачиваются его пацаны. Секач скосил глаза: за ним бегут лишь двое. Вот всё, что осталось от когда-то могучего стада. Спасти хотя бы их!
Отходить поздно, это даст Двуногим возможность сосредоточиться, и тогда все их Палки будут палить только по ним. А потому… потому… Атака продолжается!
«Хэй! Хэй!..» Сейчас для него самой сладкой мелодией, которую он когда-либо слышал, была мелодия топота его пацанов, пыхтевших позади. Пока они верят в него – ничего не кончено! «Хэй! Хэй!..» На врага!..
Они думают, что мы – цели, нас можно только убивать. Двуногие, вы плохо знаете Секача – держитесь! Кабан уже выбрал цель – стоящего у дерева крупного Двуногого, беспощадно расстреливающего его пацанов. Не щадил и его. Увлечённый атакой и беспокойством за близких, Секач совсем не заметил, что уже давно истекает кровью. Но толстая кольчуга-калкан пока надёжно защищала его от смертельного выстрела, помогая выстоять. И он мчался, мчался… А вот и сладостный миг: испуганный Двуногий, вдруг бросив Палку, попятился, ища спасения за деревом… Нет, от клыков Секача тебе не уйти… Держись, трус смердячий! Навстречу выскочил чей-то перепуганный пёс. Этот испуг стал последним в его жизни…
Зоркий глаз Секача уловил какое-то движение слева: ещё Двуногий. Пропустив вожака, тот метил в пацанов. Секач даже не стал оценивать обстановку. Оставив жертву, он тут же, сделав резкий разворот, кинулся на врага, намереваясь пригвоздить того к толстой берёзе. И в тот миг, когда Двуногий оказался в каком-то метре от цели, вдруг стало темно и спокойно…
Этот «следок» Егор заметил задолго до выстрелов. Когда переходил Журавлиный Ручей, тогда-то в глаза и бросился свежий человеческий след. И даже не сам след заставил егеря насторожиться. На земле чётко отпечатался памятный узор: две толстые стрелочки в стороны, одна тонкая – вдоль от носка до пятки. Редкостный узорчик, запоминающийся. Пройдясь вверх и вниз вдоль Ручья, обнаружил и другие свежие следы. Ба, да тут народа – как на первомайской демонстрации…
– Пальма, след… – приказал лайке, уже и без команды взявшей нужное направление.
Егор и предположить не мог, что через час с небольшим всё закончится браконьерским загоном и массовой бойней. Егерь с собакой подоспели в тот самый момент, когда браконьеры подсчитывали трофеи, подтаскивая их под старую, битую молнией сосну, торчавшую метрах в десяти от опушки. Работали тихо, слаженно, по-муравьиному. Как будто ничего здесь и не произошло. Вдали послышался гул моторов: для загрузки туш и охотников подошли два уазика-«буханки».
Проверив патроны и поставив «собачку» предохранителя на удержание, Егор взял карабин на изготовку и пошёл навстречу опричникам. Лайка осторожно кралась впереди. Рысёнка же пришлось подсадить на высокий сосновый сук:
– Сидеть, Пшика! – захлопал в ладоши Егор. – Ши-и-и…
И лишь после того, как кошка, вспугнутая хлопками, поднялась выше, егерь успокоился и отправился вслед за лайкой.
С нескольких сторон зашумели чужие собаки. Пальма, молодчага, помалкивала; понимала, что силы не равны, лучше пока не высовываться.
Шли прямо на машины, остановившись у обгорелой сосны. Заметив вооружённого человека, к сосне стали подтягиваться охотники. У каждого ружьё наизготовку. Собаки, сбившись в свору и громко рыча, норовили сбить Пальму, но та, быстро дав отпор, прижалась к егерю.
А Егор тем временем быстро оценивал обстановку. Чуть ли не взвод, чертыхался он про себя. Чем не «духи»? Враждебные, с оружием, злые и жадные. Моя б воля… Стой, парень, попридержи коней… Тут тебе не война, а «мирный» лес, где простые «мирные» ребята решили «немного пострелять». Как сказал бы покойный комбат, «совсем другая карусель».
На войне с принятием решения было, конечно, значительно проще. Он вспомнил, как однажды где-то на окраине Грозного вместе с Саней Калугиным попал в серьёзный переплёт, влетев по ошибке на территорию какой-то фабрики. Отбили сторожку, зашли в длиннющий цех, разделённый множеством разрушенных перегородок. С осторожностью заходили за каждую – никого, будто вымерло. Расслабились, автоматы опустили и через боковую дверь вышли на улицу. Опять никого. За углом тоже пусто.
Прошли с торца и вылетели за другой угол… носом в автоматные стволы: «духи»! Трое, с «калашами», направленными прямо на них. Спасла нерешительность боевиков (один, похоже, араб, тёмный, с бородой), которые, по всей видимости, решили обзавестись пленниками. Обожали они это – поизмываться над беззащитными пленными солдатами.
– Мы – солдаты по призыву! – крикнул, не растерявшись, Егор и, бросив на землю автомат, продолжил комедию: – А вот и мой военный билет…
И тут выручили «Глеб Жеглов и Володя Шарапов». Егору всегда нравился этот фильм про «чёрную кошку», где в одном из эпизодов хитрый Фокс из пистолета, спрятанного во внутреннем кармане шинели, расправился с милиционером. Страшный эпизод, но поучительный. По примеру героя Вайнеров, однажды он приспособил трофейный «макаров» за пазухой. На всякий случай, не сдаваться же в плен! И вот до этого случая пистолет не пригождался.
Резкий выпад вниз совпал с пистолетным выстрелом. Ещё один, ещё и ещё…
– Саня, бей! – всё, что успел крикнуть.
Санька не подкачал. Хотя, по правде, он так ничего и не понял. Просто жал на спусковой крючок до тех пор, пока не опустошил свой рожок. Всё было кончено. Лишь один из «духов» успел среагировать, но и этого оказалось достаточно. У Сани левая кисть повисла плетью, закапало… Перевязываться не было времени, вдали уже слышался топот приближавшейся толпы. Еле ушли…
Здесь, в родном лесу, была действительно «совсем другая карусель». Хотя на самом деле никакой «карусели» не наблюдалось – был некий узел, который, как он быстро понял, вряд ли можно было легко распутать. Егоркин «гордиев узел» предстояло именно разрубить!
Он как-то видел голливудский фильм, где в толпу гангстеров врывается бравый шериф и, махая перед носом громил значком, заставляет тех сдаться. Смехота! Только не у нас, где всё не так и могут запросто пристрелить. А документы и значки – это для голливудских сказок… У нас другие фильмы – как там: «за Державу обидно»?..
– Егерь данного лесного хозяйства Озерков Егор Михайлович, здравствуйте… – представился Егор хмурым мужикам. – Кто руководитель охоты?
Мужики переминались с ноги на ногу, бросая цепкие взгляды на друг на друга. Слева подошли ещё двое, с собаками.
– Попрошу всех собак отвести в одно место, – продолжал Егор. – Повторяю вопрос, кто руководитель охоты?
– Ну я… – Из толпы вышел невысокий, кряжистый мужик в военном камуфляже. – А чё, какие-то вопросы? Лес общего пользования, так что любой может охотиться…
– Ошибаетесь, не любой… (Да, наглости этим ребятам не занимать!) – Предъявите, пожалуйста, охотничьи документы…
– Вот наши документы! – крепыш взял наизготовку карабин «Тигр», такой же, как у Егора. – Хорошая машинка, не правда ли? – обратился он к егерю, и толпа дружно грохнула со смеху.
– Попрошу вас как руководителя охоты представить мне охотничьи билеты каждого, разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия, именные разовые лицензии, путёвку на добычу… – Егор не собирался сдаваться и действовал в рамках своих полномочий. – В общем, все документы, положенные на охоте, и о которых вы знаете не хуже меня. И, кстати, ваши паспортные данные…
– Ты б ещё, парень, партийный билет спросил, – ухмыльнулся крепыш. – Пойдём-ка, лучше, побазарим с глазу на глаз. Чё мы здесь-то? Да и хороших людей пугаем…
– Господин Салов, – обратился Егор к мужику, взглянув в его охотничий билет и еле сдерживаясь. – Вы знаете, что загон зверя, тем более в сезон запрета охоты, строго запрещён? Вы, вообще, отдаёте себе отчёт в том, что всё, произошедшее сегодня в этом лесу, в соответствии с уголовным законодательством, не что иное, как самое настоящее браконьерство?
Из семи представленных охотничьих билетов пять оказались просроченными; единственная разовая лицензия на имя Салова была выписана на одного кабана. Путёвка для этих нуворишей оказалась пустым звуком. Итак, семь убийц, плюс два водителя, которые уверяют, что «не при делах, зафрахтованы». Наверняка столько же ещё шляется в лесу – те самые «загонщики». Номера на «уазиках» – соседнего региона. Совсем тухлое дело…
Среди трофеев оказалось семь кабаньих туш (сколько в кустах погибало недобитых подранков – можно было только догадываться) и одна лосиная. Опричники…
– Это все документы, которые вы мне можете представить? – спросил егерь.
– Все… – кивнул крепыш в камуфляже. – И чё теперь, начальник, на кичу поведёшь, ха-ха?
– Поведу, – кивнул Егор. – Была б моя воля, и если бы входило в мои полномочия, расстрелял бы тебя прямо здесь, у этой сосны, перед строем, чтоб другим неповадно было…
– Ну ты даёшь, начальник! – хмыкнул старший. – Из-за каких-то кабанов человека в расход?..
– Да ты не человек, Салов, ты – убийца! И все эти, рядом с тобой, – такие же преступники, – сказал, не выдержав, Егор. – Сдать оружие! И скажи своим горе-охотникам, чтобы сделали то же самое. Складывать в автомобиль, который укажу. Туда же снести продукцию охоты. Выполнять!
– Подожди, начальник, не гоноши́, – понизил голос мужик. – Для начала – выслушай. Здесь собрались не случайные люди, а занимающие в соседней республике серьёзные посты. Я, к слову, районный прокурор; есть среди нас два члена республиканского законодательного собрания, а также люди из администрации главы республики. Выехали, порешали кое-какие вопросы, немного постреляли… Всё как всегда… Для чего шум-то поднимать?
– Сдать оружие!
– Так не пойдёт, егерь! – Лицо Салова стало матово-бледным. – Из-за тебя, паршивца, пострадают люди… У всех положение, семьи, дети. Ты женат, егерь?
– Не имеет значения. Оружие!
– А для нас всё имеет! – крикнул Салов. – Давай так. Сохатого тебе, кабанов забираем мы, и разъезжаемся по-мирному в разные стороны. Согласись, всё по-честному? Наш шофёр довезёт тебе тушу куда надо… Ну как, командир?
– Никак, – покачал головой Егор. – Сам ведь прокурор и прекрасно знаешь, как это называется: должностной подкуп. Я не продаюсь, Салов…
– Свои ружья мы не сдадим, – металлическим голосом заявил прокурор. – Не сдадим, ребята? – повернулся он к стоявшим рядом подельникам.
Те осклабились, замотали головами. Егору это не понравилось. Да и вообще, дело начинало приобретать дурной оборот, в воздухе запахло жареным. Дальнейшие слова Салова подтвердили его самые худшие опасения:
– Нам проще тебя завалить, егерь, нежели сделать то, что ты требуешь, понял?
– Нет, не понял. Это что, угроза?
– Понимай как знаешь. Ну-ка, дай сюда карабин, парень, по-хорошему прошу, – потянулся браконьер к карабину егеря. – Пока по-хорошему…
Краем глаза Егор заметил, как двое с ружьями заходят за спину, к ним уже подтягивается третий.
– Скажи своим, чтобы ушли из-за спины, – процедил он сквозь зубы коренастому и щёлкнул предохранителем. – Повторять не стану…
Салов молчал, а трое уже плотненько взяли егеря в кольцо.
– Выйти из-за спины! – крикнул Егор и дважды выстрелил в воздух.
Звуки выстрелов отрезвили браконьеров. Трое быстро отошли, остальные подтянулись к старшему.
– Теперь другое дело, – спокойно сказал Егор. – Значится, так. Все вы, граждане, задержаны на месте преступления. Продукцию охоты и оружие приказываю погрузить в фургон вон того автомобиля, – показал он на один из «уазов». – В случае оказания сопротивления вынужден буду пойти на крайние меры. Вопросы есть?
– Чё дальше-то? – спросил кто-то из толпы.
– На второй машине вы все будете доставлены в районное отделение милиции. В дальнейшем вами будут заниматься правоохранительные органы.
– Доигрались… – сплюнул какой-то жирный тип. – Говорил же, без лицензии не поеду!..
– Загружаем! – скомандовал Егор.
Началась неспешная погрузка. Переругиваясь и не стесняясь в выражениях, браконьеры затаскивали в машину тяжеленные туши. Некоторые, поглядывая на Салова, гневно ворчали, порой подходили к нему и о чём-то перешёптывались. «Нет, отказывается… Уже предлагал», – услышал егерь краем уха.
Далее погрузка продолжилась при полном молчании. На опушке повисла гнетущая тишина, прерываемая лишь кряхтением раздосадованных таким оборотом дела браконьеров.
Взвизгнула Пальма, Егор резко обернулся. И тут всё зашевелилось. Кто-то сильно ударил по карабину, тот отлетел в сторону. Тяжеленный ружейный приклад, саданувший по челюсти, уложил Егора на землю. Он быстро перекатился через живот, сгруппировался, но тут в спину упёрся ружейный ствол.
– Не рыпайся, парень, – прохрипел сверху Салов. – Отпрыгался, командир… Дёрнешься – замочу! Терять мне нечего. Сейчас будем решать, что с тобой делать, егерёк. Что ты там говорил насчёт расстрела перед строем?..
Егор молчал. Эти ребята, думал он, в одном ошиблись – они совсем не знали, что: во-первых, бывших разведчиков не бывает; а во-вторых, десантура никогда не сдаётся! Было ещё и третье: в экстремальной ситуации его голова работала как швейцарские часы (слова комбата). Итак, всё зависит от действий врага. Даже если его, местного егеря, надумали убить (что очень сомнительно), сразу этого делать не станут. Потому что не готовы. Ну а если не убьют – обязательно подставятся; вот тогда всё будет зависеть от его действий. Главное, не забывать, что ты не на войне: убьёшь негодяя – «загремишь под фанфары». Опасность в одном – они все вооружены.
А в это время, оставив егеря на попечении одного из охотников, браконьеры собрались в кучу и, энергично жестикулируя, что-то жарко обсуждали.
– В общем, так, Кент, – услышал Егор чей-то солидный голос. – Ты с этим егерем разбирайся сам, а мы разъезжаемся. Не было тут нас, понимаешь, не было! Сам разруливай проблему, Кент, договорились?
– Так, все по машинам! – скомандовал Салов-Кент. – Вот охотничьи билеты, ружья не потеряйте. Мясо в машинах, потом поделите. Я пока остаюсь здесь; Петя – ты со мной. В путь, братва…
Заурчали моторы, захлопали дверцы, и вскоре на опушке остались лишь Егор, Кент и тот, которого последний назвал Петей (как понял Егор, один из приближённых Салова).
– Салов, не трожь мой карабин, обижусь… – прохрипел Егор.
– Струхнул всё-таки? – подал голос Кент. – Поднимайся давай…
Егор встал и, прислонившись всё к той же обгорелой сосне, взглянул на браконьера.
– Ну, чё уставился, сопляк? – зло прошипел Кент. – Ты хоть понимаешь, что всю охоту нам смазал со своими лицензиями и игрой в Робин Гуда? Пристрелим тебя сейчас, делов-то. Прикопаем, как собаку, и «никто не узнает, где могилка твоя»… Как тебе такой расклад, сучонок?
– Гляжу вот на тебя – урка ты, а не прокурор! Рассказать кому – не поверят. Вот смотри, Салов, ты же учился в школе, в университете каком-нибудь; у тебя семья, наверное, есть?
– Как у всех, – согласился Кент. – Тебе-то какое до всего этого дело?
– А то дело, что сегодня ты совершил массовое убийство. Выбил с дружками своими целую кабанью семью, убил сохатого. Это живые, божьи твари. Я так понимаю, лес и звери – часть нашей Родины. Все эти Еловки, Осиновки, Сосновки… Рысья Падь – это и есть наша с тобой Родина. Ты хоть понимаешь это? Тебе и твоей семье мяса не хватает, что ли, или денег? Чего в этой жизни, кроме совести, тебе не хватает, Салов? Наверняка есть всё, а ты убиваешь. Ты хоть слышал, что сейчас война в стране, и ежедневно погибают наши мальчишки? Им, этим ребятам, не надо мяса, им очень жить хочется, а такие, как ты…
– Слушай, тебя, видно, хорошо зацепило прикладом-то, – засмеялся Кент. – Ты о чём говоришь, я чёй-то никак в толк не возьму?
– Да ты уже давно ничего не понимаешь, прокурор. Разучился понимать «что такое хорошо, и что такое плохо»… Ты просто негодяй, смотреть тошно. И последнее. Почему убил журавлей за Кряжем? Уж эти-то чем тебе помешали?
– Опять заборонил, – покачал головой Кент. – Да я здесь, в этих лесах, впервой…
– Врёшь! – егерь задыхался от гнева. – Сапоги у тебя уж больно хорошие – приметные очень…
– При чём здесь сапоги-то? – удивился Салов.
– Наследил ты здесь ими везде, прокурор – ох, наследил… Рысь в Сосновой Балке зверски убил… А потом – журавлей. Маньяк ты…
– А вот докажи, что – я! Докажи! – закричал, выйдя из себя, браконьер. – Нет у тебя против меня никаких доказательств, нетути! Да я тебя за клевету…
– Почему же нет доказательств? Есть…
Егор раскрыл ладонь, на которой блеснуло что-то тёмное.
– Что это? Чёрная метка? Ха-ха… Тоже мне, Шерлок Холмс выискался…
– На, держи, это твоя пуговица…
– Пуговица, откуда? – удивился Салов, подавшись вперёд.
– Держи! – крикнул Егор, и когда собеседник отвлёкся, ловя злосчастную улику, схватил его карабин за ствол, ловко отвёл в сторону, а потом резким движением ударил браконьера цевьём по лицу.
Через секунду Егор уже держал обмякшего прокурора перед собой напротив одуревшего Пети. Напарник Кента, сжимая двустволку, не знал, что ему делать – то ли стрелять, то ли…
– Не надо, Петя, не надо… – спокойно сказал мужику Егор. Одновременно со своими словами он, завладев прокурорским карабином, грамотно прикрыл себя находящимся в отключке Саловым. – Оружие в сторону, Петя! Ты же видишь, я повторять не люблю и не стану… А замочишь прокурора, пятнашку себе обеспечишь. В сторону… Стреляю!
Испуганный мужик, видя безвыходность ситуации, откинул ружьё к ногам егеря.
– Пять шагов влево… Лицом вниз…
В этот момент Егор, оставив Кента, быстро подобрал двустволку и аккуратно положил рядом с прокурорским карабином. А на его плече уже висел свой, про который охотники в спешке потеряли из вида. Но только не Егор. Война научила: оружие должно быть всегда на виду.
– Я тебя… Я тебя, егерь, сгною… в пыль сотру, – всхлипывал очнувшийся работник Фемиды, скрипя зубами и растирая слёзы и кровь. – Убью, гада! – вскочил вдруг он и, схватив крепкую берёзовую палку, кинулся на обидчика.
Егор без труда увернулся, а когда Кент поравнялся с ним, резким и точным ударом временно прекратил его душевные страдания.
– Охолонись, Кент. Посмотри на себя – бандит ты, а не прокурор…
Когда браконьер уже сползал на землю, не удержался и сделал выверенный хук:
– А это тебе, бандюга, за журавушек…
…Судебные слушания должны были начаться в октябре, но из-за канцелярских проволочек и прочей волокиты оказались перенесены аж на середину ноября. Только это уже ничего не могло изменить – месяцем раньше, месяцем позже. Хуже было другое: Егора отстранили от работы. Да и обвиняемым в суде предстояло быть не прокурору и не важным шишкам из соседней республики, а именно ему, егерю Озеркову.
Дело о браконьерстве быстро замяли. Не было его, этого самого браконьерства! Не было убитых зверей – лося и кабанов. Хотя один кабан всё-таки был – тот, которого по лицензии отстрелил гражданин Салов. А что до всего остального – миф и выдумки! Тем более что из «всего остального» вырисовывалась совсем уж нелицеприятная картинка.
Преамбула картинки такова. Законопослушных охотников Салова и Галкина (того самого Петю) с убитым кабаном задержал в лесу егерь Озерков. Он долго придирался к несчастным охотникам и после того, как обнаружил, что охотничий билет Галкина просрочен, стал требовать «свою долю» от кабанчика, угрожая в противном случае и вовсе отобрать тушу. Охотники, «вознегодовав от самочинного мздоимства», отказались. В ответ на это егерь сначала угрожал оружием, а потом, повалив обоих на землю, обезоружил и, угрожая, стал стрелять в воздух. Когда гражданин Салов откровенно возмутился такой выходкой «человека при исполнении», тот его, жестоко избив, едва не лишил жизни.
В результате хладнокровного избиения гражданин Салов почти месяц был вынужден находиться в стационаре с черепно-мозговой травмой, а гражданин Галкин после перенесённого на охоте «тяжёлого дистресса» обратился за медицинской помощью в республиканскую психиатрическую клинику. И так далее…
Вот такой «вырисовывался винегрет», как сказал Егору его товарищ Антоха Мамонт.
– Но скажу сразу: сей «винегрет» с явным душком – чистая подстава; иногда это, к сожалению, бывает, – покачал головой Антоха. – Дело сшито профессионально, не подкопаешься… Хотя у меня на примете есть один хороший адвокат. Работает не столько за деньги, сколько за правду. Идейный, в общем.
– Да ладно врать-то, – усмехнулся Егор. – Не бывает идейных адвокатов – все они барыги!
– Только не этот, – покачал головой Мамонт. – Марк Соломонович как раз из идейных, хотя, сам понимаешь, заплатить придётся. Этот старик воевал. Молодой был, зелёный, вот и рвался «показать себя». Ушёл на фронт семнадцатилетним, а вернулся без руки, а мог бы и без головы. Когда Марк Соломонович узнал, что ты был ранен на войне, дал согласие помочь. Я уже с ним разговаривал…
– Не хотел бы я своим ранением бравировать, Антоха… Неудобно как-то… Да, пожалуй, и не так важно, – заёрзал Егор.
– Ты это брось, Егор, – набычился Мамонт. – Сейчас всё важно! Радуйся, что пока на воле! Знаешь, что на твоё место опять бандиты метят? Выкарабкиваться нужно. Сейчас у каждого своя война…
В эти дни они были дружны как никогда. Казалось, Елена Борисовна переживала драму любимого человека больше, чем он сам. Она ничего не говорила, ни о чём не спрашивала. Любимая женщина помогала уже своим присутствием и умным, понимающим взглядом. Ленка вдохновляла его уже тем, что всегда была рядом; даже если стояла за операционным столом, Егор знал: она всё равно рядом. А потому ничего не боялся.
Как-то в осенний воскресный вечер, будучи у его родителей, они мило болтали, аппетитно уплетая горячие беляши. Телевизор работал, не умолкая; в восемь вечера появились кадры местной телестудии. На носу были муниципальные выборы – предстояло выбирать нового городского мэра.
Вдруг на экране мелькнуло холёное лицо какого-то молодого мужчины. Сначала Егор не придал этому никакого значения, он всегда был далёк от политики, которую, если честно, терпеть не мог. Но по мере разглядывания кандидата в мэры, что называется, в фас и в профиль, у него возникло ощущение, что где-то он уже видел эту ухоженную физиономию. Но где?
Потом показывали других кандидатов, мило улыбавшихся и обещавших словно под копирку одно и то же: борьбу с преступностью, помощь жителям города, пенсионерам и прочие «сказки дедушки Мазая». Вот промелькнуло ещё одно знакомое личико: Кибеев Алексей Алексеевич, он же браток по кличке Киба. Дела-а-а…
– Ба, знакомые всё лица, – воскликнул Егор, показывая подруге на экран.
– Это кто, Егор?
– Знакомый, в одной школе учились…
– Какой импозантный молодой человек…
– Да уж, импозантный, – засмеялся парень. – Они теперь все «импозантные»…
В кадре вновь замелькал первый кандидат. И тут Егор вспомнил! Да, он хорошо запомнил этого цветущего, холёного мужика. Именно его он когда-то видел в оптическом прицеле, хорошо запомнив, как тот шарахнулся от разлетевшегося вдребезги фонарного плафона. На этот раз мужчина был с женщиной. Сейчас телеведущая взахлёб рассказывала о семейной жизни каждого из кандидатов. У старого знакомого, удачливого бизнесмена, как оказалось, красивая жена, и они ждут в семье пополнения. Предоставили слово и жене – цветущей блондинке с огромными глазами и правильными чертами лица. Она очень трогательно поведала о своём супруге, о том, как тяжело тому далась карьера успешного предпринимателя.
Видимо, Егор так внимательно слушал эту женщину, что Лена, удивившись, спросила с иронией:
– Политикой заинтересовался или так – понравилась жена будущего мэра?
– Раньше нравилась, – глухо ответил Егор. – Даже больше, чем просто нравилась…
– Она?! – спросила, всё поняв, Лена.
Егор кивнул.
– Когда-то казалось, что жить без неё не могу. Пока не встретил тебя, – сказал Егор, выключая телевизор.
– Понимаю, она ведь такая молодая и красивая. Эти черты лица…
– Там всё красивое. Только… только нет тебя.
Это лишь кажется, что судьи – непробиваемые зомби: бесчувственные, сухие и как бы слегка отрешённые от мира сего. Действительно, какими должны быть люди, которым доверено творить правосудие? Наверное, именно такими – сухими и бесчувственными. А вся отрешённость – от узости выбора, от невозможности вильнуть в сторону от сурового слова Закона. Как там у древних: dura lex sed lex: закон суров, но это закон. И никакой импровизации!
И всё же не секрет, что правосудие – понятие относительное, хотя его и пытаются уложить в законодательные рамки. Судьи – такие же люди, как и все прочие, со свойственными им человеческими слабостями и печалями, увлечениями и даже страстями. Потому-то элемент субъективизма в судейской практике явно присутствует. А что делать? Человек всегда остаётся человеком, и ничто человеческое ему не чуждо…
Алла Сергеевна Ершова, в отличие от адвоката Марка Соломоновича Каца, не была идейной, скорее – беспристрастной, в чём ей помогало хорошее знание предмета своей деятельности. И только. В остальном же она старалась придерживаться «правил игры» своего замкнутого ведомства и держать, что называется, нос по ветру.
В этом уголовном деле, связанном с распоясавшимся егерем, Алле Сергеевне всё было ясно до мельчайших подробностей. Как говорится, ab ovo usque ad finem: от начала до конца. Она вообще считала его (это дело) несколько банальным и даже скучноватым. Хотя, положа руку на сердце, в этой (всё же «мутной») истории имелись кое-какие пробелы, связанные с истцом, но при надлежащем ведении дела на данном обстоятельстве можно было даже не останавливаться. Иначе, если покопаться, интересный бы нарисовался негативчик.
Он, этот Салов, несмотря на свой бывший прокурорский статус, уже попадался на браконьерстве – и не раз, а целых два. И хотя удавалось отвертеться, истинность из биографии не вычеркнешь. Другой факт: месяц в стационаре с сотрясением мозга – не многовато ли? Сомнительно. С врачами спорить всегда непросто, но при желании можно вытащить на свет много интересного.
И Алла Сергеевна с присущей ей дотошностью принялась это делать. Как уже было сказано, она не была идейной, но каждое своё дело вела так, как и положено было вести. Немного угнетало другое – понимание того, что она уже наперёд знала, чем всё закончится. А закончится тем, о чём с ней разговаривал Председатель – Семён Семёныч.
Руководитель районного судебного ведомства Семён Семёнович Кораблёв считался человеком спокойным, ровным, неподдающимся. Казалось, его ничего и никогда не могло вывести из обычного горизонтально-ровного состояния. За все двадцать лет, что Алла Сергеевна отработала с ним в стенах суда бок о бок, лишь дважды Председатель взрывался, переходя в этакую вертикаль.
Первый раз это было связано с коррупцией на местном заводе, когда от решения суда зависела не только репутация заводского начальства и района в целом, но даже области. Слушания с самого начала пошли не в том направлении, которое устроило бы заинтересованных лиц; потом дело и вовсе забуксовало. Но сторона обвинения напирала, и ситуация вот-вот могла выйти из-под контроля. После очередного звонка из областной администрации Семён Семёныч и взвился. Забросив под язык пару таблеток валидола, Председатель запил лекарство доброй порцией валокордина и вызвал к себе господина Горемыкина (каждый знал, что именно на него пала секира заниматься заводским процессом). И когда последний вошёл, шеф щёлкнул изнутри дверным ключом.
А ещё через полчаса… Семён Семёныч «вздыбился в вертикаль»! А так как это произошло впервые за все годы, поначалу никто ничего не понял, продолжая вести себя как обычно. В результате к концу дня Председатель успел объявить три выговора и одно служебное несоответствие; разумеется, плакали премии и прочие поощрительные выплаты. Попала под разнос и Алла Сергеевна (несоответствие как раз досталось ей). С тех пор прошло уж лет пять, но осадочек остался.
Вторая «вертикаль» случилась года два назад, когда обнаружилось хищение в филиале одного из областных банков, расположенных в городе. Банк известный, сильный, надёжный. Словом, с хорошей репутацией. Об этом можно было прочесть в многочисленных рекламках в каждой местной газетёнке. И не только. О его мощи и «несгораемости» жители города судили и по солидному зданию, отгроханному в кратчайшие сроки в самом центре Вятска. Тонированные стёкла и тёмно-вишнёвый мрамор лишали последних сомнений в его презентабельности. Поговаривали, что за теми деньгами, которыми ворочал филиал, стояли высокие люди из когорты власть предержащих, способных одним щелчком спутать всю мелко-иерархическую расстановку сил в районе. А это, согласитесь, серьёзно.
И вот – хищение. Финансисты народ ушлый, у них каждый рублик на счету. Деньги – не горсть семечек, взял – и никто не заметил. Денежки, они ведь счёт любят. Потому-то, когда кинулись и ахнули, быстро вышли на управляющего; а тому кто-то якобы звонил из области, просил. Побеседовали с другим; тот, перепугавшись, указал на третьего; следующий – на четвёртого… И всё бы ничего, если б верёвочка вилась по горизонтали. Она же возьми да и взвейся строго по вертикали! Властной, разумеется. Всё выше и выше, больше и шире. И бухнулась, наконец, обратно на голову бедолаги-управляющего. А как иначе? Он управляющий, ему и ответ держать.
И тут-то в местный суд вновь пошли звонки-звоночки, издалека и свысока. Вертикаль же, она требует и вертикального к себе отношения. Вот Семён Семёныч, не выдержав, и взвинтился. Пошёл по коридору, расточая гром и молнии и выискивая тех, кто для битья. Только на этот раз – учёные, по кабинетам, как мыши. Уж как повезёт. Кого-то пронесло, кого-то – нет. Алла Сергеевна отделалась лёгким испугом, схлопотав всего лишь выговор. Повезло.
Ну а так Семён Семёныч слыл человеком спокойным и порядочным, не в пример какому-нибудь Ляпкину-Тяпкину. Что называется, профессионал высочайшего полёта. Опять же, не сутяга, не сплетник. Милейший в общем-то человек. И за его обычное горизонтально-ровное состояние и непробиваемость сослуживцы за глаза прозвали шефа почти любовно – Броневик. Точно и смело. А чем, правда, не Броневик?..
Так вот. Как-то в конце рабочего дня Председатель-Броневик вызвал Аллу Сергеевну в свой кабинет и после нескольких шуток-прибауток (было у него ещё одно прозвище – Шутник) перешёл к главному – «лесному делу». Зная вашу принципиальность, заявил тогда Броневик, хотелось бы провести это дело без всяких-разных эксцессов. Дело с виду очевидное – по сути, никудышное. А вот звоночки то от соседей, то из области начинают донимать.
– Вы ведь не хуже меня знаете, уважаемая Алла Сергеевна, что для всех нас значат эти самые звоночки, – громко высморкнувшись в платок, обратился шеф к судье.
– Да-да, – кивнула та. – Понимаю…
– Так что, хотелось бы, чтоб прошло без всяких… э-э… неожиданностей, да?
– Разумеется, – вновь согласилась Алла Сергеевна. – Хотя… хотя, если честно, всплывают кое-какие нехорошие подробности в отношении истца. Не такой уж он безукоризненный, понимаете? Я уже начинаю сомневаться, так ли оно всё было на самом деле, как твердят адвокаты этого Салова…
– А вы не сомневайтесь, Алла Сергеевна, – тяжело посмотрел стеклянным глазами на подчинённую Броневик. – Работайте с фактами. А они, то есть факты, насколько мне известно, очевидны: должностной беспредел. Правильно я говорю?
– Ну… Суд решит…
– Суд-то, конечно, решит, только это решение во многом, сами понимаете, будет зависит от вас, дорогая Алла Сергеевна. Вот, пожалуй, и всё…
– Я свободна?
– И ещё, чуть не забыл, – остановил судью начальник. – Вы, наверное, знаете, что с Нового года я ухожу на пенсию – так сказать, на заслуженный отдых. Есть мнение назначить вас на моё место. Принципиальное согласие руководства я уже получил. Надеюсь, Алла Сергеевна, вы будете не против этого назначения? Поговорим об этом в конце ноября. Вопросы?
– Нет.
– Вот теперь свободны, – выдохнул Председатель.
Не дождавшись, пока подчинённая выйдет, Броневик уже разговаривал по телефону. Звонили из области…
Процесс проходил как по нотам. Бойкие адвокаты истца напоминали сторожевых псов и буквально набрасывались на обвиняемого, не давая тому открыть рта. На один ответ – десять вопросов, один заковыристей другого. Пусть порезвятся, оставалась невозмутимой Алла Сергеевна. Где им ещё резвиться, если не в зале суда? За всё, как говорится, заплачено. А начни осаживать, они тут такое устроят! Нет, как-нибудь обойдёмся без балагана…
Хороший специалист, судья Ершова вела процесс спокойно и уверенно, ничем не выдавая своего отношения к происходящему, тем более – благосклонности к какой-либо из сторон. Да-да, iustitia est digitus legis: справедливость – перст закона! Кто сказал – Цицерон? Не всё ли равно.
Время от времени Алла Сергеевна, подобно опытному дирижёру, вводила в стройный адвокатский оркестр новые гаммы, требуя смены аккордов, подбрасывая «музыкантам» не совсем «удобные» с их точки зрения вопросы. Равенство сторон в суде, извините, ещё никто не отменял.
– Истец, пару слов о предыдущих задержаниях вас за браконьерство…
Ну вот, улыбнулась про себя судья, теперь пусть немного поработает адвокат обвиняемого, Марк Соломонович; а уж он-то своего не упустит, выжав из данного факта максимум возможного для своего клиента. Хороший адвокат. Те двое ещё не знают, с кем связались: один Кац стоит десятерых им подобных. А раз так, ещё неизвестно, чем всё закончится. Хотя – это зря! Всё закончится так, как решит она, Алла Сергеевна.
Адвокат Кац и впрямь развернулся; те двое притихли, теперь помалкивают. Ха-ха… Старый конь борозды не портит. Ну что ж, приобнажим-ка верхушку айсберга…
– Уважаемый истец, а с какого времени вы работаете в хозяйственном отделе администрации главы республики?
Салов напрягся, но, быстро справившись с волнением, спокойно ответил:
– С весны текущего года. Какие-то неясности?..
– Неясность одна: по какой всё-таки причине, истец, вы поменяли прежнюю работу в прокуратуре на скромную должность в хозотделе?
– По личным обстоятельствам. Скажем так: ответственность большая, – нахмурился Салов. – Это имеет какое-то отношение к процессу?
– Протестую! – вдруг взвился один из адвокатов истца.
– Протест приму, если мне кто-нибудь ответит, за что у истца была условная судимость – за браконьерство?
Немая сцена.
А вот для Марка Соломоновича самое интересное только началось. Пусть-пусть порадуется старик, подумала Алла Сергеевна, только едва ли это что-то изменит… В данном деле ясно только то, что оно тёмное. Получается, егерь этот ничего не путает, заявляя о присутствии в том лесу и других работников администрации. Не выдумал же он это! Салов – из администрации, и те оттуда же… Простое совпадение? Вряд ли. Впрочем, Кац по данной теме виртуозно прошёлся… Так-так, посмотрим, куда выведет кривая дальше…
…После перерыва обстановка в зале накалилась. Адвокаты истца и обвинитель (молодая девчонка, почти практикантка, ей бы кандидатскую где-нибудь в библиотеке строчить, а не людей под статью подводить), казалось, своими доводами не оставили бывшему егерю ни шанса. Судья едва успевала наводить порядок, делая про себя краткие выводы. А этот Озерков – упрямый парнишка, ни разу не попался на обмане; зато бывший прокурор – как гадюка под вилами. Похоже, врёт, шельмец, извивается, извивается… Кац – молодцом, ровненько так, с фактами и логикой… Те почти на лопатках. Да уж, господа-товарищи, не повезло вам с Кацем-то. То ли ещё будет!
Та-ак… А что здесь понадобилось военному комиссару – непонятно. Адвокат объяснил, что тот пойдёт как свидетель. Совсем не ясно – какой свидетель, и что, собственно, ему свидетельствовать? Посмотрим-посмотрим…
Впрочем, уже и смотреть-то нечего. Прения закончились, стороны заслушаны, пора и в совещательную комнату… Нет, ещё остался военком. Марк Соломонович аж светится. Рано радуетесь, господин Кац, похоже, сегодня не ваш день. Итак, послушаем, чем порадует комиссар…
– Уважаемый суд, дамы и господа, – вежливо начал майор Габидуллин. – Я буду краток. Старший сержант запаса Озерков Егор Михайлович, по моему скромному мнению, которое, кстати, разделяют все сотрудники военного комиссариата и те, кто его знает лично, вне всяких сомнений, является героем нашего времени. Службу в армии Егор Озерков проходил в доблестных Воздушно-десантных войсках, несущих сейчас на Кавказе самые тяжёлые потери. Этот парень тоже воевал, и воевал доблестно. В одном из боёв в Грозном, прикрыв собственной грудью командира батальона, старший сержант Озерков был тяжело ранен и лишь по счастливой случайности не погиб. Прошу всех встать!
Присутствующие дружно переглянулись и один за другим начали подниматься…
– Тут, извините, не армия, а суд… – недовольно заметил один из адвокатов Салова.
– Встать! – приказал громким голосом Габидуллин, блеснув в сторону недовольного побелевшими от гнева глазами.
Ворчун быстренько вскочил, уронив на пол дорогой «паркер».
– Ну вот…
– Указом Президента Российской Федерации за смелые и решительные действия, совершённые при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, старший сержант Озерков Егор Михайлович награждается орденом Мужества. С вашего разрешения, ваша честь, я хотел бы вручить Орден прямо здесь и сейчас…
– Не возражаю, – качнула головой судья.
Майор подошёл к Озеркову и, нацепив на левую сторону его пиджака награду, пожал руку и крепко обнял.
– Служу России! – отрапортовал смущённый Егор.
– Уважаемый суд, – вновь обратился к собравшимся Габидуллин. – Не может быть хороший человек одновременно отъявленным преступником, каким его хотят здесь представить. Этот парень – герой! И я это заявляю с полной ответственностью. В этой истории кто-то явно негодяй, но только не он! Прошу одного – тщательно разобраться…
Марк Соломонович Кац довольно улыбался…
Произошедшее в зале суда явилось для всех полной неожиданностью. Ни истец, ни его адвокаты, ни даже сам Егор не ожидали ничего подобного. Не оказалась готова к такому раскладу и сама Алла Сергеевна. Уже битых полчаса женщина находилась в совещательной комнате, но время для неё, казалось, сейчас остановилось. Впервые за всю свою судебную практику Ершову застали врасплох. Она чувствовала себя в тот миг некой школьницей начальных классов, застуканной матерью с измазанной губной помадой физиономией.
Она ещё ничего не решила, но уже поняла: после посещения суда военным комиссаром многое изменилось. Нет, не многое – всё, всё изменилось! И вдруг слёзы ручьём полились из всегда непромокаемых глаз районного судьи. Ведь никто, кроме неё самой, вырастившей и воспитавшей без мужа единственного сына, не знает, как ей сейчас тяжело. Потому что, пока она здесь ежедневно перебирает тонны всяких бумажек, её Володька служит в армии. Как она убивалась, когда сын, бросив юрфак университета, вдруг однажды заявил: раз в стране война, учёба может подождать. И никакие уговоры и материнские ухищрения не помогли…
– Там ребята гибнут, а я что, хуже других? – бросил ей прямо в лицо глупый Володька.
– Ты должен учиться, сынок, – пробовала образумить сына убитая его решением мать.
– Конечно, мама, – согласился тот. – Но сначала отслужу. И не вздумай отмазывать…
Где он сейчас, её Володя? Нет, он попал не в десантные войска, общевойсковик. Но куда забросят завтра-послезавтра, никому неведомо… А вдруг завтра-то – туда, в заварушку, на войну, в Чечню?.. Кто тогда её сына защитит, если мать – здесь, с бумажками? Кто? Кто? Кто?!
И вдруг что-то проснулось в этой «женщине-сухаре», как её однажды назвал Броневик.
– Какая же я глупая, – сказала вслух сама себе Алла Сергеевна, вытирая глаза влажным платком. – Да вот такие, как этот Озерков, и защитят! Именно такой отчаянный мальчишка. Не Салов же…
Никто, в том числе и сам Егор, понятия не имел, что в это время творилось в душе плачущей где-то в совещательной комнате женщины-судьи. Сейчас, как, впрочем, и все предыдущие дни, Егора занимала только одна женщина – Лена. И он почти никого не видел, да и не слышал. Как оказавшийся на необитаемом острове человек с тоской смотрит на Луну и звёзды, ставшие для него в неведомом мире этакой связью с прошлым и будущим, так для этого парня васильковые глаза любимой женщины оказались путеводными звёздочками земного существования. И когда рядом были эти глаза, он уже ничего не боялся.
Одного не мог понять Егор: почему ему никто не верит? Какому-то Салову – верят; ему – нет. Честный и открытый, поначалу он пробовал возмущаться, возражать и даже спорить. Но все эмоции пропадали в туне. В ответ – пустота, стена непонимания. Будто обращался не к живым людям, а к бесчувственным роботам, к Млечному пути, к необъятному пространству Вселенной…
И когда он это осознал, то замкнулся, ушёл в себя и… растворился в любимых глазах. Она сидела рядом, эта молодая влюблённая женщина, ставшая для него целым миром. С некоторых пор Егор уверовал, что Лена для него – некий бесценный талисман личного счастья. И ничуть не сомневался: пока любимая женщина рядом, с ними обоими никогда ничего не случится. Они нашли друг друга – это ли не счастье?! Значит, пока вместе, им ничего не грозит…
Появление в суде военкома смутило Егора. Что ему здесь понадобилось, волновался парень, с тревогой наблюдая за военным. Адвокат про него и словом не обмолвился… Неожиданности всегда пугают, потому как неизвестно, чего от них ждать. Однако Кац, появившись в зале с военным комиссаром, был непробиваем как танк; на лице адвоката не дрогнула ни единая морщинка. И лишь случайно Егору удалось-таки поймать лукавый прищур старого хитреца: на его немой вопрос тот незаметно подмигнул. Видать, знает, что делает. Оставалось надеяться на лучшее…
А потом произошло то, что произошло. Егора военком буквально оглушил! Всё позади, а он никак не мог прийти в себя. Все – Лена, Марк Соломонович, майор Габидуллин – улыбались ему, поздравляли и хлопали в ладоши. В то же время каждый из присутствующих понимал: рано радоваться – бой продолжается! Остался последний штурм, который и есть «трудный самый». И от того, каким окажется окончательный вердикт судьи, можно будет либо праздновать победу, либо… А вот об этом-то думать совсем и не хотелось.
Позже Егор и под пыткой бы не вспомнил, что вещала в своём постановлении строгая женщина-судья с непроницаемым взглядом. Она говорила громко, чеканя каждое слово, каждую фразу. Немногое осталось в его памяти, лишь самое главное: «…Оправдать… Невиновен… Ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Салова… в связи с вновь выявленными обстоятельствами…»
Ещё он помнил копну Ленкиных волос на своей груди и горячие слёзы, капавшие из драгоценных сапфиров.
– Я знала, я знала, что справедливость восторжествует, – шептала Лена. – Ведь таких честных, как ты, сейчас почти не осталось…
– Вот уж не думал, что ты умеешь плакать, – пошутил Егор, целуя её волосы. – Ведь хирурги не плачут…
– Хирурги не плачут… Хирурги – огорчаются.
– Ничего, мы ещё повоюем…
В первых числах января новым Председателем районного суда был назначен Антон Петрович Сундуков. «Молодой да ранний» – так отзывались о нём коллеги по цеху. Благоухая дорогим одеколоном, новоиспечённый шеф в первый же день собрал коллектив и, поблагодарив «за долгую и безупречную службу на страже законности и правопорядка» Броневика, заверил собравшихся, что в своей работе он будет верен тем традициям, заложенным в бытность Председателем всеми уважаемого Семёна Семёныча. Коллеги улыбались и дружно аплодировали.
Но некоторые укоризненно посматривали на Аллу Сергеевну. Не «проколись» та на одном из процессов, стала бы по-настоящему достойным продолжателем традиций Броневика, ратовавшего за деловую тишину и ведомственное спокойствие. А что теперь ждать от «молодого да раннего»? С молодыми всегда головная боль; даже приспособиться – целая наука! Эх, Алка, Алка…
Зато сама «Алка» в последнее время, похоже, чувствовала себя не так уж и плохо. Она заметно повеселела и, к зависти женщин-сослуживцев, словно помолодела; на лице сгладились морщинки, а глаза… Они как будто стали счастливее.
Рассказывали, на днях получила от сына письмо из армии. У него всё хорошо, стал младшим сержантом. Готовится к восстановлению в университете, много читает. «Рядом хорошие друзья, мы один за другого – горой! – писал Володька. – Должна же быть на земле справедливость, мама… И это чувство, согласись, дорогая, следует выстрадать…»
Да он умнее меня, мой Володька, качала головой восхищённая мать. Жаль, что лишь недавно это поняла…
Вот и всё. Ах да, незадолго до пенсии Броневик вновь «взвился в вертикаль». И пребывал там… вплоть до Нового года.
…Ещё накануне, в течение дня, было неприветливо-сумрачно. Колючий ветер нещадно бился вдоль просек, а бор-богатырь, словно старик после долгой ходьбы, грузно покряхтывал, вызывая тоску. Но в вечер глубоко в вышине разом вызвездило, чуть-чуть подморозило, а из-за разорванной надвое тучи вдруг выскользнула луна. Превратив лес в какую-то сказочную фантасмагорию, оживив сосны, ели и даже трухлявые пни, красавица не долго жеманилась, дав украсть себя белокурому облаку; а потом и вовсе, увлёкшись и позабыв обо всём, разом пропала.
Ожившие было лес и полянки вновь погрузились в густую черноту, как будто минуту назад здесь не бродили колдуны и лешие, не метались странные тени, пугая своей необычностью не только запоздавшего беляка, но даже выглянувшую из кустов Лису Патрикеевну.
В ночь ударило по-серьёзному, сковав пролившиеся за предыдущие дни проталины. Но лишь на утре наконец вновь забеленило. Февральская вьюга наступала степенно, лениво и как-то совсем не спеша, будто давая понять: ох, надолго иду – кто не спрятался, сам виноват! Что вам обманщица-луна? Только я, истинный фантаст и художник, способный удивить! Кто там жаждет диковинных дворцов и сказочных чудовищ? Вам повезло, радуйтесь, дождались… Вьюга идёт, выдумщица-рукодельница, задорная сказочница! У-у-у… Лишь чуть-чуть подождать…
…Мело почти неделю. Пурга качалась верхушками сосен, крутилась снежными завихрениями, ошпаривая колючей бодротой. Снега навалило – за всю зиму, на то и февраль. Не только Рысья Падь, но и всё в округе потонуло в мягком, густом одеяле. А всё мело и мело…
Поневоле вспомнишь лето-то, вздыхала ещё не дряхлая бабка Настя, колдуя над чем-то у русской печи. Ни к детям съездить, ни им сюда, в деревню. Всё одна да одна… Прав был покойничек Сидор, ворчавший, бывало, что, пока живы, по гостям ходить надобно, а то и вовсе съездить куда подальше от Осиновки – хотя бы в столицу.
– А чё, Насть, правда, – приставал он к жене. – Я вот сколь живу, дальше района не е́зживал…
– А тебе куды ездить-то? – ворчала она. – Дома работы невпроворот, а он вдруг шастать надумал…
– Во-во, нам бы с тобою сейчас мир посмотреть, – смеялся муж. – Нигде ведь не бывали, ничё не ви́дывали…
А как он, Сидор-то, любил мечтать! Что ни разговор – одна мечта заразительней другой…
– Восетта соседа Сёмку видел, – рассказывал как-то ей муж. – Так вот он…
– Какова? Глухарёнка, што ль?
– Ну да – его. Так вот Сёмка, Глухарёнок-то, он в армии-то когда служил, изъездил, грит, весь Туркестан. Представляшь, Насть, весь Туркестан?!
– Глико… А где этот самый Туркестан-от?
– По-нынешнему, надо думать, Туркмения… аль Турция. Шут их разберёт! Сёмка знат, а я вот с лёгкими моими не был в армии-то, так это… могу и ошибиться.
– Чё заборонил-то опять? – бывало, оборвёт мужа баба. – О чём рассказывашь-то, безголовый?
– А, так это… Он, Глухарёнок-то, восетта и грит: там, на юге-то, арбузы стоят несколько копеек всего, а размером… ну… скажу – не поверишь!
– Говори!
– Не поверишь, Насть – с пестерь грибной! А иногда и… с таз! Представляшь – с таз! И всего за несколько копеек…
– Врёт он, Глухарёнок твой. Сколь знаю Сёмку, всегда врал…
– Думашь? – сомневался в правдивости соседа Сидор. – Пошто ему врать-то, какой навар?
– Тому лишь бы побрехать… – ворчала баба. – Помнишь, рассказывал-то про этова… ну, с полотенцем-то на башке? Как он…
– Про басмача-то? Помню, он мне сам сказывал: видел, мол, там живого басмача. Поди, не врал про него?
– Брешет…
– Эт пошто?
– Не живут оне так долго… Всех поубивали уж…
– Так тот же старый был, лет сто… иль чё? Вон, Глухарёнок-то грит…
– Надоел! Я щас шумовкой тя промеж толов!..
– Да ладно ты, Настёна… – обычно миролюбиво заканчивал спор Сидор. – Представляшь, Насть, пусть арбуз стоит пять копеек; десять арбузов – пятьдесят, а двадцать – рупь… Сто штук – всего на пятёрку! Да этими арбузами можно было бы не только самим питаться – витамины всякие! Но и скотину кормить, а, Насть?
Вспоминая уже два года как умершего мужа, бабка Настя беззвучно плачет. Слёз нет, только пустые вздохи-всхлипывания… Всё путешествовать хотел, не видел, говорил, ничего, кроме Осиновки-то. Не понимала дура-баба его. А мужик-то какой хороший был – добрый, покладистый, опять же – непьющий; разве что с тем же Глухарёнком на праздник, бывало, раздавят пол-литра красненького, а больше – ни-ни. Глухарёнка не стало… с полгода уж будет в Масленку.
По молодости-то этот Глухарёнок всё на Настёну глаза косил, а когда из армии возвернулся, с Туркестану-то, думала – всё, за него и выйдет. Ан нет, подвернулась ему где-то на гулянке сысолятинская Тонька – и всё, влип мужик по уши. Одно слово – Глухарёнок. А на Петровки сразу две деревенские свадьбы и сыграли – Сёмки с Тонькой и их с Сидором…
С Сидором-то всю жизнь как два голубя прожили. Ведь на руках, почитай, её носил. Не ценила, всё взбрыкивала… А он ей: «Настёна, а, Настёна…» Всё мечтал развести здесь, в Осиновке-то, арбузы размером с пестерь… От, глупая башка, арбузы у нас же не растут! А он одно: а у нас с тобой, Настёна, вырастут! И телушку будем ими потчевать, почти бесплатно. И нам сладко, и ей – хорошо…
Плачет, плачет одинокая старуха; и слёз уж нет, все давно выплакала – так, по каплям и вытекло. И всё равно плачет. Не с кем поговорить бедолаге, не на кого прикрикнуть, некому пожаловаться. Был жив Сидор – была Настёна; а теперь… а теперь – просто старуха… Вздрагивают старческие согнутые плечи… И некому избавить от безысходности…
Э, да я совсем расклеилась, вздрогнула вдруг старуха и, схватив ведро с мешонкой для коровы, побрела в хлев. Там уж заждалась, поди, проголодавшаяся Милка – тёлка-трёхлеток. Милку во двор привёл ещё Сидор, совсем крохотную, купил у кума в Бочкарях; пугливая была, потом пообвыклась, стала ласковой. Настю-то могла и куснуть, а вот Сидора – никогда. Теперь как на Милку взглянет – сразу Сидор в глазах. Умру, говорил, Милку подольше не режь, она тебе будет обо мне напоминать. Так и получилось. Первое-то время, как в хлев – так в слёзы. Выплакала уж все…
Ещё на подходе к овину старухе показалось странным, что дверь распахнута, хотя, хорошо помнит, накануне запирала. Да и не могла не запереть – как это, оставить овин открытым, наметёт ведь? Заволновалась, заохала, а к груди будто кто приставил раскалённую грелку. Вошла, мешонку на землю, сама – к хлеву:
– Мила, Мила…
Откуда-то подуло, будто сильный сквозняк. Так и есть – сквозит, дверушка в огород тоже распахнута. Кто открывал-то? Только она и могла; точно знает, уходила – всё прикрыла. Может, шастает кто? Да кому в буран шастать-то? В такую погодину, как говорят, хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Да, собаку… А если волк?
Оглушённая такой догадкой старуха осенила себя троекратным знамением, а потом, зашептав слова спасительного псалма, осторожно выглянула в огород… Теперь уже грудь давила не грелка, а тяжёлый утюг: несмотря на завихрения вьюги, сугроб у овина был изрыт множеством звериных следов, виднелись кровавые сгустки. Следы вели выше – на крышу. А там… зияла огромная дыра!
Держась рукою за сердце и не прекращая читать молитву, Настя попятилась, быстро прикрыла за собой дверушку и, продолжая пятиться, подошла к двери хлева. А потом… упала. Случайно, споткнувшись о ведро с мешонкой. От ведёрного грохота в хлеве поднялась какая-то возня, но быстро всё стихло. Старуха осторожно поднялась и, крадучись, приблизилась к хлеву, где была её Мила. Тихо открыла. Вновь пахнуло сквозняком и чем-то ещё – то ли псиной, то ли… свежатиной. Первое, что бросилось в глаза – огромный пролом в крыше, откуда ошмётками свисала солома и заготовленные с осени клеверные пучки. Кинулась к кормушке и ахнула: за перегородкой в кровавой луже лежала мёртвая телушка. Вся нутрянка выедена, а мякоть изгрызана местами до мослов. Волки…
Был бы жив Сидор, Настя наверняка упала бы в обморок. Но, привыкшая жить в одиночестве, старуха уже научилась полагаться лишь на себя. Дрожащими пальцами распахнула фуфайку и, сунув руку куда-то под кофту, достала спасительную упаковку с таблетками; одну быстро бросила в рот. Постояла немного, закинула вслед за первой вторую. Минут через пять раскалённый утюг снялся, дышать стало свободнее, легче и шире…
Немного посидела, поохала; понятно дело – всплакнула, без слёз. Главное, не обезножить, а всё остальное-то поправимо. Пойти, что ли, к соседке, поспрашивать? Она, Тонька-то, ушлая; у ней, сказывала, волки-то ноне дважды шалили – и ничего, сама живёхонька. Тут главное – не обезножить…
В середине февраля – как прорвало. Отовсюду в Рысью Падь пошли ходоки: от волков спасу нет. Были из Крутого Лога, Грибного, Осиновки, Поддубок… В Осиновке какую-то старушку едва удар не хватил; сама не подставилась – и то хорошо.
Мужики возмущаются, нужно что-то делать, иначе не сегодня-завтра серые на людей кидаться начнут! И начнут, досадливо кряхтел Егор, если их не остановить. Леса-то кругом рубят безбожно, зверья всё меньше, нарушены столетиями обжитые ареалы. Лось да кабан жмутся то к одному лесу, то к другому, не зная, где спастись; а тут ещё браконьеры… Эти волков не бьют, волка ещё надо уметь добыть; да и с серого мяса не возьмёшь; шкура же – товар сезонный…
Егор не любил охоту ради охоты. Когда же возникала «чрезвычайка» – другое дело. До этого в его угодьях такое случилось однажды – в апреле прошлого года. «Чрезвычайка» – это, как правило, волки. Когда их много, всегда жди беды; если очень много – очень большой беды. Нынешней зимой волков, что называется, зашкалило: привалили из удмуртских кущ, вслед за кабанами, покинувшими обширные вырубки. Плюс местные выводки – подросшие и окрепшие. Нынче зимой в Сосновую Балку без ружья совсем не ходи – зарежут, несколько волчьих стай орудуют. Как бандиты какие – мгновенно, неожиданно, жестоко. У деревенских почти повывелись собаки; разосланы предупредительные письма, теперь по одному без ружья ни ногой. В общем, без отстрела в этот раз не обойтись.
Начать, пожалуй, следует с Осиновки. Там, да ещё в Грибном, где серые ходят почти в открытую. Поначалу-то собаки брехали, отпугивали, а теперь уже некому – всех зарезали. Бандиты… Двух тёлок уже у местных сгубили. А корова – не собака, она, хошь не хошь, движимое имущество. Тут, брат, уже и до Кодекса недалече… Решено: завтра же съездить в Осиновку…
Волчье логово разместилось неподалёку от деревни, всего километрах в пяти – в ложке, за пологим распадком. Это если по прямой; кружной дугою, через Грибное, все восемь будет, да по сугробам, в мороз. А если вновь завьюжит?
– Их там, почитай, не меньше десятка, – рассказывал егерю местный волчатник Вася Коробейников. – За распадком-то по осени ещё семья проживала, нашенские, из логова, так мы их с Толяном-Рябчиком ещё по осени… это… определили.
– Почему я не в курсе? – нахмурился Егор.
– Так мы… как ево… ну…
– Вася, ты больше не шали, – строго покачал головой егерь. – Пусть даже волки… Ещё раз узнаю – не позавидую тогда тебе…
– Ну так вот, – как ни в чём не бывало продолжал волчатник, – эти-то волки пришлые. Тут одного пристрелили – здоровый такой волчара, матёрый… Явно пришлый, вотяцкий. Повозились, однако, тогда с ним, хотя все лазы, казалось, вызнали…
– Хорошая привада потребуется, Вася, слышишь?
– А чё искать-то? – удивился Вася. – У старухи Настьи-Навалихи, у которой тёлку волки задрали, вот корову-то и возьмём.
– Как это… возьмём? – теперь уже удивился Егор. – Так она тебе и отдаст?
– Отдаст. Уж больно убивалась по корове-то… Мясо, сказала, есть ни за что не будет. Не пропадать же добру, а?
– Договорились…
– Тут недалеко есть удобный взлобок, там и снега всегда мало, и наблюдать удобно; вот на пригорке-то и организуем приваду… Как?
– Добро, – согласился егерь. – Приваду придётся проверять ежедневно… Да, ещё пополнить, наверное, придётся. Как думаешь?
– Найдём. На ферму в Гришкино мужики съездят, порося-падаль всегда сыщется. Но и телушки хватит, куда больше-то?
– Да, тут вот какое дело, – замялся Егор. – Мэр городской грозился приехать на охоту. Жаль сохатого-то ему для баловства подставлять – жирновато будет. А вот волков пущай постреляет. Им ведь, городским-то, острые ощущения подавай, вот тот самый случай… Для ощущений.
– Сделаем, Михалыч, – подобрался Коробейников. – Не впервой, поди…
На том и расстались…
Мэр и его «свита» прибыли в Рысью Падь в четверг, во второй половине дня. Событие для глубинки, бесспорно, неординарное – не каждый день сюда заезжает столь высокий гость. За свою короткую жизнь Егор повидал много разных начальников; приходилось наблюдать и трясущихся от страха командиров и подлинных героев. Последних искренне уважал, а вот перед должностями-званиями никогда не пресмыкался. Уважение, считал он, ещё заслужить нужно. Правильно говорят, не должность красит человека, а человек – должность…
Бывает так, что человек обыкновенный, ни большой, ни маленький, серый с виду и почти никчемный; но при случае такое выдаст – и не подумаешь. Сколько таких стали героями! Благодаря именно им, «маленьким» людишкам, все войны выиграны. Кичиться же должностью способен лишь тот, кто без кресла – ноль без палочки, закавыка без смыка. Потому-то о человеке можно судить не по его должности и положению, а по внутреннему содержанию. Истина, ставшая для Егора жизненной аксиомой.
Теперь понятно, почему приезд в урочище высоких гостей егеря ничуть не смутил. Тем более что этот Валерий Юлианович пока оставлял хорошее впечатление. Был вежлив, прост в общении, интересующийся. Мэр никого не шпынял, сразу дав понять, что приехал отдохнуть и, что самое важное, осмотреться. Как шепнул Егору районный охотовед Дмитрич, если мэру Рысья Падь понравится, будет хлопотать перед областными чиновниками, чтоб выделили денег на обустройство здесь заказника.
– А это, Михалыч, совсем другой уровень и ба-а-альшие деньги, – говорил, горя глазами, Дмитрич. – Отстроим хорошую гостиницу, пристройки всякие, то да сё… Цивилизация!
– Всё это, конечно, хорошо, – усомнился егерь, – но совсем повыведется зверь-то…
– Тут с какой стороны подойти, – не согласился с ним охотовед. – Если с умом – только прибудет. Ну что, порадуем мэра хорошим сохатым, а?
– Не-а, как и говорил, будем волка брать, – покачал головой Егор. – Стрельнуть в сохатого любой сможет, а вот загнать серого не каждому по силам. Так ему и передай, Дмитрич. Сыграй на его самолюбии.
– А ты пойди и сам скажи, если такой смелый. Валерий Юлианович приехал за мясом, а мы ему каких-то волков… Некрасиво получается, даже не знаю…
– А я знаю. Вот пойду и скажу…
Вариант сыграть на самолюбии удался. Егор от гостя ничего не скрывал, выложив всё, как есть – и про волков, объявившим местным настоящую войну; и про то, что «волков бояться – в лес не ходить». А с загнанным лосем, мол, и ребёнок справится.
– Когда все узнают, что на отстрел волков выехал сам мэр города, представляете, какой это возымеет положительный резонанс? – схитрил Егор.
– Сомневаюсь, – замялся мэр. – Волк – та же собака, только покрупнее да похищнее…
– Не соглашусь. А как один на один против того, кто «похищнее»?
– Не понял, объясни мне, парень, – заинтересовался чиновник.
– Дело в том, что охота на хищника всегда опасна, – стал объяснять Егор. – Это не в травоядного стрелять. Должно быть чёткое понимание: любая ошибка может стоить жизни. Ошибёшься ты, хищник – никогда! Вот и весь расклад. Волк – зверь грозный, хитрый, нахрапистый, а потому как противник очень серьёзный. Нет, этот хищник далеко не собака; ему достаточно пару раз удачно клацнуть челюстями, и охота закончится – для охотника, разумеется. Впечатляет?
– Вполне, – мотнул головой мэр. – Я готов рискнуть, Егор Михалыч…
– Есть множество способов охоты на серого зверя – скрадом, на засидке и даже с поросёнком. Но мы будем охотиться старым, традиционным методом – организуем так называемую облаву по белой тропе.
– Это как?
– Обложим местность с волками флажками на шнурах. Вы с прочими охотниками будете в засаде, на вас и погонят. А дальше всё будет зависеть от зоркого глаза, реакции и крепости нервов. Да, и знайте, волк очень крепок на рану.
– То есть?
– Это означает, что по нему из ружья раз пройдёшься – и ничего; второй – а ему опять хоть бы хны: будет продолжать бежать, да ещё в запале способен наброситься. Вот такие дела. Как и куда лучше бить, расскажет Дмитрич, мне же нужно готовиться, ещё в деревню ехать. Удачи! Завтра на рассвете отъезжаем в Осиновку, десять кэмэ отсюда…
– Ну, ты меня прямо-таки озадачил, Михалыч, – попытался улыбнуться мэр. – Приехали, называется, за мясом…
– Мясом вас мужики и так угостят, а вот один на один с хищником… Одно скажу: вернётесь с охоты настоящим мужиком. Мужицкое начало – оно ведь у нас всех в генах. А на волков и первобытные люди охотились. Ну что, сразимся?
– Сразимся! Спасибо, егерь, разбудил во мне первобытного мужика…
– Ну и лады… До завтра.
Выехали ещё затемно; хотя летом в это время уже вовсю бы играло солнце. Десятку на снегоходах одолеть – пара пустяков. С начальством, конечно, проще, откуда-то сразу появились снегоходы. Егору хотя бы один такой – столько проблем сразу бы решилось! Им – для жиру, а здесь снегоходик-то ох как пригодился бы…
Гостей Егор разместил в доме Авдеича; ничего, там просторно, хорошо. Сам заночевал в новом доме; правда, в одной половине, в другой – стройка полным ходом. Вечером сводил всех в новую баню, попарились; потом напоил душистым квасом. Обошлось без баловства и водки. Увижу под хмельком, сказал своим мэр, тут же отправлю назад, в город, причём – навсегда. Неплохо…
Вообще, этот мэр Егору начинал нравиться. Правильный мужик, хоть и избалован достатком и властью. Если так, то пусть Наташа будет с ним счастлива…
И всё же егерь волновался. Вместе с мэром, не считая Дмитрича, пожаловало ещё шестеро. Охрана – не охрана, но некое сопровождение; кто-то из городской администрации, один – директор магазина, ещё какой-то – по почтовому ведомству. И ладно бы только такие. Из всей этой массы острый Егоркин взгляд вдруг отсканировал одну физиономию, которую ну никак не ожидал здесь увидеть. Узрел – и призадумался.
– Кто это, Дмитрич? – негромко, отведя того в сторону, спросил он охотоведа, показывая на парня в чёрной вязаной шапочке, хлопотавшего в углу с карабином.
– Так это… Вадя с силикатного, по хозяйству в администрации…
– Давно рядом с мэром? – продолжал расспрашивать Егор.
– Кто? Вадя-то?..
– Ну Вадя, Вадя… – начал терять терпение егерь. – Давно трётся рядом с Валерием Юлиановичем, спрашиваю?
– Так это… Как нового мэра выбрали, он и устроился. Может, чуть позже…
– А до этого где работал?
– Кто, Вадя-то? – тараторил, как испорченный телефон, Дмитрич.
– Глухой, что ли, Дмитрич? – рассердился Егор. – Этот Вадя… Ты лично давно его знаешь? Откуда он? Может, сидел, кто друзья-приятели, чем ещё занимается?
– Вадька-то? А я почём знаю? Вроде ненашенский; говорю же – с силикатного. А чё он те дался-то?
– Да так, спутал с одним…
Егор не спутал. Мужик «с силикатного» был одним из трёх рэкетиров, приходивших когда-то в магазинчик Сергуни за «данью». Двоих он мало-мальски знал, а вот третий оставался некой «тёмной лошадкой». И вот теперь эта «лошадка» вновь «затемнела». Что-то здесь было нечисто, какая-то тайна. А всякие секреты частенько заканчиваются неприятностями. Тайны же в таком деле, как охота, неприемлемы – они опасны. Есть над чем призадуматься…
В Осиновку добрались, когда звёзды в светлеющем небе уже растаяли, а крупный месяц заметно поблёк. Где-то сбоку дружно алело. Снег под валенками хрустел, как свежая французская булка. Хотелось чего-нибудь горячего, кружку бы травяного душистого чая…
Вася Коробейников тут как тут. Встретил, отвёл всех в тепло, предложил горячего и бутерброды – чёрный (свой!) хлеб с салом. Молодец Вася, знает, что делает. Сейчас подкрепятся, чуток успокоятся, сосредоточатся…
Шнуры растянуты, рассказывает Вася; тот «мешок», что вместе заметили вчера, аккуратно подрезали, получился небольшой овал, два кэмэ, не больше.
– Волчица там матёрая, – вздыхает Коробейников, – хлопот с ней не оберёшься… Привада ушла в самый раз, без порося не обошлось, правильно подсказал, Михалыч. Ветер северный, как раз со стороны оклада. Минут через десять следует, вероятно, ещё раз пройтись вместе, на лыжах и без ружей. Привёл с десяток местных, загонщики…
Молодец Вася, башковитый, легко с ним. Не успеешь задать вопрос, а он уже лепит ответ.
– Так, все пока остаются здесь, – скомандовал Егор. – Загонщикам быть наготове. Мы на разведку…
Привада своё дело сделала. Волки были неподалёку; сытые клубки серыми кляксами расплылись на белом истоптанном покрывале.
– Скоро тронутся, – шепнул Вася, разглядывая в бинокль взлобок. – Волчица опытная, даже сейчас на нас уставилась, по интуиции. Нахлебаемся с ней…
– Не каркай, Вась, – осадил волчатника Егор. – Думаю, пора, а?
– Пора-пора… – подтвердил напарник и резко рванул в сто-рону деревни…
Открытая стрелковая линия вытянулась метров на восемьсот. У каждого свой сектор обзора, своя территория стрельбы. Жеребьёвка прошла удачно, по обе стороны от мэра опытные охотники. Готовность после третьего рожка, как обычно…
Напрягало другое – тревога, поселившаяся в груди со вчерашнего дня – как раз после того, как увидел рэкетира Вадю. В данном случае бандит здесь выглядел, как тот тигр в загоне с какими-нибудь простодушными овцами. Перевоспитался и стал «добропорядочным гражданином»? Вряд ли, сказки для маленьких. Чего ему здесь, в лесу, надо, этому уркагану? Что может его заинтересовать? Думай, парень, соображай – для того и «соображалка»…
С другой стороны, что Вадю может связывать с новым мэром – дружба, деньги, общие дела? Сомнительно. Охранник? Куда ни шло. Валерий Юлианович не знает, что тот бандит? Наверняка знает или догадывается. Хотя… мог приблизить по совету кого-то из знакомых; или… взял к себе по ошибке. Пусть так. А вот для чего Ваде быть рядом с мэром? Ответ: быть рядом с властью всегда комфортно; чуть что – мэр выручит… Вариант.
Итак, что угрожает мэру, случайно пригревшего рядом «нежелательный элемент»? В лучшем случае – неприятности… А если «элемент» вооружён и очень опасен?
Вот дубина-то! Мэр победил на выборах с большим трудом, к власти вовсю рвались бандиты – тот же Киба. Цепочка: Киба – Вадя – мэр… Он, этот Вадя, здесь только потому, чтобы… Не может быть!
Когда проезжали Осиновку, шедший впереди на лыжах Вася Коробейников, оглянувшись, остановился и показал рукой на старый дом на окраине деревни:
– Вот здесь и живёт Настя-Навалиха-то…
– Кто такая? – не сразу понял егерь.
– Старушка, у которой волки корову зарезали. Вдовая она. Хорошо, сама жива осталась…
– Ну да, ну да…
Егор думал совсем о другом. «Несчастный случай на охоте» устроил бы, пожалуй, многих. Что потом? Потом… новые выборы мэра; на сей раз такие, как Киба со товарищи, свой шанс не упустят! Им надоело играть «в белых перчатках», пойдут на «мокруху» запросто! Вадя – киллер, как дважды два. По жеребьёвке будет от мэра справа, через одного. Какие волки! Тут один волк – Вадя, с которого не стоит сводить глаз…
Может, брежу, а? Лучше очередной бред, чем большая кровь. Кто сказал-то, уж и не вспомнить. Ах, да, комбат! Вот так, сам погиб, а всю жизнь помогает…
Пятничная суматоха для Елены Борисовны началась уже с раннего утра. Ночное дежурство подходило к концу, когда в операционную вкатили тяжёлого парня с пулевым в живот. Он стонал и метался, а через какое-то время неожиданно затих. Иссиня-бледные скулы и провалившиеся глазницы указывали на обильное внутреннее кровотечение. Парнишка, говоря врачебным языком, «уходил»…
Вот он, передний край, где многое зависит от быстроты, точности и профессионализма человека в белом халате. В операционной стало тихо. Такая необычная тишина бывает на передовой перед началом кровопролитного боя. Итак, поехали: капельницы с двух сторон, эндотрахеальный, лапаротомия, скальпель, отсос, зажимы…
Общее деловое молчание прерывал лишь голос хирурга, звучавший командными фразами:
– Сушим справа, ещё… зажим… двойной… Расширяемся, скальпель… Подсушим… Кохер… ещё один… сушим… Коагулятор. Дыхание? Пульс? Давление? Кровопотеря? Плазму в левую… Сушим, не спим! Пульс? Молодец, хороший мальчик… Ничего, ещё поживёт. Пульс? Контроль давления… Не спать, не спать! Коагулятор. А это откуда?! Тампонада, в забрюшинное… Повторяю: не спать!.. Очень внимательно…
…Хищники шли прямо на линию. Волков ещё не было видно, но уже всё вокруг дышало тревогой. Среди густой тишины где-то гулко хрустнул куст; вдруг взвилась, суматошно застрекотав, паникёрша-сорока; а вдалеке, у ельника, кратко заскрежетал ворчливый ворон. Повеяло тоской и опасностью. Охотники подтянулись, ожидая в прямом смысле звериную атаку. Тут, главное, не оплошать, пребывая в твёрдой уверенности, что ждать всегда проще, нежели наступать; ведь тот, кто наступает, не знает, что ждёт его впереди…
Егор занял такую позицию, с которой в любой момент мог контролировать ситуацию. Хорошая оптика карабина позволяла вести ближний обзор. Он уже знал, откуда пойдёт зверь – из того подлеска, за пнём; возможно, выйдут и по сторонам, но тот, который двинется на мэра, вероятнее всего, выбежит оттуда.
Теперь чуток «побредим». Со своего сектора обзора Ваде на мэра не выйти, разве что выдвинуться ближе, скажем, вон к той дальней ёлке. Да, если ему выйти к ёлке, затаиться в её лапах и… ждать. Чего ждать-то? А когда волки пойдут… Все будут стрелять в зверей, а кто-то… Кто-то… Бред сивой кобылы, выдумки воспалённой головы! Вот что значит – война: всюду мерещится враг. Поневоле дураком станешь… А теперь – успокоиться и не психовать. Итак, ты – «чуток контуженный», а потому все будут смотреть на волков, кроме тебя. Ты же – и на зверей, и… на ёлочку. А почему бы и нет?
…Сначала вылетела сама, низко опустив хищную морду и прыгая так, чтоб можно было в любой момент скакнуть в ту или иную сторону. Чуть левее вынырнул ещё один, сразу кинулся куда-то вбок, уйдя на первые номера. Эта, которая с опущенной мордой, к бабке не ходи, матёрая волчица… Приостановилась; ох, хитра, принюхивается. Говорил ведь Вася, нахлебаемся с ней… Ничего, ещё посмотрим…
Что это? Снежок с ёлочки-то… Брежу? Скорее всего…
Волчица? Пока принюхивается, но явно пойдёт на мэра, а он ещё и не догадывается…
Ёлочка? Это, конечно, не эсвэдэ, но оптика отменная. Есть! Есть! Вадя… Вышел-таки, умник, к ёлочке. Тебе на войну надо было, ковбой… Ишь, в кровавые игрушки решил поиграть… Я тебе сейчас, поиграю, засранец…
Волчица? Идёт прямёхонько на мэра, к бабке не ходи… Подстраховать Юлианыча-то, нет? Или сам справится с хищником? Не успею… Или успею?
Куда метит Вадя, в волчицу? Внимательно…
Ба-бах! Ба-бах!.. Что это? Тьфу, стреляют в того, который ушёл вправо. Где Вадя-то? Где ты, чёрт ушастый? Ага…
Ба-бах! Ба-бах!.. Молодец, Юлианыч, вступил в бой… Близко подпустил, не струсил…
Всё-таки в мэра?.. Сдурел, что ли?! Вадя, не делай этого, не делай… Ага, что-то у него заклинило, возится с затвором… Спасибо затвору, избавил от хлопот. Не-е-ет, теперь-то тебе уже не прицелиться… Плакал твой карабинчик с дорогой оптикой…
Отдача привычно ткнула в плечо. Рухнул? Ничего… Ничего ему не сделается… Подумаешь, ружьишко покалечил. Ну а штаны… штаны можно будет отстирать…
Где волчица? Вот это да! В десяти шагах от обезумевшего «от ощущения» мэра бился в конвульсиях крупный волчара. Мэр, наверное, не верит собственным глазам. Ну вот, пусть почувствует себя настоящим мужиком. Один на один с матёрой волчицей – это вам не кот наплакал! Молодчина…
Где волки-то? Почему только два? Внезапно слева гулко забухало, ещё и ещё… Ну вот, пошли теперь. И никто не догадывается, что в лесу этом только один волк… Только один! Говорящий.
Так, стрельба закончена, отбой. Где негодяй Вадя? Ага, всё ещё возится под этой ёлкой, умник. Самое время с этим ковбоем потолковать…
Вадя сидел на корточках под елью и возился с разбитым в хлам карабином. Увидав Егора, испуганно дёрнулся, вскочил, но сделать ничего не успел. Локтем по скуле, и тот уже на снегу.
– Кто?! – прорычал Егор.
– Ты о чём? Я ничего не знаю, – зло огрызнулся Вадя. – Одурел, что ли, чуть меня не убил?!
Егор передёрнул затвор карабина и, многозначительно посмотрев на мужика, жёстко произнёс:
– Кто, Вадя? Больше повторять не стану, пришью как собаку… Я контуженный, слышал, наверное?
– Да пошёл ты!..
Егор взял чуть повыше Вадиной головы и выстрелил в ствол ели. Потом ещё и ещё… С головы мужика слетела шапочка, ошмётки еловой коры посыпались на рано полысевшее темя. Но он, похоже, ничего не чувствовал, успев сползти вдоль ёлки в лёгком обмороке. Слабак, однако…
А вот и мэр бежит… Спешит, чтобы похвастаться удачной охотой. Молодец, конечно, не струсил. Хорошей перчинкой для него сейчас будет рассказ этого умника.
– Э, вставай давай, – толкнул Егор слабо соображавшего Вадю. – Не на пляже… Да и начальник идёт, уважать надо…
Неудавшийся киллер с трудом приходил в себя…
– Видал, какого волчару завалил?! – кричал, сияя начищенной солдатской бляхой, мэр. – Он на меня, а я – в него – бах! Тот споткнулся, вскочил – и на меня! А я – ба-бах! Видел? Ты видел?!
– Конечно, Валерий Юлианыч, – улыбнулся Егор. – Держали себя как настоящий опытный охотник! Чувствуете?
– Что? – не понял тот.
– Ну, чувствуете, что… мужиком стали?
– Ха-ха-ха… В самую точку! – расхохотался мэр. – А этот почему здесь лежит?
– Поплохело чуток… На охоте такое иногда бывает. Сейчас он поведает вам о своей охоте. Интересный получится рассказ – не рассказ, а настоящий детектив… Вставай, охотник, пошли…
– А что у него с ружьём-то? – удивился мэр.
– Поломал малость, – ответил за Вадю Егор. – Всё из той же детективной истории… Он вам сейчас сам всё расскажет. Расскажешь, Вадя, а? – егерь наставил на лежавшего ствол карабина.
– Расскажу! Я всё расскажу… – вдруг закричал парень, и по его щекам покатились слёзы.
– Вот так-то лучше, – похлопал того по плечу Егор, втайне радуясь, что киллер «дошёл до кондиции», впав в истерику. Именно такое порою творилось на войне с «языками».
Они втроём вышли на открытое место и… вдруг в груди зазвенело. Громко, тревожно, отчётливо. До тошноты. Волки, что ли? Егор быстро обшарил глазами местность… Ничего опасного, спокойно, вроде. Звенело. Теперь уже постоянно, не умолкая…
– Ну, давай, Вадя, рассказывай, а то…
Договорить Егор не успел. Внезапно слева бухнуло… Вадя как подкошенный рухнул на снег. Далеко, у замшелой раскоряченной ели, блеснуло. Схватив мэра за рукав, Егор быстро потянул того за сосновый ствол; потом, вскинув карабин, прильнул к оптике – туда, где мелькнул блик. Вот он, вот… Из-за размашистой еловой ветви виднелся лишь ствол с оптикой; разглядеть бы ещё – чей хищный глаз нацелен сейчас на него… Ну же, где ты?
Оптика, неожиданно запотев, скрыла обзор. Егор, быстро скинув рукавицу, мягкой сухой ветошью из кармана протёр стекло и вновь прильнул глазом к окуляру. Ствол винтовки у ёлочки куда-то исчез, лишь покачивающаяся ветка напоминала о том, что ещё секунду назад там прятался человек. Поди угадай, кто там куролесит. Ан нет, вынырнул у куста. Что за выкрутасы?! Это теперь так заметают следы? Нет, Плохиш, ты уже под прицелом. Но кто же всё-таки этот тип? Кто ты, кто? Ну, давай, подставься…
Егор, не отрываясь, буквально впился глазом в оптический прицел, пытаясь высмотреть неизвестного киллера.
– Врёшь, не уйдёшь! Куда ты денешься?.. – шептал он. – Мне многого не нужно – только личико покажи… Ли-чи-ко…
И вдруг замер. Не может быть! Дмитрич?! Неужели?! Вот тебе, бабка, и Юрьев день…
В ту же секунду одновременно прогремело два выстрела…
Под рукой сильно брызнуло. Если бы не тампон, вовремя прижатый к кишечной петле, полило бы брандспойтом.
– Зажим… Тампон побольше… Живее… Коагулятор. Шьём… Кохер… ещё один… Кетгут… другой, толще. Считаем тампоны… Где ещё один?! Считаем, считаем! Коагулятор. Давление как? Почему падает? Пульс, пульс на контроле!
– Пульс нитевидный! – не выдержал анестезиолог. – Да и давление… Мне кажется, он уходит…
– А вы для чего?! – жёстко ответила Елена Борисовна. – Забудьте это «уходит», любимое словечко паникёров. Работать! Бьёмся до конца!
– Пульса нет…
– До конца! Дефибриллятор…
Голова работала чётко. Она не отойдёт от операционного стола, пока не вытащит этого парня оттуда, куда его кто-то пытался загнать. Этот молодой и сильный человек должен – просто обязан! – жить. И она – все они, кто в её бригаде, – непременно спасут эту жизнь. Иначе… А никаких иначе!
– Пульс есть! – обрадованно оповестил анестезиолог.
– Что и требовалось доказать, – спокойно парировала Елена Борисовна. – Продолжаем. Кохер! Подшить… Тампонируем, аккуратно… Коагулятор. Прошиваем… ещё… Сушим! Скальпель… А-а, вот она, шельма, блестит…
Елена Борисовна, подцепив кохером пулю, крепко сжала её и медленно вывела из раны.
– Полюбуйтесь, – показала «трофей» операционной бригаде. – А могла ведь убить! Теперь уже – нет. Ничего, молодой, выдержит… Кохер! Коагулятор. Подсушим. Кетгут… минимальный… хорошо. Иглу… Кетгут… Сушим… Что с дыханием? Следим за пульсом… Из забрюшинного уходим… Неплохо.
Медсестра подошла к Елене Борисовне и протерла лоб хирурга сухой салфеткой…
Егор задыхался. Рядом склонился мэр, сновали какие-то люди.
– Как ты? – участливо спросил Валерий Юлианович.
– Нормально… Было покушение… на вас. Вадя – киллер. Ра-работал под прикрытием… в паре…
В горле что-то булькало, старался дышать носом…
– Ты только держись, парень, – тряс его мэр. – Только держись… Уже перевязали… Сейчас будут снегоходы. Из деревни дозвонились до области, вылетел санитарный вертолёт. Ты только держись…
– Киба… – еле слышно прохрипел Егор. – Киба…
Вдали зашумело. Это на снегоходах подъехал с ребятами Вася Коробейников…
Она вошла в ординаторскую, бросилась в кресло, устало прикрыла глаза. Вот так, ещё одна жизнь спасена. Повезло парню, доставили быстро… Сейчас бы немного отдохнуть…
Но привычного в таких случаях облегчения после операционной всё не приходило. Сердце неприятно сдавливала тоска.
Встала, поколдовала в углу на столике над кофейником, заварила крепкий кофе. Терпкая жидкость обжигала, внутри же росло какое-то беспричинное беспокойство. Вдруг подумалось о Егорке. Где он сейчас, этот ласковый и добрый парень, сумевший подобрать ключик к её закрытому для всех сердцу. Всего двадцать пять. Мальчишка совсем! Пять лет разницы – срок немалый…
Вновь вскочила, подошла к зеркалу, внимательно вгляделась в первые морщинки у глаз. Старуха…
В груди опять задавило. В голове – Егор. Случись что, его ведь так быстро оттуда, из этой глуши, не доставишь… Чего только не лезет в дурную голову! Кофе, что ли, ещё заварить?..
Склонилась у подоконника и…
Позади что-то страшно загремело, с шумом посыпались стёкла, ударила о пол рама… Она даже не оглянулась, страшно. Лена всё поняла: грохнулось зеркало! Значит, давит в груди неспроста. Из глаз потоком хлынули слёзы. Не сдерживая их, женщина зашептала слова первой пришедшей в голову молитвы, искренне прося об одном:
– Спаси и сохрани его, Господи… Спаси и сохрани…
– Как он? – спросил Коробейников суетившегося рядом с лежавшим на хвойных ветках егерем какого-то охотника. Вася уже обо всём знал.
– Тяжёлый, – озабоченно ответил тот. – Всё цветы какие-то поминает. Слова непонятные… Бредит, видать…
– А те двое?
– Уже отошли…
Вася подошёл к Егору, осмотрел туго перепелёнутого бинтами друга, поправил голову, подложив под неё поданную кем-то фуфайку.
– Как ты, Михалыч? – попробовал он заговорить с раненым.
Егор не реагировал, хотя веки подрагивали.
– Держись давай, Егор, – глотая слёзы, сказал негромко Вася. – Сейчас на снегоходах-то быстро… А там, глядишь, и вертолёт будет…
– Васильки… – вдруг отчётливо прошептал Егор.
Коробейников встрепенулся, прильнув ухом к Егоркиным губам:
– Чё, Михалыч? Повтори… Не молчи… Главное – говори, Егор…
– Ва… силь… ки…
Егору было хорошо. С какого-то времени он провалился в некую темноту и успокоился. Потом вдруг стало светлеть, и вот, наконец, где-то вдали засиял яркий луч. И он с радостью, как само собой разумеющееся, двинулся навстречу этому свету.
Внезапно всё изменилось. Кто-то невидимый крепко держал его за руку. Он это явственно ощущал. Хотя и не понимал, почему держат, если ему нужно туда – к свету? Егор посмотрел назад и увидел лицо женщины с добрыми голубыми глазами. Она, не мигая, смотрела на парня и сжимала его руку. Егору не нравилось, что кто-то его придерживает, ведь он спешил туда, к далёкому лучику. Тогда женщина покачала головой и улыбнулась. И в этот миг её глаза стали ярче света, манившего впереди…
Этот свет был другим – как ярко-голубое весеннее небо. Всё ярче, ярче и ярче… Ещё немного – и он весь погрузился в нежную синеву женских глаз. И вскоре Егору стало так уютно в этой синеве, что теперь он уже не хотел расставаться с рукой, державшей его…
Внезапно где-то в вышине появилось непонятное движение. Поначалу он никак не мог разобрать – что это? И вдруг улыбнулся: далеко-далеко в небесной сини, приятно горланя, плыл журавлиный клин…
2012–2013 гг.
Уйти, чтобы остаться…
ДРУГУ…
Человек, стоящий на цыпочках, не может долго стоять.
Лао-Цзы
…Неправда! Неправда, что будильник придумал часовщик или какой-нибудь талантливый механик. И тот и другой заняты слишком добрыми и нужными для людей делами. Трезвонящую пытку мог изобрести исключительно пыточных дел мастер – какой-нибудь Сансон Третий либо его дед, в лучшем случае – ужасный Торквемада, а то и душка-доктор Гильотен. С какой стороны ни посмотри, это прерогатива мучителя и садиста, который в перерывах между взмахами секиры наверняка размышлял о чём-нибудь другом – например, о рычаге будущей гильотины или… о будильнике, способном не только лишить человека головы, но и нечто похуже – запросто свести с ума.
Такое чувство, что он, этот наглый крикун, и не думал останавливаться: три-и-инь… три-и-инь… Трезвонило у самого уха – там, где с вечера оставил смартфон. Очерцов, потянувшись, стал нащупывать на тумбочке виновника утренней побудки. Однако вредина умудрялся постоянно выскальзывать из пальцев, а потом и вовсе, нырнув с тумбочки на пол, принялся верещать ещё громче и наглее (или так только показалось?).
– Ну хорошо, хорошо, я уже почти встал. Сейчас… – ворчал спросонья Очерцов. – Говорю же – сей час, сей минут… Только, пожалуйста, замолкни, а…
Как было бы здорово, остановись этот варвар хотя бы на минуту. Лучше, конечно, на две… Две минуты – это же целая жизнь, радость спокойного бытия, наслаждение тишиной и благостным покоем. О, две минуты!
Но, даже находясь на полу, смартфон ни в какую не желал униматься, продолжая трезвонить и испытывать терпение на прочность. Вот ведь садюга! Подумав об этом, Очерцов понял, что настало время дребезжащего нахала прихлопнуть как назойливую муху.
– Получай! – процедил он сквозь зубы и, с трудом приоткрыв один глаз, с силой бросил в крикуна подушкой.
Но вновь вышло как-то неловко: отлетев в сторону, смартфон продолжая трепать нервы. Вот, чёрт! Как это он умудрился увернуться? И что теперь, неужели в самом деле придётся вставать? Если так – то уже не уснуть; не встать – тем более… Хоть так, хоть этак – однозначно подъём. Изуверство какое-то… А который, вообще говоря, час? Большие часы на стене показывали семь утра. Та-ак, пора подниматься, всё равно уже не сон, сплошные танталовы муки. Или… титановые муки? Тьфу ты, конечно же – танталовы! А титановые – это пластины, которые закупили вчера для одного пациента. Ну всё, пора вставать. Смартфон же следует немедля в мусорное ведро! Купить новый, чтоб не так орал. Хотя – нет, для начала – просто отключить. А заодно – и Танюхин: когда её крикун звенит – мёртвого разбудит! Эх, как она сладко спит-то, счастливая…
Впрочем, Очерцов врал сам себе: он прекрасно знал, что жена уже тоже проснулась, просто делает вид, будто спит. И, пока он будет умываться, обязательно встанет, чтобы сварить ему кашу. За что любят хороших жён? Да за такие вот, внешне, казалось бы, незначительные моменты, которые на самом деле оказываются самыми что ни на есть значительными – быть может, даже определяющими.
Вот и Ванька уже на ногах. Молодец, самого не видно, но вода в ду́ше журчит, значит – там, умывается. Ему никакого будильника не нужно, сам – как секундомер, хоть часы проверяй. Юнец ведь совсем, пацан-семиклассник, а фору даст любому взрослому. Лишь теперь становится понятным, как дисциплинирует спорт – заряжает, учит твёрдости духа, не говоря уж о крепости мышц.
Когда лет пять назад сына отдавали в хоккей, для всех это казалось неким развлечением, семейной игрой. Дескать, будешь хорошо учиться, никто и слова не скажет против хоккея; учёба и спорт должны идти в одной связке, а двойки в школе – это типа позорные голы. А это немаловажно, ведь Ванька – голкипер. Казалось бы, какая чепуха – вратарь; но именно хоккейные ворота очень быстро формируют мужской характер. Быть голкипером способны лишь избранные, единицы. Обычные хоккеисты в воротах, как правило, не приживаются, слишком ответственно и больно. А больно потому, что всегда бьют – сильно, с ожесточением и с азартом. Такая уж у голкипера работа, чтобы били.
Со стороны посмотреть, ну что там, едва видимая шайба, этакая точка на льду, мельтешащая туда-сюда. Только она, эта точка, порой влетает в ворота чуть ли не со скоростью пули; попробуй среагируй, схвати, останови. Тут-то и проявляется характер, на глазах формирующийся из мальчишеского в мужской – сильный, неуступчивый, волевой. Шайба, жестоко ударившая какого-нибудь новичка в шею, подбородок или связку, мгновенно отбивает у неудачника всякое желание подвергаться дальнейшему избиению. Постепенно спортивный пыл слабака сходит на нет, как, впрочем, и весь интерес к «опасной», с родительской точки зрения, игре. Ох, сколько ссадин, синяков и растяжений пришлось обхаживать терпеливой маме Тане. Жалко, сын ведь…
Но Ванька из хоккея ни в какую! Чем больше били, тем отчаяннее становился. А потом и сам стал бить. Хотя в его задачу всегда входило совсем другое – не пропустить! Особенно от тех, кто пробивал ворота почти смертельными ударами – настолько тяжёлыми, что, ошибись чуть-чуть, и травма-«сезонка» обеспечена. Именно они, такие удары, быстро развили в парне почти сверхъестественную интуицию, позволявшую мгновенно вычислять на поле их исполнителей – личных врагов голкипера. Ванька научился чувствовать опасный удар, опережая его на самую малость, на невидимый миг, способный решить исход поединка. И это был его личный удар по сопернику, которого лишал самого главного, ради чего, собственно, тот и бился – желанного гола.
Через несколько лет из Ивана Очерцова сформировался неплохой голкипер, игравший в лучшей юниорской команде области. Ничего удивительного, что над его письменным столом – все мыслимые и немыслимые голкиперские кубки юниорских чемпионатов. И это – его собственная победа над страхом и неуверенностью. Вот и сегодня ни свет ни заря – опять на тренировку. А через день едут в Казань, ответственная игра с младшей командой то ли «Динамо», то ли «Трактора». Все ещё спят, а он уже – нате вам, под душем. Вот она, спортивная закалка-то…
Очерцов с любовью и гордостью думал о сыне, не замечая, что улыбается. Ещё год-два – совсем мужчиной станет.
Пока глава семьи брился-умывался, кухня, как всегда, жила собственной жизнью. На плите уже пузырилась ароматная овсянка («поридж», как приучала называть обычную русскую кашу благоверная), мастерски приготовленная Татьяной; пыхтел чайник, что-то бормотало радио, а Ванька, делая вид, что помогает матери, с опытностью куперовского Следопыта ловко орудовал в холодильнике. Мальчишка ведь, растёт, ему всякие вкусности только и подавай!
– Доброе утро! – улыбнулся при виде обоих Очерцов. – Как спалось?
– Доброе, – ответила, зевнув, Татьяна. – Завтрак готов, приятного аппетита! Спала хорошо, но твой будильник – он и глухого разбудит…
– Предлагаешь не включать?
– Вовсе нет. Только найди что-нибудь более мелодичное…
Танюха, конечно, большая умница. Обычно с утра поворчит, но потом, позабыв обо всём, быстро забывает. Потому что прекрасно знает: её муж на другой звонок никогда не согласится. Тяга к «тирану» была вполне объяснима: ещё в юности, когда у родителей был будильник с таким же трезвоном, каждое утро мама Алексея, Екатерина Матвеевна, появлялась у постели сына и, ласково пожелав доброго утра, предлагала вставать:
– Сыночек, Лёшенька, пора…
Сколько воды утекло, а эти воспоминания о родительском будильнике согревали Алексея до сих пор. Иногда Татьяне казалось, что он по-прежнему надеялся однажды услышать любимый материнский голос…
– Привет, Ванька! – поздоровался Очерцов с сыном, оторвавшемся наконец от холодильника.
– Уху… – махнул тот головой, жуя толстый бутерброд с сыром.
– А ты чего встала? – спросил хозяин дома у жены. – Предупреждал же, когда у тебя выходной, нечего на кухне делать, сами справимся. Правильно говорю, Вань?
– Уху…
– Ну вот. Теперь весь сон сбила, сейчас уж вряд ли заснёшь…
– Разворчался… Ешь давай, я в кашку замешала абрикосы, вкусненько… Ты чего, Ваня, всухомятку жуёшь? – посмотрела Татьяна на сына. – Остынет…
– Налетай, – кивнул сыну Очерцов. – Сегодня пораньше выедем…
– Знаешь, на днях они со столичными юниорами играют, – сказала жена. – Тренер Ванечку уже утвердил. Предстоит сложный матч…
– Молодец, старается…
Через минуту разговоры прекратились, и только стук ложек подтверждал, что на кухне собралась вся семья. Ванька, быстрее всех расправившийся с кашей, убежал к себе.
– А компот? – крикнула ему вслед Татьяна. – Может, йогурт и кофе с булочкой?
– Не, не хочу ничего, – отмахнулся тот.
– Вот так всегда. Ты бы его поддержал, поговорил, что ли, ребёнку приятно будет, – затараторила супруга, когда сын скрылся за дверью. – Сильно волнуется, я же вижу…
– Где ты ребёнка-то увидела, мать? Он со мной не особо и разговаривает, большой стал, видать, заважничал…
– И всё же поговори, ему тоже непросто…
– Ладно. Как у тебя-то?
– Да ничего, начальник управления в отпуск собрался, сказал, за себя оставит…
– Началось… Мы же на море хотели…
– Алексей, я не могу сказать Митрофанычу, что собралась в одно время с ним в отпуск. Субординацию, извините, никто не отменял: сначала он сходит, а уж потом подчинённые…
– Пусть молодой зам остаётся! Как его… Ку-ку…
– Кокошников…
– Ну вот, пусть этот Кокошников и остаётся. Он ведь шустрый у вас…
– Предлагала, но шеф ни в какую! Только тебе, говорит, Татьяна Сергеевна, могу доверить управление. Цените, мол, оказанное доверие…
– Хитрец. В общем, насколько я понял, всё как всегда…
Есть уже не хотелось, отпуск с женой вновь накрывался медным тазом, а из-за этого и все планы. Кофе обжигал, но приятно бодрил.
– Бутербродик, Тань, положи…
– Твой любимый, «фирменный»?
– Знаешь ведь, чего спрашиваешь? С зеленью, кинза чтоб…
– Так что с отпуском-то, меняем? – вновь задела за живое благоверная.
Очерцов молчал. Вообще-то дел столько, что совсем не до отпуска. А когда приходится ещё менять-переворачивать с ног на голову весь график, то лучше застрелиться…
– Ну так как, Алексей? – не унималась Татьяна. – Поговоришь со своим?
– Легко сказать – «поговоришь», – проворчал Очерцов. – Переписывать заявление придётся, график к чертям собачьим менять… Ох, извечная история. Безжалостная ты, Танька, трудоголик под соусом.
– А сам-то! – взвилась жена. – Гольный трудоголик, без всякого соуса…
– Ну, вот и поговорили, до вечера…
«Кореец» завёлся, даже не чихнув. Новенький, ещё трёх лет нет, что по местным меркам – муха не сидела. Хотя, конечно, иногда в груди так и заноет при воспоминании о старенькой «Волге», прошедшей с ним огонь и медные трубы. Бывало, едешь, а «волжанка» – раз и задёргалась. Прямо с трассы – к Михалычу, а уж он-то состояние машины нутром чувствовал. Пока то да сё, разговоришься, отвлечёшься… Слышал, уволился старик из автосервиса, вновь закуролесил. Его б механиком в их гараж, так ведь не пойдёт с шальных-то денег; там у них в автосервисе один день – как зарплата в гараже.
На дворе вновь непогодь, и машины по трассе тянутся плотным строем, закидывая друг друга смачными плюхами жидкой грязи. Трудяги-дворники, доказывая хозяину преданность, неутомимо бегают туда-сюда, шоркая измазанное стекло. Однако их суета почти не влияет на обзор ветрового стекла, покрытого матовой мутью.
Ванька сидит рядом – молчит, обиделся. Завтра у матери день рождения, а он и в ус не дует, один хоккей на уме. Хоккей хоккеем, но не маленький уже, пусть подумает, какой подарок мамане преподнести. Неделю назад намекнул, а он хоть бы хны! А вчера уже жёстко насел. И вот обиделся. Хочется, конечно, о многом поговорить, да вот не говорится…
Очерцов скосил взгляд на сына, нахохлившегося как воробей. Вразумить, что спорт – не самое главное в жизни, а лишь один из её эпизодов? Может, попытаться подсказать о необходимости заглянуть дальше собственного носа? Поможет ли? Спорт рано или поздно закончится – и что дальше? Нет, не поймёт, не захочет понять. Если поговорить – то завтра, но никак не сейчас. Маленькие детки – маленькие бедки, а подрастут…
– Тебя где высадить-то, у центрального? – спросил, сбив себя с мысли, Очерцов.
– Как обычно, – хмуро ответил Ваня. – Сегодня Палыч лично собрался инструктаж проводить, поэтому встреча на главной арене. Прошлую игру-то продули, сам знаешь…
– Последняя игра была превосходна! Ну да, вы проиграли, но стратегически оказались на высоте. Важнее другое: обошли мастерством, понимаешь?
– Моя вина, моя! Ошибся, вот что обидно. Думал, восьмой номер в правый верхний бросит, а он, вишь как, точно в низок увёл…
– Да ладно тебе, чего терзаешься-то? Во всём Травкин виноват, дурака свалял… Я видел, как его мастерски обвели. А тебе просто пришлось отвечать за ошибку товарища…
– Да нет, не имел права пропускать… Не имел! Вничью шли, могли и выиграть…
– Брось, не мучай себя, забудь… Подумаешь, в этом сезоне пролетите – будет другой…
– Тебе хорошо, а Палыч сейчас задаст жару, представляю…
– Приехали… Соберись, вчера проиграли, завтра выиграете, делов-то… Подумай лучше о подарке для мамы.
– Хорошо… Я помню.
– Гип-гип!
– Ура!
Вот и весь разговор. Вроде и поговорили. Но если вдуматься, то и беседой-то не назовёшь – так, некий междусобойчик ни о чём. Суета сует и всяческая суета.
А вот и первый звоночек. Ага, начальник проснулся…
Действительно, звонил генеральный.
– Алексей Николаевич? Это Марк Александрович, здравствуйте.
– Доброе утро, Марк Саныч!
– Вы уже в клинике?
– Пока нет, скоро буду, подъезжаю…
– Очень хорошо. Как только прибудете – зайдите.
– Что-то случилось, Марк Саныч?
– Тьфу-тьфу. Просто нужно обсудить один вопрос. У вас, Алексей Николаевич, сегодня сколько операций?
– Серьёзных – три…
– Что значит – «серьёзных»? В нашей клинике все операции серьёзные. А несерьёзные – это у Нифонтова в муниципалке… Ну и клиенты, согласитесь, несколько отличаются от прочих. Да, пока не забыл: как насчёт отпуска, подумали?
– Э-э…
– Ну вот, сразу и заявление напи́шите. До встречи…
Генеральный явно юлил, иначе не стал бы звонить ни свет ни заря. А дёрнул потому, что дал возможность ему, Очерцову, в очередной раз подумать о предложении, которое озвучил неделю назад: не пора ли, мол, подвинуться, уступив место другому. О ком намекал Сергиевский, было понятно: о Жданове. Молодом, амбициозном и, как считал шеф, даже талантливом. Правда, свой талант (если, конечно, таковой имелся) реализовать тому пока никак не удавалось. А всё потому, что за операционным столом частенько вёл себя неуверенно, осторожничал, а то и вовсе выглядел растерянным.
Впрочем, то, что осторожный, это даже хорошо: лишний раз не напортачит. Но хирургия – не шахматная доска, где с самого начала всё расставлено по клеткам: белые… чёрные… ровные линеечки. Скорее – наоборот: заходишь в живот или в рану, наперёд зная, что там непорядок; и задача хирурга сделать из хаоса первозданную картинку. Главное качество хирурга – умение принимать решение. Быстро, решительно, почти автоматически. Причём твоё решение должно быть правильным; если точнее – единственно правильным. Только в таком случае врача можно называть сильным, а то и талантливым, ибо подобное не каждому по плечу.











