Читать онлайн Теология образования в христианской парадигме
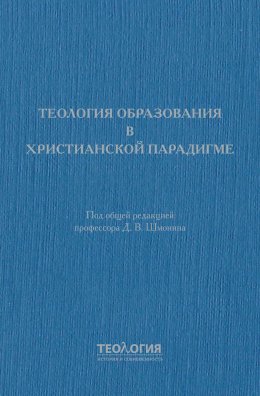
© Шмонин Д. В., под общей редакцией, 2023
© Издательство Санкт-Петербургской Духовной Академии, 2023
Авторы
Игорь Борисович Гаврилов – доцент кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат философских наук, доцент,
Епископ Звенигородский Кирилл (Зинковский Евгений Анатольевич) – викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, ректор Московской духовной академии, доктор богословия, кандидат технических наук,
Игумен Мефодий (Зинковский Станислав Анатольевич) – ректор Николо-Угрешской православной духовной семинарии, профессор Института теологии СПбГУ, доктор богословия, кандидат технических наук,
Священник Игорь Анатольевич Иванов – заведующий кафедрой иностранных языков Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры богословия,
Павел Константинович Иванов – старший преподаватель кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии, магистр богословия,
Дмитрий Андреевич Карпук – доцент кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия,
Протоиерей Константин Александрович Костромин – доцент кафедры церковной истории, проректор по научно-богословской работе Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия, кандидат исторических наук,
Священник Михаил Викторович Легеев – доцент кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия, доцент,
Священник Димитрий Юрьевич Лушников – заведующий кафедрой богословия Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия, доцент,
Иеромонах Афанасий (Микрюков Димитрий Юрьевич) – старший преподаватель кафедры богословия и библеистики, проректор по воспитательной работе Николо-Угрешской православной духовной семинарии, кандидат теологии,
Священник Максим Сергеевич Никулин – научный сотрудник и преподаватель кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия,
Роман Викторович Светлов – директор Высшей школы философии, истории и социальных наук Балтийского федерального университета им. И. Канта, доктор философских наук, профессор,
Протоиерей Владимир Федорович Хулап – заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин, проректор по учебной работе Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия, Dr. Theol., доцент,
Марина Николаевна Цветаева – профессор кафедры филологии и истории искусств Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, доктор культурологии,
Дмитрий Викторович Шмонин – директор Института теологии СПбГУ, профессор кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии, профессор кафедры богословия и библеистики Общецерковной аспирантуры и докторантуры свв. Кирилла и Мефодия, доктор философских наук,
Протоиерей Димитрий Викторович Юревич – заведующий кафедрой библеистики Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия, доцент.
Предисловие
Цель монографии, которую держит в руках читатель, – обращение к ценностно-мировоззренческим истокам и перспективам отечественной системы образования в широком историко-культурном и философско-богословском (теологическом) контекстах.
Именно христианская школа (от греч. σχολή)[1], созерцательная, наполненная ученым досугом жизнь исследователя (βίος σχολαστικός) задает привычные нам параметры школьного и университетского образования, причем не только ценностно-мировоззренческие и содержательные, но и организационные.
Обратим внимание на то, как выглядит классическая учебная аудитория с ее возвышением для учительского стола или профессорской кафедры, школьными партами или скамьями для студентов. Вспомним традиционный характер взаимоотношений между учащим и учащимися на занятиях и extra curriculum, включая нравственные, воспитательные стороны общения, которые в становлении личности молодого человека играют не меньшую роль, чем собственно обучение наукам и практическим умениям.
Вспомним и то, что вся система передачи знаний, которая кажется нам привычной, есть плод христианской образовательной парадигмы, впитавшей в свое время лучшее из античной и иудейской традиций обучения и воспитания, и сохранившейся, как некий стержень, внутри секулярных образовательных моделей и практик.
В наши дни, когда мы вспоминаем о том, что образование не только должно сопровождаться или дополняться воспитанием, но что воспитание, основанное на ценностях высшего порядка, было и остается его органичной частью, книга, посвященная истории и теологии образования, приобретает особое значение.
Авторов объединяет мысль о том, что образование, воспитание, педагогика немыслимы без абсолютных ценностей, и эти ценности не могут существовать «сами по себе», вне религиозного мировоззрения, вне веры, вне традиции.
Содержание книги приобретает особую остроту в период мощных геополитических сдвигов третьего десятилетия XXI в., которые разворачиваются на наших глазах.
По нашему мнению, христианская идея образования способна «перезагрузить», наполнить «вечными» смыслами провозглашаемые в качестве основополагающих принципы современного образования. Среди них: образование на протяжении всей жизни, академическая свобода, значение опыта и практики, критическое мышление и зрелость гражданина, развитие компетенций, а не накопление знаний, приоритет общего образования над специальным, умение учиться, самостоятельное деятельное усилие, интерактивность и сократический диалог[2].
Важно вернуть этим принципам ценностно-мировоззренческую основу, и именно в этом, современном контексте рассмотреть то, как зарождалась христианская школа, как она развивалась в течение двух тысячелетий, каковы ее перспективы в новой образовательной парадигме, какова роль в этих новых процессах теологии христианства как религии Спасения, а также тесно связанной с ней православной философско-педагогической мысли.
Для решение основных задач, которые ставят перед собой авторы, уточним два ключевых понятия.
Первое – основные образовательные парадигмы.
Второе – теология образования.
Христианская образовательная парадигма в общем контексте (Д. В. Шмонин)
Основными образовательными парадигмами мы называем крупные исторические формы образования, связанные с определенными историческими эпохами[3].
Первая эпоха – древность, которая, конечно, в широком историческом смысле должна вмещать в себя все связанное опытом воспитания и передачи знания у народов Древнего мира. Однако, говоря о сквозной истории образовательных систем, мы оставляем за скобками Китай, Индию, Междуречье, иные части света, цивилизации которых в этом отношении не дают нам возможности говорить о включенности или об их участии в формировании упомянутой выше сквозной истории образования, имеющей глобальное значение и продолжающей господствовать в наше время.
Такую непрерывную (школа, университет) и значимую для современности (просвещение, образование, наука) перспективу задают – в их автономном, но, вместе с тем, пересекающемся и взаимно влияющем друг на друга развитии – пути формирования иудейского и древнегреческого (позднее и древнеримского) образования.
Иудейское воспитание и языческое образование в древнегреческом и древнеримском изводах содержали в себе религиозную компоненту. У иудеев педагогика основывалась на библейском понятии «боязни Бога» (Исх 1:17). В семье воспитание было религиозно и нравственно детерминировано, хотя и достаточно свободно с точки зрения методов; его сменял процесс совместного обучения.
В основании античной педагогики лежала παιδεία, означавшая общую культуру и воспитание. Она была также ценностно ориентирована, поскольку верования составляли неотъемлемую часть античной культуры. Распространив свое влияние на Рим, она сложилась в систему воспитания добропорядочных граждан. Об этом будет подробно рассказано ниже, в соответствующем разделе монографии[4].
Поэтому первой основной образовательной парадигмой мы называем парадигму античную или древнюю. Именно она закладывает те религиозно-философские основы понимания цели и задач образования, которые начинают работать «в полную силу», по-новому раскрываясь в перспективе христианства как религии Спасения.
Вторая основная образовательная парадигма может быть названа христианской по своей мировоззренческой сути. Рожденная в синтезе иудейского и античного педагогического наследия, святоотеческого богословия и раннехристианской педагогики, новая образовательная парадигма впитала в себя живое начало ветхозаветной педагогики, нацелив его на внутреннее преобразование, на преображение человека.
В доникейскую эпоху христианское образование ограничивалось воспитанием и было сосредоточено в церковных общинах. Систематический подход к занятиям заложили александрийская и антиохийская школьные традиции, интеграция светских и религиозных дисциплин в которых смогла обеспечить совместимость с греко-римскими программами, но вызвала критику тех, кто выступал за исключительно религиозное воспитание христиан в рамках общины[5].
На христианском Западе образование получило развитие в монастырях, начиная с IV в. (монастыри свт. Евсевия Верчелльского, свт. Амвросия Медиоланского и др.). Крупными фигурами, заложившим основы теологии образования, стали великие каппадокийцы, блж. Августин, Боэций[6], Кассиодор, свт. Григорий Великий, свт. Исидор Севильский, Беда Достопочтенный и др.
Ответственность церковных институтов за сохранение образования породила школу привычную нам сейчас в обоих смыслах – и как систему воспитания, обучения, передачи знания, и как науку. Это монастырская школа, где учат грамматике, риторике и диалектике, при появлении соответствующих условий добавляя арифметику, музыку, геометрию, астрономию. Только после этого приступают к изучению теологии, которая увенчивает собой содержание образования и наполняет его единым смыслом. Поэтому греческая σχολή и латинская schole могут по праву давать этой парадигме второй название – схоластической.
Карл Великий в конце VIII в. заложил основы средневекового просвещения на основе веры, объединяющей государство и разноплеменной, этнически пестрый народ. Так складывается схоластика, олицетворяющая собой передачу знаний, умений, правил поведения, ценностно-мировоззренческих основ жизни общества от поколения к поколению.
Развитие схоластики в X–XI вв. породило модель, включавшую тривиум и квадривиум, т. е. общее высшее («философское») образование, а затем – высшие науки: теологию, медицину и юриспруденцию; к началу XIII в., уже на университетском этапе, схоластическая модель приобрела основанную на гармонии теологического мировоззрения завершенность.
Можно напомнить некоторые ключевые имена представителей школьно-университетской схоластики: Алкуин из Йорка (ок. 735–804), который педагогически точно описал путь восхождения через свободные искусства к теологии, Ансельм Кентерберийский (1033–1109) и Петр Абеляр (1079–1142), каждый по-своему успешно применявшие рационально-теологические методы к преподаванию, автор «Дидаскаликона» Гуго Сен-Викторский (1096/97–1141) и автор «Сентенций» Петр Ломбардский (ум. 1160), Винсент из Бове (ум. 1264), св. Фома Аквинский (1225–1274), Иоанн Жерсон (1363–1429) и др.
Сформировавшись, достигнув «готической» завершенности в университете, эта теологоцентричная парадигма, однако, уже в эпоху раннего Возрождения начинает размываться. Усложнение системы дисциплин, включение в учебные планы факультетов искусств метафизических, естественнонаучных и психологических курсов увеличивает удельный вес философии как суммы знаний о мире и порождает конфликты между философами и теологами вроде аверроистского кризиса, который во второй половине XVIII в. довольно долго тлел в Парижском университете.
Христианская образовательная парадигма, однако, оставалась несущей конструкцией системы образования в Европе вплоть до XVI в., до Реформации и католического ответа на нее.
Реформация в христианской образовательной парадигме (протоиерей Владимир Хулап)
Реформация стала не только важнейшим событием в западной церковной жизни XVI в., но и предложила новый взгляд на образование, дав мощный толчок к его дальнейшему развитию. Стремление к реформе Церкви привело к глубочайшим изменениям в самых разных сферах европейской общественной жизни, чему способствовала активная поддержка протестантизма со стороны государственной власти. Одновременно быстрое развитие естественных наук, географические открытия, изобретение книгопечатания, либерализация религиозной, общественной и культурной жизни стали важными составляющими новой эпохи в истории христианского образования.
Богословская мысль реформаторов содержала в себе ряд важных основополагающих идей, определивших эту динамику. Спасительная личная вера (sola fide) и получение оправдывающей благодати (sola gratia) как следствие искупительного дела Христа (solus Christus) предполагали необходимость знакомства каждого верующего со Св. Писанием (sola Scriptura), в том числе на родном языке. Благодаря такому прямому доступу к Богу – а не просто на основании вероучительно-сакраментального посредничества Католической Церкви – каждый верующий получал возможность истолковывать Слово Божие, реализуя тем самым свое «царственное священство» (1 Пет 2:9). Такой подход делегитимировал католическую иерархию и устранял принципиальные различия между духовенством и мирянами, предлагая каждому верующему осознанно и критически оценивать все свои поступки согласно Евангелию. Всеобщее священство всех крещеных подчеркивало религиозную ценность каждого христианина и одновременно его личную ответственность за Церковь, ее учение и устройство общества.
На смену централизованной средневековой церковной модели во главе с папой, претендовавшей на обладание единой нерушимой истиной, пришла множественность конфессий, каждая из которых имела свои вероучительные особенности и притязала на правильное понимание Св. Писания. Перед лицом этих различных способов истолкования верующему было необходимо решить, какому из них он сознательно отдает предпочтение и следует в своей жизни. Новые религиозные сообщества должны были не только ясно формулировать свое вероучение, но и передать его другим (напр., детям и молодежи), аргументированно отвечая на возражения противников. Тем самым новое понимание христианской веры требовало систематизированного знания, церковного просвещения и постоянного обучения; образование становилось одной из важнейших сфер, в которой происходила конкуренция христианских конфессий.
Мартин Лютер (1483–1546) вырос в рамках традиционной латинской школьной системы, а затем не только получил университетское образование, но и стал профессором библеистики в Виттенберге. Размышления о воспитании, образовании и роли школ в жизни общества широко представлены в его трудах, причем он предлагает как их богословское осмысление, так и конкретные организационные формы. Два его текста специально посвящены этой тематике: «К членам всех городских советов Германии о необходимости создавать и сохранять школы» (1524 г.)[7] и проповедь «О необходимости посещения детьми школы» (1530 г.)[8]. В них виттенбергский реформатор излагает свое понимание образования и настойчиво призывает городские власти к всемерной поддержке образовательной системы.
В отличие от широко распространенного взгляда той эпохи, согласно которому образование открывало путь к хорошему заработку и высокому общественному положению, Лютер рассматривает его прежде всего в сотериологической перспективе. Образование важно для каждого человека, поскольку именно оно делает возможным восприятие, понимание и применение Слова Божиего, тем самым созидая живущих по евангельской вере христиан. Там, где нет образования, возникает пространство для разрушительного действия диавола, который губит призванные к блаженству человеческие души. Поэтому образование является оружием в рамках всемирной борьбы Творца-Педагога и сатаны, а также особой формой человеческой благодарности Богу за Его дары, особенно за разум[9]. В такой перспективе государственные власти должны поддерживать систему образования не просто для достижения собственных земных интересов, но прежде всего с целью спасения душ детей и юношества. Образование также играет важную роль в рамках лютеранского учения о двух царствах, которыми управляет Бог: духовном (regnum Christi) – через Слово и Таинства, и земном (regnum civile) – через человеческий разум. В обоих случаях Бог правит миром через человека, который нуждается для надлежащего выполнения своих функций в качественном образовании. Пасторам необходимо глубокое знание Св. Писания и древних языков, на которых оно написано; представителям светской власти для успешной деятельности нужны знания свободных искусств, истории, математики и т. п.[10]
Важность образования для Лютера настолько высока, что он ставит деятельность школьного учителя на один уровень со служением проповедника, она – «самое нужное, великое и лучшее»[11]. Школа и образование защищают государство от варварства и служат благополучию общества. Поэтому из его уст неустанно звучат призывы к инвестициям в образовательную систему, которые необходимо рассматривать в качестве одного из государственных приоритетов: «Процветание города заключается не только в том, что в нем строят большие дома, производят много орудий и доспехов… Скорее, самое лучшее для города, его прекраснейший расцвет, его благо и сила заключаются в том, что он имеет множество хороших, образованных, разумных, порядочных, благовоспитанных граждан, которые могут собирать сокровища и блага, сохранять и правильно использовать их»[12]. Такой подход предполагает стратегические накопление человеческого капитала, наличие которого необходимо для долгосрочного стабильного развития общества. Очевидно, что при этом особую роль играет разум, посредством которого человек получает знания – и это постепенно приводит к эмансипации сферы образования. Светское образование, которое ранее рассматривалось как вторичное и комплиментарное по отношению к духовному, обретает совершенно новое самостоятельное значение, в том числе ввиду протестантского понимания освящения жизни путем созидательного труда, когда профессия (Beruf) является реализацией христианского призвания (Berufung) в повседневности. Лютер неоднократно подчеркивает эту ценность образования как такового: «какая радость, когда человек образован, даже если он никогда не будет занимать должностей – ведь он сможет дома читать сам для себя, общаться с учеными людьми, путешествовать в другие страны»[13].
Новую просветительскую функцию в концепции Лютера обретает приходская община: в центре богослужения на немецком языке, понятном для всех участников, теперь находится чтение Св. Писания, проповедь, катехизические тексты и совместно исполняемые церковные песнопения. Перевод Библии Лютера, осуществленный в 1521–1534 гг., заложил основу немецкого литературного языка и дал важный импульс для «демократизации» образования. Новая форма катехизических проповедей подчеркивала важность систематического просвещения верующих в рамках богослужения и приходских занятий. Катехизисы, компендиумы протестантского вероучения, создавались как попытка нормативно зафиксировать новое понимание христианской веры и одновременно обозначить существующие конфессиональные границы (причем не только по отношению к католикам, но и между различными протестантскими течениями)[14]. Богослужебные гимны – как составленные на основе библейских псалмов, так и новые литургические тексты – играли важную просветительскую функцию в обучении простого народа.
Важным центром лютеранской педагогики также становится семья. Мудрым родителям следует понимать, «что они не могут сделать для Бога, христианства, всего мира, для себя самих и своих детей ничего более важного и полезного, чем хорошо воспитывать своих детей. Ибо это – их самый прямой путь на небо»[15]. Лютер различает при этом «внешнее», «плотское» образование, направленное на получение материальных мирских благ, и «духовное» воспитание, закладывающее в ребенке необходимые основы его внутренней жизни. Именно здесь необходима правильная расстановка приоритетов, поскольку «ложная естественная любовь ослепляет родителей, так что они более обращают внимание на плоть своих детей, чем на их души»[16]. Благодаря книгопечатанию каждая семья получила возможность иметь в доме Библию на родном языке для ежедневного совместного чтения и изучения, что заложило основу новой совместной культуры чтения. Образцом постепенно становится «дом пастора» (Pfarrhaus), который после упразднения обязательного целибата обрел новую образовательно-приходскую функцию – если позволяли условия, при нем также могло организовываться обучение[17].
Однако полноценное качественное образование может обеспечить только школа, поэтому Лютер выступает за всеобщее образование. Он увещает родителей отправлять своих детей учиться, поскольку это – исполнение заповеди Божией[18]. Он также подчеркивает, что доступ к школьному образованию должен быть обеспечен для бедных детей и для девочек – хотя такой взгляд не был чем-то само собой разумеющимся в то время[19]. Школы должны стать привлекательными и обязательными для всех членов общества, однако для их надлежащей работы необходима справедливая оплата труда преподавателя: «Усердного, почтенного учителя… никогда нельзя достаточным образом вознаградить и оплатить его труд никакими деньгами… Однако у нас постыдно этим пренебрегают, не считая чем-то значимым, и они еще хотят называться христианами!»[20]
Женевский реформатор Жан Кальвин (1509–1564) уделяет вопросам образования не так много внимания, как Мартин Лютер, однако в его церковных уставах и других текстах также высказывается ряд важных богословских мыслей. Бог воздействует на человека как непосредственно, так и через внешние обстоятельства, к которым также относится сфера образования. В своем главном труде «Наставление в христианской вере» Кальвин пишет: «Он использует для этой цели людей, которых ставит своими представителями. Но Он делает это не для того, чтобы облечь их своим достоинством и превосходством, а лишь для того, чтобы воспользоваться ими для собственных деяний, подобно тому, как ремесленник пользуется инструментом»[21]. Обучение и наставление (doctrina) относятся к важнейшим из этих инструментов, поэтому два из четырех реформатских церковных служений имеют учительные задачи. Учителя (docteurs) ответственны за систему образования, включая богословское образование (la lecture de theologie), пасторы (pasteurs) – за преподавание катехизиса (le catechisme), который для всех верующих – как детей, так и взрослых – является условием осознанной духовной жизни и участия в христианском богослужении[22]. Все образование должно быть основано на принципе accomodatio Dei, подразумевающем, что Бог «приспосабливается» к человеческой силе постижения. Подобно няне, которая говорит с ребенком не так, как со взрослым, Бог обращается к человеку в соответствии с его уровнем понимания, поскольку иначе люди не могли бы постичь Его весть. Кальвин рассматривает все Божественное действие в истории спасения как «педагогику спасения», церковное образование должно следовать этой спасительной педагогике, ориентируясь на свою целевую аудиторию – в зависимости от ее уровня. Поэтому он образно называет Церковь «школой Христа» (schola Christi), членов общины – «учениками» (discipuli), а Бога – их «высшим и единым Учителем» (summus et unicus doctor)[23].
Филипп Меланхтон (1497–1560), один из ближайших друзей и соратников Лютера, получил прекрасное гуманистическое образование, что позволило ему занять кафедру греческого языка в Виттенбергском университете. Характерно название его речи, которую он прочитал перед большим количеством слушателей при своем вступлении в должность в августе 1518 г. – «О реформах образования юношества»[24]. В своей дальнейшей деятельности он уделял большое значение теоретическим основам связи христианства и образования, а также организационным вопросам развития образовательной системы, подчеркивая необходимость совместного осуществления церковной реформы и реформы образования. В своей «Похвальной речи новой школе» (1526), произнесенной по случаю основания новой школы в Нюрнберге, Меланхтон подчеркивает важность наук и знаний (litterae) для успешного функционирования человеческого общества, для нравственности (virtus) и благочестия (pietas)[25]. Преподаватели прославляют своей деятельностью Бога и приносят особую пользу людям; между христианской верой и образованием не существует противоречий, в конечном счете они устремлены к одной и той же цели. Обучение открывает человеку новые горизонты духовного познания, поэтому оно не должно быть привилегией только духовного сословия, но его следует сделать доступным для всех, в т. ч. для детей из бедных слоев общества. Он призывает своих слушателей к гражданской ответственности: «Не прилагающий усилий к тому, чтобы его дети получали как можно лучшее образование, не только не выполняет своей обязанности по отношению к Богу, но скрывает за человеческим обликом свой животный образ мысли… Поэтому правильно устроенное общество нуждается в школах, где получает образование молодежь – будущее общества»[26]. В «Loci communes» (1521), первой попытке систематического изложения лютеранского богословия, он говорит о широком спектре наук своей эпохи, рассматривая их как подготовку и приглашение к изучению Св. Писания (ad scripturas invitare).[27] В «Речи об обязательной связи между школами и служением Евангелия» (1543) он особо подчеркивает: Богу угодно, чтобы «и в церкви занимались гуманитарными науками, а голос церкви воспринимался бы как голос учительницы (doctrix)», поэтому «при храмах всегда следует организовывать школы, без образования меркнет свет Евангелия»[28]. «Наставление визитаторам»[29] посвящено вопросам визитации, т. е. контроля качества работы в различных областях церковной жизни. Текст указывает на необходимость материальной поддержки школьных учителей, а также предлагает конкретные образовательные программы, представляющие собой синтез гуманистического и церковного образования. При этом он желает не просто дать определенный набор знаний, но развивать всю человеческую личность в рамках целостного образовательного процесса, объединяющего «духовное» и «мирское» учительство.
Меланхтон был вынужден решать ряд острых проблем в области образования, возникших в ходе Реформации. Если в Католической Церкви богословское образование традиционно требовалось прежде всего для принятия священного сана и монашества, распространение протестантизма привело к закрытию многих образовательных учреждений при соборах и монастырях (преподаватели оставляли сан и вступали в брак, разрушалась прежняя система финансирования и т. д.). С другой стороны, ряд представителей радикального крыла Реформации выступал против гуманистического образования, делая акцент на непосредственном просвещении Духом Божиим[30]; это могло приводить даже к общественным беспорядкам (например, в Виттенберге в 1521 г.). Очевидно, что для успешного решения возникших проблем требовалось вмешательство светских властей, которые нужно было убедить в необходимости долгосрочной и систематической поддержки образовательной сферы в новых общественных условиях. Именно Меланхтон сыграл в этом важную роль, проводя разъяснительную работу среди протестантских земельных князей и городских советов, создавая новую образовательную систему (без прежней опоры на монастыри), открывая школы, готовя учебники, в которых он стремился объединить христианский и гуманистический подходы. Безусловно, он осуществлял эту деятельность не один, его соратниками были Иоганн Бугенхаген (1485–1558), Иоганн Агрикола в Айслебене (1492–1566), Иоганн Бренц в Вюртемберге (1499–1570), Иоахим Камерарий в Заксене (1500–1574), Иоганн Штурм в Страсбурге (1507–1586) и др. Их силами была создана новая система немецкоязычных школ (прежде всего в Северной Германии)[31]. Возникновение этого нового общедоступного уровня, в рамках которого дети крестьян также могли овладевать культурой чтения и письма, было важным шагом. До сих пор в основе образования лежало изучение классической латыни (характерно, что еще в 1570 г. ок. 70 % всех книг в Германии издавались на латинском языке), знание которой являлось границей между образованным меньшинством и неграмотным большинством. Именно эта «новая школа» была призвана стать основой развития «новой Церкви». Такая активная деятельность привела к тому, что еще при жизни Меланхтона называли «учителем Германии» (praeceptor Germaniae).
Безусловно, быстрое распространение Реформации было немыслимо без университетов. Характерно, что она началась в 1517 г. в молодом Виттенбергском университете (основан в 1502 г.) – именно здесь были написаны знаменитые 95 тезисов, целью которых был не разрыв с Римом, но начало академической дискуссии. Успеху нового учения во многом способствовала именно университетская среда, предполагавшая широкие научные дискуссии и делавшая акцент на свободном развитии индивидуума. Лютер и многие его соратники первоначально озвучивали свои богословские мысли в кругу студентов, которые затем активно распространяли новые идеи. Многие важные события в истории немецкой Реформации (напр., Лейпцигский диспут) также происходили в форме академических дискуссий, а благодаря книгопечатанию их аудитория быстро расширялась. Новая Церковь нуждалась в своей собственной системе высшего образования пасторов, преподавателей, ученых; латинский язык при этом оставался важным средством интернационализации протестантизма. Поэтому Лютер, резко критикуя традиционную схоластическую образовательную систему своих противников[32], одновременно горячо призывал курфюрстов поддерживать университеты в качестве интеллектуальных центров протестантских земель. Так, в 1532 г. евангелическим стал университет в Базеле, в 1535 г. – в Тюбингене, Грайфсвальде и Ростоке, в 1539 г. – в Франкфурте-на-Одере и Лейпциге; в качестве протестантских были основаны университеты в Марбурге (1527), Кенигсберге (1544), Йене (1558). Важнейшим кальвинистским университетом стала основанная в 1559 г. Женевская академия.
Тем самым в XVI в. на Западе возник новый интерес к сфере образования и воспитания. Реформация и государственная власть стремились совместно организовывать и контролировать эту сферу для решения задач, возникающих перед Церковью и обществом. Богословская рефлексия и практические реформы шли рука об руку, в результате появился уникальный симбиоз протестантизма и образования, идеи которого во многом определили динамику развития последующих столетий: всеобщее образование, равенство возможностей, государственная поддержка образования как служение общественному благу, дальнейшее самостоятельное формирование педагогики как науки.
Конфессионализация и секуляризация: утрата позиций (Д. В. Шмонин)
О католическом ответе на богословско-педагогические идеи реформаторов написано достаточно много, в том числе, и авторами нашей монографии[33]. Ориентируя читателя на эту доступную литературу, отметим лишь имена важных для сохранения принципов христианской образовательной парадигмы теологов и деятелей образования эпохи контрреформации: доминиканца Франсиско де Виториа (1492–1546), основателя Общества Иисуса Игнатия Лойолу (1491–1556), Петра Канизия (1521–1597), Иеронима Надаля (1507–1580), Клавдия Аквавиву (1543–1615, генерала ордена иезуитов с 1581 г.). Педагогические заслуги каждого из них достойны, как минимум, отдельного очерка, а список далеко не полон. Заметим только, что иезуитам в XVI в. удалось выстроить обновленную модель католического университетского образования.
Более того, в конкурентной борьбе с гуманистическими и протестантскими педагогами они создали модель средней и старшей школы (l'enseignement secondaire, la segunda enseñanza), которая оказала влияние на становление школьного образования в европейских странах[34]. Среди известных теологов и педагогов, работавших в условиях формирования секулярной парадигмы, отмечают Жана-Батиста де Ла Саля (La Salle, 1651–1719), создателя учебных заведений нескольких типов, в том числе – первой в католической Европе учительской семинарии. Он особо известен как родоначальник Конгрегации братьев христианских школ (Institutum Fratrum Scholarum Christianarum или Fratres Scholarum Christianarum) – мощной ассоциации католического образования, сформировавшей целую систему ласальянской педагогики[35]. В евангелическо-лютеранском ареале аналогичной работой занимался Герман Август Франке (1663–1727), профессор университета в Галле, «автор идеи» пиетистских школ (collegia pietatis) и создатель едва ли не первого в протестантской Европе специализированного педагогического училища (Seminarium selectum praeceptorum)[36].
Религиозное разделение христианской Европы, послужившее причиной снижения нормотворческого влияния теологии на систему образования несмотря на развитие протестантских и католических моделей, дало, тем не менее, определенный импульс развитию христианской педагогической мысли и школьного образования в Новое время, в условиях начинавшейся секуляризации.
Усиленная Просвещением и научным прогрессом XIX в., сформировалась новоевропейская, секулярная просвещенческая парадигма, которую можно было считать современной буквально до текущего десятилетия. Очевидно, что эта третья парадигма, эта секуляристская эпоха в образовании в наши дни подвержена внутреннему и внешнему давлению. Глобальный кризис образовательной системы очевиден. Секулярная парадигма перерастает на наших глазах во что-то новое. И осмыслению того, каковы должны быть эти новые формы, также посвящена эта книга.
Далее заметим, что христианская парадигма, утратив свою универсальность в Новое время, осталась ценностно значимой, единственной, чей мировоззренческий ресурс оказывается востребованным, незаменимым, и – по мнению авторов книги – принципиально неисчерпаемым.
Завершающие монографию сюжеты посвящены сравнительному рассмотрению характеристик секулярной и христианской парадигм и с точки зрения вечности, и в плане формирования новой образовательной парадигмы, которая призвана впитать, вобрать в себя лучшее из предшествующих парадигм с опорой на парадигму главную – христианскую.
Авторы показывают необходимость жизненной сверхзадачи и высшей истины в любой мировоззренческой системе и разрушительность снижения высоких идеалов образования, их замены исключительно экзистенциально-прагматическими целями.
В наши дни следует говорить уже не столько о секулярном веке[37], о социальных опасностях глобально ускоряющегося технологического развития, о комплексе проблем мультикультуралистского мира и, одновременно, о способе их решений, но об опасностях стремительно меняющегося общего рисунка планеты, об обостряющихся формах борьбы новых и старых центров силы на ней, об искусственном создании и намеренной подпитке этими старыми центрами межрелигиозных, межконфессиональных конфликтов как инструментов, как видов оружия в этой борьбе. С кризисом миропорядка тесно связан ценностно-мировоззренческий кризис. В нем авторы усматривают отражение запечатленной в библейской истории ошибки праотцев, устремившихся к решению жизненной сверхзадачи вне Бога.
Конечно, мы не предлагаем механического возвращения к идеализированному средневековому мировосприятию. Мы предлагаем использовать духовный и интеллектуальный ресурс, данный человечеству Богом и запечатленный в теории и практике христианской образовательной парадигмы.
В этом – общая идея монографии: развернуть очерки, описывающие предысторию, рождение и развитие христианской образовательной парадигмы, причем в актуальном для нас и менее исследованном ее православном изводе, и дополнить их введением в теологию образования.
Теология образования (Д. В. Шмонин)
В современной ситуации образование должно стать – выразимся метафорически – «защищенной статьей бюджета» в нашем обществе, в нашем государстве, в нашем сознании. Иными словами, проблемы образования должны решаться в приоритетном порядке; следовательно, они требуют первоочередного качественного анализа в контексте истории, философии и теологии.
Место религии в образовании определяется ее ролью – ролью хранительницы ценностно-мировоззренческого ядра культуры, нравственных устоев и социальной этики, т. е. тех самых абсолютных ценностей, о которых мы сказали выше. Религиозная традиция аккумулирует в себе эти ценности и смыслы, а теология раскрывает их, выполняя дескриптивную и нормативную функции одновременно.
Исторически и методологически теологию образования можно рассматривать уже с точки зрения традиционных, восходящих к Аристотелю классификаций наук, в которых теология рассматривалась как высший – метафизический, «перво-философский» и собственно богословский (наука о божественном) – уровень осмысления всего сущего.
Напомним в связи с этим о редко разбираемых изменениях смысла и содержания философии при переходе от платоновско-аристотелевского к позднеантично-раннесредневековому ее формату, когда под философией начинают понимать сумму знаний о мире, а наука о сущем – та самая первая философия, метафизика, теология – вымывается из тривиально-квадривиальной последовательности дисциплин и превращается в теоретическое «знание причин вещей божественных и человеческих», «госпожу всех предварительных наук», по выражению Климента Александрийского[38]. Спекулятивный уровень мышления, нацеленный на высшее сущее, понимается и как рационально-теологическое знание о Боге и как философский синтез знаний о мире. И строится указанный синтез трудами перечисленных выше отцов Церкви и церковных писателей, которые пользуются философским инструментарием платоников, перипатетиков, стоиков и т. п., не обращая особого внимания на происхождение попавших в их руки инструментов.
Как мы показали выше, в Новое время правительства стран постепенно оттесняют Церковь от надзора за высшим и средним образованием, заменяя ее попечение своим административным управлением. В этот период закрепляется разделение образования на религиозное (конфессиональное) и государственное (светское), когда забота о школе и об университете приобретает утилитарный характер. Школа и университет становятся местом подготовки кадров для государства.
В философских учениях Нового времени, определивших лицо секулярной образовательной парадигмы[39], было относительно небольшое число крупных мыслителей (Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант и др.), благодаря которым составили набор авторитетных подходов к педагогической антропологии и вопросам образования. Эти философские подходы заменили теологию, ранее выполнявшую нормотворческую функцию в образовании. Педагогики-теоретики и педагоги-практики, в том числе в России, в основном строили свою работу исходя из учений философов, под влиянием которых находились[40].
В конце XIX и первые десятилетия XX вв. появилась и стала усиливаться настороженность педагогов по отношению к философии как теоретическому регулятиву. На это повлияли и разнообразие неклассических философских учений, и социальные катаклизмы, изменившие лицо мира – Первая мировая война, революции, распад крупных христианских империй, который повлек отказ от религии как от источника ценностно-мировоззренческой нормы в образовании в возникших на их месте государствах.
«Слабость и растерянность педагогической мысли», «внутренний тупик, в котором находится современная педагогика», констатирует в первой половине 30-х гг. прошлого столетия В. В. Зеньковский (позднее – протопресвитер Василий), которого можно назвать не только замечательным историком русской мысли, но выдающимся православным педагогом и теологом образования. Причины тупиковой ситуации, по его мнению, связаны с тем, что педагоги, не видя толку в философии, ориентируются на свои «непосредственные интуиции» и «педагогические замыслы». «Природа педагогического вдохновения не вмещается в систему философских идей нашего времени»; «близорукий эмпиризм» и «натурализм» приводят к тому, что за частными методиками и технологиями мы утрачиваем видение педагогики как целостной системы, а «достижения педагогического творчества теряют самое значительное и существенное, что в них есть» – высшую цель развития человеческой личности[41].
Схожие мысли о кризисе взаимоотношений педагогики и философии высказывают педагоги, стоящие на иных мировоззренческих позициях. А. С. Макаренко, например, в педагогике первой трети XX в., «разрываем[ой] на части многочисленными школами и „новаторами“, бесконечными колебаниями от крайнего индивидуализма до бесформенного и нетворческого биологизма», видит искусственное разделение между изучением человека и задачей воспитания личности[42].
Своеобразным ответом на подобные запросы станет философия образования, рожденная в середине 40-х гг. XX в. (т. е. уже с учетом уроков Второй мировой войны) в общении ученых, так или иначе занимающихся проблемами образования и воспитания[43]. В дальнейшем дискуссии превратятся в прикладной раздел философии и – в силу разнообразия течений последней – найдут развитие в различных направлениях: аналитическом, антропологическом, герменевтическом, критико-рационалистическом, экзистенциально-диалогическом, вплоть до разных постмодернистско-деконструктивистских[44] вариантов.
В аналогичных терминах можно говорить о советской теории воспитания и образования. Тот же А. С. Макаренко определил как «достойную нашей эпохи задачу» «создание метода, который, будучи общим и единым, в то же время дает возможность каждой отдельной личности развивать свои особенности, сохранять свою индивидуальность. Такая задача была бы абсолютно непосильной для педагогики, если бы не марксизм, который давно разрешил проблему личности и коллектива»[45]. П. П. Блонский также полагал, что «только марксистский метод делает педагогику наукой, и только марксистская педагогика может быть свободна и от обывательской логики, и от утопических педагогических романов»[46].
К концу XX в. всевозможные «неклассические образы образования» будут проявлять все меньшую способность противопоставить что-либо убедительное кризису (пост)просвещенческой секулярной образовательной парадигмы. «Множественность педагогических миров», «антицелостность» поликультурного разнообразия в образовании[47], осознание системного кризиса, трудности в определении идеалов и целей[48] вновь обращают философов и педагогов наших дней к необходимости поисков общецивилизационного мировоззренческого единства подходов к образованию. Некоторые ищут «новую чистую идею образования», в которой нуждается сегодняшний глобальный мир, в современном марксизме[49] или «обновленном» гегельянстве[50]. Иные продолжают попытки самообоснования педагогической теории или ее построения на началах современной постнеклассической науки и практики[51]. Есть и альтернатива таким поискам – отказ от педагогической антропологии и теории образования в пользу эмпиризма в технологически инновационных, а потому – захватывающих форматах цифрового образования. В этом случае все «совсем просто»: критерием оценки нашей работы становится прагматичное «оправдание в опыте»[52], включая число слушателей курсов или подписчиков, количество просмотров, «лайков» и т. п.
Мало кем оспаривается тезис о том, что необходимо осознанное обращение к ценностно-мировоззренческим основаниям образования. Мы дополняем и конкретизируем этот тезис предложением усилить теологическую составляющую в разработке новой образовательной парадигмы. «Надлежащее свое осмысление педагогическое творчество может найти лишь на почве религии, в частности в системе христианской антропологии», – замечает протопр. Василий Зеньковский[53].
Для этой цели предлагается использовать концепт теологии образования в узком смысле и теолого-педагогический ресурс в широком смысле. Подчеркнем, что речь идет о христианской теологии образования (с учетом конфессиональной специфики – православной, католической, лютеранской и др.), поскольку именно христианская образовательная парадигма сформировала основные существующие в мире институты образования – школу и университет, миссия которых приобрела универсальный характер[54].
Для удобства определим теологию образования как одну из возможных форм философии образования[55], которая, если оставить в стороне «разноречия в трактовке предмета, целей и задач»[56], описывается как «тематизация общего поля работы философов и педагогов, рефлексия, в которой не просто осознаются, но и конструируются и новая область исследований, и новые подходы, и новые методики совместной деятельности»[57].
Именно теология образования как дисциплина и как направление исследований призвана показать, что христианское мировоззрение предполагает иной путь решения сверхзадачи в рамках обожения, понимаемого как действенное единение человека с Богом и с себе подобными.
Образование как раскрытие человеком в себе образа Божиего, как преображение – путь, направляющий, ведущий человека к обожению. Основанием этой удивительной возможности человека является исходная со-образность человека Творцу, а воплощенным идеалом обожения – Личность Христа. Во Христе и в Его Церкви стремление к обожению может быть достигнуто безопасно, а сверхзадача реализована планомерно. Образование, воспитание, просвещение, обучение – суть инструменты, которые должны использоваться на этом пути. И эти инструменты требуют теологического описания.
Разумеется, важна включенность теологии образования в общебогословский (догматический, христианско-антропологический, морально-теологический и др.) контекст. Более того, пересечение христианской антропологии, теологии образования с педагогическими науками раскрывает необходимый сейчас способ приобщения к знаниям, отношение к личному общению и бытийному единению с другими личностями, свободе и воспитанию воли.
Мы предлагаем христианский подход к образованию, который, по мнению авторов, несет высший идеал гармонично развитой личности человека с созидательной жизненной позицией, исходящей из принципа общечеловеческого блага в свете высшего призвания человека, достигаемого посредством действительного приобщения источнику бытия – Богу.
Как вершина самопознания, миропознания и богопознания, обожение рассматривается как цель цело-жизненного нравственного и аскетического пути человека. Оно начинается в земной человеческой жизни, хотя полностью будет реализовано в будущем веке.
Это важно понимать, экстраполируя христианско-теологический, философский и педагогический опыт на ближайшее будущее наук об образовании и практику образования, шире – на дальнейшую перспективу жизни человечества. Жизни, которая в наши дни нового геополитического противостояния может (по крайней мере в относительно мирном и привычном нам за вторую половину XX в. и первые два десятилетия XXI в. виде) просто исчезнуть.
Аристотель. Политика // Его же. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4 / Пер. с древнегреч. М.: Мысль, 1983. С. 375–644.
Архипова О. В., Шор Ю. М. Идея образования в контексте постнеклассической парадигмы // Universum: Вестник Герценовского университета. 2013. № 4. С. 3–12.
Блонский П. П. Марксизм как метод решения педагогических проблем // Его же. Избранные педагогические и психологические сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1979.
Боэций. «Утешение Философией» и другие трактаты. М., 1990.
Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века (В поисках практико-ориентированных образовательных концепций). М., 1998.
Дивногорцева С. Ю. К. Д. Ушинский и православная педагогическая культура середины XIX века // Вестник ПСТГУ. Сер. IV: Педагогика. Психология. 2014. № 2 (33). С. 102–110.
Зеньковский В. В., прот. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. М.: Изд-во Свято-Владим. Братства, 1993. 224 с.
Исидор Севильский, свт. Этимологии, или Начала в XX книгах. Книги I–III: Семь свободных искусств. СПб., 2006.
Климент Александрийский. Строматы Кн. I–III. СПб., 2003.
Куренной В. А. Философия либерального образования: принципы // Вопросы образования. 2020. № 1. С. 8–39.
Макаренко А. С. Цель воспитания // Его же. О коммунистическом воспитании. М., 1952.
Огурцов А. П., Платонов В. В. Образы образования. Западная философия образования. XX век. СПб.: Изд-во РХГИ, 2004. 516 с.
Повзло А. Н. Марксистский «вектор» диалектики образования в системе рыночных отношений // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. 2011. Вип. 27. С. 141–146.
Повзло А. Н. Философские аспекты марксистской концепции воспитания и образования и их современное значение: автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 1991. 15 с.
Прозументик К. В. Марксистская антропология и теория воспитания // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2011. № 3 (7). С. 18–26.
Религиозное образование в России и в Европе в XVI веке / Под ред. Е. С. Токаревой, М. Инглота. СПб.: Изд-во РХГА, 2010. 184 с.
Религиозное образование в России и в Европе в XVII веке / Под ред. Е. С. Токаревой, М. Инглота. СПб.: Изд-во РХГА, 2011. 320 с.
Романенко И. Б. Экзистенциализм и персонализм: определение образовательных идеалов XXI века // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2005. № 5 (10). С. 59–65.
Романенко И. Б., Романенко Ю. М. Становление рационально-экспериментальной образовательной парадигмы в немецкой классической философии // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2014. № 4 (87). С. 274–281.
Сергейчик Е. М. Философия образования и педагогика // Философские науки. 2009. № 8. С. 6–19.
Тейлор Ч. Секулярный век / Пер. с англ. М.: ББИ, 2017. XIV, 967 с.
Шмонин Д. В. Античные и иудейские религиозно-педагогические компоненты в истории формирования христианской образовательной парадигмы // Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2016. Т. 10. № 1. С. 183–195.
Шмонин Д. В. В тени Ренессанса. Вторая схоластика в Испании. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. 277 с.
Шмонин Д. В. Религиозное образование и образовательные парадигмы // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2013. Т. 14. № 2. С. 47–64.
Шмонин Д. В. Тайна ответа: введение в рациональную теологию. СПб.: Изд-во СПбПДА; Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2021. 459 с.
Шмонин Д. В. Технология блага. Очерки теологии образования. М.: Познание, 2018. 222 с.
An die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, daß sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen // Luther M. Ausgewählte Schriften / Hrsg. K. Bornkamm, G. Ebeling. Bd. 5. Frankfurt a.M., 1983. S. 40–72.
Bomfim L. S. V. Menschliche und vermenschlichende Praxis: zur Antropologie von Marx im Hinblick auf ihre Pädagogischen Kosequenzen. Kassel, 2000.
García Ahumada Е. (F. S. C.). La Salle y teología de la educación. Rome: Hermanos de las Escuelas Cristianas, 2013.
Hedtke R. Erziehung durch Kirche bei Calvin. Heidelberg, 1938.
Ioannis Calvini opera quae supersunt omnia / Ed. G. Baum e. a. Berolini, 1863–1900. Vol. 10. Pars 1.
Melanchton P. De corrigendis adolescentiae studiis // Melanchton deutsch. Bd. 1. Schule und Universität, Philosophie, Geschichte und Politik / Hrsg. M. Beyer e. a. Leipzig, 1997.
Melanchton P. In laudem novae scholae // Melanchton deutsch. Bd. 1. Schule und Universität, Philosophie, Geschichte und Politik / Hrsg. M. Beyer e. a. Leipzig, 1997.
Melanchton P. Loci communes 1521: Lateinisch-deutsch / Hrsg. H. Pöhlmann. Gütersloh, 1993.
Melanchton P. Oratio de necessaria coniunctione scholarum cum ministerio evangelii // Melanchton deutsch. Bd. 2. Gebete, Bibelauslegung, Theologie, Kirchenpolitik / Hrsg. M. Beyer e. a. Leipzig, 1997.
Melanchton P., Luther M. Unterricht der Visitatorn // WA. Bd. 26. S. 195–240.
Predigt, daß man Kinder zur Schule halten solle // Luther M. Ausgewählte Schriften / Hrsg. K. Bornkamm, G. Ebeling. Bd. 5. Frankfurt a.M., 1983. S. 90–139.
Sermon von dem ehelichen Stand // Luther M. WA. Bd. 2.
Ruiz Amado R. (S. J.) Historia de la educación y la pedagogía. Décima edición. Barcelona: Editorial Librería religiosa, 1948.
Глава 1. Античные корни христианской образовательной парадигмы (Р. В. Светлов)
О «теологиях» в языческих религиях: начало благочестия
Чтобы с современных христианских, православных позиций понять теологическую составляющую образования в античности, нужно четко понимать, что представляли собой античные религии. Мы в любом случае можем судить о них в сравнении с тем, что понимаем под религией сами, т. е. с точки зрения нашего вероучения или, шире, авраамических религий. Полагаем, что такое сравнение будет вполне уместно для наших целей, поскольку задачей не является герменевтическая реконструкция языческого богопочитания, а то, каким образом оценивалось образование в религиозной перспективе. Но прежде всего уточним некоторые важные понятия.
Говорить о теологическом подходе к образованию в античном мире мы можем только с одной оговоркой: слово «теология» в «естественном языке» древних эллинов имело очень широкий спектр значений и было связано с понятиями, отражавшими весьма разнообразный круг явлений тогдашней культуры. Так, «теологионом» (θεολογεῖον) называлось место над сценой, откуда появлялись и вещали актеры, исполнявшие роли богов во время театральных представлений. Теологией порой называлось восхваление богов во время молитвы – когда перечислялись божественные атрибуты и деяния богов. В этом случае «богословие» было своего рода «богославием» – торжественным повествованием о них. С другой стороны, в эллинистических магических папирусах «теология» – это заклинания, которые имеют своей задачей привлечение и «привязывание» божественных сил ради совершения теургического праксиса.
Согласно блж. Августину, теологом именовался поэт, реальный или легендарный, который говорит нам о богах. Блж. Августин пишет: «в тот же период времени существовали поэты, которых называют теологами за то, что они писали стихи о богах, но о богах таких, которые были… людьми, или были стихиями… мира, или же по воле Творца и за свои заслуги облечены были начальствованием и властью» (De Civ. XVIII 14). Блж. Августин называет конкретно Орфея, Мусея, Лина (все персонажи – мифические). Вполне вероятно.
Трудно сказать, насколько это именование легендарных поэтов теологами действительно имеет древний характер. Но в «Государстве» Платона именно такое понимание теологии получает некоторую терминологическую четкость: «Но вот это – основные черты, каковы они в учении о богах (θεολογίας τίνες)?
– Да хотя бы так: каков бог, таким его всегда и надо изображать, выведен ли он в эпической поэзии, в мелической или в трагедии» (Resp. 379a.)
О древних, занимавшихся теологическими вопросами, говорит и Аристотель в «Метеорологике» (Meteor. 353a35, Met 1091a34–1091b5 и в других местах)[58].
Однако в эпоху эллинизма слово «теология» все-таки достаточно часто и точно обозначает то направление мысли, которое сейчас называют «философской (или рациональной) теологией», о чем мы будем писать ниже.
Разберем еще несколько ключевых понятий (не пытаясь, безусловно, исчерпать все античные термины, имеющие отношение к теме религиозного). Слово «религия» заимствовано современной культурой из латинского языка (religio). Греки использовали иной термин, threskeia (θρησκεία), который обозначал собственно религиозные отправления, которые считались нормативными для общества. Соблюдение этих норм являлось делом благочестия (θεοσέβεια – благоговение перед богом, страх божий; латинский вариант – pius, pietas). Слово πίστις (лат. fidem) в греческом обозначало правильное убеждение, уверенность. В его семантике значительно большую роль играла верность традиции, чем индивидуально-личностная связь с богами. Θρησκεία, θεοσέβεια и πίστις передают суть античной религии – тщательное и скрупулезное исполнение обязанностей перед богами и предками. Все сказанное нами не отрицает наличие у древних эллинов и римлян опыта «нуминозного» (от лат. numen – интенсивное переживание близости сверхъестественных начал). Но «духовный опыт» и «мистическое видение» едва ли были целью религиозных практик и эллинов, и римлян, даже если мы говорим о мистериальных действах, подобных знаменитым Элевсиниям. Религиозные отправления имели коллективное, а не индивидуальное предназначение и обеспечивали единство и успешность общины (позднеантичные интерпретации мистерий как средств достижения индивидуальной святости и гнозиса являются очевидной их модернизацией).
Противоположными этим понятиям являлись ἀσέβεια (лат. impius, impietas) – отсутствие благочестия, страха перед богами, вольное или невольное осквернение религиозных атрибутов или церемоний, а также δεισιδαιμονία (латинский вариант – superstitio), суеверие, излишнее, надуманное почитание, выходящее за рамки принятого обществом. Интересно, что последний термин часто встречается в греческих текстах со времен ученика Аристотеля Теофраста, обозначившего им один из типов характера (т. е. со второй половины IV в. до Р. Х.). Возможно, чрезмерное увлечение всем имеющим отношение к умилостивлению богов – одно из свидетельств «индивидуализации» религиозного чувства во времена, наступившие после Александра Великого (эпоха эллинизма), о чем мы скажем ниже. Ведь «суеверное» проявление религиозности – это забота в первую очередь о себе и своих близких, в отличие от стандартного богопочитания, которое, повторимся, имеет в первую очередь общественный характер.
Аналоги священных книг
Сердцевиной религии в современных представлениях является Св. Писание. В античных Греции и Риме имелись его аналоги. Но это не Гомер, несмотря на все воспитательное значение эпических поэм. Аналогом христианского Божественного Откровения являлись сборники оракулов, составлявшиеся во всех основных оракульных центрах Древней Эллады, а в случае Рима – «Сивиллины оракулы». Эти тексты до нашего времени не дошли и по объективным причинам («Сивиллины оракулы» погибли во время пожара Рима в 83 г. до Р. Х.), и по субъективным (сборники античных оракулов не «переиздавали» в Средние века). В итоге мы знаем теперь совсем немногое из их содержания, в основном благодаря античным историческим повествованиям. Чаще всего это либо двусмысленные предсказания, неправильно истолкованные людьми, либо же какие-то примечательные события, вроде оракула, полученного Хэрефонтом, по поводу мудрости Сократа.
Однако можно с уверенностью судить, что это были откровения, дарованные ad hoc. Советы богов всегда уникальны и конкретны. Даже в Риме, в правовом сознании которого принцип прецедента играл важнейшую роль, обращения к «Сивиллиным оракулам» имели всегда «точечный» характер и вызывались обычно общественными бедствиями.
Иными словами, языческие священные тексты – а оракулы с точки зрения языческого сознания есть прямые откровения со стороны богов – не могли выступить основаниями для религиозной метафизики и даже для религиозного учения в том смысле, в котором мы используем сейчас эти слова. С этой точки зрения языческие «писания» принципиально уступали Библейской традиции, что в первые века нашей эры побудит языческую интеллигенцию создавать свои варианты «боговдохновенных» религиозных текстов («Халдейские оракулы», «Герметический корпус», орфическая поэзия, интерпретация неоплатониками корпуса текстов Платона как боговдохновенного источника).
Из-за своей специфики сборники оракулов не обладали центральным положением в системе античного воспитания. По ним не учились грамоте, как в России когда-то учились по Псалтири и Часослову.
Зато античное мифологическое Предание играло в образовании решающую роль. Мы имеем в виду эпические поэмы и, прежде всего, «Илиаду». По Гомеру учились читать и писать, поэтому события Троянской войны, а также странствия Одиссея были у античного человека, можно сказать, в образовательной «подкорке». В одноименном Платоновском диалоге софист Протагор сравнивает обучение людей законам и нормам человеческого общежития с обучением письму по прописям: упражнение вырабатывает привычку, привычка становится чем-то обязательным и естественным. Точно так же чтение Гомера создавало общий культурный, мифологический и эпический горизонт, в котором существовали древние эллины.
В вопросах, связанных с темой происхождения богов, а также с нормами благочестивого образа жизни не меньшую роль играл и Гесиод, которого Гераклит называет «учителем многих».
В целом поэты, причем не только рапсоды, были учителями как авторы общепризнанных текстов, так и в буквальном смысле этого слова: достаточно вспомнить Тиртея, обучавшего спартанцев хоровой лирике, общему пению-речитативу текстов, в которых восславлялись добродетели патриота-воина.
Мифологический текст не создает напрямую нормы жизни тех, для кого он является авторитетным повествованием. Однако воображаемая реальность, в которой жили его герои, их подвиги, их слова, оценки их действий эпическим рассказчиком создают систему ценностей, которая влияет на поведение людей. К тому же для древнего эллина эпос – это почти реальная история, пусть случившаяся в иные, славные, времена, когда боги были ближе к людям. Эпос позволяет человеку воспринимать себя как один этнос, выделять себя среди других народов и государств. В какой-то момент героическая мораль гомеровского повествования обернется проблемой для становящегося полиса, но мы отдельно будем говорить, как эта проблема решалась.
Важным элементом в религии является ее обрядово-ритуальная сторона. В наше время Церковь отделена от государства, участие или неучастие в жизни какой-то религиозной общины является делом свободы воли гражданина, каковая закреплена в Конституции Российской Федерации и других государств. Но в Древней Греции участие в религиозных обрядах, которые совершала община в целом (например, Панафинеи в Афинах, Карнеи в Спарте) или в ритуалах, которые были предназначены для каких-то социальных, возрастных и гендерных групп (обряды посвящения для юношества, обряды для женщин) являлось обязанностью гражданина. Мы хорошо помним те преследования, которым подвергались ранние христианские общины за отказ от участия в общественных богослужениях. Но такому же преследованию в Древней Греции мог подвергнуться тот, кто отказывался от их исполнения, пародировал их (известное дело 415 г. против Алкивиада и его друзей, спародировавших Элевсинские мистерии) или же измышлял новых богов. Последнее было одним из обвинений против Сократа, повлекших за собой смертный приговор.
Все дело в том, что религиозный элемент был настолько сплетен с общественной жизнью, что древний эллин или римлянин порой просто не мог отделить их друг от друга. Характерным примером является казус философской школы Эпикура. Хотя этот мыслитель и признавал, и даже доказывал существование богов, его самого и его последователей назвали атеистами за утверждение, что боги никак не воздействуют на мир. Ведь это означало, что обряды, «склеивающие» общество в целое, связанные с поклонением и умилостивлением богов, не имеют никакого смысла.
Все, что наиболее представлено в современной школьной и популярной литературе по поводу Древней Эллады – спорт, музыка, песнопения, театр, – было связано с почитанием богов: и Олимпийские игры, знаменитые спортивными состязаниями, и Делии, во время которых хоры соревновались в воспевании Аполлону дифирамбов, в равной мере являлись религиозными празднествами. К ним относятся и Великие Дионисии, во время которых проходили афинские театральные фестивали. Воспитание, которое получал молодой эллин, служило восхвалению и прославлению его богов, предков, города. Очень часто – и совершенно справедливо – подчеркивается соревновательность древнегреческой культуры[59]: действительно, и религиозные фестивали сопровождались соревнованием хоров, рапсодов, музыкантов, спортсменов, и театральные фестивали долгое время имели соревновательный характер.
Воспитание являлось, с одной стороны, важнейшим политическим делом в Древней Греции, с другой же, как мы уже видели, связывало воспитуемого с традиционной культурной и мифо-религиозной традицией как Эллады в целом (можно сказать, глобальный уровень), так и отдельного города в ней (локальный уровень). Конечно, в Древней Греции не было теологии в современном нам смысле этого слова, ее место занимали рассказы о деяниях богов, их генеалогия (Гесиод), а также эпос. До Платона и Аристотеля не было и того, что мы сейчас называем философской или рациональной теологией[60]. Однако отношение религии и образования в Древней Элладе представляется очевидным: они прямо связаны друг с другом, т. к. имеют непосредственное отношение к стабильности общества.
Боги и дидаскалы: образы наставников в раннегреческой культуре
Кто был наставником в греческой школе, тем, кто воспитывал юношей в духе идеалов, которые брались из эпических повествований или конструировались на их основе? По греческим мифам, первыми наставниками были боги: Гефест и Афина, которые обучили людей навыкам ремесла, или Прометей, подаривший человечеству разум. В эпических преданиях упоминаются, например, Лин, наставник Геракла, Хирон – Ясона, Диоскура и других, Феникс – Ахилла. Впрочем, уже эти мифологические персонажи показывают своеобразный статус педагога в Греции. Часто он был ксеном, т. е. иноземцем: Лин, сын Аполлона, скорее всего прибыл в Фивы из Фракии, Феникс бежал от своего отца Аминтора из Ормения во Фтию к Ахиллу и Патроклу. Кентавр Хирон учил на горе Пелион, и чтобы учиться у него, нужно было покинуть свою отчизну и ехать в иные земли.
При этом двое из названных персонажей были убиты своими учениками, точнее учеником – Гераклом. В случае Лина он ответил на удары наставника, в случае Хирона убийство было случайным.
Все это показывает своеобразную диалектику образа наставника в античном сознании (особенно характерную для эпохи до появления таких образовательных и научных институтов как Академия, Ликея, Стоя и Александрийские Мусейон и Библиотека). С одной стороны, наставники были носителями знаний, их покровителем являлся Аполлон – бог, «ответственный» за воспитание юношества (к слову, сам пришелец в мире греческих культовых реалий (см. «гомеровские гимны», посвященные его рождению и созданию его прорицалища в Дельфах)). Их знания опирались на силу – вспомним, что и Аполлон неоднократно применяет силу по отношению к тем, кто сопротивляется его воле, или пытается соперничать с ним в знаниях и искусстве (сатир Марсий, Ниоба и ее дети).
С другой стороны, они не были равны «полноправным» гражданам; наставники часто иноземцы (правда, обязательно получившие разрешение на ведение занятий), даже рабы. И это накладывает достаточно специфический отпечаток на образ учителя в греческой литературе и изобразительном искусстве. Он осуществлял свою деятельность через силу и даже насилие, что неоднократно подчеркивается в современной литературе. Судя по всему, в какой-то момент слова, обозначающие наставника (прежде всего διδάσκαλος), начинают активно применяться по отношению к деятельности тиранов[61].
Сохранились свидетельства и об иных образовательно-воспитательных практиках, особенно связанных с именами ранних тиранов. В псевдо-платоновском «Гиппархе» рассказывается о настоящей образовательной программе, которую сыновья тирана Писистрата проводили в отношении афинских крестьян. Причем речь шла не только об умении читать, но и о закреплении неких моральных норм, которое происходило благодаря своеобразной «наглядной агитации» – надписям на столбах-гермах, находившихся на половине пути от деревни к городу (Hipparch. 228b-229b).
Вообще, поскольку тираническая форма правления позволяла в большой степени контролировать частную жизнь граждан, тираны могли использовать какие-то образовательные практики для «идеологического» подкрепления своего права на власть. Поэтому уже указанное нами выше употребление в речах тиранов античными драматургами слов, обозначающих образование, имеет, вероятно, и какие-то исторические основания.
Первые школы и программы
То, что мы можем назвать школами – в более или менее современном смысле этого слова, т. е. в смысле места, где дети получали знания грамоты, счета, игры на музыкальных инструментах, физкультуры, – появляются в VI в. до Р. Х., а к концу этого века становятся, видимо, достаточно обычным явлением. В городах появляются палестры (παλαίστρα), где ведется обучение детей и подростков. Причем они, как это видно на примере Афин, отделялись от мест, где физическими упражнениями занимались взрослые (уже один из законов Солона определял время и нормы деятельности палестр). В конце V в. зафиксировано одно слово для обозначения школы – διδασκαλεῖον (см. напр.: в «Истории» Фукидида VII.29.5). Комедиограф Аристофан дает, вероятно, ироническое обозначение места, где тогдашние мудрецы-софисты вели свои занятия, уже дополнительные по отношению к традиционному образованию – φροντιστήριον, т. е. место для размышлений, «мыслильня» (Clouds, 95).
В Спарте образовательные институты радикально отличались от «школы» в других античных городах и были основаны на тотальном контроле над временем и занятиями подрастающего поколения мальчиков, вырванных из семьи[62]. Но и в других городах образование – по крайней мере, грамматике, музыке (в т. ч. хоровому пению), – судя по многим примерам из V в. до Р. Х., имело общественный характер и осуществлялось в большинстве случаев на общественные деньги, хотя и не «экспроприировало» дитя из семейной жизни[63].
Можно сказать, что ребенок получал два образования – «общекультурное» и, можно сказать, «техническое».
Первое – благодаря тем текстам, которые ему читали, его семье, его «мамкам и нянькам», благодаря поучениям старших, тому, что он слышал в храмах, во время религиозных и театральных фестивалей. Наконец, земледелию молодой человек учился также у своего окружения.
Второе – получение навыков, без которых уже невозможно было оставаться эффективным членом общества. Это грамотность, счет, музыка и гимнастика. Какими бы ни были ценностями физическая культура, победа на гимнастических соревнованиях или в соревнованиях хоров, эти навыки прививались в большей степени в школе, чем дома. То есть, как мы видели, там, где учителями часто были неполноправные люди или приезжие. К таким навыкам могли относиться также ремесло и врачевание, если получающий образование в будущем должен был стать ремесленником или врачом. Видимо выражая эту тенденцию, Платон в «Законах» передает большинство «технических» видов обучения наемным наставникам.
Важным периодом жизни юноши была «эфебия» – очень сложное явление, связанное в первую очередь с обрядами перехода от юношеского, неполноправного, с гражданской точки зрения, статуса к статусу гражданина[64]. Она охватывала возраст 18–20 лет. В институт полноценной военной подготовки в Афинах эфебия превратится лишь после реформы Эпикрата (336/5 гг. до Р. Х.), произошедшей после поражения афино-фиванской армии под Херонеей (338 г. до Р. Х.) в условиях все возраставшего военного могущества Македонии. До этой реформы военная подготовка была только частью этого весьма архаического по происхождению социального явления, очень ритуализованного и странного для современного человека, которое имело своей целью посвящение молодого человека в новый статус.
Формирование философско-теологического взгляда на образование
Внутреннюю эволюцию, имевшую место в античном образовании, которая может быть предметом отдельного рассмотрения, оставляет на втором плане самая настоящая педагогическая революция, совершенная античными философскими школами. Эта революция была вызвана вполне объективными обстоятельствами, связанными как с переменами в «количестве знаний», которые приходили в Элладу в процессе расширения ее культурных связей, так и с серьезными изменениями общественного сознания[65].
Становление гражданского коллектива приводило к формированию морали, которая противоречила «эпическим» ценностям, зафиксированным в поэзии Гомера и Гесиода[66]. Действительно, едва ли поведение в стиле Ахилла или Диомеда – гомеровских героев, которые самоутверждались на поле боя, следовало переносить на гражданские отношения внутри коллектива. Недаром поэт и мудрец Ксенофан из Колофона еще во второй половине VI в. до Р. Х. начинает призывать к другому образу жизни. Как в свое время писал о Ксенофане И. В. Шталь, «войны, раздоры и мятежи теперь не поле действия героев, не средство выявления их героического эпического „я“, но событие всегда нежелательное…»[67] Почести, отдаваемые победителям состязаний, кажутся Ксенофану неуместными. Наоборот, почитания достоин мудрый муж, ведь «благозакония» от наличия в городе победителя Пифийских или каких-либо еще игр не прибавляется. Проповедь Ксенофаном благоразумия и благозакония приобретает в исполнении Диогена Лаэртского характер интеллектуального аристократизма: «Еще он сказал, что большинство хуже ума» (De Vita IX. 19).
С этикой непосредственно связаны «теологические» воззрения Ксенофана. Божественный порядок – та инстанция, которая санкционирует формы жизни и поведения человека. Ксенофан уже «изыскал», что старая теология, дававшая санкцию на «эпический» стиль жизни, неверна:
- – Все на богов возвели Гомер с Гесиодом, что только
- У людей позором считается или пороком:
- Красть, прелюбы творить и друг друга обманывать [тайно].
На смену преданиям о поколениях богов, историям об их конкуренции, героических и не слишком деяниях приходит религиозный скептицизм, вынуждающий Ксенофана не приписывать божеству антропоморфных черт, и, быть может, приведший его к первой попытке создать «монотеистическую» философскую теологию, рассказ о которой содержится в псевдоаристотелевском сочинении «О Мелиссе, Ксенофане и Горгии». Хотя греческая культура сохранит за Гомером место «воспитателя Эллады», но отныне она будет вынуждена понимать его тексты не «напрямую», а создавая разного рода толковательные техники («аллегорезы»), которые позволяли совместить повествования Гомера и Гесиода с полисными нормами жизни. Так, противостояние богов и героев «Илиады» Теаген Регийский в начале V в. до Р. Х. толковал как борьбу природных стихий.
Очевидно, что вместе с критикой этических норм эпоса (которые совершали такие «гомерохулители» как Ксенофан, Гераклит, «вольнодумцы» V–IV вв.) в какой-то момент начинает требовать переоценки и вся мифологическая модель мира, что было связано с бурным развитием античной философской космологии, астрономии, медицины и физики. Таким образом, уже ранние философские школы начинают предлагать иную, дополнительную или даже альтернативную модель образования, связанную с их критической переоценкой эпической картины мира и традиционных представлений о богах. Пифагорейский союз был наиболее известным примером формирования образовательной программы закрытого типа, напоминающей обряды посвящения, только перенесенные в область педагогики. Полученные в пифагорейском кружке знания имели прямое отношение и к тому, что можно назвать науками о природе, человеке и обществе, и к знаниям религиозного характера, прежде всего связанным с бессмертием души и темой реинкарнации[68]. Полученные знания накладывали обязательства на пифагорейцев, которые вели особенный, более аскетический, чем остальные эллины, образ жизни. В частности, скорее всего они первыми стали носить плащ-трибон, который позже станет античным признаком философского образа жизни.
Таким образом, педагогика в случае пифагорейцев начинает выполнять роль не только общественную (формирование благочестивого, обладающего нужными навыками гражданина полиса), но и индивидуальную: ее адепты заботились не только о благополучии полиса, но и о собственной судьбе после смерти и будущего рождения. Эта индивидуалистическая составляющая уже в V в. до Р. Х. начинает вызывать настороженность среди античных граждан, настроенных более традиционалистски, что видно, например, в антипифагорейских выпадах авторов афинской комедии.
Просвещение Эллады
Но еще большим вызовом для традиционных религиозных представлений – как и для традиционных норм образования – стала деятельность греческих «вольнодумцев» (софисты, Анаксагор, Демокрит), которые покусились на сами основания эпического самосознания эллинов и на соответствующие им формы образования.
Прежде всего укажем на религиозный скептицизм Протагора, основания которого лежат в его гносеологических представлениях, выраженных в концепции «человека-меры». Согласно этой концепции, единственным критерием бытия чего-то может быть присутствие его в нашем индивидуальном восприятии. Если я не воспринимаю богов непосредственно, то и не могу утверждать, что им можно приписать бытие (впрочем, и небытие также, ведь мне о них рассказывают эпические поэты). Отсюда нам остается только признать, что у нас столько же оснований в пользу существования богов, сколько в пользу их несуществования. И все, что мы можем делать – не высказываться о них. В этом случае изучение и применение эпических преданий имеет вспомогательный характер, – мифы можно использовать лишь как аллегории для обучения тех, кто не готов к другому, прямому, рассказу, например, происхождения государства и социума (см. платоновский диалог «Протагор»). Понятно, что такая трактовка радикально снижает значимость эпического взгляда на мир, разрушает религиозные основы античного понимания общественной жизни. Поэтому, если верить античной традиции, сочинение Протагора о богах было уничтожено, а против него возбуждено судебное преследование.
Столь же критичны по отношению к традиционной религии представления о богах Демокрита, признававшие существование богов, но весьма специфических, возникавших из атомов и не направлявших жизнь космоса[69], Продика, выдвинувшего т. н. «прагматическое» учение о происхождении богов (люди обожествляют все, что полезно им для жизни), Крития, во фрагменте из сатировой драмы которого «Сизиф» утверждалось, что богов выдумал тот, кто осознал необходимость принудить людей, живших в примитивном обществе, почитать законы.
Таким образом, во второй половине V в. до Р. Х. традиционная «эпическая» религиозность сталкивается с фундаментальным вызовом. В контексте образования те разделы знаний и навыков, которые были базовыми, либо теряют свое значение (знание эпической истории становится лишь признаком «гуманитарной» образованности), либо окончательно становятся предварительным уровнем образования. «Просвещение Эллады», которое осуществляли софисты, касалось фундаментально более широкого круга тем: риторики, лингвистики, физики, астрономии, математики, истории, политики и права (если использовать современные названия научных дисциплин). В каком-то смысле софистическое образование можно назвать вариантом высшего образования, эмансипировавшегося от религиозной и антропософской тематики (которая была важна для пифагорейцев)[70].
Это было моментом серьезного кризиса как общественной жизни в Древней Элладе, так и в образовании. Выражением этого кризиса стали преследования мудрецов-софистов, а также судебный процесс над Сократом и казнь философа. Можно с долей уверенности говорить о том, что в Афинах, этом важном культурном центре Древней Греции, возникла настороженность по отношению к тем новациям в образовании, которые не вызывались необходимостью и противоречили традиционным религиозным верованиям и практикам.
К числу таких новаций относились новые философские школы, возникшие в Элладе после смерти Сократа (мы имеем в виду не только «сократические» школы, но и, например, школу Исократа). Во всех этих школах тема воспитания занимала центральное положение. В случае же школы Платона (Академия) мы можем увидеть, как новая воспитательная программа была связана с философской теологией[71].
Платоновская академия
На наш взгляд, Платон пытался создать некоторую нормативную и максимально рационализованную теологию, которая соотносилась бы как с его метафизикой, так и с требованиями религиозного «здравого смысла», а также вполне могла служить способом обоснования его модели воспитания политика и философа.
С одной стороны Платон, подобно предшествовавшим ему «гомерохулителям», подвергает решительной рационалистической критике их представления о морали и о природе богов[72]. Признавая за поэтами способность получать божественное вдохновение (Ion. 544a), он отклоняет практически всю предшествующую мифологию как неистинный и вредный вид логоса. В принципе, именно к Платону восходит современное понимание понятия «миф» как повествования, обладающего авторитетом в силу неосознанных установок и привычки, не способное быть обоснованным ничем, кроме как авторитетом предков. С этой точки зрения оно по всем статьям уступает диалектике, дар которой воспитывают в себе философы и которому должны быть причастны подлинные политики.
Однако Платон не отказывается от мифа, что накладывает своеобразный отпечаток на его концепцию пайдейи (греч. – παιδεία, «воспитание», слово, которое постепенно становится в античных текстах важнейшим обозначением педагогического и воспитательного процесса, имеющего целью приобретение должного культурного уровня). Это позволит как теологизировать и его педагогическую мысль, и философию в целом (как это произойдет в неоплатонизме), или «романтизировать» ее (как это будет в XIX в., особенно у сторонников романтической философии и принципов герменевтики), так и, наоборот, критиковать Платона с точки зрения систематического рационального мышления (как это делал Аристотель).
«Правильный» миф в текстах Платона исполняет много функций, например, позволяет ему сменить режим мышления, увидеть некоторую тему с новой стороны, подкрепить рассуждения свидетельством старины. Но, несомненно, первейшая его функция – воспитательная (что сам Платон подчеркивает во Второй книге «Государства»). Миф, по Платону, готовит ребенка к правильному усвоению знаний, делая их ценность для его души безусловной. Миф также воспитывает тех, кто не способен подняться на уровень наук и философии.
Сохранение в образовательной практике места для мифа позволяет Платону ссылаться на олимпийскую религию и олимпийских богов, постоянно говорить о связи богов с людьми, однако он вкладывает в эти отсылки уже совсем иной смысл, чем эпические поэты.
Платон создал такое понимание богов и их природы, которое полностью соответствовало нормам приемлемого для него типа рациональности. Он полагал, что боги не-антропоморфны, не поддаются никакому воздействию со стороны людей, не покидают присущего им места в мироздании. От богов проистекает только бытие, благо и попечение по отношению к людям (Resp. 508e-509a). В прошлый век, «век Кроноса», это попечение было прямым, в наш век, «век Зевса», оно стало опосредованным. Посредниками выступают космические движения и космическая душа (Politic. 269c и далее). Боги (в лице демиурга и внутрикосмических богов) создали космос и людей. Полубоги / герои прошлого судят человека за его поступки (Gorg. 523e).
У Платона имеются и многозначительные намеки на существование более высокого «порядка» богов (тех, кого неоплатоники будут именовать «сверхкосмическими» богами). Если владыки нашего мира, описанные в «Федре» и «Тимее», могут быть названы «видимыми и рожденными» богами (Tim. 40d), и с легкостью связаны с небесными телами и даже зодиакальными созвездиями (представления Платона станут одним из истоков астральной теологии эллинизма), то от повествования о «Создателе и Отце» всего Платон уклоняется по причине запрета рассказывать о нем (Tim. 28c). Вспомним, что и идея Блага, как вершина всего ноуменального сущего, согласно Платону, также превосходит вообще все и постигаема лишь апофатически.
Все эти воззрения, безусловно, являются реакцией на афинское «вольнодумство» и на потенциальное разрушение чувства социальной ответственности, которым, по его мнению, это вольнодумство было чревато. Вот характерные слова из «Законов» – диалога, где, к слову, содержится первая демонстрация «космологического аргумента» в пользу бытия бога: «Никто из тех, кто согласно с законами, верит в существование богов, никогда намеренно не совершит нечестивого дела, не выскажет беззаконного слова» (Legg. X 885b, пер. А. Н. Егунова).
В связи с этим воспитание – тема, которой посвящена большая часть наследия Платона, имеет связь с его теологическими представлениями. Однако здесь нужно указать на самый главный момент в той образовательной революции, которую совершает Платон. Прежде чем рассуждать о том, чему учить, он задается вопросом о том, что собой представляет ученик, кто тот, кого нужно учить? Это и подразумевает знаменитая сократовская интерпретация дельфийской фразы «Познай самого себя!» Из дельфийского требования выяснения своего социального места этот принцип стал требованием самопознания. Если мы узнаем себя, то поймем, чему нас нужно обучать.
Философское самопознание и педагогика превращаются в единый процесс – ведь даже наставник (Сократ, который знает, что ничего не знает) в процессе воспитания становится другим. И это процесс, результат которого не обеспечивается даже «выходом из пещеры». Поскольку в отличие от богов мы не сохраняем постоянное равенство себе, но находимся в состоянии становления, «примеряя» на себя одну жизнь за другой.
Поэтому природа человека трактуется Платоном как то, что не является ни хорошим, ни дурным. Особенно хорошо это показано в диалоге «Лисид»[73]. Разбирая причины дружеского стремления к лучшему, Сократ выводит там три вида сущего: хорошее, дурное и ни хорошее и ни дурное (Lysis. 216d). Подобное стремится к подобному, но лишь третье, среднее, которое не подобно ни лучшему, ни худшему, способно претерпевать стремление к чему-либо, что от него отличается. Выделение этой «средней» природы необходимо для демонстрации динамической природы человеческой души. Три примера в важнейших платоновских текстах подтверждают это. Первый – «Тимей»: демиург, создавая душу, смешивая ее из противоположных природ, связанных с высшим (неделимым) и низшим (претерпевающим деления), создает средний род сущности, причастный тождественному и иному. В итоге душа, как мировая, так и человеческая, способна, «касаясь» тождественного, высказывать логос о тождественном, иного – об ином (Tim. 35а, 37а). В «Кратиле», рассматривая этимологию имени бога Пана, Сократ говорит, что оно обозначает все, его можно «повернуть и так, и этак», оно может быть истинным и ложным. И чуть ниже Сократ говорит, что Пан – логос или брат логоса, коль скоро он сын Гермеса, который есть бог божественного логоса (Crat. 408b-d). Третий – «Пир». Здесь двойственной природой, бедной и богатой, обладает Эрос (Symp. 203b-e). Материнская «материальная», вечно нуждающаяся природа выражается в его вечной нищете и неопрятности, отцовская «идеальная», богатая – в стремлении к прекрасному.
Основы античной теологии образования: субстанция души не имеет природы в самой себе
Эти тексты с разных сторон свидетельствуют об одной и той же вещи: субстанция человеческой души не имеет природы в самой себе. В нас сочетаются и разум, и благородные страсти, и низменные вожделения (см. «Федр» и «Государство» (Resp. 588с-е)). Эта не-основанность на самой себе является причиной и сократовского методического незнания, и постоянного подчеркивания важности иррационального поэтического и любовного неистовства для постижения чего-то высшего. Выражаясь более современным языком, познавая себя, душа требует помощи наставника, а ее «практики себя», даже опирающиеся на разум и «метод логосов», показывают необходимость более высокой субстанции, которая только и в состоянии обеспечить ее целостность.
Такой субстанцией у Платона выступает божественная сфера, только рациональным образом очищенная от противоречий и нелепостей народной религии. Именно поэтому тема «идей» постоянно дополняется у диалектика-рационалиста Платона темой «богов». Диалектическое мышление философа становится высшим проявлением стремления к благу и к божеству. Одновременно оно является единственным верным средством удерживать себя при любых обстоятельствах на «восходящем» пути, поскольку дает нам навык принимать решения разумно, а не повинуясь страстям.
В связи с этим все образование, анонсированное в текстах Платона и во многом реализовывавшееся в Академии, было связано с постепенным восхождением от гимнастических и мусических занятий, традиционных для общества и сопровождавшихся погружением в ткань «правильных мифов», к выработке вкуса к отвлеченному мышлению и умения использовать его не только при рассмотрении предметов науки, но и обстоятельств собственной жизни. Божественная сфера – «поручитель» того, что такой путь наилучший для нашей постоянно изменчивой души. Недаром Сократ пророчествует в самом конце «Государства», что если мы будем «друзьями самим себе и богам», будем соблюдать справедливость, «то и здесь, и в том тысячелетнем странствии, которое мы разбирали, нам будет хорошо» (Resp. 621d). Как пишет Энтони Лонг о платоновском Сократе, «нам следует исходить из гипотезы, что сократовская религиозность и рациональность в его собственных глазах были полностью консистентны друг другу»[74]. Все перечисленное делает платоновскую образовательную программу столь же консистентной его рациональной теологии[75].
«Частные философские мнения» и богоуподобление как идеал греческого образования
В отношении осмысления религиозных данностей Платон, а вслед за ним Аристотель (в меньшей степени) и стоики (в большей степени) принимали на себя те функции, которые в истории христианской Церкви исполнили Соборы. Конечно, института соборного обсуждения богословских проблем в античности не было и не могло быть, так что «теологии» Платона, Аристотеля, стоиков, эпикурейцев, а затем неоплатоников, оставались частными философскими точками зрения. Однако, их влияние на современное им общество было довольно серьезным. Тем более, что эти «теологии» были самым непосредственным образом связаны с созданием новых образовательных программ, которые уже при жизни Платона привлекали к себе внимание значительного количества интеллектуалов, а после знаменитой дружбы Аристотеля с Филиппом и Александром Македонскими стали безусловной общественной и культурной ценностью.
Наиболее распространенным образом вершины образования становится богоуподобление. Платон в «Теэтете» не без иронии говорит о богоуподоблении ученых, полностью погруженных в созерцание своего предмета мысли и совершенно не заботящихся о делах земных (Theaet. 173d и далее). Однако для Аристотеля эта метафора становится весьма существенным объяснением преимущества жизни ученого перед любой другой формой жизни.
В своей этике Аристотель полагает, что высшим предметом стремления для человека является счастье, которое невозможно без удовольствия. При этом большую часть удовольствий, связанных с чувственностью или честолюбием, он не считает существующими от природы. Подлинные лишь те поступки, которые связаны с любовью человека к прекрасному, а это поступки добродетельные. Они и доставляют самое правильное и беспримесное удовольствие (Nicom. Et. 1099а 15–25).
Само собой привычки вести правильный образ жизни не возникает; в этических сочинениях Аристотель предлагает вырабатывать ее так же, как мы вырабатываем любые наши навыки, т. е. сочетая примеры, убеждения и разумные доводы. Поскольку полис – это общение ради блага (Polit. 1225a 1–10), то побуждает нас быть добродетельными уже простое здравомыслие, наша человеческая политическая природа[76]. Система наук Аристотеля (подразделяющихся на поэтические, практические и теоретические) не представляет собой образовательной последовательности, например, от риторики к «первой философии». Но определенная ценностная разница здесь имеется: теоретические науки, безусловно, выше поэтических (риторика и поэтика) и практических (этика и политика). А самая высшая из теоретических наук – «первая философия», занята изучением наиболее возвышенных, божественных вещей (Met. 982а5–8).
Отметим, что, помимо поведенческих добродетелей, т. е. этических, Аристотель упоминает еще и об интеллектуальных добродетелях (διανοητικὴ), высшей из которых является мудрость. Лишь в совокупности с ними этические добродетели ведут человека к вершине его существования, т. е. к блаженству и к близости божественному. Для человека жизнь созерцательная (т. е. мыслящая) является предпочтительнее практической потому, что мышление – это прерогатива бога, определяемого Аристотелем как мыслящий себя мировой разум, как благая цель и Перводвижитель всего сущего (Met. 1072b 14–30). Мы не в состоянии пребывать в теоретической жизни постоянно, поскольку, будучи «политическими животными», мы все равно возвращаемся в практическое состояние. Однако в наших целях делать этот опыт куда более частым. Аристотель призывает нас: «Нет, не нужно [следовать] увещеваниям „человеку разуметь человеческое“ и „смертному – смертное“; напротив, насколько возможно, надо возвышаться до бессмертия и делать все ради жизни, соответствующей наивысшему в самом себе» (Met. 1177b 32–35). Благодаря этому мудрец может достичь счастья. Счастье же – «это высшее и самое прекрасное [благо], доставляющее величайшее удовольствие… Даже если счастье не посылается богами, а является плодом добродетели и своего рода усвоения знаний или упражнения, оно все-таки относится к самым божественным вещам, ибо наградою и целью добродетели представляется наивысшее благо и нечто божественное и блаженное» (Nicom. Et.1099а24–1099b18. Здесь и далее пер. Н. В. Брагинской).











