Читать онлайн Данные достоверны
- Автор: Иван Черный
- Жанр: Книги о войне, Шпионские детективы
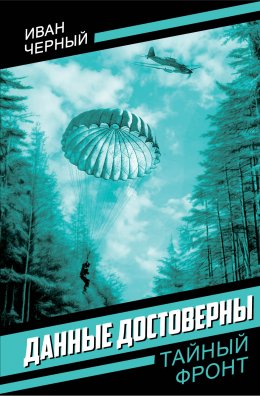
© Черный И. Н., 2025
© ООО «Издательство Родина», 2025
Светлой памяти боевых товарищей посвящается
Предисловие
Шел грозный 1942 год.
Красная Армия непрерывно наращивала силу своих ударов. По призыву партии в глубоком тылу врага возникали партизанские отряды. Партизаны выходили на коммуникации противника, срывали военные перевозки фашистов, громили их гарнизоны.
На оккупированной врагом территории необходимо было создать разведывательные организации, взять под контроль перемещение воинских частей, все военные перевозки, проникнуть в гарнизоны и штабы тылов вермахта.
Благодаря беззаветному мужеству советских людей вскоре оказалась решенной и эта задача. Для разведки противника использовались, в частности, возможности уже действовавших партизанских отрядов и соединений.
О боевых буднях одного такого соединения и рассказывает автор книги «Данные достоверны» Герой Советского Союза полковник И. Н. Черный.
В августе 1942 года капитан Черный приземлился с парашютом в районе базы партизанского отряда Героя Советского Союза Г. М. Линькова. Капитан Черный имел приказ в кратчайший срок организовать сбор информации о противнике в крупнейших городах и железнодорожных узлах Белоруссии – Пинске, Житковичах, Бресте, Барановичах, Ковеле, Сарнах, Лунинце, Ганцевичах. Приняв впоследствии отряд Г. М. Линькова, молодой офицер выполнил приказ командования, создав организацию, нацеленную на планомерную и своевременную разведку противника.
Уже к весне 1943 года ни один воинский эшелон не проходил через район действий соединения Черного незамеченным, ни одна передислокация частей врага не оставалась тайной для советского командования. Разведчики Черного первыми сообщили в Центр о появлении у противника танков и самоходных установок «тигр», «пантера» и «фердинанд», передали их тактико-технические данные, проследили движение эшелонов с новой фашистской техникой на центральные участки фронта.
В дальнейшем соединение И. Н. Черного форсировало Западный Буг и, выполняя новый приказ, взяло под контроль вражеские соединения и части, дислоцированные на территории оккупированной Польши. Разведчики проникли в Варшаву, Демблин, Луков, Любартов. В их сложной и ответственной работе в этот период большую помощь оказали польские патриоты.
Данные, которые добывали для Красной Армии партизаны и партизанки из отрядов И. Н. Черного, действительно всегда были достоверными.
Воспоминания полковника И. Н. Черного читаются с большим интересом. Автор правдиво рассказывает, как начинался сбор информации о противнике, раскрывает методы работы партизанских разведчиков, показывает приемы, которыми пользовались партизаны, чтобы привлечь на свою сторону нужных людей, не навлекая на них подозрений гестапо.
Значение книги, однако, не только в профессиональной добросовестности. Каждая строка ее воспитывает беспредельную любовь к Советской Родине, учит смелости, мужеству, отваге, верности товарищам и ненависти к врагу.
Л. Бекренев
Сов. секретно
экз. единств.
ПРИКАЗ
Капитана тов. Банова Ивана Николаевича назначаю помощником командира диверсионного отряда военинженера 1-го ранга тов. Г. М. Линькова по специальной работе. Отряд находится в 8—10 км западнее озера Червонное.
Тов. Банову И. Н. в ночь с 15 на 16 августа 1942 года вместе с грузом боеприпасов и материалом для диверсионной работы высадиться с парашютом в вышеуказанном районе на сигнал семи костров, выложенных буквой «Н».
Присвоить Банову И. Н. оперативную кличку Черный.
Начальник 5-го отдела 1-го управления ГРУ
Генштаба Красной армии
подполковник Патрахальцев
15 августа 1942 года
Глава 1
Вызов к полковнику Петру Никифоровичу Чекмазову, заместителю начальника штаба нашего Брянского фронта, не удивил, хотя и не обрадовал.
Не удивил, потому что вызова я ждал.
А не обрадовал, потому что похвастаться было нечем: нехорошо получилось третьего дня там, у Белёво…
Шла весна сорок второго года. Гитлеровцы, разгромленные под Москвой, подтянули резервы, стабилизировали фронт, готовились к новому наступлению. Судя по некоторым данным, наступление должно было развернуться на Южном фронте, скорее всего, в направлении Ростова. Однако эти данные требовали подтверждения и уточнения, и на всех фронтах усилилась деятельность разведчиков. То же было и на Брянском фронте. Командованию требовался «язык». Хорошо осведомленный «язык». Не какой-нибудь рядовой или ефрейтор, а офицер, и желательно штабной, знающий не только номер части и фамилию командира…
Задачу захвата пленного возложили третьего дня на специальный отряд разведки фронта, которым в то время пришлось мне командовать. Отряд был создан прошлой осенью из комсомольцев-добровольцев прифронтовых областей.
Днем нас перебросили на грузовиках из Ельца к штабу дивизии, в чьей полосе предстояло вести поиск «языка».
По приказу командира дивизии явились трое бойцов разведроты. Им поручили провести отряд под Белёво к переднему краю обороны немецкого соединения, к лесному завалу, сооруженному фашистами перед своими позициями.
Незаметно преодолев завал, отряд проник бы в расположение фашистской части, внезапным налетом разгромил ее штаб…
Месяц назад отряд обошелся бы и без дивизионных разведчиков: пока оборона с обеих сторон оставалась очаговой, мы не раз ходили за «языками» на рокадную дорогу противника под Белёво и Чернью.
Но то было месяц назад! А теперь линия фронта «устоялась», оборона противника опоясалась системой огневых точек и различных препятствий, стала сплошной, а времени для ее обстоятельного изучения офицеры отряда не имели. Приходилось полагаться на дивизионную разведку.
Проводники повели нас.
Повели ночным, буйно распушившимся майским лесом, свежесть которого не могла заглушить даже война.
Странное это ощущение – вдыхать запахи молодой зелени, влажной земли и сырого прошлогоднего листа, не забывая о том, что вдыхаешь их, может, в последний раз…
Сначала мы шли лесной дорогой, потом свернули на одну тропу, на другую, на третью. Залегли. Поднялись, прошли метров сто и опять залегли. Поднялись и снова продвинулись на сотню метров…
Мне стало казаться, что дивизионные разведчики заблудились, как вдруг старший из них шепотом сказал:
– Все, товарищ капитан.
– Что – «все»?
– Наша оборона позади. Мы в ничейной зоне.
Различить что-либо в зыбкой темноте летней ночи, в глухом лесу – невозможно. Где-то справа и слева стреляли, да и то лениво. Каким-то чудом мы миновали линию собственной обороны, не натолкнувшись ни на одну огневую точку, ни на один пост боевого охранения. Это беспокоило, но, в конце концов, дивизионным разведчикам следовало верить. Они обязаны были знать, куда выводят!
– Нам идти, товарищ капитан? – прошептал старший.
– Идите…
Проводники исчезли.
Отряд продвинулся вперед.
Ходить наши разведчики умели. Народ был опытный, обстрелянный. И мой заместитель Хализов, и командир второго взвода Иван Хрусталев, и ординарец Демченко, и молодой, совсем мальчишечка, разведчик Иван Савельев, и наши санитарки Валя, Лиза, Маша – все уже побывали во вражеском тылу. Причем санитарками девушки были, так сказать, «по совместительству». Они тоже принимали участие в операциях. Сегодня им предстояло после захвата немецкого блиндажа быстро забрать необходимые документы.
Мы шли около получаса, а сооруженного немцами лесного завала достичь не могли.
Чувство тревоги нарастало.
«Может, нас неправильно информировали, завал у немцев не сплошной, и теперь мы миновали его, углубляемся в расположение фашистских частей?» – думал я.
Передали, что обнаружен телефонный кабель. Я вздохнул посвободнее. Рано или поздно кабель выведет к землянке противника!
Взводы подтянулись. Мы двинулись вдоль кабеля, готовые к схватке.
Впереди возникли неясные очертания какого-то бугорка.
Залегли.
Неслышными тенями подползли к бугорку.
Так и есть – землянка!
И – смутный говор…
Вслушались, озадаченные. Речь была русской.
– Вот черт… – дохнул над ухом Хализов.
Я остановил его. Послушали еще. Сомнений не оставалось – разговаривали свои.
Мы поднялись. Тут же нас окликнул часовой. Назвали пароль. Получили отзыв.
В землянке приотворилась дверь, сквозь тьму проступил желтоватый прямоугольничек тусклого света.
– Харитонов, что там у тебя?!
Оказалось, мы вышли на командный пункт одной из наших стрелковых рот.
Объяснив командиру роты, в чем дело, я попросил связать меня с командиром дивизии.
Голос командира дивизии по телефону звучал глуховато, но был достаточно выразительным.
Он не пожалел крепких слов в адрес своих разведчиков.
– Чем могу помочь, капитан?
Я попросил дать указание артиллерии: в случае чего прикрыть нас огнем.
– Все сделаю! – пообещал комдив.
Командир роты сообщил, что до завала еще метров пятьсот, не меньше.
– Не поздновато, капитан? – спросил комроты. – Скоро начнет светать.
Мы вышли из землянки.
Тянуло холодом. Тьма словно бы редела. Можно было различить верхушки отдельных деревьев.
– Завал у них глубокий, – сказал командир роты. – Наворочали, гады! Деревья на полметра от корня подрубали, накрест валили. Может, и мин натыкали. Трудно будет, капитан. Рассветет – увидят…
– Мы пойдем, – сказал я.
На завал выходили тремя взводами. Слева – Хализов, в центре – старшина Хрусталев, справа – младший лейтенант Гапоненко.
Я шел с Хрусталевым.
Завал оказался нешуточным, в точности таким, как рассказывал командир роты. Идти по нему нельзя – ногу сломаешь. Надо ползти. Но ползти по оседающим стволам, по сучьям не больно-то ловко. Нет-нет, да и брякнет чей-нибудь автомат, стукнет по дереву зачехленная лопата, кто-то сорвется и нашумит.
Стало развидняться, и мы отчетливо увидели сторожевые вышки немцев.
Но с вышек тоже увидели нас.
На отряд обрушился огонь автоматов, минометов и артиллерии. Нас пытались прижать к завалу, отсечь от своих.
Пули с визгом сбривали высоко торчащие сучья поваленных деревьев, в воздух взлетали фонтаны земли, дыма и обломков дерева. Скоро визг пуль потонул в общем гуле. Вздрагивала земля. Вздрагивал завал.
Ведя ответный огонь, мы начали отход.
Били из автоматов по ближней вышке, по кустам, по густым деревьям, в кроне которых могли укрыться фашистские «кукушки», и отходили.
Ударила наша артиллерия. Комдив сдержал слово, а дивизионные артиллеристы оказались на высоте. Мы увидели столбы дыма и огня в расположении врага, заметили, как прямым попаданием снесло одну из немецких вышек.
На душе стало легче, но вдруг я почувствовал, что остро щиплет в носу, а на губах пузырится, словно закипает, сладковатая слюна.
Газы! Я судорожно рванул противогаз.
Но тут же сообразил – это не газы, это едкий дым от сплошных разрывов и стрельбы плотно повис над сырым утренним лесом.
Наши накрыли немецкие орудия: отсечный огонь противника ослабел.
Минут через пятнадцать отряд уже стоял возле землянки знакомого командира роты, ожидая, когда подтянутся фланговые взводы.
По телефону я доложил командиру дивизии о случившемся.
– Возвращайтесь, – кашлянув, сказал комдив. – Вам звонили из большого хозяйства.
Под большим хозяйством подразумевался штаб фронта.
Я выстроил людей и повел в тыл… Да, нехорошо получилось там, под Белёво. Наверное, поэтому и вызывал меня Чекмазов. И конечно, его вызов не радовал.
Полковник Чекмазов, невысокий, худощавый, загорелый, стоял за столом, сбитым из выструганных сосновых досок.
Выслушал доклад, протянул жесткую ладонь:
– Садись!
Мы знали друг друга не первый день; я был моложе, и в отношении Чекмазова ко мне всегда сквозило нечто похожее на отношение отца к сыну или учителя к ученику.
Я сел на табурет.
– Догадываешься, зачем вызвал? – спросил Чекмазов.
– Догадываюсь. Насчет прошлой операции.
Щурясь, Чекмазов провел рукой по волосам:
– Значит, не догадываешься.
В его голосе слышалось странное удовлетворение. Впрочем, Чекмазов тут же помрачнел, придвинул ко мне лежавший на столе лист бумаги:
– Читай. Тебя вызывают в Москву.
Я переводил растерянный взгляд с Чекмазова на бумагу, с бумаги – на Чекмазова.
– Читай, читай.
Я взял придвинутый лист.
Это и в самом деле был вызов. Наркомат обороны требовал откомандировать капитана Черного И. Н. в свое распоряжение.
– Просили подобрать офицеров и рекомендовать Центру для работы. Военный совет фронта назвал и твою фамилию… Вот, стало быть… Ну а как ты лично относишься к вызову?
– Как я могу относиться, товарищ полковник? Ваше дело решать – отпустить меня или нет.
– Хитер! – насмешливо сказал Чекмазов. – Дело-то это мое, конечно… Да ведь ты перед войной спецподготовку проходил…
– Так, но…
– Вот тебе и «но»! – сказал Чекмазов и, придвинув к себе вызов, снова сердито уставился в бумагу.
– Кто у тебя сейчас заместителем? – отрывисто спросил он.
– Старший лейтенант Хализов.
– Ему и передашь отряд.
– Есть передать отряд старшему лейтенанту Хализову… Когда выезжать, товарищ полковник?
– Сегодня и выезжать, – сказал Чекмазов. – Сейчас распоряжусь, приготовят документы… Сиди, сиди. Чайком побалую напоследок. Заодно расскажешь, как вы там, под Белёво, отличились…
К концу моего рассказа вошел адъютант, доложил, что документы готовы.
Чекмазов размашисто подписал командировочное удостоверение.
– Не скажете, когда ночной поезд на Москву? – обратился я к адъютанту.
Адъютант не успел припомнить.
– Какой там поезд? – вмешался Чекмазов. – Мою «эмку» возьмешь. Быстрей и надежней.
– Неудобно, товарищ полковник… Вы-то как же останетесь?
– Дают – бери, – сказал Чекмазов. – Только машину сразу обратно!
– Слушаюсь!
Чекмазов поднялся, протянул мне командировочное удостоверение:
– Ну, Ваня… Успехов тебе на новом месте.
– Спасибо, товарищ полковник. Счастливо вам оставаться.
– Приветы знакомым передашь.
– Обязательно!
– А самый низкий поклон – Москве! И пиши, слышишь?
– Непременно напишу, товарищ полковник!
Чекмазов провел рукой по волосам.
– Добавь: если смогу.
Мы оба улыбнулись.
– Ладно, – сказал Чекмазов, – вздыхать нашему брату не положено, да и времени нет. Поезжай.
И крепко пожал мне руку.
Демченко, увидев чекмазовскую «эмку» и узнав, что я срочно уезжаю, расстроился.
– И не весь отряд в сборе, – говорил он, собирая вещи, – и поесть-то вы толком не поели, и вообще…
Я обнял ординарца. Попросил Хализова построить бойцов, находившихся на месте. Простился с ними. И еще не успело зайти огромное багровое солнце, уже трясся в видавшей виды «эмке» по разбитому шоссе на северо-восток – к Москве.
«Зачем же все-таки вызывают? – в который раз спрашивал я самого себя, глядя на розоватый от заходящего солнца, выщербленный, порченный воронками асфальт, на обгрызенный бомбежками лес вдоль дороги, на встречные машины. – Зачем?..»
Глава 2
Я не был в Москве с 27 июня 1941 года, с того самого дня, как меня и еще нескольких слушателей академии имени Фрунзе направили в группу полковника Свирина и самолетом забросили в Могилев, в штаб Западного фронта.
Предполагалось, что мы летим в командировку. «Командировка» затянулась на целый год…
Чего только я не делал, чего не повидал и не пережил за этот год, первый год войны!
Началось с Рогачева. Тут, вблизи линии фронта, с помощью секретаря Рогачевского районного комитета партии товарища Свердлова и под руководством капитана Азарова начал подбирать, готовить и перебрасывать в тыл врага первые разведгруппы. Отсюда послал первую информацию штабу фронта. Первый раз сходил в тыл врага сам.
Потом – Центральный фронт. Мне поручили доложить о проделанной работе первому секретарю ЦК КП(б) Белоруссии, члену Военного совета Центрального фронта товарищу Пономаренко. Я нашел его в разбитом городке, в огромном, пустынном и гулком здании старинного костела, превращенного на несколько дней в подобие штаба.
Своды костела терялись в зыбком сумраке. Пахло камнем. И казалось, прошла вечность, прежде чем я дошагал до стола, возле которого сидел усталый, сутулый от недосыпа Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко.
Он выслушал меня, не прерывая. Его интересовала обстановка.
Голос у Пономаренко оказался высоким, неожиданно звонким.
Мне думалось, что такой усталый человек должен говорить медленно, глуховато, и я подивился такой звонкости…
После этой встречи я выехал в 63-й стрелковый корпус.
Командовал им комкор Петровский.
Все называли Петровского за глаза генерал-лейтенантом, но этого звания ему еще не успели присвоить, и официально он подписывался так, как привык подписываться: комкор.
Немолодой, он держался очень прямо и казался высоким. Носил старую однобортную шинель. Беседуя, смотрел собеседнику прямо в глаза. Голоса никогда не повышал, но говорил четко, как бы отрубая фразы. И всегда говорил только правду, не успокаивая офицеров и солдат деланным бодрячеством.
Наверное, за это Петровского и любили.
Наверное, поэтому и выдержал корпус Петровского тот страшный удар, который должна была принять на себя вся армия, оказавшаяся под угрозой окружения.
Армия вырвалась, а корпус Петровского прикрыл отход, не дал фашистам прорваться и развить успех. В тяжелых боях командир корпуса был убит.
Это случилось в середине августа в районе Гдова.
Я узнал об этом гораздо позже: сам в то время с группой бойцов пробивался к Гомелю.
Мы подъезжали к Гомелю ночью. Вблизи города натолкнулись на артиллеристов, разворачивавших орудия. Кое-как разобрались, чьи артиллеристы. Оказалось – наши, и выяснилось, что Гомель тоже наш.
Измученные, мы заночевали у «богов войны» и в Гомель въехали уже поздним утром, угодив как раз под очередную зверскую бомбежку.
Переждав налет, тронулись на поиски штаба фронта. Ехали по Советской улице. Она лежала в развалинах. Рухнувшие стены обнажали брошенные комнаты. На мостовой валялись перекрученные жаром трубы, кровати, обломки домашних вещей…
Нам сказали, что штаб находится в бывшем замке Мицкевича.
В замке никого, кроме оставленного для связи незнакомого генерала, не оказалось.
Он дал нам приблизительный маршрут движения на восток, вслед за отступавшими частями.
Карт у генерала не было. Впрочем, нужных карт не было и у нас.
Счастье, что в замке Мицкевича, слушая незнакомого генерала, я исписал два листа бумаги, стараясь не пропустить названий населенных пунктов и деревень, через которые предстояло ехать.
Но на полпути от «верной дороги» пришлось отказаться: возникла неожиданная пробка. Люди бежали, шоферы сворачивали с шоссе, гнали машины в лес: кто-то крикнул, что впереди – немецкий десант.
Мы тоже свернули было в лес, но чуть не влетели в болото, где уже завязли десятки автомобилей, вовремя выбрались обратно, развернулись, отмахали несколько километров назад, до ближайшего проселка, и с этого проселка начался наш тяжкий путь «в обход».
Почти четыреста километров длился этот путь, и в Карачев мы прибыли через Дмитрий-Льговский и Орел.
Тут всего было – и голода, и тревог, и бомбежек…
А в селе Первомайском мы наскочили на немцев.
Фашисты вкатили в не занятое войсками село с другой стороны. Об их появлении сообщил какой-то мальчишечка:
– Дяденька, там фрицы! На машинах!
Поблизости виднелась пожарная каланча. С каланчи мы заметили стоявшую на улице немецкую машину. Шофер копался в моторе. Несколько офицеров прохаживались рядом.
Мы налетели на этих вояк. Офицеров как ветром сдуло. Убежал и шофер, прыгнув в чей-то огород.
Мы прицепили немецкую легковушку к своему грузовику.
Это был наш первый трофей.
В Карачеве мы поступили в распоряжение штаба Брянского фронта, и тут я потерял своего руководителя и товарища по академии – веселого и бесстрашного капитана Азарова.
Все время мы были вместе, и пули Азарова не брали. А в Карачеве он стал жертвой несчастного случая: сел на передний бампер грузовика, чтобы показывать дорогу в ночи, и получил тяжелую травму…
Военный совет фронта дал мне новое задание, и я отбыл в Курск, в обком партии, чтобы помогать подготовке партизан.
Секретарь обкома товарищ Доронин выслушал рапорт, ознакомил меня с обстановкой и попросил как можно чаще информировать его о работе.
На территории бывших обкомовских дач мы разместили партизанскую школу, начали готовить людей к войне в тылу противника.
Костяк будущих партизан составляли коммунисты и комсомольцы.
Мы учили их тактике партизанских действий, умению вести разведку, совершать диверсионные акты против оккупантов.
Однако отступление продолжалось. Противник прорвался к городу, и 3 ноября мы после упорных боев сдали Курск.
Эта очередная страшная потеря вызвала новый прилив ожесточения против ненавистного врага.
Подбадривало одно: я знал, что в тылу врага остаются вооруженные, неплохо обученные люди, а впереди, на новых рубежах, фашистов ждут подтянутые к фронту, готовые к бою войска.
Непогода спасала от налетов вражеской авиации, но пока мы дотянулись до Ельца, пришлось выдержать еще несколько жестоких бомбежек.
Мне «везло» – в какой бы город ни направился, прибывал в него, как правило, ночью. То же самое произошло тут, в Ельце.
На въезде в город мы узнали, что штаб фронта стоит за рекой. Нам объяснили, что нужно пересечь Елец и спуститься к переправе. В кромешной тьме поехали искать переправу, но запутались в елецких улочках. Я нервничал. Прекрасно помнил, что спуск мы начали возле какой-то церквушки, но вот спуск кончился, дорога вновь пошла в гору, вильнула, и мы очутились… возле церквушки.
Снова поехали вниз. Свернули в другую сторону. Поплутали – и оказались… возле церквушки.
Город словно вымер. Ни огонька, ни души. Холод, снег, ветер.
Еще две попытки выбраться к реке закончились тем же, что и предыдущие: мы вновь уперлись в церквушку!
– Все. Будем спать. Утро вечера мудренее, – сказал я шоферу, поняв, что от этой церквушки нынче нам все равно никуда не уехать.
Мы кое-как продремали до свету, когда выяснилось, что церквей в Ельце – как грибов в лесу. Мы стояли везде одной, а купола других темнели и справа, и слева, и на соседних улицах, и вдали…
Выходит, мы тыкались от одной церкви к другой, по простоте полагая, будто упираемся в одно и то же место.
Я велел шоферу помалкивать о паломничестве по елецким святыням. Мы благополучно спустились к переправе, переехали на другой берег и прибыли в штаб Брянского фронта.
Семь с лишним месяцев прошло с того утра.
Здесь, в Ельце, с помощью секретаря Елецкого горкома ВЛКСМ Ани Власенко и члена Орловского обкома ВЛКСМ Любы Шестопаловой я комплектовал отряд из молодежи Ельца, Мичуринска, Тамбова и Задонска.
Около четырехсот человек пришли к нам и воевали так, как могли воевать только советские патриоты: смело, беззаветно, дерзко.
И тут же, в Ельце, познакомился я со старшим политруком Хаджи Бритаевым – тучным веселым тридцатилетним осетином, комиссаром одного из спецотрядов.
Хаджи Бритаев занимался переброской разведчиков через линию фронта.
Этого кипучего, храброго человека в марте 1942 года я провожал на аэродром: Хаджи улетал в тыл врага.
Я и не думал, что очень скоро наши пути сойдутся, что мы будем воевать рядом с ним, станем близки, как братья…
А вот теперь я оказался в Москве.
Нежданно-негаданно.
Совершенно не представляя, как теперь повернется моя военная судьба.
Впрочем, естественное волнение, связанное с вызовом Наркомата обороны, на некоторое время уступило место другому чувству: я мысленно готовился к встрече с Москвой.
Противотанковые укрепления остались позади, на подступах к городу.
Я жадно вглядывался в знакомые улицы.
Разрушений не замечал.
За Калужской заставой нас остановил милиционер и потребовал вымыть машину.
Мы и досадовали, и восхищались: порядок!
Из Наркомата обороны я в тот же день попал на подмосковную дачу, где принял ванну, отдохнул и переоделся во все гражданское.
Выспавшийся, свежий, предстал я на другой день перед мандатной комиссией, все еще не зная, куда меня направят.
За длинным столом сидели члены комиссии – никак не менее пятнадцати полковников и генералов.
Пятнадцать пар глаз внимательно рассматривали меня, пока я рассказывал биографию, отчитывался в боевой службе.
Затем члены комиссии задали несколько вопросов.
Я ответил.
Председатель, вертя в руках карандаш, спросил:
– Куда бы вы хотели попасть, товарищ капитан?
– А куда дальше фронта сейчас попасть можно? – спросил я в свою очередь.
Председатель приподнял бровь. Члены комиссии улыбались.
– Подождите в приемной, – сказал председатель.
Я повернулся налево кругом и вышел.
В приемной раскуривал папиросу старый знакомый – Гриша Харитоненко. Увидел меня – отбросил спичку, раскинул объятия.
– Послушай, Гриша, не знаешь, что мне прочат?
Гриша вытаращил глаза:
– Как?! Ты не в курсе?! – покосился на дверь мандатной комиссии, дохнул в самое ухо. – В тыл противника полетишь!
Осведомленность Гриши помогла мне выслушать решение комиссии с относительным спокойствием.
На той же даче, где я отдыхал и переодевался, началась подготовка к выполнению будущего задания.
Наставниками моими были опытные, до тонкости знающие свое дело люди – полковник Николай Кириллович Патрахальцев и его заместитель подполковник Валерий Сергеевич Знаменский.
Н. К. Патрахальцева я раньше не знал. Помнится, ходили фантастические рассказы о прошлом полковника.
Со временем: я убедился, что многое в этих рассказах было правдой.
Во всяком случае, правдой было то, что Николай Кириллович всегда оказывался там, где пахло порохом.
Судьба бросала его то на Дальний Восток, то в песчаные пустыни Монголии, то на берега Средиземного моря, в оливковые рощи и горы республиканской Испании, то в болота Полесья…
Колоссальный опыт работы Николай Кириллович передавал ученикам настойчиво и умело.
Он имел привычку, обрисовав обстановку, спрашивать, как бы поступил ученик в данном конкретном случае.
Сосредоточенно выслушивал ответ и, если не был удовлетворен, опускал голову на руки, прикрывал глаза и спокойно, как бы рассуждая вслух, давал нужные объяснения.
Валерий Сергеевич Знаменский, высокий, подвижный, внешне выглядел полной противоположностью невысокому, полноватому Патрахальцеву. Но и Знаменскому опыта было не занимать. За успешные действия в тылу противника он был удостоен звания Героя Советского Союза.
17 июля 1942 года общая подготовка закончилась.
Однако я все еще не знал, для выполнения какого задания меня готовят, и мог только гадать, где окажусь в скором времени.
Лето стояло жаркое, пыльное. В голосе Левитана, читавшего сводки информбюро, еще не звучало торжество. Ленинград задыхался в кольце блокады. Войска Волховского фронта, понеся большие потери, не смогли прорваться к городу Ленина. На Центральном участке линия фронта замерла в двухстах километрах от Москвы. Наше наступление под Харьковом остановилось: противник перехватил стратегическую инициативу и начал наступление на юге, рвался через донские степи к Волге, намереваясь отрезать страну от кавказской нефти.
Может, вскоре я окажусь где-нибудь там, вблизи родных донских степей?..
Мои сомнения разрешились 20 июля.
При очередной встрече Николай Кириллович Патрадальцев сказал, что я буду заброшен в Белоруссию, в район старой государственной границы, к партизанам Григория Матвеевича Линькова.
На стол легла карта-двухверстка.
Я увидел характерные штришки, обозначающие болота с редким кустарником и островками леса.
Через штришки тянулась надпись: «Урочище Булево болото».
С востока к Булеву болоту прилегала овальная голубизна – озеро Червонное, с юга – голубое пятнышко поменьше – озеро Белое.
На западе и юго-западе урочище обтекала густая зеленая краска, – видимо, дремучие непроходимые леса, тянувшиеся до голубовато-белесой ленточки реки Случь.
Красный карандаш руководителя поставил на западной окраине Булева болота, неподалеку от деревни Восточные Милевичи, маленький крестик.
– База Линькова, – объяснил Патрахальцев. – Понимаешь, почему сюда передислоцирован отряд?
Я смотрел на карту.
База располагалась в глубине Пинских болот. В таких топях и чащобах противник не может действовать против партизан крупными соединениями, используя свое превосходство в живой силе и технике. Очевидно, Центр учитывал это, перебрасывая отряд Линькова под Милевичи.
Но Центр, конечно, учитывал и другое, главное: район действия отряда покрывала густая сеть шоссейных и железных дорог.
Северо-западнее базы тянулась магистраль Брест – Барановичи – Минск – Смоленск – Москва.
В Барановичах от нее ответвлялась дорога на Луцк и Могилев.
Южнее базы, как по линейке вычерченная, летела магистраль Брест – Пинск – Лунинец – Микашевичи – Житковичи – Мозырь – Гомель.
Через те же Барановичи и Лунинец шла магистраль, связывающая Ленинград и Ровно.
В Сарнах эту крупнейшую рокаду гитлеровцев пересекала железная дорога Брест – Ковель – Киев.
Из Бреста выходили шоссе на Москву и Ковель.
Именно по этим магистралям и шоссе устремлялся основной поток фашистских военных перевозок, именно эти дороги использовали гитлеровцы, маневрируя своими резервами.
Со своей базы партизаны Линькова могли наносить удары по главным коммуникациям врага, уничтожать вражеские эшелоны, прерывать движение железнодорожных составов.
– Все правильно, – кивнул Патрахальцев, выслушав мои соображения, – Линьков так и действует. Его подрывники немцам в печенку въелись… Но сейчас важнее всего – разведка! Смотри, какие тут «пауки» сидят…
Остро отточенный карандаш моего наставника быстро перемещался по карте, вонзаясь в толстые кружочки железнодорожных узлов, выпустивших во все стороны извилистые линии путей, похожих на паучьи лапки.
– Брест, Барановичи, Лунинец, – называл Патрахальцев эти кружочки, – Ковель, Сарны, Микашевичи, Житковичи… Крупнейшие города, большие населенные пункты! Наверняка в каждом имеется гарнизон, фашистские учреждения, возможно, штабы. На каждом узле – депо, где ремонтируют паровозы и подвижной состав, в городах – предприятия, используемые гитлеровцами в военных целях. Где-то здесь находятся и важнейшие аэродромы немцев… Ясно?
– Ясно, товарищ полковник!
– Всех «пауков» возьмете под особый контроль. Ни один эшелон не должен пройти через «паука» незамеченным. Обнаружите состав – и провожайте по всему району, следите, куда свернет… Но для этого вам с Линьковым придется иметь людей не только на крупнейших узлах, но и на каждой промежуточной станции.
Ветерок шевелил карту.
Район, указанный Патрахальцевым, по площади равнялся примерно Франции, и лететь туда предстояло в ближайшее время не кому-нибудь, а мне.
Выслушивая решение комиссии на Арбатской площади, я представлял свое будущее несколько иначе…
– Что-нибудь непонятно? – спросил Патрахальцев.
– Нет, все понятно, товарищ полковник… А что, отряд Линькова ведет уже разведку?
– Видишь ли, Линьков по образованию военный инженер, выброшен Центром в район Лепеля в августе прошлого года, создал крепкий партизанский отряд, но отряд этот нацелен на диверсионную работу.
– Как давно Линьков базируется на Червонном озере?
Руководитель понял затаенный смысл моего вопроса.
– Недавно. И вряд ли он успел установить тесную связь с населением.
Я молчал, разглядывая карту.
Ладонь Патрахальцева накрыла район Булева болота.
– Слушай внимательно, – сказал наставник. – Опыт показывает, что тебе сразу же придется столкнуться с рядом трудностей. Обычно в партизанских отрядах нет людей, знакомых с методами сбора данных о противнике. Ты не найдешь таких людей и в отряде Линькова.
– Понимаю.
– Дальше. В некоторых партизанских формированиях недооценивают роль этой работы. Может быть, и ты столкнешься с подобным.
– Но Линьков получил соответствующие указания?
– Получить-то он их получил. Да ведь в отряде не один Линьков… Тебе предстоит убедить партизан в важности этого дела, увлечь их. Опыт показывает, что партизаны предпочитают взрывать эшелоны, а не вести разведку.
Я пожал плечами:
– Их же не учили.
– Да. Их не учили. А научить надо. И не только научить. Надо перестроить всю работу линьковского отряда. Главной задачей отряда должен стать сбор данных о противнике.
– Понимаю.
Патрахальцев опустил голову на руки, прикрыл глаза.
– Немецкие войска находятся на нашей территории, среди наших, советских людей, оказавшихся, к несчастью, в оккупации, – сказал он. – Возможности партизанского движения огромны. А мы не используем ситуации в полной мере, так, как могли бы. Мы отстаем в темпах насаждения наших людей в административном аппарате гитлеровцев, во вражеских формированиях, в среде персонала, обслуживающего железные дороги, предприятия, аэродромы… Отстаем. А не должны отставать!
Я слушал.
– И не только отстаем, – продолжал мой наставник. – Даже там, где удается развернуть работу, мы допускаем непростительные ошибки. Подчас действуем по шаблону с ограниченным количеством людей. Держим их поблизости от партизанских баз, и наши разведчики обеспечивают, по сути дела, тот или иной отряд, а не Красную Армию, которую должны обеспечивать. Партизаны до сих пор не научились создавать разведывательные группы. Про связь и говорить не приходится. Связь обычно настолько плоха, что даже добытые данные поступают с большим опозданием и теряют ценность. Да и в конспирации товарищи слабы. Оттого – частые провалы.
– Учту сказанное вами…
Мы еще долго говорили в тот день. Я получил точные и исчерпывающие указания относительно будущей работы. Меня предупредили, что на первых порах лучше ограничить число товарищей, занятых разведкой, чем набрать десятки их и оказаться перед угрозой провала: ведь плохо работающие разведчики обычно легко становятся жертвой противника.
Разведгруппы предложили создавать в количестве не более пяти-семи человек. Связь между разведчиками должна была осуществляться главным образом через «почтовые ящики». Лишь в исключительных случаях допускалась возможность личных встреч.
Мне посоветовали каждый раз ставить людям ясные, конкретные задачи.
Предостерегли от возможной потери связи из-за передислокации отряда и указали, как ее предупредить.
Обязав организовать наблюдение за противником, напомнили о важности захвата пленных и документов в боевых операциях, о важности тщательнейшего допроса пленных…
Я записал все указания полковника Патрахальцева, чтобы на досуге продумать их. Мне было совершенно ясно: работая, придется учиться самому…
– Ты полетишь на Червонное озеро заместителем Линькова по разведке, – сказал Николай Кириллович. – Но отдельные указания получать будешь не от Линькова, а от нас.
– Как я буду поддерживать связь с вами?
– Связь с Центром – через радиоузел, который уже выброшен к Линькову. Начальник узла – Семен Скрипник. С ним трое радистов.
– Знаком со Скрипником.
– Есть еще вопросы?
– Да. Сколько человек в отряде Линькова?
– Человек сто. На Центральной базе около Булева болота и на ближайших к ней – человек пятьдесят. Остальные – на озере Выгоновском под командованием комиссара Бринского.
– Состав отряда?
– Разношерстный. Часть людей – десантники, выброшенные вместе с Линьковым, остальные – из бойцов и командиров, оказавшихся в окружении. Есть и местные жители.
– Ясно… Район предстоящих действий находится к западу от бывшей государственной границы. Известна ли обстановка в этом районе?
– Связи с местными партизанскими отрядами нет.
Ответ был ясен, но неутешителен. В областях Западной Белоруссии, только в тридцать девятом году освобожденных от панского ига, могли найтись и националисты, и предатели.
Патрахальцев угадал причину моей задумчивости.
– Народ везде одинаково ненавидит оккупантов, – сказал он. – И везде не забывает о своей власти. Ты найдешь партизан и в Западной Белоруссии.
– В этом я не сомневаюсь!
– Тем лучше. А теперь – берись за изучение карты…
Я изучил карту района предстоящих действий так, что мог с закрытыми глазами представить положение каждого населенного пункта, болота, леска, каждой речки и речушки.
В память врезались изгибы шоссейных и железных дорог, тянувшихся от Барановичей до Ровно и от Бреста до Мозыря.
Было тревожно. Действовать предстояло в огромном районе. Никогда не был я в глубоком тылу противника и не организовывал разведывательной работы.
Как-то удастся «насадить» в занятых врагом городах и на железнодорожных узлах разведчиков? Как-то они будут действовать?
Я старательно повторял пройденное: с чего начинать дело, как строить взаимоотношения с людьми, как переключать разговор в нужном для разведчика направлении, на какие особенности формы перевозимых фашистами войск и на какие детали транспортируемого вооружения обращать внимание в первую очередь, по каким пунктам составлять сводки для Центра…
Одновременно я принимал участие в подготовке к вылету в тыл противника: комплектовал грузы, проверял оружие, боеприпасы, питание для раций, взрывчатку.
Все это заняло еще около месяца.
Однажды наша повариха Митрофановна принесла подарок – ложку и вилку.
– Спасибо, но зачем? – засмеялся я. Митрофановна ворчливо отмахнулась:
– Бери, бери! Пригодятся!
Уходя из столовой, я поймал ее грустный и теплый взгляд.
Видимо, старушка отлично разбиралась в сроках подготовки, существовавших на «даче», потому что вскоре был назначен мой вылет.
Случилось это во второй декаде августа 1942 года.
На Центральный аэродром меня и провожавших доставила грузовая машина.
Вечерело. Погода держалась отличная. Самолет ЛИ-2 стоял на взлетной полосе, ожидая погрузки.
Мы подкатили на грузовике прямо к самолету.
Перетаскать из машины в ЛИ-2 двенадцать огромных мешков оказалось нелегким делом.
Трудились все – и экипаж самолета, и мои наставники.
Старшина, инструктор парашютнодесантной службы, помог мне надеть десантный парашют, подогнал лямки по толстой десантной куртке. Убедился, что все в порядке, и отдал рапорт Патрахальцеву.
– В самолет! – приказал Николай Кириллович. Но перед тем как я начал карабкаться в ЛИ-2, он подошел и, глядя в глаза, крепко-крепко пожал мне руку.
Пожали мне руку и остальные провожающие.
Я повернулся и полез по железной лесенке в зияющий провал самолетной дверцы…
С этой минуты я должен был забыть на время свою фамилию.
Заревели моторы.
Самолет побежал по летному полю, вздрогнул, земля накренилась, начала уходить вниз…
Глава 3
Сидя на жестком брезентовом мешке с грузом, я огляделся.
Экипаж самолета занимал свои места: пилот, Герой Советского Союза Еремасов, штурман и радист сидели в кабине командира корабля, инструктор парашютнодесантной службы, по совместительству стрелок, прильнул к пулеметной турели.
Я был предоставлен самому себе.
Корпус самолета вибрировал, в ушах гудело, по фюзеляжу плыл еле уловимый сладковатый запах бензина, – наверное, «благоухал» запасной бак с горючим на пятьсот литров, помещенный вдоль одного из бортов.
Становилось жарко, и я сначала расстегнул, а потом и вовсе снял толстую, ватную, с меховым воротником десантную куртку.
Хотелось спать.
Я отлично выспался прошлой ночью, и тем не менее, спать хотелось.
Мысль о том, что пассажирский самолет практически почти беззащитен против фашистских истребителей, что нам еще предстоит перелететь линию фронта, где может случиться всякое, оставляла меня равнодушным.
Опасность осознаешь уже после того, как она минула…
И я не стал противиться искушению.
Бросил куртку на запасной бак с горючим, забрался туда сам, улегся на правый бок, зажмурил глаза и заснул.
Заснул почти мгновенно, как в яму провалился…
Разбудил меня холод.
Самолет натужно ревел, пробиваясь в облаках ночного неба, а за окнами машины внезапно и беззвучно расцветали пышные букеты огня.
Вероятно, мы пересекали линию фронта, и нас обстреливали.
Я слез с бака, пробрался к кабине командира.
Штурман подтвердил, что проходим линию фронта в районе Орла.
– Какая высота? – крикнул я.
– Три тысячи метров! – прокричал штурман.
Я вернулся к мешкам с грузом.
Огненные букеты увяли, пропали.
ЛИ-2 начал снижаться.
Ночь стояла светлая-светлая.
Мы шли на бреющем полете над сплошными лесами. Я отлично видел поляны и просеки, верхушки деревьев. Они возникали и исчезали там, внизу, а самолет все летел и летел, и время все тянулось, бесконечное, как стена мрака на западе, которой мы никак не могли достичь…
Я отвернул рукав пиджака, приблизил к лицу ручные часы.
Час тридцать ночи. Скоро должны прилететь. Но экипаж не проявляет никаких признаков волнения. Все застыли на своих местах, словно тоже заснули…
Может, я ошибаюсь, и лететь еще долго?
Нашарил в кармане коробку папирос. Самое бы время закурить! Как приземлюсь – сразу выкурю несколько папирос подряд. За все пять часов терпения!
Сидеть без дела было невыносимо.
Поднялся, еще раз осмотрел грузовые парашюты, ощупал мешки с боеприпасами и снаряжением. Все в порядке. Надумал пригнать парашют на летнее обмундирование, чтобы прыгать без куртки. Надевать тяжелую жаркую куртку не хотелось. Сиди в ней неизвестно сколько! Начал расстегивать пряжки брезентовых лямок парашюта.
В эту минуту и появился из кабины пилота Еремасов.
Подошел, наклонился, улыбаясь, спросил, как самочувствие.
– Отлично!
– Рад… Готовьтесь к прыжку.
Руки Еремасова пробежали по лямкам парашюта.
– Сигнал для прыжка – сирена, – сказал пилот, выпрямляясь. – Не мешкайте.
Я не успел попросить помочь подтянуть лямки: в оконца самолета блеснуло отражение луны, струившееся в серебряной воде озера.
– Червонное! – сказал Еремасов и торопливо направился в кабину.
Звать стрелка – не услышит, а пока подойдет…
Я начал торопливо подтягивать снаряжение сам, как умел: ведь от Червонного озера до Булева болота, где предстояло прыгать, оставалось всего двадцать пять километров, а это и для тогдашних самолетов не являлось расстоянием! На плечо мне опустилась тяжелая рука. Штурман кричал, что самолет у цели.
В фюзеляже собрались все, кроме Еремасова, оставшегося у штурвала: люди готовились к выброске грузовых мешков.
Вот второй пилот распахнул люк, они со стрелком приподняли первый мешок и столкнули в черный провал.
Второй мешок… третий… четвертый…
Кое-как я застегнул все пряжки парашюта.
Самолет делал разворот, ложась на левое крыло.
Штурман движением руки приказывал подойти ближе к дверце для прыжков.
В проеме открытой дверцы пылала буква «Г». Эту букву должны были выложить партизаны Линькова. Но ее могли выложить и враги! Фашисты неоднократно пытались заманивать и сажать наши самолеты в расположение собственных войск.
Лицо штурмана оставалось спокойным.
– Высота? – крикнул я.
– Двести метров! – откликнулся штурман.
– Поднимайтесь выше!
Штурман передал мою просьбу пилоту.
Я шагнул к открытой дверце. Встал между четырех грузовых мешков – последних, сложенных попарно по обе стороны дверцы.
– Восемьсот метров! – прокричал штурман.
Конец произнесенной им фразы заглушил резкий, оглушающий вой сирены.
– Пошел! – сказал я себе и бросился в пустоту.
Вихрь, идущий от левого мотора, подхватил меня и отнес куда-то в тишину.
Спасительный вихрь! В следующий миг рядом, чуть не задев, пролетели два грузовых мешка.
Парашют еще не раскрывался. Продолжалось леденящее душу падение…
Рывок оказался мягче, чем я полагал.
Теперь требовалось осмотреть купол парашюта.
Подняв голову, я увидел то, что должен был увидеть согласно полученным инструкциям, – закрывший чуть ли не все небо, туго наполненный воздухом белый шелковый четырехугольник.
Стало весело. Захотелось взглянуть на землю. Не тут-то было! Опустить голову я не мог. Нагрудный ремень парашютного снаряжения, неплотно застегнутый и неумело подогнанный в короткие секунды перед прыжком, соскользнул со своего места и с силой уперся в мой подбородок. Попытался повертеть головой. Ничего не вышло.
Проклятый ремень строго зафиксировал голову в одном положении. Я видел только купол парашюта. Ничего, кроме белого купола. И только краешком скошенных до боли глаз заметил, что сигнальные костры уплывают куда-то влево.
Орудуя стропами, я попытался изменить угол своего планирования. Хоть и с трудом, но мне это удалось сделать.
Теперь оставалось приземлиться. По возможности не сломав ног и рук, потому что я по-прежнему не видел земли, не видел, куда меня сносит.
Подогнув ноги, откинув назад корпус, я приготовился к худшему.
Но густые, мягкие мхи Булева болота приняли меня чуть ли не с материнской нежностью.
Я просто увяз во мху и тут же почувствовал, как проклятый ремень освобождает подбородок.
Потом упал лицом вниз, меня немного проволокло по влажным кочкам, и все кончилось.
Рокот самолета удалялся.
Слышались голоса перекликавшихся людей.
Я быстро освободился от лямок.
– Та где-то здесь! – негромко убеждал кто-то. – За кустами…
На всякий случай я расстегнул кобуру, вынул пистолет, перевел предохранитель.
Ждал лежа.
Зачавкали сапоги. Замаячили какие-то фигуры. Невдалеке остановился человек, взмахнул рукой:
– Да вот же!
И уверенно направился ко мне. Не дойдя нескольких шагов, окликнул:
– Пароль!
Сжимая влажную рукоятку пистолета, я ответил:
– Я к Грише.
– Я от Гриши, – весело сказал партизан. – Живы?
Я поднялся с земли. В редевших сумерках летней ночи передо мной стоял, улыбаясь, высокий молодой парень.
Признаться, я ожидал увидеть мрачного, вооруженного до зубов бородача, а парень был весел, выбрит и аккуратно подстрижен.
– Тугов Алеша, – назвался он. – Мы уж вас ждали, ждали, товарищ капитан!..
Подошли спутники Тугова.
Тоже не старики. Тоже не бородачи.
Жали руку, возбужденно переговаривались.
– Вы из самой Москвы, товарищ капитан?
– Откуда же еще? – улыбнулся я.
– Стоит, значит, Москва?
– Стоит и стоять будет!
– А газеток не прихватили?
– Есть и газеты.
– А ну, хлопцы, разойдись! – вступил в разговор Тугов. – Давай за мешками! Товарищу капитану до Бати надо… Пойдемте, товарищ капитан!
– Откуда ты знаешь, что я капитан?
– Батя сказал, чтоб встречали капитана, вот я и зову вас так.
Алеша Тугов повел меня по пружинившему, холодившему ноги болоту к видневшемуся вдали костру.
– Батя сам вас встречать вышел, – доверительно сообщил он, и по тону Алеши я догадался, что моему приезду придано важное значение.
Это было ни к чему. Впрочем, почему бы командиру партизанского отряда и не встретить своего будущего заместителя?
Я испытывал странное чувство неудовлетворения. Все свершилось так обыденно, так по-житейски просто, что было даже чуточку обидно. Нет, иначе я представлял себе приземление в тылу врага…
С болота еще доносились голоса партизан:
– Крепче держи, черт!
– Сам держи!..
В дрожащем круге рождаемого костром света беззвучно двигались, то обретая черные силуэты, то почти сливаясь с предрассветным воздухом, фигуры людей.
Я одернул пиджак, поправил фуражку.
Мы подошли вплотную к костру.
Тугов остановился, стукнул каблуками:
– Привел гостя, Батя!
Он рапортовал невысокому, чуть сутуловатому, плотному человеку в армейской безрукавке.
Тусклые блики огня отражались в цепких глазах, скользили по крутым скулам человека.
Громкий голос Тугова никого не смутил. Видно, излишней осторожностью тут не страдали.
Я шагнул вперед:
– Товарищ командир! Капитан Черный прибыл для дальнейшего прохождения службы!
Линьков помедлил, покалывая взглядом, потом кивнул, протянул руку:
– Поздравляю с прибытием. Очень рад.
И тут же отрывисто, деловито распорядился:
– Костры – гасить. Груз – к землянкам… Идемте, капитан.
Шаг у него был широкий, уверенный, хозяйский.
Глава 4
Болото кончилось. Начался высокоствольный сосняк. После гнилого запаха стоялой воды остро и свежо запахло багульником и хвоей.
Вскоре я заметил землянки и часовых.
Навстречу бежал человек.
Тяжело дыша, остановился в двух шагах:
– Товарищ капитан!
Мы обнялись.
Это был Семен Скрипник, товарищ по учебе в Москве, начальник радиоустановки, выброшенный к Линькову двумя неделями раньше.
– Радиоузел смонтирован, все в порядке! – тут же сообщил Сеня. – Прибыли, товарищ капитан! А уж я жду, жду!..
В землянке Линькова, вырытой среди сосен на сухом взгорбке, тускло горела жестяная керосиновая лампа. Обтянутые блестящим парашютным шелком стены казались желтыми.
Собравшиеся расселись на широких, покрытых лапником нарах слева от двери, на сосновых и березовых чурбаках, заменявших табуретки.
Меня, как гостя, усадили рядом с Линьковым возле маленького стола в дальнем правом углу.
Появились кружки, трофейная фляга, каравай деревенского хлеба. На печурке зашипела картошка, забулькал чайник.
Никого, кроме Сени Скрипника, я здесь не знал. Видел только, что все, за исключением Линькова, молодежь. Иные, пожалуй, намного моложе меня.
В чужой монастырь со своим уставом не ходят – вместе со всеми я выпил глоток обжигающего спирта.
Линьков взял флягу, взглянул вопросительно.
Я накрыл кружку ладонью:
– Пил только ради встречи, товарищ командир.
Линьков протянул флягу в сторону своих ординарцев, фляга исчезла.
Закусили.
Благоухал горячий настой малины.
– Как в Москве? – спросил Линьков. – Что нового? На фронтах как?
Несколько пар взволнованных, жадных глаз смотрели на меня.
Помнится, я говорил о чистоте московских улиц, о строгом порядке в столице, о том, что фашистские бомбежки не причинили городу почти никакого вреда, что все находится на своих местах – и Кремль, и Мавзолей, и Большой театр, и Колонный зал Дома Союзов…
Мой рассказ о милиционере, потребовавшем вымыть машину при въезде в Москву, вызвал веселое оживление.
Почти не дыша, слушали о подтянутых к фронту новых дивизиях, вооруженных по последнему слову техники, о дивизионах «катюш», сжигающих немецкую пехоту, как прошлогоднюю траву, о перебазированных на восток танковых и самолетостроительных заводах, уже наладивших выпуск продукции.
– Партизан тоже будут снабжать получше, – сказал я. – Обеспечат и взрывчаткой, и рациями. Мне приказали передать это. И просили сказать, что на партизан надеются. Крепко надеются. Ибо есть план парализовать вражеские железные дороги.
Линьков быстро оглядел своих людей, и видно было – он доволен.
– Мы не подведем! – сказал кто-то. – Вот только взрывчатки подкидывали бы!
Говорили еще часа два.
Потом Линьков встал:
– Капитану надо отдохнуть, товарищи.
Все сразу поднялись с мест.
– Спокойной ночи!
– Спите хорошо на новом месте, товарищ капитан!
Вскоре мы с Линьковым остались одни.
– Ну ложись, капитан, – сказал Линьков. – Перин не запасли, но уж как-нибудь.
Я поднялся с чурбака:
– Прежде – разрешите доложить о задании, товарищ командир.
– Докладывай.
– Нас не услышат?
– Нет. Часовой стоит в десяти шагах.
– Хорошо.
И я доложил Линькову о задаче, поставленной мне Центром. Сказал, что мы должны улучшить разведку в районе действия отряда, особенно в крупных городах и на самых важных объектах фашистов.
– Я послан сюда вашим заместителем по разведке, товарищ командир, но некоторые указания мне будет давать Центр.
– Понятно, – уронил Линьков.
– Есть просьба, товарищ командир.
– Слушаю.
– Об активизации разведки на первых порах не должен знать никто, кроме вас и отобранных нами людей.
– Понимаю, однако…
Я выжидающе смотрел на Линькова.
Он с силой потер бритую голову:
– Ладно. Обо всем остальном – завтра. А сейчас – спать, капитан.
Сел на нары и стал стягивать сапоги.
Спал я крепко и долго.
Открыл глаза – в оконце землянки льется солнечный свет, из распахнутой двери веет дневным теплом. Линьков сидит у стола, читает газету.
Тишина…
Я вскочил с нар.
– Проснулся? – поднял голову Линьков. – Справа от выхода – колодец. Умоешься там… Завтрак ждет.
Умылся до пояса, растерся. Солнце пронизывает сосны, искристые потоки золотистого света падают на белесый мох, на прошлогоднюю хвою. Возле соседней землянки чистят оружие партизаны, посматривают на меня. Где-то неподалеку вжикает пила. Наверное, заготавливают дрова.
Странный покой, странная тишина…
Вернулся в землянку.
Напились чаю.
– Я думал о вчерашнем разговоре, – сказал Линьков. – Должен сразу предупредить – опытных разведчиков у нас нет. Люди нацелены на диверсии. Научены подрывать железные дороги. А разведкой почти не занимались.
– Мне тоже еще учиться надо, товарищ командир. Но ведь не боги горшки обжигают. Постараемся подобрать людей…
Линьков поднялся:
– Ладно. Пойдем знакомиться с базой.
Где тропами, а где напрямик по лесу, через кусты и нехоженые поляны, водил меня в то утро Григорий Матвеевич, показывая расположение своих подразделений.
– Видишь, в какую глушь забились? – спросил Линьков. – Не удивляйся. Нельзя штабу иначе: немцы кругом, полиция… На задания наши люди только ночью ходят: днем – опасно, пропадут… Так что покамест зажали нас немцы. Тесно живем.
Считается, что партизанская база должна отвечать следующим условиям: располагаться вблизи хорошо заметных с воздуха природных ориентиров, чтобы летчики без труда находили место для посадки или сбрасывания грузов; находиться, однако, достаточно далеко от этих ориентиров, чтобы противник не мог легко обнаружить ее; размещаться по возможности поодаль от населенных пунктов, лучше всего в мало посещаемых населением лесных районах, но не настолько далеко, чтобы связь с населенными пунктами оказалась слишком затруднительной.
Казалось бы, выбрать такое место просто невозможно.
Тем не менее, база Линькова отвечала самым строгим требованиям. Озёра Червонное и Белое были хорошо заметны с воздуха, летчикам не приходилось подолгу кружить, чтобы выйти на костры Булева болота, а вместе с тем Червонное и Белое были удалены от базы за пятнадцать-двадцать километров.
До ближайшего населенного пункта на западе – села Восточные Милевичи – от базы было километров семь, а на юге до городка и железнодорожной станции Житковичи – километров двадцать пять-тридцать.
Центральная база, где работал штаб отряда, жила охрана и содержался радиоузел, состояла из трех землянок, вырытых, как я говорил, на уединенном бугре и надежно замаскированных.
Число людей, постоянно находившихся на базе, никогда не превышало двадцати человек.
На юго-востоке от центральной базы, километрах в двух от нее, имелась конюшня.
К населенным пунктам и дорогам были выдвинуты заставы, надежно прикрывающие центральную базу от неожиданного нападения противника.
Заставы, замаскированные столь же тщательно, были удалены от центральной базы, как правило, на три-пять километров.
Тут, на заставах, и размещались основные силы отряда. Сюда приходили с заданий боевые группы подрывников, здесь отдыхали и несли караульную службу, отсюда же уходили на новые задания.
И хотя партизанам было известно, что на заставах они охраняют центральную базу, свой штаб, о подлинном местонахождении штаба знали только командиры боевых групп или начальники застав.
Это была отнюдь не излишняя осторожность. Случаи предательства имелись, и командование отряда обязано было принять все меры, чтобы предотвратить разгром своей части.
Такой же отнюдь не лишней предосторожностью было строжайшее приказание всем командирам застав не являться на центральную базу без особой необходимости, а командирам и партизанам, жившим на центральной базе, – не посещать без надобности ни застав, ни конюшни.
Командир боевой группы или начальник заставы обязан был каждый раз ходить на центральную базу новой дорогой, чтобы не торить тропу, способную демаскировать штаб с воздуха или насторожить вражеских лазутчиков.
Без дорог было не обойтись. Но ни одна дорога не подводила к базе вплотную. Все они кружили, петляли под кронами сосен, под елями.
Если, скажем, от восточной заставы до центральной базы напрямую выходило километров пять-шесть, то дорога от этой заставы крутила километров восемнадцать-двадцать.
В некоторых местах она проходила всего в двухстах-трехстах метрах от штаба Линькова. Но из штаба дорога проглядывалась, а заметить штаб с дороги не представлялось никакой возможности.
В этом я убедился, следуя за Григорием Матвеевичем по тихому, казавшемуся вымершим, лесу.
– Приходится по этим дорогам следы поддерживать, – рассказал Линьков. – И непременно два-три тупика делаем: заедут ребята в болото, какое подрянней, развернутся – и обратно… Если бы фрицы и сунулись по следу – увязли бы, запутались, все под нашими пулями полегли бы.
– Пока не совались?
– Нет. Думаю, и не догадываются, где база.
Григорий Матвеевич огляделся, выбрал два пенька, торчавших из мха друг возле друга, присел на один и предложил:
– Устраивайся, капитан. Отдохнем.
Я тоже присел.
– Хочу тебя в курс дела ввести, – сказал Линьков. – У тебя должно быть ясное представление о делах отряда. Ты же мой заместитель.
– Начинающий, Григорий Матвеевич!
– И начинающему придется общие вопросы решать. Всякое бывает… Ну так вот: центральную базу и заставы ты видел. Народ здесь мы не держим. Отряды и подрывные группы действуют в большом радиусе. Отряд Бринского тридцать первого июля ушел на озеро Выгоновское. В бывшие владения Радзивиллов. Там обширные болотища, леса – черт ногу сломит. База у Бринского отличная. Его люди уже действуют и весьма успешно наносят удары по железным дорогам Брест – Барановичи, Барановичи – Лунинец, Барановичи – Белосток… Второй отряд, под командой Садовского, ушел под Калинковичи. Третий, во главе с Сазоновым, под Сарны. На Украину. Кроме этих трех есть еще два отряда рейдовых. Отряд Перевышко работает на дороге Барановичи – Минск, и отряд Цыганова – на дороге Лунинец – Житковичи. Как видишь, стараемся парализовать все основные магистрали, идущие на юг и юго-восток. Не даем фашистам беспрепятственно доставлять пополнения и грузы их наступающим войскам.
Одна беда – не хватает взрывчатки. Мин и взрывчатки. Будь у нас в достатке тола, да получи мы хорошие мины, – лучше всего мины замедленного действия, – ни один немецкий эшелон тут не прошел бы!
Видимо, на моем лице отразилось сомнение в правильности последнего утверждения, потому что Линьков нахмурился.
– Знаешь, я привык отвечать за свои слова, – бросил он.
Это прозвучало твердо.
– Но фашисты охраняют дороги, Григорий Матвеевич. Вероятно, они бы ответили усилением охраны, и часть мин им удавалось бы снимать.
– Они не в силах охранять все участки пути. Это давно подсчитано. Войск не хватило бы. А мины бывают и неснимаемые.
– Вам карты в руки! – согласился я. – Знаю только одно: действиями отряда в Центре довольны.
– Воюем, – сказал Линьков. – Вот соседей у нас пока не густо.
– Однако есть соседи?
– Есть. Ближний – на западе. Корж Василий Захарович. Километров за сто от нас ходит. На северо-востоке – Василий Иванович Козлов, командир партизанских соединений Минской области. Этот подальше. До него километров двести пятьдесят. В Копыльском районе – майор Капуста. А на восток отсюда – Полесское соединение.
– Все-таки что-то!
– Мало! Правда, наши маршрутники встречают в лесах отдельные отряды, но все они распылены. Общего руководства не знают и связи даже между собой не держат…
Линьков умолк, и, воспользовавшись паузой, я осторожно осведомился, что известно о ближайших населенных пунктах, ближайших городах. Тех же Житковичах, скажем. Знает ли Григорий Матвеевич, какой там гарнизон, чем вооружены фашисты.
– Гарнизон там значительный, – сказал Григорий Матвеевич, – но точные цифры назвать не могу.
– Бывают ли партизаны в ближайших деревнях?
– Бывали. В Юркевичах и в Рыбхозе на Белом озере. А сейчас мы соблюдаем максимум осторожности, чтобы не выдать базу. Немцам вообще не надо знать, что мы здесь. Пусть думают, что ушли все отряды.
Я понимал Линькова и по достоинству оценил его хитрость, но нам надо было выполнять свою задачу!
Не можем мы совершенно не встречаться со здешними жителями! – возразил я. – Ведь хотя бы хлеб и картофель надо где-то брать?!
– Ну, картофель мы сами ночами копаем на деревенских огородах, – сказал Линьков. – А хлеб… Хлеб, действительно, нам одна крестьянка печет. Живет тут на хуторе недалеко от Восточных Милевичей.
Я сразу насторожился:
– Как ее зовут?
– Матрена Мицкевич. Вдова. Мыкает горе с двумя сыновьями.
– Ребята большие?
– Нет. Одному лет восемь, другому, кажется, около тринадцати.
– И что же? В открытую Матрена вам печет?
– Конечно нет. Печет по ночам. И наши бойцы по ночам к ней приходят. Заберут хлеб – и обратно.
– Знает она об отряде?
– Ничего конкретного. Но догадывается, что помогает партизанам.
– Есть у нее поблизости родня?
– Не знаю, – сказал Линьков. – Но человек она, видно, хороший. Советский человек.
Григорий Матвеевич глянул на меня, чуть прищурился:
– Загулялись мы. Домой пора. Веди-ка на базу, капитан.
Следуя за Линьковым, я не очень внимательно примечал дорогу, надеялся на Батю. А он, кажется, решил проверить, какой из меня может выйти лесовик.
Ну что ж.
Я стал искать дорогу. Сориентировался по заходящему солнцу, пошел медленно, стараясь вспомнить места, по которым проходили.
И долго не мог вывести на прямую тропу.
– Ладно уж, – сказал Линьков. – Так до ночи ходить будем.
Он довольно быстро вывел меня к запомнившейся замшелой колоде.
– Отсюда направо! – обрадовался я.
– Ага, – буркнул Линьков. – Вспомнил… Но поучиться в лесной академии еще не мешает, капитан.
– Поучусь, – сказал я.
Первый день на партизанской базе Линькова близился к концу. Чувствовал я себя не очень уверенно.
Разведчиков предстояло подбирать и готовить, связь с местным населением – нащупывать…
«Матрена с хутора близ Милевичей… – думал я. – Моя первая и единственная нить… Куда-то она выведет?».
За парашютным шелком землянки нахально бегали мыши.
Под мышиный писк и шорох я и уснул.
Глава 5
Прошло несколько дней. Живя на центральной базе, посещая заставы, я приглядывался к партизанам, заговаривал с ними, пытаясь выяснить, насколько хорошо знают люди обстановку в ближайшем районе, стараясь угадать среди них будущих разведчиков… Это первое поручение Григория Матвеевича Линькова занимало все мое время.
Совершенно так же, как в любом другом деле, в деле разведки вражеского тыла могут работать люди с различными склонностями, характерами, вкусами; люди, весьма отличные друг от друга по жизненному опыту, образованию, даже по способностям.
Это, как всегда и везде, предопределено самой организацией дела.
Сдержанность и дисциплинированность, – пожалуй, самые необходимые качества для разведчика.
Самовлюбленный, болтливый, расхлябанный человек для работы в разведке не подойдет, имей он хоть семь пядей во лбу…
Еще в ночь приземления на Булевом болоте я заметил среди набившихся в командирскую землянку людей крепкого человека лет тридцати пяти, малоразговорчивого и, видимо, очень спокойного.
На следующий день Линьков познакомил нас.
– Якушев Федор, – баском назвался партизан, подавая темную, твердую, как дерево, руку.
– Был комиссаром в отряде Заслонова, – пояснил Григорий Матвеевич. – Начинал осенью сорок первого под Оршей. А в апреле пожаловал к нам…
Чувствовалось, Линьков относится к Якушеву с доверием и благожелательностью.
– Ты, Федор Никитич, расскажи капитану Черному о себе… Можешь быть абсолютно откровенным, – добавил он.
Якушев потер подбородок, помедлил.
– Значит, так, – начал он. – Перед самой войной, в мае сорокового года, назначили меня заместителем начальника политотдела Минского отделения Западной железной дороги…
– Вы потомственный железнодорожник? – перебил я.
– Нет. Родители крестьянствовали… О Стодолище слышали? Ну – под Смоленском? Вот там наша деревня недалеко – Березовка… До двадцать второго года и я в деревне жил. А как поступил в Рославльский механический техникум путей сообщения, так и пошел по одной колее.
– Ясно… Вы говорили о мае сорокового года.
– Да… Поработал я, стало быть, заместителем начальника политотдела до января сорок первого, и направили меня на курсы политуправления НКПС при Ленинградском институте железнодорожного транспорта. А как война началась – обратно в Минск. Только Минск уже захвачен был, и пришлось осесть в Орше. Тут меня сразу – бах! – начальником политотдела Оршанского отделения дороги… Отсюда уже последним эшелоном мы, железнодорожники, выбирались в Вязьму. Как сейчас помню, тринадцатого июля, в двадцать три часа тринадцать минут. Немец уже на станцию врывался…
– Значит, повезло.
– Не больно повезло. Ехали мы в Смоленск, а доехали только до Присельской: дальше по дороге, в Ярцево, фашисты десант выбросили.
– Как же вы?
– Да как. Паровоз взорвали, имущество сожгли, а сами пешим порядком, отдельными группами – к Вязьме.
– Почему группами?
– Да в эшелоне-то тысячи полторы человек было. Разве такой махиной под бомбежками двинешь? А группами почти все благополучно добрались.
– Понятно.
– В Вязьме политотдел Западной дороги и поручил мне подбирать людей для выполнения заданий в тылу врага. Из коммунистов Вяземского узла, конечно. А потом, уже в сентябре, Смоленский обком ВКП(б) назначил меня комиссаром отряда к Константину Сергеевичу Заслонову…
Слушать Якушева было приятно. Была в нем подкупающая неторопливая обстоятельность, свойственная людям, привыкшим много и упорно трудиться, знающим, что спешка – плохое подспорье в серьезной работе.
– А к Линькову вы как попали?
– Узнав, что в отряде Заслонова много железнодорожников, Григорий Матвеевич попросил передать людей в его отряд. Мне в Оршу нельзя было, вот я с апреля 1942 года и стал партизаном у Бати.
Во главе групп подрывников Якушев ходил под Борисов и Молодечно, взрывал железнодорожные пути и эшелоны врага, принимал участие в стычках с немцами.
На личном счету Федора Никитича было восемь вражеских эшелонов, а всего он выходил на диверсионные задания шестнадцать раз.
Если учесть, что для выполнения иного приказа приходилось покрывать расстояние в сто-двести километров, то читатель может легко представить, сколько километров по тылам врага прошел отважный коммунист.
Рассказ Федора Якушева произвел на меня сильное впечатление.
И не только описанием боевых событий, диверсий.
Впечатление производила сама манера рассказа.
Федор Никитич не был златоустом, не умел и не любил громыхать фразой. Говорил он спокойно, ровно, сдержанно.
Но вдруг внезапная усмешка освещала его широкое лицо, или прорывалась в ровном тоне нотка гнева – и все рассказанное сразу обретало какую-то особую значимость, весомость…
И еще одно обращало на себя внимание в рассказах Якушева: наблюдательность, знание людей, понимание человеческих чувств, трезвая оценка деловых качеств товарищей.
Рисуя свою «Одиссею» в отряде Линькова, он несколько раз упомянул фамилию Лагуна, тепло отозвался о подрывнике Седельникове.
Федор Никитич Якушев казался находкой. В самом деле, человек прожил хорошую трудовую жизнь, начал слесарем по ремонту подвижного состава, а перед войной вырос в партийного руководителя.
Он знал район действий отряда, показал себя отличным бойцом и командиром.
Партизаны относились к Федору Никитичу уважительно, признавали его авторитет, прислушивались к его словам, хотя держался Якушев предельно скромно: жил в общей землянке, никогда не расписывал свое прошлое, вместе со всеми становился в очередь к котлу…
– Ну, что ж? – обращаясь ко мне, сказал Линьков. – Подрывникам помог Федор Никитич, пусть и разведчикам поможет. Человек зрелый. Бери!
На второй или третий день пребывания в отряде мне понадобилось побриться.
Обращаться с опасной бритвой я еще не привык и сказал об этом Линькову.
– За чем дело стало? – отозвался Григорий Матвеевич. – Попроси Кузьменко. Он у нас тут за парикмахера. Отлично выбреет.
Николай Кузьменко, партизан лет двадцати четырех – двадцати пяти, состоял в числе бойцов, охранявших центральную базу.
Бойцы эти, воевавшие бок о бок с самого начала деятельности отряда, бок о бок зимовавшие в сорок первом, попривыкли друг к другу.
Я не слышал, чтобы кто-нибудь называл товарища по званию или фамилии, за исключением, конечно, старших командиров. Да и старших-то командиров обычно называли их партизанскими кличками, как называли, например, Батей самого Линькова.
А вот Кузьменко почему-то называли по фамилии.
Не по имени, не кличкой, а только по фамилии.
Это привлекало внимание.
Пока Кузьменко правил бритву, а потом брил меня, я разглядывал этого человека, пытался разговорить его.
Но не тут-то было.
Кузьменко отвечал односложно, пожалуй, отрывисто. Он производил впечатление человека замкнутого, несловоохотливого.
Внешность у него была, что называется, самая заурядная, незапоминающаяся, голос звучал ровно, глуховато.
Брил он прекрасно.
– Где же это ты, Коля, так научился?
Пальцы Кузьменко, вытиравшие бритву, на мгновение замерли. Возможно, бойца удивило, что я назвал его по имени. Но Кузьменко ответил, как обычно, невозмутимо:
– В армии. Ребята просили. Вот и привык.
– Ну, спасибо тебе, Коля, – сказал я.
– Пожалуйста, товарищ капитан…
Я спросил у Линькова его мнение об этом партизане.
– Солдат неплохой, – сказал Григорий Матвеевич. – Вот малограмотен только и держится бирюком. Ни с кем особо не дружит.
– Для этого есть какие-нибудь причины?
– Думаю, характер такой.
– Характер?.. А что, расположение застав он знает?
– Знает, конечно.
– Вы разрешите мне брать Кузьменко в качестве провожатого на эти дни?
– Пожалуйста, берите.
Я трижды ходил с Николаем Кузьменко, изучая местность вокруг центральной базы. Посещал заставы, знакомился с партизанами, приходившими с заданий.
Расспрашивал Кузьменко об его прошлой жизни, о пребывании в отряде Линькова, о взаимоотношениях партизан.
Николай не произнес ни одного слова осуждения в чей-нибудь адрес.
Любое приказание он выполнял быстро, с охотой, держался подтянуто, собранно.
Кузьменко нравился мне день ото дня все больше и больше.
Я полагал, что, если с ним подзаняться, он окажется полезным для разведывательной работы человеком.
– Скажи, Николай, – спросил я однажды, когда мы отдыхали, сидя на стволе поваленного обомшелого дерева. – Кто из наших партизан мог бы рассказать о немецких гарнизонах в Житковичах или Микашевичах?
Кузьменко озадаченно поскреб щеку:
– Не скажу, товарищ капитан…
– А есть такие ребята в отряде?
Мой проводник окончательно смешался:
– Да я вроде не задумывался над этим, товарищ капитан. Ни к чему…
– Как же так? Разве не надо знать обстановку вокруг базы хотя бы? И ты не приметил, кто из партизан ее знает? Ведь мы сколько с тобой ходим по заставам!
Кузьменко растерянно улыбнулся:
– Ходить-то ходим… Я же слышу, о чем вы спрашиваете у ребят. Да они ж не могут вам ответить, товарищ капитан. Выходит, не знают… Вообще, обстановку, наверное, только Батя знает.
Он глядел вопросительно.
Я не стал разочаровывать Николая Кузьменко и вместо ответа на его невысказанный вопрос предложил:
– А если я тебе поручу собирать данные о противнике? Как ты на это посмотришь?
– Мне, товарищ капитан?!
– А чем ты плох? Ведь не боишься?
– Не! Бояться я не боюсь, да как-то чудно… Не знаю я этого дела.
– Научишься.
– Если научите, тогда, конечно, я не против… А что узнавать-то надо, товарищ капитан?
– Все, что можно узнать, Николай. Прежде всего – какова численность немецких гарнизонов в крупных населенных пунктах. Где немцы держат гарнизоны, а где бывают наездами. Кто из местных жителей нам сочувствует, на кого можно положиться, а на кого нельзя.
– Понимаю, – сказал Кузьменко. – Значит, ходить, с людьми говорить… Я пойду. Только боюсь – не справлюсь я, товарищ капитан! Разговор у меня корявый…
– А по-моему, ты справишься, – серьезно сказал я, глядя в глаза Николаю Кузьменко. – Прекрасно справишься, Николай. Только помни: о том, чем мы будем заниматься, никому ни слова. А товарищи спросят о нашем деле – отвечай: ходим, мол, наблюдать за немцами в селах, и все. Понял?
– Понял, – сказал Кузьменко.
Глаза у него загорелись. Видимо, читал в свое время всякого сорта детективчики, и перед его мысленным взором промелькнули в этот миг волшебные картины невероятных приключений.
Но еще и другое увидел я на лице Николая Кузьменко в эту минуту – счастье.
Огромное счастье человека, ощутившего, что его ценят, в него верят, на него рассчитывают.
Возможно, Кузьменко очень долго был лишен такого доверия…
– Скоро сходим с тобой на одно задание, – сказал я, – Готовься.
– Да я хоть сейчас, товарищ капитан!
В те дни на заставы центральной базы вернулись из далеких вылазок группы партизан Седельникова, Яковлева, Лагуна и Сазонова.
Эти группы действовали в районах Пинска и Ровно, уничтожали там вражеские эшелоны, взрывали железные дороги и мосты.
Григорий Матвеевич посоветовал мне использовать возможности подрывников-маршрутников: они уходят на задания далеко от баз, проходят порой по нескольку сотен километров, встречаются с местными жителями, наблюдают обстановку в различных районах и, как правило, осведомлены о происходящем в тылу врага лучше, чем другие.
Памятуя о данном совете, я побеседовал с каждым командиром группы в отдельности.
Увы, сообщенные сведения были отрывочными. Воссоздать по ним четкую картину происходящего в тылу врага не представлялось возможным.
Происходило это по вполне ясной причине: до сих пор разведывательных задач отряду Линькова не ставили. Поэтому подрывники-маршрутники, озабоченные тем, как лучше выполнить задания по взрыву эшелонов, почти не интересовались численностью немецких гарнизонов в городах и селах, не наблюдали за интенсивностью движения железнодорожных составов противника, за характером и направлением фашистских перевозок.
Стараясь остаться «незримыми», маршрутники не входили в тесный контакт с населением оккупированных районов, сознательно избегали показываться в пунктах, расположенных поблизости от железных дорог.
Тем самым они оберегали жителей этих населенных пунктов от репрессий фашистских властей, а самих себя – от глаз возможных предателей.
Знание противника у диверсантов-маршрутников ограничивалось весьма поверхностными наблюдениями и теми впечатлениями, какие они сами вынесли из этих наблюдений.
Яковлев – тот вообще недоумевал, кому это нужно – знать, куда и что везет противник? Главное – взорвать пути, паровоз, пустить эшелон врага к чертовой матери под откос, и точка!
Если противник не довез груз, так ли важно выяснять, какой именно и куда?
Только одно привлекало командира группы – тол, мины, детонаторы.
Седельников, Лагун и Сазонов отнеслись к моим расспросам иначе.
Правда, и они не могли сообщить ничего важного, ценного. Но все трое старались рассказывать о том, что видели и слышали, обстоятельно, старались вспомнить подробности тех или иных встреч с противником, рассказы местных жителей.
Лагуна явно огорчило, что он не может порадовать нового заместителя Бати четкими данными о силах врага, знанием его железнодорожных перевозок.
Сазонов, казалось, задумался над тем, как быть в дальнейшем.
А Седельников, признав, что изучение противника вел походя, пообещал впредь относиться к сбору информации серьезней.
Я обратил внимание на правильную, литературную речь Седельникова.
– Вы откуда родом, товарищ сержант?
– Сибиряк. Из Красноярска.
– До войны чем занимались?
– Работал в газете.
– Журналист?
– Это громко сказано. Я только начинал писать. Мой год призвали.
– Где служили?
Седельников назвал свою часть, указал, где она дислоцировалась перед войной, поведал, как его полк принял неравный бой, был разбит, попал в окружение.
Рассказывал Седельников о себе вроде бы и подробно, как раз то, что я хотел узнать, ничего, похоже, не скрывал, но я чувствовал, что держится он настороженно, что душевного контакта между нами не возникает.
Меня это раздосадовало. Хотелось, чтобы наши отношения сложились иначе. Седельников был образованным человеком, прошел хорошую выучку в кадровой армии, давно партизанил, прекрасно знал район действий отряда Линькова, обладал сноровкой подрывника. Хорошие данные для разведчика нашего отряда. Но откуда этот холодок в беседе, откуда эта замкнутость?
Я спросил о Седельникове у Григория Матвеевича.
– Подрывник опытный. Я его назначил командиром группы, – ответил Линьков. – Но, как говорится, – себе на уме.
Мне показалось, что в голосе Линькова проскользнула нотка неудовольствия.
Странно!
Поделился своими мыслями с Федором Никитичем Якушевым.
– Седельников пришел в отряд в мае, из Налибокской пущи, – припомнил Якушев. – С ним еще двое были. Капитан Максимовский и воентехник третьего ранга Демидов… Принимал их Антон Петрович Бринский: Григория Матвеевича не было, уходил куда-то. А вернулся и вскипел. Понимаете, отряд готовился к большому переходу, а у Седельникова болела нога.
– Ну и что? – спросил я.
– Батя считал, что в отряде не должно быть отстающих, – сказал Федор Никитич. – Он вызвал Седельникова, заявил об этом и пригрозил.
– Что же Седельников?
– Побледнел. Только головой этак дернул… Говорит: «Не отстану…» И верно – не отстал. Дошагал кое-как. Правда, пришлось помогать…
– И вы помогали?
– Было дело…
– Выходит, все обошлось.
Якушев вскинул глаза, опустил, усмехнулся:
– Можно считать, так…
– Седельников показался мне умным и смелым, – сказал я. – Может, это ошибочное впечатление?
– Нет, отчего же? – возразил Якушев. – Так оно и есть…
Я вновь встретился с Сазоновым, Лагуном и Седельниковым, попросил их при очередной вылазке в южные районы Белоруссии вести наблюдение за врагом, посоветовал расспрашивать местных жителей о мероприятиях и передвижениях немцев.
А с Седельниковым нашел время поговорить отдельно.
– Мы ведь с вами в некотором роде коллеги, – шутливо сказал я. – Мне тоже довелось работать в редакции.
– Разве вы не кадровый военный? – удивился сержант.
– Военный-то я кадровый.
Мы помолчали.
– Я слышал, вы со стертыми ногами из Западной Белоруссии шли?
Он испытующе поглядел на меня, разгладил морщинившие на коленях недавно выстиранные линялые брюки, потом решился:
– Если вы все знаете, то и скрывать нечего. Уцелел я чудом. И никогда не забуду, что пережил.
– Утешитель из меня плохой, – сказал я. – Да вам и не нужны, наверное, утешения.
– Не нужны.
– Очень хорошо, что мы одинаково смотрим на вещи… Кстати, я хочу, чтоб вы побольше занимались сбором информации о враге, товарищ сержант. Пойдете в рейд – расспрашивайте местных жителей о фашистах, старайтесь узнать, сколько их в том или ином местечке, откуда они появились.
– Слушаюсь.
– На хуторе у Матрены бывали? Ходили за хлебом?
– Да. Приходилось. А что такое?
– Собираюсь на днях заглянуть к Матрене. Хотите со мной? Мы бы вместе попытались поговорить с ней о людях, которые могут стать нашими помощниками. Будем учиться разговаривать о нужных нам делах.
– Спасибо… Когда быть готовым, товарищ капитан?
– Я скажу… Кстати, как ваше имя?
– Анатолий.
– Отдыхайте, Анатолий. Я позову вас, когда пойду.
Глава 6
– У меня к тебе просьба, – сказал Григорий Матвеевич Линьков.
– Слушаю вас, товарищ командир.
Линьков побарабанил пальцами по столу, подбирая слова. Подобрал.
– У нас имеются соседи. Отряд Коржа. Базируется западнее Милевичей.
– О Корже я слышал. Его имя и отчество Василий Захарович? Он бывший работник обкома партии?
– Да. Тот самый. Что еще слышал?
– Слышал о рейде Василия Захаровича в сорок первом по немецким тылам… Знаю, что Корж – наш сосед, да еще западный!
– Сосед… Отряд у него сейчас малочисленный, но население хорошо знает о нем. Корж просит о встрече.
– Понимаю. Вы хотите, чтобы на встречу пошел я?
– Да. Связному от Коржа я назначил завтрашний день. Корж придет на Булево болото. В полдень. К стогам.
– Ясно.
– Выслушай его. Думаю, будет просить помочь взрывчаткой и оружием. Так ты щедрых обещаний не давай. Сами не богачи, каждый патрон на учете, каждая толовая шашка… Скажи Коржу, что доложишь о его просьбах.
– Слушаюсь.
Предстоящая встреча волновала и обнадеживала. Оказывается, не все партизанские отряды к сорок второму году стянулись в восточные районы Белоруссии, ушли за Случь, за старую государственную границу. Есть отряды и в Западной Белоруссии! А если так, развернуть там разведывательную работу будет намного легче: раз есть партизаны – имеются и местные жители, им знакомые, их поддерживающие! А это нам и нужно!
Моросил мелкий, нудный дождичек, и над Булевым болотом держался плотный молочный туман.
Увязая в мокрых мхах, шагал я следом за своим проводником, рыженьким партизаном Сережей Алексеевым.
Впереди замаячили стога.
– Здесь, – тихо сказал Сережа.
Перелезли через несколько оросительных канав, прислушались – тихо…
– Давайте, товарищ капитан, вон туда… В случае чего – уйдем по канаве…
Добрались до облюбованного стога, снова прислушались, удостоверились, что опасности нет, разрыли сено, забились в сухую, пахучую нишу.
Я посмотрел на часы – около двенадцати. Значит, скоро…
Поглядывая в проделанные окошки, сидели мы с Алексеевым в стогу и шепотом беседовали о войне, о Германии, о неминуемом конце гитлеровского рейха.
– Товарищ капитан, а что, к зиме разгромим фрица?
– Я не главнокомандующий, Сережа. Немецкая армия еще сильна.
– А Москва? Ведь под Москвой-то им хребет сломали!
– Верно, под Москвой немцы получили страшный удар. И главное, лопнул, как мыльный пузырь, миф об их непобедимости.
– А ребята говорили, будто вы рассказывали про новые дивизии, танки, про «катюши»…
– Рассказывал. Да ты сам посуди: территорию враг захватил большую, каждый метр с боем отвоевывать придется.
– Понимаю! А вы знаете, товарищ капитан, что фрицев в большинстве деревень нету? Они только по городам, по крупным селам да возле железных дорог сидят! Точно! А вот нам бы собраться да вместе с армией ка-а-ак вдарить по ним!
– Не так все просто, Сережа… Чем вооружены партизаны? Хватает оружия и боеприпасов? Есть у нас артиллерия тут, в тылу, или взрывчатка?
– Это да… С оружием и припасами плоховато… Так пускай пришлют!
– Пришлют. Только на все время требуется. И самолеты транспортные. И надежная связь.
– Верно… А все же, товарищ капитан, недолго фашистам пановать!
Почудилось, болото чавкает. Мы примолкли. Звуки приблизились. Кто-то шел по болоту. Медленно. Останавливаясь.
– Двое, – шепнул Сережа.
– Откуда взял?
– Так… Чую…
В тумане действительно замаячили две тени. Они двигались к нашему стогу, но держали немного левее.
– Наши вроде, – сказал Сережа. – Фрицы вдвоем не ходят…
Люди остановились, словно советовались. Можно было уже различить: это не немцы.
– Выходим, – сказал я.
Держа оружие наготове, Сережа окликнул незнакомцев:
– Эгей!
Все. Свои.
Незнакомцы приближались к стогу. Первым шел высокий, грузноватый, по походке судя – немолодой человек, за ним – худощавый, пониже ростом и, кажется, помоложе.
Высокий окинул нас живым взглядом из-под кустистых, седоватых бровей, протянул широкую, как лопата, руку:
– Корж.
Сухощавый поднес руку к фуражке:
– Бондаренко.
Я тоже представился:
– Капитан Черный! – и пригласил обоих к стогу.
Уселись.
Корж развязал висевший на поясе огромный, чуть не на килограмм, кисет с табаком, вытащил трубку:
– Можно покурить…
Я взялся за вещевой мешок:
– Подождите, Василий Захарович! Могу угостить московскими папиросами.
Корж и Бондаренко с любопытством уставились на мешок.
Я вынимал и клал им на колени шоколад, копченую колбасу, пачки «Казбека».
Ненароком взглянул на Коржа и растерялся: на его ресницах дрожали слезы.
Бондаренко взволнованно кашлянул.
Корж овладел собой.
– Давно… из Москвы? – неверным голосом спросил он.
– Недавно.
– Видно, неплохо живет Москва!
– Живет, Василий Захарович!
– Два года «Казбека» не видел… – как бы оправдываясь в минутной слабости, произнес Корж, вертя в руках папиросную коробку. – И про колбасу такую мы уже забыли… А выходит, она есть!
– Есть, есть, Василий Захарович!
Корж переглянулся с Бондаренко, раскрыл пачку папирос, понюхал:
– Эх, табачок!.. А ведь тут немцы раззвонили, капитан, что Москва разрушена, и ничего от нее не осталось.
– Чистая брехня, Василий Захарович!.. Да что ж вы не курите?
Корж отрицательно покачал головой:
– Приберегу. Бойцам покажу. Каждому дам по папиросе. Чтоб все видели и чуяли… Этот «Казбек» лучше всякой политбеседы подействует, капитан.
– Правильно, – поддержал Бондаренко.
– Видишь, и комиссар мой такого же мнения! – сказал Корж. – Ну, обрадовал ты нас, капитан! Спасибо! Ото всей души спасибо!
– Да меня-то за что благодарить? Это вам из Москвы послали… Кстати, Василий Захарович, я пришел от Бати, чтоб узнать…
– Погоди, капитан! – сказал Корж. – Об этом после… Ты о Москве расскажи! О Москве!
Я рассказывал о Москве.
Корж и Бондаренко слушали жадно, ловили каждое слово.
Все интересовало их – и положение на фронтах, и новые назначения в армии, и быт москвичей, и планы развертывания партизанской войны.
– Замучили мы тебя вопросами, – сказал Василий Захарович. – Ну, ничего. Терпи! Веришь, со времен испанской войны в такие передряги не попадал. А там, в Испании, мы тоже, бывало, вновь приезжающих мучили, как тебя…
– А вы были в Испании?
– Довелось… Между прочим, ты никого из «испанцев» не знаешь, капитан?
– Откуда мне, Василий Захарович?..
– Жаль… – протянул Корж. – Я думал, общих знакомых найдем… Но, может, слышал что-нибудь о некоторых товарищах?
Василий Захарович назвал несколько фамилий военачальников.
– Увы… – мне пришлось пожать плечами.
– Жаль, жаль… – повторил Корж. – Настоящие люди! Они бы разобрались в том, что тут делается…
– А что именно тут делается?
Корж взглянул испытующе:
– Вот что, капитан. Не знаю, кто тебя послал сюда, в тыл, но давай говорить начистоту. Задача сейчас одна – развертывать движение. Так?
– Так.
– А можно его развертывать без тесного взаимодействия отрядов?
– Полагаю, нельзя.
– Приятно слышать, – вступил в беседу Бондаренко.
А Корж пояснил:
– Часто не можем мы, партизаны, общий язык найти. Все сами по себе. А делу это вредит.
– В чем же выражается отчужденность?
– Во всем! Да вот хотя бы нас с Линьковым взять… Сейчас у Линькова есть связь с Москвой, а у нас нет. Ему взрывчатку подбрасывают, а нам нет. Ему оружие дают, а нам не дают! А Батя ничем не делится!
– У Бати тоже не густо со взрывчаткой и оружием.
– Все же лучше, чем у нас!
– Возможно.
– Скажи, капитан, вместе с тобой взрывчатку сбросили?
– Да, сбросили.
– Неужели не поможете?!
Я решил забыть о наставлениях Григория Матвеевича.
– Думаю – поможем.
– Вот это другой разговор! Вот это – да! – воскликнул Корж.
Бондаренко улыбнулся:
– Если бы с самого начала так договаривались!
Собираясь на эту встречу, я мысленно составил целый план беседы. Разговор, как часто бывает, потек по непредвиденному руслу. Однако я не отказался от мысли узнать то, что интересовало в первую очередь.
– Скажите, товарищи, – начал я, улучив удобный момент. – Вот вы прожили здесь первую зиму. Продержались весну и лето. Очень трудно партизанить в здешних условиях?
– Партизанить, наверно, везде нелегко, – усмехнулся Корж. – Тут другой вопрос – как партизанить? По лесам отсиживаться или активные действия вести?
– Я имею в виду активные действия.
– Понимаем… Активные действия вести можно. Было бы оружие. И связь. Вот нам сейчас без оружия и связи тяжко.
– Дело только в этом?
– А ясно ж, в этом!.. Я так скажу, капитан. Самое трудное позади. Чего греха таить! Народ на скорую победу рассчитывал, а тут вон как повернулось… Стал фронт удаляться – кое-кто растерялся. Я не про сволочей. Сволочи – те просто радовались. А даже наши, хорошие люди – кое-кто растерялся. Тем более – известий от своих нет, фашисты наступают, трубят об окружении и уничтожении советских армий, о том, что вермахтовские генералы в бинокли за уличным движением в Москве наблюдают, что Ленинград блокирован и не нынче-завтра падет… Поживете у нас – наслышитесь еще о фашистских россказнях!.. А тут что? По ночам в избы свои бойцы и командиры стучатся: хлеба нет ли? Упрямо лесом на восток пробираются. Днем же – фрицы наезжают. Всех активистов, всех коммунистов и комсомольцев, всех, кто перед войной в западные области на работу был направлен, – к стенке или на сук. Отыскивают бывших уголовников, пропойц – организуют полицейские отряды, всюду старост – солтысов по-здешнему – сажают… Горько? Горько! А что сделаешь?
– Вы – сделали. Отряд создали.
– У меня опыт имелся… Да и не один наш отряд возник! Что говорить! На северо-востоке вон Козлов с подпольщиками действует, здесь – Батя, под Барановичами – Бринский… Ну, это – дрожжи. А тесто-то долго вспухало… Сам посуди, капитан. Иные, может, и пошли бы в партизаны, да не с чем, и не знают, как начать, как организоваться… Опять же – зима на носу. Без теплой одежды, без хлеба, без оружия много не напартизанишь. И сидели. Ждали весны. Ждали, что на фронте перелом наступит. Короче – ждали чего-нибудь.
– Ожидание – не борьба.
– Верно. И тот, кто ждал, – немецких репрессий дождался. Во-первых, фрицев по морде на фронте стукнули, блицкриг дырявым оказался. Во-вторых, партизанские отряды, стихийно возникшие и из-за линии фронта переброшенные, стали удары с тыла наносить. Тут фашисты и начали бывших окруженцев под метелку сгребать, заложников хватать, целые деревни сжигать за помощь партизанам. Вот так.
– Добились чего-нибудь?
– Как не добиться! Раньше их ненавидели, а теперь еще пуще ненавидеть стали. Нашлись и трусы, и продажные шкуры, не без того. Поджали хвосты, подвывают гитлеровцам. Но те, кто зиму пересиживал, – ушли в леса, сбились в отряды. Да что далеко за примерами ходить, капитан? Ты в отряде у Бати Лагуна видел? Про Каплуна слышал?
– Видел Лагуна, но про Каплуна только в общих словах говорили.
– А историю его знаешь?.. Ну тогда послушай, тебе многое ясно станет!
И Корж рассказал…
На восьмой день войны дивизия, где служил капитан Каплун, после тяжелых боев была разбита и окружена. Во главе группы бойцов и командиров капитан Каплун сумел прорваться сквозь боевые порядки вражеских частей и ушел в барановичские леса. В стычках с фашистами группа несла потери. И в леса Красно-Слободского района капитан Каплун привел только шестерых командиров из своего полка. Здесь ему удалось встретиться с командиром другого отряда – Жуковским.
Жуковский был направлен с большой группой партизан в Красно-Слободской район Центральным Комитетом партии большевиков Белоруссии.
Добираясь до места назначения, группа Жуковского потеряла многих товарищей убитыми и ранеными. Дошли до цели только тринадцать человек.
Видя, что немцы активно прочесывают леса, устраивают облавы, не имея боеприпасов и продовольствия, Жуковский распустил отряд, приказав бойцам разойтись по деревням и перебиваться до весны кто как сможет.
Каплун, поддерживавший связь с Жуковским, не знал, что делать.
Единственный радиоприемник, находившийся у Жуковского, попал к немцам, связи с местными жителями Каплун не имел.
Он пришел к Жуковскому за советом.
– Расходитесь, – сказал Жуковский. – До весны переждем в деревнях. А там что-либо решим. Во-первых, наши могут нажать, а во-вторых, весной и летом в лесу легче.
– Но куда же идти? У вас тут знакомые есть, а у нас – никого.
– Идите в деревню Бучатин, – сказал Жуковский. – Найдете там на хуторе бывшего бухгалтера бучатинского сельпо, Лагуна. Такой долгоносый блондин… Он кандидат в члены партии. Поможет. Пристроит где-нибудь… Только учтите, Адам Лагун в разговорах очень осторожен, хитер. Может и не поверить сразу…
Каплун послушался совета, раздобыл адреса для других товарищей, а сам 11 ноября сорок первого года явился в Бучатин, отыскал хутор Лагуна. Подойдя к деревушке, он отдал свою одежду колхознице-свинарке, а в обмен взял старые залатанные штаны в белую полоску, линялую рубаху и ветхий, обтянутый серым сукнецом полушубок.
В этом полушубке свинарка четыре года досматривала свиней, и вид у одежды был соответствующий. Вдобавок рукава полушубка едва прикрывали каплуновские локти.
– Командир, что ль? – спросила свинарка у Каплуна.
– Не. Заключенный. За растрату на пять лет посадили.
– А гимнастерка?
– У одного бедолаги сменял, да промашку дал. Враз немцы шлепнут, а за что? Я человек тихий, сапожник. Меня за тихость и посадили. Мне бы своим делом заниматься, а тут, вишь, выбрали артель возглавить. Не сумел отказаться, кто-то денежки пропил, а мне – небо в крупную клеточку…
– Отсидел или так?
– Так… Немцы и выпустили…
У той же свинарки Каплун осведомился, не знает ли она здесь, в Бучатине, Лагуна?
Полагая, что такому типу нужен не Адам Лагун, известный как коммунист, а другой Лагун – пьяница и лентяй, уже продавшийся немцам, свинарка указала Каплуну на избу полицая.
Ничего не подозревавший Каплун, явившись к этому Лагуну и увидев, что перед ним светловолосый и вроде бы длинноносый человек, выложил полицаю все начистоту. Рассказал, кто он, от кого пришел и зачем.
Немцев в колхозе, на счастье, в то утро не было.
Перепуганный полицай, не успевший получить оружия, совсем очумел, услышав о каких-то партизанах, о необходимости пристроить незнакомца.
Сунувшись туда-сюда, он в отчаянии кинулся к тому самому Лагуну, какой нужен был Каплуну:
– Адам! По секрету… К тебе, наверно, пришли… Трое! Один капитан… Адам! Он обознался… Ты про меня плохо не думай… Сейчас я тебя выручу, завтра, коли красные вернутся, ты меня…
Адам Лагун был человеком твердым и решительным. Он взял полицая за грудь, встряхнул:
– Слушай, сволочь! Иди от меня к чертовой матери! Мне все равно погибать, но ты знай, паскуда, что торговаться с тобой никто не будет, понял? А на каждой нашей могиле тысячи таких, как мы, вырастут, и вам, сволочам, все равно конец придет, потому что нас много, весь народ!.. На пушку меня берешь? Крови тебе захотелось?! Ну, иди, продай! Может, тебе фрицы за мою голову барахлишка дадут. Подштанники старые выдадут, гнида!
Полицай совершенно обалдел:
– Да за что ж ты меня так? Да я ж не виноват… Не стрелял никого… Что ты, Адам? Брат! Что ты?.. Ко мне правда капитан пришел… Вот и оружие его. Я из стога взял, где он спрятал. Возьми. Я – никому… И капитана я устрою, богом клянусь!
Адам Лагун понял, что его однофамилец не врет, а просто очумел, и довел разговор до конца:
– Не суй мне пистолет. Мы таких сволочей, как ты, нашей правдой одной – и то убьем… А если к тебе верно капитан пришел – ступай, устрой его. И помни – головой ответишь, паразит, если продашь!
Полицай ушел на гнущихся ногах. Вернулся к Каплуну, спросил, за кого его выдать, запряг лошадь и потрусил к солтысу.
А Адам Лагун немедленно побежал в свинарник, куда опять ушел капитан Каплун.
Незнакомца Лагун нашел на кухне свинарника. Чернобородый человек с карими выпуклыми глазами и толстым коротким носом сидел на корточках возле печки и доставал из золы печеную картошку. Рядом с ним сидели двое таких же оборванных…
Адам Лагун узнал Каплуна по полушубку.
Полагая, что здесь все свои, Адам Лагун с порога рявкнул:
– Кто из вас капитан?!
Чернобородый, мигнув, поднялся с корточек, приблизился к Лагуну и больно наступил ему на ногу.
Это окончательно разъярило Адама Лагуна, и без того негодовавшего на неосторожного капитана, который выложил свои карты полицаю.
– Ты чего мне ноги давишь?! Боишься? Ты бы себя боялся! Открыл тайну предателю, полицейскому, моему однофамильцу, и себя, и меня погубил, а теперь на ноги наступаешь?
– Выйдем, – оглядываясь, сказал Каплун. – Выйдем.
Он был потрясен – это бросалось в глаза, но все же теснил Адама Лагуна к двери.
На улице Каплун быстро сказал:
– Я промахнулся, прости!.. Но и эти двое, в кухне, не мои. Я не знаю этих людей. Потому и предупреждал – молчи.
– Но… Полицай сказал – вас трое.
– Своих я отправил в соседние деревни. Это – чужие.
– Ах черт!
– Что делать, товарищ Лагун? Видимо, обоим уходить надо отсюда… Жалко только твою семью…
– А свою что не жалеешь?
– Моя семья пропала без вести. Теперь жалей – не жалей…
Лагун подумал, оглянулся. Никого.
– Если полицай не продал – время еще есть. Давай этих двух, на кухне, проверим…
Лагун и Каплун вернулись на кухню. Двое оборванных оказались красноармейцами, пробиравшимися в дальние деревни. Хотели там пересидеть зиму.
Лагун почувствовал, что люди это растерянные, робкие. Он посоветовал им уходить как можно быстрее, припугнув солтысом.
Оба бывших красноармейца тут же схватились и побежали кустами к лесу.
– А мы? – спросил Каплун. – Что же мы?
– Подождем. Немцы вон той дорогой приедут, если полицай предал. Увидим. Тогда – в ту сторону, на кладбище, и в лес. А если полицай не предал, устроит тебя, как обещал, встретимся вечером у меня на квартире…
Полицай не предал. Сдержал слово. Вернувшись к раннему обеду от солтыса, он объявил:
– Все устроено. Документ на вас в сельуправе получим. Сказал, как вы велели: заключенный, сапожник… Завтра поедете со мной. На квартиру поставлю к Семашихе. Не сомневайтесь. Женщина верная, наша.
– Это чья – «наша»?
– Так я больше не шуцман! – заторопился полицай. – И повязку сдал солтысу. Сказал, что недужен. Не могу. Я свой! Так и Лагуну передайте. И скажите, что я вину свою понимаю и по гроб жизни верен буду!
Свечерело. Лагун и Каплун встретились. Лагун рассказал, что он и бывший инспектор райбюджета Красно-Слободского района Василий Полтавеевич Казяк остались в селе по заданию партизан, что у них есть три украденных из немецкой комендатуры радиоприемника, две винтовки и одна десятизарядка СВТ.
– Будем воевать! – решили оба.
На другой день Каплун был представлен солтысу как бывший заключенный и сапожник и получил удостоверение, дающее ему право проживать на территории Бучатинского сельсовета.
Капитан устроился на новой квартире, оборудовал себе уголок для работы. Сапожник он действительно был замечательный и не сомневался, что заработает на хлеб и обведет немцев и полицаев вокруг пальца.
И уже вечером того же дня Каплун, Лагун и Казяк встретились, чтобы окончательно договориться о конспирации, о том, как противодействовать немецкой пропаганде, о подборе людей в отряд, который решили создать, о сборе оружия и прочих важнейших вещах.
Так началась их подпольная деятельность.
Василий Захарович Корж рассказывал замечательно, с юмором, не покидающим настоящего человека даже в трудные дни, с убедительными подробностями, а порой – с горечью и страстью.
Я узнал о том, как «сапожник» Степан Каплун, Адам Лагун и Василий Казяк начали собирать будущих партизан, приглядываясь в первую очередь к бывшим военнослужащим, а также к советским активистам.
Казалось бы, им проще всего было притаиться, не привлекать к себе внимания, не рисковать. Тем более, что партизанский отряд, державший связь с Лагуном, распался, и никто не уполномочивал бывшего бухгалтера, бывшего инспектора и бывшего командира батальона создавать подпольный комитет для борьбы с оккупантами.
Но в том и сила советского строя, в том и сила идей коммунизма, что люди, подобные Лагуну, Каплуну и Казяку, даже не представляли себе, как можно жить, не борясь, не отстаивая до последней капли крови свои идеалы.
Правда, у них не было опыта конспиративной работы, опыта партизанской деятельности, но они не стали сидеть сложа руки и ждать, что кто-то сделает за них то, что требовалось делать по обстановке.
Мало-помалу небольшая группа подпольщиков обросла активом. В соседних селах были созданы по указанию подпольщиков новые группы. В них входили бывшие красноармейцы и командиры, оказавшиеся в окружении, колхозники, сельская интеллигенция.
Регулярно слушая сводки Совинформбюро, подпольщики записывали их, перепечатывали на машинке и распространяли среди населения.
Так был распространен текст речи И. В. Сталина на параде Красной Армии 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве.
Собиралось оружие, запасалась взрывчатка.
Листовки со сводками Совинформбюро расходились по всей округе. Да что по округе! Иные достигали, переходя из рук в руки, Буга, Картузы, Гродно, Бреста.
При этом люди, передававшие листовки, дополняли текст информбюро рассказами о партизанах, обосновавшихся под деревней Бучатин.
Как водится в таких случаях, слухи росли, подобно снежному кому. Начали поговаривать, что появился в Красно-Слободском районе некий капитан, посланный ЦК партии для развертывания партизанской армии и нанесения фрицам удара с тыла. У этого капитана-де постоянная связь с Москвой, своя типография и крепкий, хорошо вооруженный народ.
И потянулись в Красно-Слободской район люди, жаждавшие обрести связь с Большой землей, влиться в будущую армию, громить врага.
Однажды появился и посланец брестского подполья. Рассказывал, что в Бресте есть товарищи, готовые сражаться, что они только и ждут, чтобы кто-нибудь принял командование ими, чтобы подсказал, с чего начинать.
Товарища снабдили последними сводками информбюро, листовками с текстом речи И. В. Сталина на параде Красной Армии 7 ноября 1941 года, посоветовали вести пропаганду, подбирать новых людей и быть готовыми к выходу в лес.
Видимо, что-то пронюхали и немцы. Они сделали попытку организовать в селе Бучатин полицейский участок – постарунок по-белорусски.
Ничего у немцев не вышло. Молодежь, распропагандированная подпольщиками, наотрез отказывалась носить оружие, служить в полиции. Вместо двадцати трех человек, как хотели фашисты, в постарунок пошли только четверо – все бывшие уголовники.
Пропаганда велась, несмотря на отсутствие у подпольщиков опыта, столь тонко, что немцы и полицаи не заподозрили ни Лагуна, ни Каплуна.
Больше того, считая Степана-сапожника своим человеком, полицаи и солтыс, захаживая к нему, предупреждали:
– Смотри! К тебе тут всякие ходят… Вон, Гончарук, тот же… Ты с ним поосторожней. Это большевик. Говорят, у него радио есть. Может, это он против нового порядка и агитирует. Ты приглядись-ка к нему, а?
– Пригляжусь, – обещал Каплун, стуча молотком по подметке.
И все же неопытность подпольщиков дала о себе знать.
В январе, на рождество, в Бучатине справляли «престол». Крестьяне пили не с радости – с горя, перегоняя на самогон последний пуд хлеба: «Все едино, при «новом порядке» нам не жить!»
Лагуна и Каплуна пригласили в один из домов. Отказаться было неудобно. Пошли. И там, за столом, когда принялись мужики жаловаться на судьбу, клясть немцев, Каплун не выдержал, произнес речь.
– Здесь, вижу, люди свои… Советские… Ты – бригадир, ты – депутат сельсовета, ты – бухгалтер… И я вам скажу – недолго фрицам пановать! Скоро им капут!.. Не верите? Это я вам говорю! Я!.. Вы думаете, я – кто? Сапожник?..
Лагун так двинул товарища в бок, что тот поперхнулся словом.
– Говори, говори, Степан! Мы же чуем, что ты не простой человек! Говори!
Но Каплун, опомнившись, махнул рукой:
– А я – не тот сапожник, что вы думаете! Я фасонный мастер! Вот! А пропадаю попусту…
Как будто вывернулся. Но вывернулся слишком неловко.
Вдобавок слышала ту каплуновскую речь одна бабенка из говорливых и, прибавив вдесятеро, как и положено, пошла нашептывать кумушкам, что Семашихин сапожник – и не сапожник вовсе, а «якись-то великий чин».
– Я чула, – тараща глаза, тараторила сплетница, – он рассказав Ивану Дзяковому, что он начальник дивизии. Говорил: большевики скоро вернутся, и треба бить немцив и полицию… Шо вы, мои дороженькии! То велики начальник!
Конечно, сплетница всем наказывала молчать, но именно поэтому новый слух распространился с еще большей скоростью, чем слух о капитане с типографией.
И дошел до гестапо.
Случилось это в конце марта. Но, полагая, видимо, что они напали на крупную дичь, и рассчитывая одним ударом уничтожить всю сеть подполья, гестаповцы не арестовали никого из подозреваемых, только поручили полицаям следить за ними.
А чтобы ни один из бывших военнослужащих не исчез незамеченным, приказано было всем примакам дважды в неделю являться к солтысу на отметку, а наиболее подозрительным отмечаться ежедневно.
Подпольщики насторожились.
Это их и спасло.
В конце марта 1942 года морозы уменьшились, начал таять снег. Прошел слух, что в пинских болотах передвигаются крупные вооруженные силы Красной Армии. Будто бы движется целое соединение с пушками, с автоматическим оружием – и один обоз, у него четыреста подвод!
На самом деле, как стало потом известно подпольщикам, из Полесской области в Пинскую, поджимаемый карателями, проскочил отряд товарища Комарова из сорока двух человек.
Но так хотелось народу, чтобы этот крохотный отряд был армией, что молва и превратила его в армию!
Это всполошило фашистов. Немецкое командование после маневра Комарова поставило в лесистых районах гарнизоны из войск СС. В Красно-Слободском районе также появился эсэсовский гарнизон из шестидесяти карателей. На одном месте они не сидели, через два-три дня переезжали на новое и два раза в неделю патрулировали лесные дороги.
Полицейские и эсэсовцы стали рыскать по деревням, хватать бывших активных советских работников и служащих, бывших военнослужащих. Некоторых расстреливали на месте для устрашения жителей. Среди арестованных оказались и члены подполья.
В Бучатине каратели бывали каждый день. Они дали распоряжение солтысу переоборудовать школу под казарму на триста человек.
Каплун и Лагун, собрав группу, приказали быть готовыми к выходу в лес.
Всем товарищам было роздано личное оружие, чтобы они имели возможность, в случае чего, оказать сопротивление и живыми в плен не сдаваться.
Выход в лес отложили до момента, когда будет приведен в исполнение приговор гнусным предателям – четырем бучатинским полицаям, принимавшим участие в кровавых расправах над захваченными.
Но события неожиданно приняли крутой оборот.
8 апреля на дороге в Бучатин, идущей из деревни Смоличи, появились вооруженные люди.
Наткнулся на них Лагун, возвращавшийся из колхоза имени Ворошилова, где проводил беседу с подпольщиками из трех деревень.
Одетые в потрепанное летнее обмундирование, в разбитых кирзовых сапогах, обросшие и немытые, пришельцы производили довольно убогое впечатление, но держались смело и разговаривали напористо.
Увидев на Лагуне добротные сапоги, старший обложил его многоэтажной руганью:
– Такие вы рассякие! Отсиживаетесь тут в тылу, морды наедаете, а мы за вас воюй?! Скидай сапоги, паразит! Видишь, в чем у меня бойцы ходят? А они всю зиму в немецком тылу провоевали! Что смотришь? Не знаешь, что ли, что в тылу у гитлеровцев второй фронт открылся? Ну так знай! Мы из-под Буга наступаем. Я командир разведки шестнадцатой десантной дивизии, и у меня только двести сорок человек, а остальные вот сейчас подтянутся… Кто у вас председатель колхоза? Скажи ему, чтоб готовил хороших коней. Нам артиллерию тащить нужно, а наши кони пристали. Мы их вам оставим, а свежих заберем!
Лагун, обрадованный, хоть и не совсем поверил такому поразительному откровению, сказал:
– Товарищ командир! Раз вас тут дивизия, мы с вами! У нас, правда, маловато людей, всего около сотни, но все с оружием, и места знаем… Мы думали пятнадцатого числа в лес уходить, но коли уж встретились – часть людей я вам передам, а остальных завтра же соберу, и двинем в орликовские леса!
– Партизаны? – обрадовался командир «дивизионной разведки». – Ах, ешь тя в корень! Что ж ты сразу не сказал, друг?
Вместе с Лагуном «разведчики» явились в деревню, где уже выбегал на улицу народ.
Командир «разведчиков» взошел на первое попавшееся крыльцо и опять произнес речь о «шестнадцатой десантной дивизии», о предателях, которые отсиживаются по хатам, когда надо воевать, и о втором фронте за Бугом.
Женщины плакали.
В ту пору подошли девять подвод с лесом, который крестьяне доставляли по распоряжению районных властей на постройку моста через реку Случь.
«Дивизионные разведчики» уселись на подводы и в сопровождении трех подпольщиков, выделенных Лагуном и хорошо вооруженных, решили захватить Бучатин и уничтожить полицейский постарунок.
Толпа провожала их до мостика через речушку Волка. Здесь командир «разведчиков», отведя Лагуна в сторону, признался:
– Слушай, все, что я говорил, – брехня… Никакой десантной дивизии я не видел. Даже не слышал про нее. Со мной всего пять человек. Мы тоже по деревням зимовали, а как немцы подпирать начали, сорвались и надумали двинуть на восток, поближе к фронту.
– Эх ты! – упрекнул Лагун. – Взбудоражил народ… Сам-то ты хоть кто?
– Я, брат, пограничник бывший. Кадровую на Дальнем Востоке служил, а в тридцать девятом как взяли на трехмесячный сбор, так и закаруселило… Из Тулы я. На гражданке председателем колхоза был. А война застигла на Буге, там и застрял. Думка есть – перейти линию фронта. Если не всем, то хоть кому-нибудь из пятерых. Надо нашему командованию сказать, что здесь и в самом деле целую дивизию держать можно.
– А теперь уйдешь, значит?
– Уйду, брат. Только ты ни гу-гу! Пусть фрицы побегают, поищут нашу десантную из пяти человек!.. А полицаев ваших в Бучатине я подберу, не бойся!
Пограничник со своими товарищами тронулся дальше, а Лагун бросился собирать своих.
Вскоре он узнал, что кто-то опередил «дивизионную разведку», добежал до Бучатина и разнес весть о приближающейся десантной дивизии с пушками.
Поэтому, добравшись до Бучатина, «разведчики» захватили только одного полицая, не проспавшегося после пьянки. Остальные, даже не захватив оружия, кинулись в постарунок М. Семежково.
«Десантников» же встречала огромная, человек в шестьсот, толпа ликующих крестьян.
Расхрабрившийся пограничник, имея в распоряжении уже не пятерых бойцов, а целых восемь (троих дал в подмогу Лагун), выставил на концах деревни караул и снова произнес речь.
На этот раз десантная дивизия пополнилась гаубицами и танками.
И опять плакали женщины, опять забегали они, готовясь встречать своих.
Ведь у многих сыновья и мужья были в армии, от них не было вестей, и – как знать? – они тоже могли оказаться в десантной дивизии!
Да хоть бы и не оказались! Все равно шли свои, родные, кровные, советские!
Завершив выступление, пограничник подал команду снять несуществующие пулеметные засады, а один из его орлов, подойдя со стороны, лихо отрапортовал:
– Товарищ майор! Батарея установлена на высоте ноль восемьдесят пять! Вам приказано прибыть в штаб дивизии в село Выгода.
– Ясно, – сказал новоявленный майор и, попрощавшись с крестьянами, уселся на повозку.
Его провожали за околицу, махали вслед, плакали, кричали, чтобы скорее возвращалась вся дивизия…
Между тем полицаи добежали до М. Семежково, а оттуда добрались и до райцентра Красная Слобода.
Видимо, они наплели коменданту с три короба, потому что этот вояка не рискнул выступить в Бучатин. Приказав шестидесяти карателям и семидесяти четырем полицейским занять круговую оборону, он телеграфировал своему начальству о появлении в районе крупной банды с орудиями.
Поднялся переполох. Немецкое командование срочно перебросило в Красную Слободу итальянскую дивизию, ожидавшую погрузки на станции Слуцк.
Но пограничника и след простыл, исчезло и бучатинское подполье. Только Лагун, как местный житель и находящийся почти вне подозрений человек, был оставлен в селе, чтобы сообщать всем прибывающим, что место сбора отряда назначено в орликовских лесах, в районе столицкого смолзавода.
На последнем совещании в селе подпольщики единодушно решили: командиром отряда избрать Степана-сапожника, то есть капитана Каплуна, а начальником штаба – Гончарука.
Оставшийся на своем месте Лагун вскоре убедился, что немцы начали энергичные поиски «десантной дивизии»: они проверяли деревни, прочесывали все ближайшие леса. Пошли массовые аресты бывшего партийно-советского актива, бежавших из лагерей пленных, евреев.
Иных расстреливали на месте, иных везли в Слуцк и расстреливали в городе, на площади, где и закапывали в заранее вырытые ямы.
Каратели заняли и Бучатин, но до хуторка Лагуна пока не добрались. Они появились на следующее утро. Лагун дома не ночевал, отсиживался в кустах. Заметив немецкого офицера и солдат, окружавших хату, он выбрался из своей засады и два дня скрывался у одного из соседей. Арестовав беременную жену Лагуна и восьмилетнего сынишку, фашисты повели их в тюрьму. Сынишке удалось спрятаться среди набежавшей детворы, а жену Лагуна увезли в Слуцк.
Узнав от соседа, что немцы не снимают засады возле хаты, Лагун не стал испытывать судьбу и той же ночью ушел в орликовские леса, в отряд Каплуна.
Отряд благополучно избежал облавы, выскользнул из кольца карателей и ушел на поиски отряда Коржа, о котором ходили слухи, что он прислан из Москвы, имеет рацию, принимает самолеты с Большой земли.
Сто восемь человек привел капитан Каплун в отряд. Привел с боями, имея на счету уничтоженных гитлеровцев, разгромленные обозы и полицейские участки…
Выслушав Василия Захаровича Коржа, я представил себе, в каких условиях начинали местные партизаны. Но мне надо было узнать еще кое-что.
– А в городах как настроен народ? – спросил я.
– Насчет городов… Знаю, к примеру, из Минска подпольщики к Козлову являлись. А от городских жителей, что в партизаны ушли, не раз слышал: в городах тоже не дают покоя оккупантам наши патриоты.
Встретились мы с Коржем и Бондаренко в двенадцать часов дня, а разошлись только в восьмом часу вечера.
Встретились почти не зная друг друга, а расстались добрыми друзьями.
Я доложил Линькову о переговорах с Василием Захаровичем Коржем и Бондаренко, не скрыв своего отношения к этим людям, к их легендарному отряду.
Линьков принял мои излияния сдержанно.
Однако в ближайшие же дни пригласил Коржа прибыть на базу для личной беседы.
Корж получил взрывчатку и некоторое количество боеприпасов.
А я, посоветовавшись с Сеней Скришшком, послал в Центр очередное сообщение:
«Шлите помощников. Краткое ознакомление работой требует обслуживать большой район действия».
Сообщение было датировано 26 августа 1942 года.
Я уже понял, что при помощи партизан мы сможем просматривать огромную территорию, и что один человек справиться с таким делом будет не в силах.
Глава 7
На хутор к Матрене Мацкевич со мной пошли Федор Никитич Якушев, Анатолий Седельников и Николай Кузьменко.
Перед этим я поговорил с Седельниковым и Кузьменко, прямо сказал, что командование отряда хочет назначить их в разведывательную группу.
Седельников встревожился. Сержанту показалось, что таким образом его отстраняют от активных диверсионных действий. Пришлось объяснить, что ему оказывают большое доверие.
И все же Седельников колебался:
– Не имею ни малейшего представления о разведке, товарищ капитан!
– Ничего. Получите представление.
– Даже не знаю, что предстоит делать!
– Объясним… Например, когда пойдем к Матрене, нужно будет вызвать ее на разговор о местных жителях, осторожно узнать, кто хотел бы бороться, а кто продался немцам.
– Да ведь об этом напрямик не спросишь!
– Правильно… Однако вас я спросил о вашем прошлом, и вы мне все рассказали.
– Спросили?.. Просто мы беседовали, вот и…
– Нет. Мы не просто беседовали. Вспомните.
Седельников смотрел озадаченно.
– Товарищ журналист! – засмеялся я. – Где же ваше понимание психологии человека?! Ведь это очень просто! Вы совершенно естественно отреагировали на мою откровенность, открыв свою душу!
Седельников смутился. Кажется, он досадовал и на меня, и на себя.
– Не сердитесь! – сказал я. – Этот прием был употреблен не во вред вам!
– Н-да… – мотнул головой мой собеседник. – Если бы знать… Вы это ловко проделали, товарищ капитан. Я даже не заподозрил подвоха.
– По отношению к вам и не было никакого подвоха. Скорее, это был урок. Вам предстоит вести такие же беседы не раз и не два. В самое ближайшее время.
– У меня так не получится.
– Получится!
Перед тем как идти на хутор, я приказал Якушеву, Седельникову и Кузьменко внимательно прислушиваться к рассказам Матрены и как можно лучше запоминать все, а особенно имена и фамилии, которые она назовет.
– Это наша основная задача! Разговор поведу я, а вы запоминайте. Ясно?
– Ясно, товарищ капитан.
…Мы шли глухим ночным лесом, неприметной, виляющей из стороны в сторону тропой. Впереди – Седельников, за ним мы с Якушевым, сзади – Кузьменко.
Шли долго. Наконец лес кончился, по плечам зашуршал невидимой листвой, царапнул невидимыми сучьями подлесок.
– Выходим, – шепнул Седельников.
Двор Матрены смутно чернел посреди большой поляны. Сквозь одну из ставен еле пробивалась ниточка света.
Убедившись, что все тихо, мы осторожно приблизились.
Седельников взошел на крыльцо, трижды стукнул в крайнее окно. Скрипнули половицы, брякнула щеколда…
Я вошел следом за Седельниковым. Входную дверь за нами закрыли. Невидимая в темноте хозяйка прошла вперед, приоткрыла дверь в избу. Запахло теплом печи, нагретым деревом, кислым тестом.
– Сюда! – шепнул Седельников.
Я натолкнулся на притолоку, шагнул в боковушку, где хозяйка вздувала лампу.
Матрене было лет под сорок. Еще молодое лицо ее, сухое, как говорят – иконописное, приветливо улыбалось над закопченным стеклом лампы.
– Милости просим! – певуче сказала Матрена. – Заходьте, заходьте!
Большие, живые глаза с любопытством оценивали мою новую, в ремнях, куртку, новые диагоналевые брюки, армейские сапоги.
– Мы за хлебом, – сказал Седельников.
– Рановато, – ответила Матрена. – Еще не пекла. Придется обождать.
– Ребятишки-то спят? – спросил я.
– Спят, – сказала Матрена. – Что им сделается?
Мы присели – кто на лавку, кто на застланную рядном постель. Матрена посмотрела тесто, вернулась.
– Курить у вас можно, хозяюшка?
– Да курите, курите!.. Гляжу, табачок-то у вас городской!
– Вспоминают о нас, хозяюшка… А вы что же, и до войны тут жили?
– И до войны жила.
– Не скучно было?
– За работой скучать некогда. Мы с мужем в колхозе состояли. Не бирюки. А что на отшибе стоим, так муж за лесом присматривал.
– Ну, это иное дело… А колхоз большой был?
– Не то чтобы очень, но и не маленький. Обыкновенный.
– Ну а что теперь с колхозом стало? Как люди живут?
– Какая уж тут жизнь! Хорошо еще, немец гарнизона в Милевичах не держит. Да и то…
– Что «да и то»?
– Да так… Фашист фашистом, а и среди своих гады находятся. Доказывают на тех, кто Советскую власть строил, выслуживаются, иуды… Вон как Герман да Кацюбинский!
– Какие это Герман и Кацюбинский?
– Эва! Ими бабы детишек пужают, а вы не знаете? Начальник полиции в Житковичах и его заместитель. Из Залютичей он родом-то, а его заместитель будто бы в прошлом лейтенант. Как немцы пришли, Герман себя и выказал. Всех ведь в округе знает!
– Герман… Не русское имя.
– А он и есть немец. Может, оттого его Гитлер и поставил начальником. Форму полицая нацепил, вместе с помощником своим Кацюбинским пьянствуют, грозят людям… Если, говорят, не будете о партизанах доносить – на столбах повесим. Столбов у нас много, говорят!
– Так… И что же? Боятся Германа?
– Как не бояться? Свои далеко, а он, поди, под боком сидит!
– Понятно… Но вы-то не из пугливых оказались.
Матрена махнула рукой:
– Какая уж героиня! Вижу – голодуете, ну и пеку вот…
Она ушла к печи, долго возилась там, сажала хлебы. Потом вернулась, разрумяненная, пропахшая дымком:
– Скоро управлюсь…
– Доставляем мы вам хлопоты… Значит, больно худо народ в деревнях живет нынче?
– Смотря где. Там, где немец стоит, – худо. А где нету фашиста – ничего. Хлеб-то припрятали, да и скотинку прирежут, не отдадут полицаям.
– Выходит, сами себе хозяева?
– Почему – сами себе? Так жизнь сложилась, а народ о своей власти помнит… Ждет народ. Ну а кто и в партизаны подался. К вам, значит.
– Однако не все подались, а?
– Не все, – согласилась Матрена. – Иному мужику не под силу уже по лесам и болотам бродить. Да и опасаются за семью. Уйдешь к партизанам, семью и прикончат… Разве не бывало? Бывало! А еще – смущаются…
– Как так – смущаются?
– Да ведь поди разбери, кто нынче партизан, а кто от Гитлера подослан на проверку… На лбу-то у людей не написано, чьи они, верно?
– Верно.
– То-то и оно! Да и не попадешь к вам, слыхать. Сторожитесь вы людей-то.
– Обижаете! Нам тоже не расчет первому встречному доверяться.
– Это я понимаю. Как не понять? Да все ж и честные люди есть.
– Это где же? Уж не в Милевичах ли?
– А хоть бы и в Милевичах! Хоть Пришкеля взять. Или вон Пашку Кирбая из рыбхоза… Не партизаны, а честные.
– Что ж? Может быть… Не подгорит хлеб-то, хозяюшка?
– Не бойся, милый, не подгорит… До войны-то Пришкель в активистах ходил, да и Пашка – серьезный, самостоятельный… Бывало, кто из пограничников приедет – непременно у Кирбаев побывает. Уважали ихнюю семью. Да и то сказать – работящие все, душевные.
– Вот ты говоришь, хозяюшка, работящие, душевные… А нынче-то Пашка где? Небось на немцев работает?
– Куда ж ему податься, милый человек? Как был при рыбхозе на Белом, так и остался. А немцы нагрянули, ну, значит, рыбы требуют… Своих людей там поставили. Не больно-то им противиться будешь, коли жить не надоело.
– Да, трудное время…
– И не бывало трудней, – с сердцем сказала Матрена.
Вскоре хлеб испекся. Мы нагрузили свой мешок, поблагодарили хозяйку, условились, что придем через день, и покинули одинокий хутор.
Возле леса остановились отдохнуть.
– Запомнили фамилии? – спросил я спутников.
– Пришкель из Восточных Милевичей, Павел Кирбай из рыбхоза. Ну и эта сволочь, Герман с Кацюбинским.
– Вот видите, ниточка наша удлинилась и раздвоилась. Начало положено. Теперь станем разыскивать Пришкеля и Павла. Если это настоящие патриоты – нить поведет дальше… Судя по рассказам Матрены, Пришкель и Павел Кирбай были связаны с пограничниками. А пограничники на плохих людей не надеялись!
Глава 8
Вечерело. Со стороны озера Белого, из низины острей запахло сыростью. Солнце садилось в тучу, и воздух на лесной дороге скучно сырел, а в чащобе, в зарослях малинника и крапивы, уже густели сумерки.
– Идет, – тихо сказал Кузьменко.
Мы встали с пеньков, где сидели добрый час, ожидая Павла Кирбая, и вышли на дорогу.
Он и впрямь был недалеко; шагал, чуть сутулясь, опустив голову, изредка вскидывая глаза. Увидел нас, нахмурился, но шага не замедлил.
Мы встречались тут, на дороге из рыбхоза в Залютичи, не первый раз. Неделю назад я, Седельников и Кузьменко вот так же «ненароком» столкнулись с Павлом, поздоровались, попросили спичек. Он дал нам спички, ни о чем не спрашивая.
– Кури, – предложил я и протянул для закрутки добрую половину «Правды».
Не составило никакого труда заметить, что Павел тотчас посмотрел, какое число стоит на газетном листе. Однако парень не выдал волнения. Оторвал клочок бумаги, закурил.
– Как живешь, Паша? – спросил я.
Глаза у Кирбая темные, внимательные.
– Понемножку… А я вас вроде не знаю.
– Это неважно, Паша… Как табачок?
Павел сдержанно ответил:
– Табачок ничего. Главное – бумага хороша…
– Если нравится – еще принесем.
– Неплохо бы… У вас что же, много такой?
– Имеется.
– Богато живете…
– Какой там! Думаем вскорости еще богаче жить!.. Вот, может, у тебя рыбкой разживемся.
Павел чуть приметно усмехнулся:
– Рыбы – можно… Немцев не будет – принесу.
– Следят?
– Следить не следят, а увидят, что таскаешь, – попадет.
– А ты скажи – для своих.
– Ясно, не для чужих…
– Ну спасибо, Паша. Счастливо тебе!
– Бывайте…
В следующую встречу я сдержал слово – принес Павлу экземпляр газеты «Известия»:
– Ты бумаги просил. Вот, держи.
Кирбай взял газету, прочитал заголовок, посмотрел в лицо каждому из нас:
– Спасибо… товарищи.
– Не за что, Паша. А что, рыбки-то не взял?
– Да кто ж знал, что вы нынче придете?
– А если б знал – прихватил бы?
– Еще бы!
– Значит, немцев нынче не было.
– Не было…
Павел помедлил, еще раз взглянул на газету, на нас и решился:
– Они ведь наездом на озере бывают. Прикатят из Житковичей, заберут рыбу – и обратно. А так – тихо у нас.
– И много их приезжает?
– Да когда как… То впятером, а то и вдесятером прикатят.
– Из Житковичей?
– Ага. Гарнизон же там…
– Да это мы знаем, что гарнизон…
Поговорили о том о сем и опять разошлись, не уславливаясь ни о какой встрече. Но беседа с Кирбаем подсказывала – хороший человек, свой, советский.
Нынешнее свидание должно было решить многое.
Я поднял руку:
– Здравствуй, Павел!
Кирбай улыбался:
– Здравствуйте! А я уж который день рыбу таскаю, все думаю – увижу вас.
– Вот спасибо так спасибо! Смотри-ка, свежая!
– Чего ж я вам плохую понесу? Озеро-то свое небось.
– Свое-то свое, да немцы на нем хозяйничают.
– Э! – сказал Павел. – Еще неведомо, кто тут настоящий-то хозяин.
Мы посмеялись.
– Слушай, Павел, а ты знаешь, кто мы? – спросил я.
– Чего ж тут знать? Вижу… Партизаны.
– Ну, коли узнал, так таиться нечего… А как узнал?
– Да как? Небось у полицаев московских газет не бывает.
– Молодец, Паша… А у нас разговор к тебе.
– Что ж? Давайте поговорим.
– Садись… Не тошно тебе немцам прислуживать, а?
– Зря такой вопрос задаете. Я не прислуживаю!
– Не обижайся… Как так вышло, что ты не в армии?
– Да вот вышло… Ждали мобилизации, а повесток нет. Пошел в Житковичи – говорят, сиди, вызовем, когда понадобится. Я и сидел… А тут фашисты. И выходит, досиделись…
– Да-а-а… Ну а в партизаны почему не пошел?
– А куда идти? Вот, слышно стало, появились вы, а где вы есть, да как еще посмотрите, как примете – неведомо… Опять же, фашисты и полицаи народ на пушку брали. Прикинутся партизанами, человек им поверил, и – нет его.
– Ты, может, и нас поначалу за полицаев принял?
Павел покрутил головой, признался:
– Было дело… Но как газету прочитал, понял – свои.
Он открыто, легко улыбнулся.
– Вы и не поймете, что это такое – своя газета! Я ее от строчки до строчки… И сейчас спрятанная лежит. Достану, прочту, и такое на душе, будто армия уже вернулась! Верно!
– Товарищ командир! – сказал Кузьменко. – Может, ему последнюю сводку рассказать?
– Расскажи.
Кирбай выслушал последнюю сводку информбюро, улыбаясь, как ребенок, получивший ко дню рождения желанный подарок.
– Никогда фрицевой брехне не верил! – воскликнул он. – Честное слово! Не верил, что Москву они взяли, не верил, что Ленинград захватили! И – вот… Вот!
Когда Кирбай немного успокоился, я предложил:
– Послушай, Паша, давай регулярно встречаться. Будешь нам про немцев рассказывать, что знаешь.
– Да что ж? Могу… Только что я знаю-то?
– Ну что знаешь и что узнаешь… Договорились?
– Договорились… Может, вам сейчас что надо? Вы спрашивайте, если знаю – расскажу…
– Ну, к примеру… Как вооружены немцы, которые на озеро приезжают?
– Вооружены?.. Да с автоматами, как обычно. Ну иногда у старшего пистолет.
– Молодые они или старые?
– Не, не старые… Какие средних лет, а какие совсем молодые.
– И всегда из Житковичей?
– Непременно.
– Одни и те же?
– Этого не скажу… Честно признаться, не приглядывался. К дерьму приглядываться…
– А ты приглядись в следующий раз, хорошо?
– Коли требуется – пригляжусь.
– Ну и чудесно.
Нам оставалось договориться о месте встреч.
– Может быть, тут же, на дороге.
Павел помялся:
– Можно и на дороге… Однако могут наши, залютичские, заметить…
– Разве плохой народ?
– Кто говорит – плохой? Но вам и самим вроде лишние глаза не нужны.
– Верно. А все-таки давай в следующий раз встретимся тут, потом придумаем, как быть дальше.
– Хорошо.
Простились.
– Парень вроде серьезный, – сказал Якушев.
– Да, серьезный… Теперь нужно будет проинструктировать Кирбая, как собирать сведения и какие, как готовиться к беседам. И договориться о «почтовых ящиках «. Чтобы он записки оставлял в надежных, только нам известных тайниках, не встречаясь со связными. Ведь Кирбай прав: лишние глаза не нужны…
Русый, круглолицый, крепко сбитый крестьянин сидел на лавке в красном углу избы. Увидел нас и весело блеснул голубыми глазами.
Поднялся навстречу, протянул задубелую ладонь:
– С прибытием… Илья.
– Здравствуйте.
– Передали мне, познакомиться желаете.
– Да, хотели бы познакомиться.
– Взаимно. Сам вас увидеть давно хотел. Случая не выпадало.
Мы уже кое-что знали об Илье Васильевиче Пришкеле. Знали, что живет он в Восточных Милевичах своим двором, ведет хозяйство, женат, имеет детей. Знали, держится Илья независимо, на поклон к немцам не ходит и «новый порядок» не уважает. Матрена слышала, как говорил Илья одному из соседей, горевавшему о своем житье-бытье:
– Рано, брат, в портки наклал! «Россия погибла»! Эва, хватил! Когда это было, чтоб Россия погибала? Никогда не было! И не будет! Потому, хоть и широко немец размахнулся, да силенок не расчел. И в аккурат промеж глаз получит. Потому – здесь не Франция, милый, и не какая-нибудь Дания. На фук наших не возьмешь! И опять же – народная власть. Это понимать надо! Люди за нее зубами грызться станут! Но, как известно, в текущий момент взамен зубов имеются танки и самолеты. И, промежду прочим, я не верующий, чтобы немец всю нашу силу изничтожил. Врет! Вот погоди, через годок Гитлер отсюда как наскипидаренный нарезать будет. Если, конечно, его на месте, гада, не прихлопнут, как муху!
Надо думать, Пришкелю не терпелось увидеть партизан, о которых уже ходили слухи. Теперь он и радовался в открытую.
Илья Васильевич ничем не походил на Павла Кирбая. Тот молчалив, сдержан, этот – словоохотлив, душа нараспашку. Из того слова приходилось вначале клещами вытягивать, этот словно угадывает вопрос – ответ готов тут же.
– Немцы-то? Ха! Они, паразиты, знают, что партизаны от Милевичей близко, и носа к нам не суют. Если и наскочут, так враз смываются… Герои! По бабьим крынкам шукать они герои! А наши мужики – народ верный. Точно говорю. Ну, конечно, остерегаются. Без осторожности-то одни петухи живут, потому и в ощип попадают. А народ – верный. Я – как понимаю? Если сейчас нашему мужику оружие дать и на бой его поднять – он пойдет. Все пойдут. Чего там! Мальчонки – и те, глядишь, гранаты прячут. Это – зачем? Думаешь, рыбу глушить? Не-е-е! Это они, значит, замышляют, как фрица шарарахнуть. А как же? Пионеры!
– Ну, а в Житковичах ваши мужики бывают?
– Как не бывать! Бывают, мил человек. Продать чего или соли купить… С солью-то плохо. Нету ее. А в Житковичах на базаре имеется. Ну и ездиют. И, конечно, глядят.
– На что глядят?
– А на все глядят, мил человек. И где живут фрицы, значит, и сколько их там понапихано, и куда полицаи собираются с Германом…
– Зачем же вашим мужикам знать все это?
Пришкель хитро улыбнулся:
– Любопытный народ, понимаешь. А вдруг да пригодится! Мужик-то, он, мил человек, тем и жив, что все примечает… К примеру, лежит на тропочке гвоздок. Другой пройдет и не глянет, а мужик приметит, спины не пожалеет – нагнется и тот гвоздок подберет. Потому – хозяин. А хозяину все сгодиться может.
– Казарма – не гвоздик.
– Тем более, мил человек!
Мы смеялись. Смеялся и Илья Васильевич.
– Ты, дядя, по душе партизан, – сказал Седельников. – Отчего же не с ними?
– Эва! – сказал Пришкель. – А с чем, к примеру, мне партизанить? С ухватом жинкиным? Не-е… С ухватом много не навоюешь. А оружия нам взять, мил человек, негде было. Не запасли, понимаешь, до войны. Конечно, кабы знать, какая стратегия образуется, тогда – да…
– А ты, дядя, остер на язык.
– Зол я, вот и остер!.. Думаешь, легко это – в избе возле печки сидеть, когда гад половину России отхватил? Видать, ты не пробовал этого, товарищ! А я спробовал. И мочи больше нету. И коли уж вы пришли, – вот мой сказ: берите меня к себе. С жинкой и ребятишками. Места я здешние наскрозь знаю и людей знаю вокруг. Пригожусь. А двор… Пропади он пропадом – двор! Под чужой пятой все едино и на том дворе не жизнь!
Все, что я знал о Пришкеле, и все, что сейчас видел и слышал, говорило: Илья Васильевич как раз тот человек, какой нам нужен, а вернее – просто необходим.
Никаких сомнений у меня не было. Наоборот, Пришкель сразу подкупал, располагал к себе. И уже одно то, что он хотел идти к партизанам со всей семьей, убеждало – правдив человек и действительно себя не пожалеет.
Однако бойцы в отряде Линькова имелись, а вот нужных людей в окрестных деревнях и селах было маловато…
– Ну а если бы мы не взяли вас в отряд?..
Илья Васильевич растерянно заморгал.
– Это – как же? – пробормотал он. – Не достоин, значит?
Я тронул его за плечо:
– Достойны. Верю, что достойны!
– В чем тогда дело?
– Вот это – особый разговор… Нам, понимаете, очень нужны преданные люди, которые могут давать сведения о гитлеровцах, информировать о войсках противника, об их переброске, о замыслах немецких комендатур. Если, к примеру, вы уйдете в отряд – придется покинуть деревню. Так? А зачем ее покидать? Понимаете?
– Так, так, – живо откликнулся Илья Васильевич. – Догадываюсь…
– Вы, на мой взгляд, можете свободно ездить по населенным пунктам, в которых размещаются немцы, якобы по делам или там в гости. Слушать, что говорят. Приглядываться к людям…
– Так, так… Понимаю!
– А мы будем держать с вами постоянную связь. Заходить к вам или вызывать в лес, беседовать.
– Понимаю, понимаю… Разведывать, значит.
– Да. Разведывать. Но помните – никто не должен знать о ваших делах.
– Это само собой.
Пришкель снова повеселел.
– А как насчет оружия? – спросил он. – Оружие-то дадите? На всякий случай?
– Надо будет – дадим. Не это сейчас главное. Людей надо искать. Настоящих. Наших. И выведывать, что немцы предпринимать думают.
– Понимаю. Говорите, что надо, все сделаю! А ко мне в любой день милости прошу! Потому – немца в деревне нету, а мы народ не пугливый. Заходьте!
– Зайдем. Значит, договорились?
– А договорились же! Все сполню! И – не подведу. Не такой человек, если доверено…
Он был взволнован и тронут.
Я снова предупредил Пришкеля, что говорить о наших связях никому не следует, и просил в ближайшее время сообщить, кому, на его взгляд, можно довериться.
– Я и сейчас назвать мужиков могу…
– Как следует подумайте, Илья Васильевич! Нам и в городах люди нужны. В Микашевичах, например. И в первую очередь такие люди нужны, что возле немцев находятся. Знаете, как бывает? Человек свой, советский, а оказался вынужденным на работу устроиться. И немцы, возможно, ему уже доверяют…
– Ага! – сказал Пришкель. – Задание ясное. Все, товарищ начальник. Сыщу. Есть и такие! Не сумлевайтесь.
Глава 9
Кузьменко принес записку Павла Кирбая, оставленную в «почтовом ящике».
Кирбай просил увидеться с нами.
При встрече он сказал, что к одной из его сестер, Алиме, подходил приезжавший в рыбхоз бывший инженер Иосиф Гарбуз, житель Житковичей. Гарбуз появился в рыбхозе будто бы затем, чтобы найти материалы и части для восстановления житковичской мельницы. Однако, разговаривая с Алимой, Гарбуз интересовался, не слыхала ли она о партизанах-десантниках, обосновавшихся вроде бы недалеко от Милевичей, в Юркевичском районе.
Алима отвечала уклончиво. Ей показалось, что Гарбуз огорчен недомолвками и недоверием.
– Да на что вам эти десантники? – спросила Алима. – Дело, что ли, к ним какое заимели?
Гарбуз, давно знавший Алиму, помедлил, колеблясь, а потом решился:
– Да, дело.
– Ну, коли дело… Если услышу о них – скажу…
Передавая эти сведения, Павел Кирбай добавил:
– По-моему, неспроста Гарбуз тут появился, товарищ командир.
– Что значит – неспроста? Подозреваешь провокацию?
Кирбай почесал бровь:
– Знавал я Гарбуза раньше… Наш, советский инженер. Молодой. Сейчас, правда, он лесопилку для немцев вроде бы восстанавливает. Только вот работу здорово подзатянул… Может, Гарбуз в партизаны хочет?
– Вот как? А если он провокатор?
– Не знаю. Не похож на такого… Впрочем, вам видней.
Я задумался.
Не исключалось, что немцы, зная о существовании в Юркевичском районе партизан, подослали Гарбуза вынюхать что-либо.
Но не исключалось также, что Гарбуз как раз из тех честных советских людей, что из-за стечения обстоятельств остались в тылу наступавших немецких армий и теперь искали возможности связаться с партизанами.
В последнем случае Гарбуз оказался бы незаменимым сотрудником! Он легально проживал в Житковичах, общался с гитлеровцами и, конечно, мог добывать ценнейшие сведения.
– Вот что, – сказал я Павлу Кирбаю. – Появится Гарбуз еще раз – предложи ему встретиться с партизанами. Скажем, на нашей дороге от рыбхоза. Где с тобой виделись. Мы пришлем своих людей, они поговорят с инженером.
– Ясно, – ответил Кирбай. – Как только он явится, сразу дам знать.
Инженер Иосиф Гарбуз появился через несколько дней. Получив весточку от Павла, на свидание с инженером немедленно пошел Седельников.
Вернулся Анатолий возбужденный.
– Товарищ капитан! – весело доложил он. – Мы на замечательных людей натолкнулись!
– Так уж и на замечательных?
– А как же, товарищ капитан?! Сами посудите! В Житковичах кроме Гарбуза есть еще три товарища, которые желают помогать партизанам, да не знают, как и что делать.
В Житковичах, по словам Иосифа Гарбуза, находились подпольщики: бывший лесничий юркевичского лесничества инженер Горев, один из работников механизированного лесопункта близ Юркевичей Степан Татур и бывший лейтенант инженерных войск Николай Корж.
Николай Корж, услышав о партизанах-десантниках, сообщил об этом Гореву. Товарищи поручили Иосифу Гарбузу связаться с партизанами. Для этого он и прибыл в район озера Белого.
Гарбуз рассказал Седельникову, что до сих пор в Житковичах никто никаких активных действий не предпринимал, но имеются интересные сведения. По его словам, житковичский гарнизон фашистов насчитывал до ста пятидесяти солдат и офицеров. Отряд полевой жандармерии немцев, которым командовал гауптман Дринкель, состоял из трех десятков жандармов и отряда полицаев, возглавляемого Германом и Кацюбинским.
В гарнизоне имелось несколько легких полевых орудий, около двадцати пулеметов немецкого образца и соответственное числу солдат количество автоматического оружия.
Полицаи были вооружены русскими винтовками и двумя пулеметами системы «Максим».
Это были важные сведения!
Но самым значительным показалось сообщение Гарбуза о том, что гауптман Дринкель уже несколько раз предлагал Николаю Коржу, проживавшему у родителей, служить в жандармерии.
По словам Гарбуза, Николай Корж отказался от предложения, ссылаясь на плохое состояние здоровья, и обещал прийти к Дринкелю, как только окрепнет…
– Какое впечатление произвел Гарбуз? – спросил я Анатолия.
– Хорошее, товарищ капитан. По-моему, он не врет.
– Ты договорился о следующей встрече?
– Так точно. Условились, что связь будем держать через Евгению Матвеец, подругу Алимы Кирбай. Она там, на озере живет. И через сына Горева – Игоря, который находится в Житковичах вместе с отцом.
– Это что, взрослый парень?
– Да нет, парнишка лет четырнадцати. Но мальцу-то сподручней пробираться туда-сюда, товарищ капитан.
– Очень хорошо. Газеты Гарбузу передал?
– А как же? И «Правду», и «Известия». Вы бы посмотрели, как обрадовался человек!
– А листовку с последним сообщением Совинформбюро?
– Тоже передал. И велел, как вы сказали, чтоб они ее переписали и распространили.
– Ну что ж… Поглядим, что получится.
Мне и самому очень хотелось сразу и безоговорочно поверить Иосифу Гарбузу, Гореву, Коржу и их товарищам. Но я не имел права поступать опрометчиво. Это могло обойтись очень дорого, стоить жизни многим десяткам людей, могло привести к срыву полученного мною задания.
Надо было все тщательно проверить. Этого требовала обстановка. Прежде чем делать следующий шаг, необходимо было убедиться, что товарищи выполнили наше поручение, и что листовки сработали.
Вызвали в лес Пришкеля (Ильюка) и, не посвящая его в суть дела, попросили съездить в ближайшие дни в Житковичи, осмотреться и узнать, нет ли каких новостей.
Ильюк собрался быстро. Погрузил на телегу несколько корчаг со сметаной, пару лукошек яиц и отправился вроде бы на базар.
Вернувшись, сообщил нам, что в городе появились листовки со сводкой Совинформбюро, вызвавшие переполох среди фашистов.
– Обыски делали, – рассказал Ильюк. – Говорят, облаву замышляли. Кто-то, сказывают, возле самой жандармерии «Правду» приклеил.
После поездки Ильюка было решено пойти на озеро Белое и вручить Алиме Кирбай или Евгении Матвеец две мины и пять термитных зажигалок для передачи их в Житковичи Гореву.
Горев, Корж и Гарбуз взорвали два шедших на фронт эшелона с горючим и подожгли фашистский склад.
Эта вторая проверка подтвердила, что мы имеем дело с настоящими советскими людьми.
Через Игоря Горева подпольщики попросили прислать побольше мин и зажигалок, а также регулярно снабжать их сводками информбюро.
Как раз в те дни были получены несколько радиограмм из Центра.
В двадцатых числах августа наши войска перешли в наступление на Западном и Калининском фронтах, прорвали оборону фашистских армий и отбросили гитлеровцев на сорок-пятьдесят километров.
По сведениям Центра, немецко-фашистское командование перебрасывало на наш Западный фронт пехотные и танковые части.
Центр требовал максимальной активизации деятельности, требовал установить наблюдение за железными и шоссейными дорогами с задачей проследить путь следования эшелонов и автоколонн врага.
Особое внимание Центр обращал на то, что сведения наши должны быть точны, подробны и своевременны.
Линьков, в свою очередь, сообщил в Центр о возможностях, которые открываются нам в городке Житковичи, спрашивал совета, как лучше их использовать.
Ответ пришел немедленно. Наше проникновение в Житковичи расценивалось как успех. Работу требовали в основном направить на добывание разведданных, советовали, как предотвратить возможность провала.
На основании рекомендаций Центра Григорий Матвеевич и мы с Сеней Скрипником составили и подписали инструкцию житковичским подпольщикам, руководителем которых остался Горев.
Мы напомнили о необходимости соблюдения строжайшей конспирации и ставили группе конкретные задачи: наблюдать за переброской войск по железной дороге, давать регулярную информацию о работе станции Житковичи, составить план расположения гарнизона гитлеровцев и установить точный его состав, а также продолжать взрывы эшелонов, поджоги фашистских учреждений, складов и зданий, имеющих хозяйственное значение, уничтожать фашистов и предателей.
Мы потребовали также вести тщательный подбор и осторожную вербовку в группу преданных Родине людей, а Николаю Коржу рекомендовали подумать о предложении немцев и поступить в жандармерию, полицию или любое другое немецкое учреждение и войти в доверие к оккупантам, чтобы впоследствии своевременно предупреждать партизан о замыслах врага.
Эту инструкцию Евгения Матвеец на следующий же день передала Игорю Гореву.
Мальчик ушел в Житковичи, а мы стали ждать очередных сведений.











