Читать онлайн Чуть выше уровня ветра
- Автор: Антон Кучмасов
- Жанр: Современная русская литература
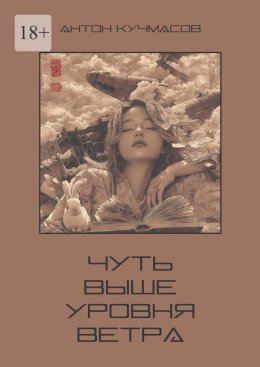
Дизайнер обложки Вера Филатова
© Антон Кучмасов, 2025
© Вера Филатова, дизайн обложки, 2025
ISBN 978-5-0068-3812-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
И в человеческом существовании незаметные совпадения, давно наметившиеся сцепления обстоятельств, тонкие нити, соединяющие те или другие случайности, вырастают в накрепко спаянную логическую цепь, влекущую за собой попавшие в её орбиту человеческие жизни. Мы, не зная достаточно глубоко причинную связь, не понимая истинных мотивов, называем это судьбой.
И. А. Ефремов «Лезвие бритвы»
Москва. Июнь 2000 г.
«Кто заказал музыку?» – подумал Макс. В противоположном углу, справа от гроба, в зале прощаний незаметно расположились четыре музыканта: флейтист, арфист, скрипач и виолончелист. Одетые во всё чёрное, с непроницаемыми лицами, казалось, они и играть стараются так, чтобы музыка еле звучала, а при не дай бог одном косом взгляде в их сторону они и вовсе испарятся вместе со своими инструментами.
– Кто заказал музыку? – Макс повернулся к Косте.
– Ты меня спрашиваешь? – Костя посмотрел заплаканными глазами на друга, ткнув себя указательным пальцем в грудь.
– А кроме нас с ними, – он кивнул в сторону музыкантов, – здесь больше не у кого спросить. Вряд ли это Алиса. Она классическую музыку при жизни не особо как-то.
– Честно говоря, не знаю. Наверное, входило в, как это правильнее сказать, в перечень услуг. Я, как ты и просил, договорился о максимально расширенной… – тут он закашлялся.
– Программе похорон, – подсказал Макс и несколько раз ударил товарища ладонью по спине.
– Ну, если так можно выразиться, – Костя наконец откашлялся. – Видимо, туда входят и услуги похоронного оркестра.
– Услуги тайской массажистки туда не входят? – Макс покрутил головой. – Шея затекла очень. Что они играют? Надеюсь, что не Джона Кейджа.
– Кого? – не понял Костя. – По-моему, это Гендель, или Гайдн, но я могу ошибаться.
– А я больше не могу. Давай, пусть финалят, где распорядитель или как его там – зови его, скажи, что мы попрощались.
– Как скажешь. – Костя коротко кивнул и быстро пошёл к входу, где за дверью ждал сотрудник, руководивший процессом кремации. Макс стоял в паре метров от гроба. Хоронили в закрытом. Цветы на крышку вместо него положил его друг детства Костя. Макс больше не мог и не хотел не то что смотреть, но и подходить близко к тому, что осталось от его жены. Ему с лихвой хватило всего этого два дня назад. Следователь оказался парень молодой и оттого ещё дотошно и рьяно исполняющий свои непосредственные обязанности: заставил Макса три раза приезжать на опознание того, что осталось от тела, снова и снова указывая патологоанатому на еле видимые внешние приметы того, что указывало бы на причастность этих конкретных фрагментов к его жене. Шутка ли – две машины, одна из которых всмятку под бензовозом. Столб гари, вызванный пожаром, несмотря на сильный ветер в этот день, был виден на расстоянии километра. И ни одного свидетеля. Она была не одна. Возвращалась с любовником с его дачи. Макс догадывался, но до конца не верил и не следил за женой, но подозревал именно этого мужика. Они работали вместе. Трасса, пять тридцать утра, воскресенье. Два трупа в машине. Теперь всё сошлось, но предъявить можно было теперь только лишь себе. За то, что не удержал жену. Или за то, что оказался дурачком, у которого жена ходила налево, а он пытался жить так, как будто ничего не происходит. Он выплакал все слёзы, тогда, неделю назад. Примерно в это же время у него больше не осталось в душе теплоты, эмпатии и каких-либо вменяемых планов на существование. Тот факт, что его жизнь в тот момент закончилась и началось именно что существование, он принял как самый подлый удар в спину от судьбы и Бога. Открыв последний раз дверь своей души, он указал им на выход. Они покорно вышли, и с тех пор она больше не открывалась. Ни для кого. Несуществующим родственникам жены повезло: были бы они живы, на похороны Макс не позвал бы ни одного из них. Собственным родителям он ничего не говорил несколько дней. Он просто не понимал, как и зачем. Не видел смысла. Не смог переубедить его даже лучший друг детства, которого всё же пришлось позвать. Да и аргументы за были весомы, как-никак. Мало того, что он дружил с его женой, так ещё и взял на себя все организационные обязанности, которые Макс молча и с благодарностью ему делегировал. Про любовника не сказал вообще никому. А зачем, если даже собственная жена не удосужилась при жизни поставить его в известность? Или просто не успела? На вопрос следака, ведущего дело: «Кто это?» – ответил коротко и лаконично: «Хуй знает. Первый раз вижу». Следак понимающе вздохнул и вопросов больше не задавал.
Самого физически мотало, а поток мыслей как будто остановился и превратился в твёрдую, остроугольную песчинку, словно те, что, попадая в раковину, начинают резать и царапать моллюска изнутри, причиняя ему невыносимую боль, отчего тому ничего не остаётся, как выделяя слизь, превратить её в гладкую, драгоценную жемчужину. Слёз и соплей за последние дни Макс выделил предостаточно, но песчинка не собиралась сдаваться. С каждым мигом она росла, являя собой воплощение всё заполняющей пустоты, а своими острыми как бритва краями уже будто пролезла наружу, и Макс физически ощущал, как об них уже режутся его друзья и близкие.
– Я понимаю, – говорил ему Костя накануне похорон, когда они вдвоём сидели в его загородном доме на веранде и пили водку. В пустую квартиру Макса не несли ноги, и он четвёртый день, изображая тень отца Гамлета, бесшумно находился у друга, пугая своей тяжёлой молчаливостью хозяйского пса – тот будто чувствовал эту его песчинку пустоты. – В психологии это называется защитной реакцией организма. Когда уже нервная система не справляется. Я вот, например, в подобных ситуациях засыпаю.
– В подобных ситуациях? А я думал, что ты не женат! Где, говоришь, твоя похоронена?
Костя молча вздыхал и наливал другу очередную стопку:
– Я только прошу тебя: сильно не напивайся, а то…
– А то что? Не пустят на кладбище? – пьяно смеялся Макс.
– Надо выглядеть пристойно, как бы там ни было. Что бы сказала Алиса, увидев тебя с бодуна в такой день?
– Я не знаю, поехали, спросим – морг открыт до десяти.
– Макс, ты перегибаешь, слышишь? Это уже за гранью!
– За гранью? У меня жена умерла, если ты не заметил. Практически ничего не осталось. Всё, что мне оставили вместо неё, – почти бесформенный кусок мяса. Я еле опознал. Остальные участники аварии мертвы. Что на самом деле случилось и кто виноват, я уже не узнаю никогда. Но то, что я знаю, так это то, что мне сорок пять, и всё, что я запланировал на вторую часть жизни, напрямую было связано с ней. Всё, что я делал, было для неё. Я жил для неё. И любил в этой жизни только её. Она была её смыслом. А теперь его нет. Нет смысла, нет жизни, нет жены – остались только вопросы без ответа, – он взял бутылку и, прилично выпив из горла, замолчал.
– У тебя есть родители, – сказал Костя и тут же понял, что сказал что-то то ли глупое, то ли странное в этой ситуации.
– У них уже давно нет меня. Ты же прекрасно знаешь, что мы практически не общаемся.
– Я сейчас скажу банальную вещь, но время лечит, и это действительно так.
– Серьёзно? – Макс устало и грустно посмотрел на друга. – Время ни черта не лечит. Всё, что оно может, – это только отбирать: здоровье, молодость, деньги, надежды. Может отобрать самое дорогое. И раны на сердце со временем заживают, да, но не так, как бы этого хотелось. Они рубцуются, становятся глубже и уродливее, настолько, что их видно за версту. Как на дереве ножичком сердце вырезать – видел, как оно через десять лет выглядит?
– В кино видел, – кивнул Костя.
– В кино он видел, – Макс встал из-за стола, взял с него нож и зашагал на слабоосвещённую полянку, посредине которой на участке Кости одиноко росла яблоня.
– Что ты задумал? – тот привстал в попытке рассмотреть, что делает его друг.
– Уже ничего, – Макс отошёл от дерева – на его стволе красовался свежевырезанный могильный крест. – Вот, через лет десять посмотришь, на что будет похоже.
– Ну, стоило портить дерево, да?
– У меня жизнь медным тазом накрылась, а ты о какой-то яблоне переживаешь. Яблоки с неё небось кисляк галимый.
– Жизнь у тебя чем-то там накрылась? Она у тебя продолжается, она у тебя есть! – вскипел Костя. – А вот Алису уже не вернуть. Вот у кого судьба отняла всё! Никто не отрицает того, что тебе сейчас херово, до невозможности плохо. Плохо так, что хоть в петлю лезь! Но ты, в отличие от неё, стоишь сейчас здесь передо мной! Соберись уже, наконец, и проводи ту, кого ты так любишь больше жизни, в последний путь достойно! Она это заслужила. Она смотрит сейчас на тебя, и поверь: то, каким она сейчас тебя видит, ей совсем не нравится!
– Дурак ты, Костик, – Макс вернулся к столу и, сев, налил обоим. – Никто ни на кого не смотрит. Нет никого. И любить больше некого.
На самом деле Костя хорошо понимал, о чём говорит его друг. Макс познакомился с Алисой, когда ему было уже под сорок. До их встречи он был в очень деструктивном браке, много пил, забил на карьерный рост, и можно было с полной уверенностью сказать, что жизнь его катилась под откос со стремительной скоростью. Он практически растерял друзей и веру в себя. Почему так произошло? Ну, вот как-то само собой и произошло. Очень естественно и постепенно, а оттого незаметно для самого Макса и его окружения. Был себе нормальный, здоровый и компанейский мужик, а тут бац – и интроверт без перспектив с третьей стадией алкоголизма. Вороньё уже клацало своими чёрными клювами, чтобы прокаркать свою прощальную воронью песню на его дешёвом, всеми забытом и покрытом мхом и грязью надгробии, как на горизонте его закатывающегося тусклого солнца появилась Алиса. От их первого секса до штампа в паспорте прошло менее полугода. Они оба спокойно и быстро развелись со своими половинками, буднично съехались, целенаправленно и вдумчиво расписались и зажили новой, пусть и довольно потрёпанной в психологическом плане ячейкой общества. Обрели ли они наконец счастье? Безусловно, да. Счастье человека, который нашёл своё и успокоился. Они оказались именно что свои друг другу; по крови, по темпоритму, по увлечениям и отвлечённостям, по направлению взгляда в жизненном пути. Их внутренние дети агукали и играли друг с другом, а Алиса с Максом гадали, кто они больше друг другу – друзья или любовники? Или всё же соратники по бездарно угробленной первой половине жизни? С момента их встречи всё, что было до, стало выглядеть именно что бездарным, странным и нелогичным. Так, наверное, правильно и происходит со многими, если не со всеми – всё новое кажется хорошим, а всё старое – ну, такое себе. Макс был спокоен и счастлив. Именно в этой последовательности. Возможно, он был счастлив от того, что спокоен, и это немного портило всю картинку, но он предпочитал гнать от себя мысли подобного толка – какая, в сущности, разница, что является причиной, когда следствие тебя полностью удовлетворяет? И к тому же в данном уравнении от перемены мест слагаемых сумма профита уж точно не менялась. Макс очень хотел верить, что Алиса испытывает примерно то же, что и он, и на это указывали многие как внешние, так и внутренние факторы, но что там в женской голове на самом деле – одному чёрту известно. Не Богу – тот в понимании Макса не мог быть любителем апории.
А потом всё закончилось. Психолог, к которому Макс периодически захаживал после того, как бросил пить, предупредил его, что партнёр не может и не должен быть моральным костылём – эта формула изначально неверна. Макс понимал это ясно и, насколько это возможно, был автономен и независим, объясняя и даже требуя такого подхода к жизни и от Алисы. Но, споткнувшись, он всё равно упал – чувство локтя и слаженность чеканного шага никто не отменял. Распластавшись, он хотел было оттолкнуться и встать, несмотря на то что при падении душа разбилась вдребезги, но мгновенно ощутил, что отталкиваться банально не от чего. Когда вселенная уходит из-под ног – чёрт его знает, что делать дальше. Одним словом, мы уже не в Канзасе, Тотошка.
– Пусть дурак, – пьяно согласился Костик, – я и не настаиваю на обратном, но вот скажи: чем мне тебе помочь? Я правда, искренне хочу это сделать!
– Правда хочешь? – переспросил друга Макс. Тот кивнул головой и сдавлено икнул.
– Тогда помоги мне с одним делом, – предложил он.
– С любым, Макс, с любым – что конкретно надо, ты скажи, и я всё организую и порешаю.
– Ну, тогда наливай и записывай, ты писать-то ещё в состоянии, да? Ну вот и отлично – там будет много букв.
В пятом часу утра подмосковное солнце выглянуло из-за горизонта. К этому времени Макс с Костиком исписали не один лист. Костик назвал этот план замечательной поэзией, в которой нет смысла.
– Действительно, – прихлёбывая горячий кофе вперемешку с коньяком из походной жестяной кружки, констатировал он, – продать всё и улететь. Почему не план, такой себе, я бы сказал, нормальный даже. Для человека, который, я даже не знаю, решил покинуть Лас-Вегас? Но ты не Николас Кейдж.
– Я лучше, – щурился Макс от первых солнечных лучей. – Я – Макс Коппола. Я не играю роль, я доигрываю жизнь. Но чтобы красиво спиться и умереть в Лас-Вегасе, нужно для начала какое-то время там экзистенциально пожить, а мы с тобой – кстати, а где мы?
– У меня на даче!
– Нет, место это как называется? Деревня эта.
– А, понял – Пустое Рождество.
– Прямо вот так называется?
– Вот так, да.
– Нормально.
– Я тоже так думаю. А куда лететь-то собрался? Я за пару-тройку месяцев, ну, может, чуть дольше, всё, что ты просишь, сделаю. Не горит с ответом, но ты думай, дело-то такое!
– Думай ты. Куда взбредёт тебе в голову меня отправить – туда и полечу. Или поеду. Не хочу сейчас об этом думать.
– Ну, хорошо, как скажешь. А сам-то чем займёшься в это время?
– Ясно чем – буду пить. И ждать. Такой вот план.
– Надёжный! – грустно улыбнулся Костик.
– Как швейцарские часы!
Макс смотрел на непобедимое, вечное солнце, встающее из-за горизонта, и одна простая, но очень неприятная мысль заполняла его сознание, как этот утренний холодный свет заполнял всё вокруг него.
«То, что я пытаюсь убить внутри себя, – думал он, – в какой-то момент непременно объективизируется и начнёт преследовать меня уже во внешнем мире. Ограничиться сменой декораций вряд ли получится. Не убежать от себя, да? Похоже, что нет. Да и отсюда не убежать. Ну, пробьёшь головой стену – что ты будешь делать в соседней камере? Хороший, блядь, план. А есть другой? Ладно, попробую, не получится – сдамся. Сдаться можно в любой момент. Для того чтобы сдаться, не обязательно куда-то ехать. Но оставаться на месте – тоже не вариант. Хорошо, хорошо, пусть это будет недоформулированная недосказанность. Можно так? Я умер для мира, осталось умереть для Бога. Так можно?»
– Что можно? – спросил Костик.
– Я что-то сказал вслух? – несильно удивился Макс.
– Ты спросил: «Так можно?».
– А, водки можно ещё?
– Почему нет, нести бутылку?
– Бутылку. И знаешь что? Ветер вроде бы стих. Пошли-ка на реку – встретим рассвет там.
– Только в воду не заходим – мы же в дрова!
– Дрова не тонут! Не ссы: обещаю, что плавать не буду.
– Вот только я не уверен, есть ли тут поблизости река – я же недавно отстроился, местность ещё не до конца изучил.
– Пойдём, – Макс встал. – Всегда должна быть река. Хотя бы условная.
Позвякивая пакетом с бутылками, они, пошатываясь, устремились в туманную дымку ближайшего оврага, ведущего если и не к реке, то к какой-нибудь заброшенной избе-старухе, что челюстью порога жуёт пахучий мякиш тишины. В итоге они набрели на одну из них, где молча напились до беспамятства, так и не узнав, есть ли в Пустом Рождестве река. Пусть и условная.
Япония. Префектура Коти. 1920 г.
Акаматцу заложил крутой вираж на сто градусов, не понижая скорости, в надежде сбросить преследователя с хвоста, но вражеский биплан и не думал отставать. Видимо, за штурвалом сидел настоящий ас – он надавил на гашетку, и Акаматцу физически почувствовал, как левое крыло его стальной птицы прошила пулемётная очередь. Биплан качнуло, и он мгновенно завалился на бок. Стрелка барометрического высотометра дёрнулась и стала медленно сползать справа налево. «Почему я теряю высоту, – подумал Акаматцу, – ведь двигатель и винт не задеты?» Он дёрнул штурвал на себя и влево, но машина не отреагировала на его приказ. Быстро глянув в треснувшее зеркальце, увидел, что хвостовой тросик перебит и его конец болтается сам по себе в восходящих потоках воздуха. «Хорошо, а если вот так?» – подумал он и перевёл тумблер двигателя в режим ОХЭ. Пару секунд ничего не происходило, а затем, будто захлебнувшись в воде, мотор булькнул пару раз и утих. Лопасти винта ещё какое-то время вращались по инерции, пока окончательно не остановились в вертикальном положении. То ли от внезапно нахлынувшей тишины, то ли от того, что биплан, перейдя в режим планирования, стал резко терять высоту, у Акаматцу заложило уши. Внизу до горизонта расстилались рисовые поля его родного острова. Чуть впереди виднелся небольшой водоём, обрамлённый зарослями камышей. Акаматцу закрыл глаза и, отпустив штурвал, скрестил руки на груди. «Быть предначертанному, – подумал пилот. – Пусть ветер несёт меня, а судьба укажет ему направление». На несколько мгновений в мире не осталось ничего, кроме стука его сердца и свистящего шуршания, рождающегося при столкновении воздушных масс, гонимых ветром, с телом его крылатой машины. На мгновенье ему больше всего захотелось, чтобы мир так и состоял из этих двух звуков, но через пару секунд биплан плавно коснулся ледяной резиной шасси земли и, прокатившись по молодым побегам риса метров пятьдесят, въехал в камышовые заросли, остановившись в нескольких метрах от воды.
– Акаматцу! – услышал он знакомый голос. – Акаматцу! – голос у бабушки низкий и надломленный, но не старый. – Акаматцу! Маленький плут! Ты не камышовый кот – вылезай и беги сюда, пока тебя не вытащила оттуда за уши твоя мать!
Акаматцу открыл глаза и потрогал руками свои уши. «Не самые красивые, наверное, немного торчат, – подумал он, – но без них как же? Если ма будет за них тащить, непременно их оторвёт, а без ушей Кимацу никогда не обратит на меня внимание! Делать нечего – надо сдаваться».
– Я выхожу, но это моё решение! – он попытался придать своему голосу басовитость и решительность, какую только можно было придать ему в десять лет.
Высунув лопоухую и коротко стриженную голову из камышовых зарослей, густо расплодившихся вокруг пруда, он прищурил раскосые глаза на палящем солнце и, увидев бабушку в проёме сёдзи, на карачках выполз из кустов. Отряхнув от сырой земли колени и ладони, он поднялся во весь рост. На Сикоку только закончился сезон дождей, и, пока Акаматцу прятался, весь до нитки промок и испачкался – в таком виде он и вправду походил на нашкодившего кота, которого силком вытащили на свет из засады.
– Что ты там делал, негодник? – Морико вышла на террасу и лукаво посмотрела на внука.
Он рос, как стебель бамбука в чаще леса под вечным дождём, быстрым и диким, но весёлым и лёгким, и напоминал ей саму себя в детстве, оттого она никогда не могла сердиться на внука по-настоящему. Дочь мало занималась воспитанием сына – вечно пропадая на работе, она одна, по сути, обеспечивала всю их семью, а его отец – уж лучше и не думать об этом неудачнике. Она не одобрила выбор Реико тогда, одиннадцать лет назад, не понимала, почему та до сих пор не развелась, но не особо лезла со своим мнением, осознавая, что чужие отношения, хоть и касающиеся родной дочери, – не её ума дело. Пускай сами разбираются. Тем более что зять практически не появлялся дома, вечно шляясь в свободное от работы время по портовым кабакам, и не тревожил ни их, ни сына, а возиться с внуком Морико было легко и в радость, если, конечно, не сильно обращать внимание на то, что мелкий бесёнок с каждым годом всё больше и больше становился похож на своего никчёмного папашу как внешностью, так и характером.
– Через час вернётся твоя мать, – Морико шутливо погрозила внуку пальцем. – Умойся, переоденься и иди в дом – время обеда. Я сервировала тебе в ближней комнате.
Сегодня, как, впрочем, и всегда, на обед Морико приготовила клёцки из желудёвой муки, сваренные в овощном отваре из трав и кореньев, щедро сдобренные морской солью.
– Я хочу рис! – требовательно сказал Акаматцу, подойдя к бабушке и учуяв носом запах её такой знакомой, до отвращения однообразной стряпни.
– А я хочу, чтобы ты был послушным мальчиком! – ответила она ему и потрепала по торчащему ёжику волос. – Рис будет на ужин. Рис и рыба. А теперь: марш умываться!
Акаматцу понуро поплёлся к умывальнику.
– Что ты делал в камышах, маленький бесёнок? – спросила Морико, наблюдая, как внук плещется и фыркает над чашей. – Или юному самураю не пристало, что на него пялятся, когда он омывает своё героическое лицо?
Её смех разнёсся по их скромному минке.
– Я не самурай, а лётчик! – щёки Акаматцу раскраснелись от ледяной воды. – Мой биплан был подбит белыми демонами над Харбином, но я умудрился посадить его у нас во дворе, в камышах рядом с прудом!
– Как же ты долетел от Харбина до Сикоку? Это же очень далеко! – взмахнула руками Морико и протянула ему полотенце.
– Ничего ты не понимаешь, ба! – Акаматцу вытер лицо и, недоумевая, посмотрел на бабушку. – Я лучший лётчик в Японии! Они попали мне в левое крыло три раза, но мне хватило сил выполнить боевую задачу!
– Ты мой маленький фантазёр, – она забрала у него полотенце и, взяв за руку, повела в комнату, где на маленьком тейбуру, стоящем посредине старого татами, оставшегося им ещё от прадеда, она сервировала ему скромный даже по местным меркам обед.
– И кто такие эти белые демоны?
– Как кто – русские, ба! У Кимацу отец борется с Антантой, только я, если честно, не очень понимаю, что это слово значит, – ответил Акаматцу с набитым ртом. – Он лётчик, смелый и отважный, и я хочу быть таким же, как он!
Морико внимательно и грустно посмотрела на внука. Вряд ли желание понравиться Кимацу, подражая её отцу, объясняло интерес внука к самолётам. Она отлично помнила, что, как только внук появился на свет, вместо того, чтобы возвестить об этом событии мир младенческим криком, он неожиданно для всех протянул свои маленькие пухлые ручки со сжатыми синими кулачками к небу и протяжно загудел. Что это был за гул и что он сжимал в ручонках, Морико поняла много позже, а тогда никто не обратил на это особого внимания. Но знаки судьбы на то и знаки судьбы, и не придавать им должного значения – непростительное легкомыслие со стороны человека. Люди могут часами разглядывать косточку от персика и даже посвятить ей хокку, забывая о том, что помимо смерти на земле есть ещё и жизнь. Какая-никакая, но есть.
– Чтобы стать лётчиком, нужно долго и много учиться управлять воздушными машинами, а я пока не разглядела в тебе усердия и стремления что-то доводить до конца. Разве что пропадать где-то с Кимацу целыми днями ты мастак. Кстати, ты видел её сегодня?
– Нет, бабушка, – ответил Акаматцу. – Её отца вчера отпустили с базы домой на выходные, и поэтому сегодня я летал один.
– Ешь! Закончишь – вымоешь всю посуду. И не спорь – самураю не положено, а лётчику не зазорно!
Она вышла из комнаты, тихо закрыв за собой дверь, оставив внука один на один с его трапезой, как и полагалось.
Огромный шар солнца повис во влажном мареве воздуха и подрагивал в его раскалённой пустоте. Морико сидела на маленькой старой ятай и глядела своим тихим усталым взглядом в сторону дороги, уходящей в город. Акаматцу давно доел свой обед и принялся за уроки, заданные на понедельник, а дочь всё ещё не вернулась с рынка, где работала разносчицей чая и онигири. Морико смотрела то на дорогу, то на кроваво-красное солнце и седым загривком своих старушечьих волос чувствовала беду – Реико никогда не задерживалась на рынке, а зачастую и вовсе возвращалась раньше из-за отсутствия спроса на её нехитрый товар. Морико была уже готова встать и идти ей навстречу, но не решалась оставлять неусидчивого внука одного в доме. «Если солнце коснётся горизонта, а Реико ещё не появится – пойду, – решила Морико. – Ничего с мальчишкой не случится. С его фантазией ему не до домашних шалостей – летает в облаках на выдуманном биплане и не до земного ему, это уж точно». Она улыбнулась своим мыслям и привстала со скамейки – по дороге к дому шла дочь. В руках у неё были плетённые из конопли сумки с рыбой и рисом. Морико удовлетворённо вздохнула, будто старушка Фудзи освободилась от окутавших её вершину грозовых облаков, и степенно, не выдавая волнения, маленькими шагами пошла навстречу дочери.
Реико была миниатюрной тридцатилетней девушкой с огромными пустыми глазами и копной русых волос, доставшихся ей по наследству от отца-англичанина. По скупым рассказам матери о нём, она знала только, что он был путешественник, что та влюбилась в него без памяти, а он, как и полагается настоящим обольстителям, исчез, как только узнал о том, что та беременна. На память не осталось даже фотокарточки, только его цвет волос да резкий характер.
– Сегодня ты припозднилась, всё в порядке? – спросила Морико, подойдя к дочери.
– Прости, мама, по дороге повстречала Саяку, её муж вернулся, – Реико опустила голову.
– Акаматцу рассказал мне, что ему дали увольнительную и они наконец проводят эти выходные всей семьёй.
– Мама, – Реико посмотрела на мать, и из пустоты её глаз брызнули слёзы, – он вернулся без ног.
– Без ног, – повторила Морико тихо. – Значит, насовсем. Калекой. Саяка сказала тебе, как это перенесла Кимацу?
– Тебя не волнует, как себя чувствует Саяка? – Реико удивлённо подняла брови.
– Саяка взрослая женщина и знала, на что идёт, выходя замуж за военного, – спокойно и рассудительно ответила мать, – а Кимацу – ни в чём не повинный ребёнок, как ты не понимаешь этой разницы? И ничего удивительного, что меня в первую очередь волнует душевное состояние маленькой девочки!
– Ты права, мама, конечно, – помолчав, ответила Реико. Они медленно двинулись по дороге в сторону дома. – Её я не видела, но думаю, что ей очень нелегко. Она так любила отца.
– Не неси чушь, я не узнаю тебя! Почему ты говоришь о её чувствах в прошедшем времени? Она любит его и будет любить… – она чуть не произнесла «калекой», но вовремя осеклась, – теперь таким. Саяка рассказала тебе какие-нибудь подробности? Как это произошло?
Морико как бы невзначай на ходу забрала одну из сумок с едой из руки дочери и аккуратно перекинула её через плечо, и они медленно пошли по направлению к их дому.
– Его самолёт подбили в бою. Это всё, что я знаю. На базе, к которой он приписан, выделили деньги на лечение, но сумма смехотворная, а пенсию по инвалидности начнут выплачивать нескоро. К тому же Саяка вновь беременна, ты знаешь, и не сможет в ближайшем будущем выйти на работу.
– Человек ноги потерял на войне, а вы иены считаете, – покачала головой Морико. – Современное поколение не перестаёт меня огорчать.
– Как ни странно слышать это от тебя, мама, уже как два года не работающей и сидящей…
– На твоей шее? Я могу завтра же устроиться прачкой к господину Танаги, а ты сама будешь заниматься воспитанием и досугом сына и выстирывать в пруду от мочи штаны твоего мужа, когда он в очередной раз решит осчастливить нас своим появлением!
– Не трогай Мидзуэ, прошу тебя! Мы виделись на днях и…
– И он был с очередной китайской шлюхой?
– И он подписал документы на развод.
Они подошли к дому и остановились у порога. Морико забрала вторую сумку у дочери:
– Иди переоденься и отдохни, а я пока займусь продуктами и подумаю, как лучше преподнести эту ужасную новость Акаматцу. Мальчик должен знать, как вести себя, когда встретится с Кимацу.
«Если бы я сама понятие имела, что должен сказать мальчик девочке, чей папа вернулся со службы без ног! – думала Морико, умело разделывая рыбу, – вот же непутёвые дуры – что Саяка, что Реико! Одна выбрала себе в мужья военного, вторая – ходока и пропойцу. Уж лучше как я – одна, зато голова не болит. Нет толку от современных мужчин – одни неприятности».
– Реико! – позвала Морико дочь.
– Да, мама? – в комнату вошла Реико и села рядом с разделочным столом. Она успела принять душ и облачиться в наоми голубого цвета. На мокрых волосах она соорудила тюрбан из большого вафельного полотенца на манер турецких головных уборов.
– Пусть Акаматцу при встрече с Кимацу ведёт себя так, как если бы ничего не знал про её отца, а ты и не говори ему ни слова про случившиеся с её отцом, поняла? – Морико посмотрела на дочь, не переставая орудовать ножом. – Кимацу, если захочет, сама расскажет ему всё, что посчитает нужным. И если посчитает. Они хорошие дети и прекрасные друзья – не будем мешать их детскому щебетанию нашим взрослым карканьем. Наши взгляды на вещи, может, и верны зачастую, но не всегда уместны, уж я-то знаю. Ты поешь?
– Устала сегодня очень, нет аппетита, да и эта встреча с Саякой… Совсем не могу прийти в себя.
– Я думала, тебя больше заботит собственная судьба, чем чьи-то отсутствующие конечности, – Морико села напротив дочери, поставив перед собой миску с рисом и доску с тонко нарезанными аккуратными маленькими ломтиками тунца.
– Мидзуэ, ты сказала, подписал документы, и теперь вы спокойно сможете развестись? Прости меня, но это замечательная новость! Я молчала всё это время, но теперь…
– Мама! Я прошу тебя и впредь не говорить на тему наших с мужем взаимоотношений! То факт, что он ведёт такой образ жизни… Ты же знаешь, в этом есть и моя вина.
– Ну, это только мнение Мидзуэ, которое он навязал тебе и всем вашим знакомым. Слабый человек, неудачник. Всю жизнь посвятил бутылке и ветру. Что толку от изучения ветра? Любому дураку понятно: дует себе оттуда туда. Иногда сильный, иногда слабый. Иногда его вообще нет. Семьёй заниматься надо, а не ветром. За ветер не платят! Он сам выметет последнюю монету из дома! Что он для него? Зачем он ему?
– Может, ты сама у него спросишь?
– Найдёшь его! Он сам, как свой чёртов ветер, за хвост не поймать! Тьфу! – она картинно закатила глаза. – Закончим разговор. Хватит на сегодня негативных эмоций. Поешь, наконец, и уложи сына.
Реико не стала спорить с матерью и взяла в руку палочки. Они поели молча – каждая думала о своём. После трапезы Морико ушла мыть посуду, а Реико, поблагодарив ту за ужин, заглянула перед сном к сыну. Акаматцу уже расстелил футон и, лёжа на нём, игрался с маленькой деревянной фигуркой самолёта, подаренной ему дядей.
– Как прошёл твой день, мой маленький лётчик? – она села рядом с его кроватью и погладила сына по руке.
– Я сегодня летал, меня подбили, но я смог удачно приземлиться, и знаешь что, мама?
– Что, мой маленький герой?
– Я посадил свой биплан у нас во дворе! Он спрятан в высокой траве рядом с прудом!
– Уверена, что там он в безопасности! – улыбнулась она, глядя на сына.
– Завтра придётся заняться ремонтом крыла! – рассказывал ей о своих планах Акаматцу, не прекращая пилотировать маленький деревянный самолётик.
– Прежде всего, завтра у тебя школа. Ты выполнил домашнее задание?
– А как же, ма!
– Молодец! Если ты по-настоящему хочешь стать лётчиком, тебе надо много и усердно трудиться!
– Я знаю, ма! Я обещаю тебе, что хорошо выучусь на лётчика и ты будешь смотреть на меня снизу и гордиться! Но я никогда не улечу от тебя насовсем, как папа, ведь он скоро улетит от нас навсегда, правда?
– Кто тебе сказал такое? – удивилась Реико.
– Соседка говорит, что он не хочет больше быть отцом нашей семьи.
«Слухи летят быстрее утреннего ветра, – подумала Реико, – а может, и сам Мидзуэ растрепал по пьяни. Он может».
– Мама?
– Да, дорогой?
– А бывают большие сверкающие самолёты с людьми и животными внутри?
– Никогда не видела таких. А ты?
– А я видел.
– И где же?
– Во снах. Он часто снится мне – сон, в котором два человека и лисица летят в огромном сверкающем самолёте навстречу солнцу.
– И куда же они летят?
– Человеки не знают, что летят прямиком к солнцу, чтобы сгореть в его пламени, а лисица показывает им золотую нить. Эта золотая нить – моя жизнь.
– Как ты понял это?
– Не знаю, – пожал плечами Акаматцу. – Просто понял.
– Какой необычный сон, – Реико погладила сына по щеке и недоверчиво посмотрела на игрушечный самолётик. – Когда он тебе снился?
– Вчера. И позавчера. И позапозавчера. Он мне очень часто снится, практически каждую ночь!
– Это не плохой сон и не страшный, просто странный. Так бывает, но на смену одним видениям придут другие. Светлые и добрые. Не заигрывайся слишком, завтра рано вставать, ты же знаешь. Засыпай, а я пойду проверю, что ты там насочинял.
Она поцеловала сына в лоб, встала и вышла в смежную комнату, тихонько закрыв за собой полупрозрачную дверь.
Реико не осилила проверить и трети – усталость дала о себе знать. Она так и уснула, уронив голову на тетради сына, отдавшись беспорядочному потоку сумбурных и тревожных мыслеформ, и проспала в неудобной позе за столиком до самого утра. Всё её маленькое тело болело, когда они после скудного завтрака шагали с сыном по пыльной деревенской дороге: она – на рынок, а он – в дневную школу. Реико держала Акаматцу за руку, в другой он сжимал маленький деревянный самолётик. Идя рядом с мамой вприпрыжку, он как будто хотел, наконец, оторваться от земли и улететь в утреннее небо, но попытки были тщетными, и лишь его тяжёлая сумка с тетрадями и учебниками, смешно ударяя его по спине, взлетала в воздух при каждом его шаге и неизменно падала вниз, будто груз, притягивающий к земле.
– Можно после школы мы поиграем с Кимацу у нас в саду? – спросил Акаматцу.
– Конечно, если она будет не против.
– Она мой штурман и любит со мной летать, почему она может быть против?
Реико не нашла, что ответить. Они дошли до развилки, на которой и попрощались; Акаматцу побежал в сторону школы, а она, постояв ещё минуту и глядя в спину удаляющемуся сыну, быстро зашагала в другую сторону.
Придя в школу, Акаматцу, к своему удивлению, не застал там Кимацу. Все мучительно долгие уроки он ёрзал на стуле, протирая свои выцветшие шорты в ожидании окончания последнего, и когда пожилой учитель, вытирая с доски последнюю задачку по арифметике, наконец сказал, что класс свободен, Акаматцу первым пулей вылетел из здания школы и что есть мочи побежал по направлению к дому Кимацу, напрочь позабыв о том, что на дорожной развилке у старого дуба его должна ждать бабушка. Добежав до места, он долго не мог отдышаться, а когда перевёл дух и успокоил разум, подошёл к двери и тихо, но настойчиво постучал три раза. Через некоторое время ему открыла мать Кимацу.
– Чего тебе? – Акаматцу обратил внимание, что выражение лица у Саяки было потерянное, а глаза красные, как будто она проплакала долгое время.
– Добрый день, госпожа Игараси, а Кимацу дома? Она не пришла сегодня в школу. С ней что-то случилось? Могу я её увидеть? – затараторил он от волнения и нетерпения.
– Подожди, – она скрылась в темноте дома, и Акаматцу услышал, как мать зовёт дочь. На пороге показалась Кимацу. Она внимательно посмотрела на Акаматцу и взяла его за руку.
– Пойдём, – сказала она. – Хорошо, что ты пришёл. Мама оставила меня дома, но я больше не хочу сегодня быть здесь.
– Куда пойдём? – осторожно спросил Акаматцу. Он обратил внимание, что взгляд Кимацу изменился, но вот что это за изменение, в свои десять лет он, конечно, понять не мог. Увидел бы её тогда любой посторонний взрослый, он несомненно бы сказал, что у девочки очень взрослый, выцветший и не по годам всё понимающий взгляд.
Держась за руки, всю дорогу они шли молча; Акаматцу – потому, что видел и чувствовал, что что-то случилось, но не понимал, как начать разговор, Кимацу – оттого, что не знала, стоит ли вообще говорить с Акаматцу о том, что произошло. Хотя рассказать очень хотелось, да и мать не запрещала, по крайней мере, ничего не говорила ей об этом. Дуб на развилке их деревенской дороги был величественен и стар; его могучий, плотно скрученный ствол был огромен в толщину и достигал десяти метров в высоту, а под его густой кроной могли бы укрыться от палящего августовского солнца не менее двадцати человек. Первые ветки росли достаточно низко от земли, и Акаматцу, легко вскарабкавшись наверх, уселся, свесив ноги, на одной из них. Кимацу села на землю, прижавшись спиной к стволу и повернувшись лицом к той части дороги, которая вела к дому Акаматцу. На секунду ей показалось, что недалеко на ней она увидела женский силуэт, но он быстро растворился в мареве исчезающего дня.
– Кажется, только что я видела на дороге твою бабушку, – сказала Кимацу.
– Я никого не вижу, – он посмотрел вдаль сквозь руки, сложив их наподобие подзорной трубы и поднеся к правому глазу. – Почему тебя сегодня не было в школе? Ты заболела? Ты не выглядишь больной! – Акаматцу свесился с ветки и смотрел сверху вниз на голову подруги с идеально ровным белым пробором точно посередине головы.
– Папа вернулся, ты знаешь, но у него теперь нет ног, – сказала она.
– Что случилось с его ногами?
– Отрезали в военном госпитале.
– Он больше не сможет летать?
– Он больше не может ходить.
– Плохо, конечно, но зато он не сможет от вас уйти. Как наш папа.
– Почему он ушёл? – спросила Кимацу.
– Он ме-те-о-ро-лог, – по слогам произнёс Акаматцу, – и считает, что ветер – самое главное в мире. Он несёт на себе судьбы людей, сталкивает их друг с другом. Или наоборот – делает так, что они могут никогда и не встретиться.
– Здорово! – с восхищением воскликнула Кимацу.
– Ничего хорошего, – помрачнел Акаматцу, – бабушка говорит, что не в сказки надо верить, а деньги зарабатывать.
– Ему мало платят?
– Бабушка говорит, что ветром все деньги из дома унесло, а из папиной головы – ум. Он часами сидит рядом с очень сложной машиной, которая ему всё про ветер рассказывает. Ну, не рассказывает – пишет. На карточках.
– А твоя мама, она верит в папин ветер?
– Она верит бабушке. Бабушка говорит, что, если папа в чём-то и прав, так это в том, что его ветер разнёс в разные стороны их с мамой души.
– Ну а ты?
– А что я? Я решил стать повелителем ветра, чтобы он никогда не разделил наши с тобой души.
– И как ты собираешься это сделать? – Кимацу с интересом посмотрела на него.
– Стану лётчиком! Буду летать выше ветра! Оседлаю его и, – он взмахнул рукой, – подчиню себе!
– Но ветер создали боги, – озадачилась Кимацу, – ты хочешь пойти против них?
– Невозможно! – отрезал Акаматцу. – Но есть одна хитрость.
– Какая?
– Самому стать одним из них, ну, или приблизиться к ним. И железная птица сможет мне в этом помочь.
– У моего папы ничего не получилось, и боги наказали его.
– Я же не твой отец.
– А ты не свой. Не вижу ничего плохого в ветре. Ветер приносит тучи и дождь, когда они так нужны.
– Когда я стану его начальником, дождя будет столько, сколько попросишь, – гордо пообещал Акаматцу и повис на ветке вниз головой, ловко держась за неё одними ногами.
Кимацу подняла голову и посмотрела на Акаматцу, висящего над ней.
– Ты можешь пообещать мне другую вещь?
– Конечно, могу, – радостно кивнул он. – А какую?
– Что никогда не станешь лётчиком!
– А что мне останется взамен?
Кимацу встала с земли и, подойдя к нему, поцеловала его в щёку:
– Я. Я останусь тебе взамен.
– Конечно, обещаю! – прошептал Акаматцу и его щёки густо покраснели.
Солнце, засыпая, опустилось к горизонту, и вскоре ещё одна дата спряталась на год в календаре, а за ней и ещё одна. Они тянули за собой в прошлое недели, те – месяцы, складывающиеся в годы. Всё это время Акаматцу не выпускал руки Кимацу из своей руки, а та – его сердце из своего разума. Мир вокруг них бежал со всех ног в неизвестное будущее, а они, как будто не замечая его стремительный бег, никуда не торопились и маленькими, робкими шагами навстречу познавали друг друга: случайными прикосновениями, первым, совсем неумелым, но таким страстным поцелуем, суетливыми объятиями и откровенностью наготы, взглядами, полными нежности и похотливого желания.
Когда им исполнилось по восемнадцать лет, никто из их родных, одноклассников, да и всех, кто их знал, не мог представить их по отдельности, и то, что они обязательно поженятся, рассматривалось как уже случившееся событие, просто перенесённое в ближайшее будущее. Их последнее лето вместе никак не показывало им, что оно последнее, разве что выдалось очень жарким и ветреным. Школа была позади, а впереди, как им казалось, – целая жизнь, полная любви и счастья. Единственное, что невозможно изменить, так это прошлое. Будущее всегда находится в суперпозиции – никогда не знаешь, куда полетит твоя несчастная душа, пока сам не направишь её туда, куда задумал. Главное в этом деле – не беспокоиться по поводу того, что всё задумал совсем не ты, а твой мозг, ещё за секунду до того, как соизволил обмануть тебя и сделать так, чтобы ты принял это решение за своё. И если бы мозг – тогда считай, что тебе повезло. Бывает так, что судьбоносные решения принимает именно человек, несмотря на то что делать ему это абсолютно противопоказано, под влиянием, как ему кажется, очень важных событий. Если бы человек на секунду остановился и задумался, а как это – решить свою судьбу в связи с ключевым событием, то сразу бы понял, что столкнулся с обычным симулякром, не более. И если пойти за ним, а он так настойчиво подзывает вас пальчиком, то всю оставшуюся жизнь вам предстоит только и делать, что отмахиваться трусами, или во что вы там напрудите тихой летней ночью, от его же теней. Но куда там… С Акаматцу так и случилось.
– Хорошая девушка, сынок, красивая. Я видел её пару раз мельком, – сказал отец, когда Акаматцу в очередной раз навестил его на работе. Он вообще в последние дни стал много времени проводить с ним, в отличие от матери, с которой отношения вроде и не портились, но чувствовалась некая душевная напряжённость: то ли от того, что в жизни сына она явно и резко передвинулась на второй план, то ли как раз от их с отцом душевной близости, возникшей в последнее время. Мать-то считала отца предателем и с глупой откровенностью не понимала, как Акаматцу может общаться с ним, после того как тот обошёлся с ней подобным образом. Инфантильным женщинам свойственно подтягивать в обиженную детскую позицию своих отпрысков. Хуже было, что и злобу на бывшего мужа она не забывала вымещать на беззащитном в этом отношении сыне, бросая в него с завидной регулярностью фразы типа «весь в отца» и «намучаюсь я ещё с тобой, как и с твоим папашей». После этого Акаматцу подолгу стоял перед зеркалом, вглядываясь в своё отражение и пытаясь отыскать в нём отцовские черты. Они не находились, как и общие черты характера – это, наверное, видится только со стороны, и он бежал к отцу в подсознательной попытке понять, за что так она про него.
Метеостанция, где работал отец, находилась на вершине местной горы, небольшой, как и всё в их деревне. И как нетрудно догадаться, любимым его развлечением в ней было наблюдение за показаниями анеморумбометра под ненавязчивый, как бы ни о чём и обо всём сразу, разговор с отцом. То, что он постоянно был в подпитии, не особо смущало Акаматцу. Он объяснял себе это тем, что ему плохо без матери и трудно одному, что его оторвало от них, но ветер не подхватил его и не понёс в сторону лучшей или хотя бы другой жизни, а оставил здесь – сидеть у флюгера и просто ждать, когда стихнет ветер его жизни. Почему сам не попытался улететь? «С подрезанными крыльями далеко не улетишь», – сам про себя говорил отец.
– Хорошая, – кивнул Акаматцу. – Хочу ей сделать предложение. Сразу после выпускного.
– Доброе дело, – Мидзуэ потрепал сына по волосам, – но нужна профессия, понимаешь? Настоящая, чтобы на семью хватало, на жену молодую. Не такая, как у меня, – уважаемая, мужская, а то повторишь мой путь. Раньше было время самураев, а сейчас наступает время мастеров, и каждый будет стоить то, что стоит.
– Твой путь я уже не повторю. Начинать свой день с бутылки и смотреть, как её содержимое стирает из твоей жизни всё, не для меня.
– А что же для тебя? – спросил отец, совсем не обидевшись на резкие слова сына.
Мидзуэ был мягкий, незлобный человек, а выпив, и вовсе становился воплощением безразличия к внешним раздражителям, будто про себя он знал что-то такое, что всё объясняло и примиряло его с собой и этим миром.
– Для меня – осознание, что мне нужен свой, не похожий ни на чей путь. Для начала немало, я думаю.
– Немало, но зачем? Ведь осознание приведёт тебя к действию, а ты к нему не готов.
– Почему ты так считаешь?
– Возможность действовать вопреки судьбе боги разрешают только тем, кто талантлив. Ведь человек – всего лишь игрушка в их руках, а талант ему дан, чтобы богам с ним было не скучно играть. И талант – это не только ключик к двери собственных решений и поступков. Он – условие вообще всего остального: определяет способность к порядочности, к любви. Хотя с любовью всё немного сложнее. Настоящее чувство любви может возникнуть только тогда, когда человек уже что-то про себя понял. Но и отнимается талант за многое. Об этом не стоит забывать никогда.
– Что мне нужно понять про себя? – Акаматцу пропустил мимо ушей последнее сказанное отцом. Его зацепили слова о любви.
– Кто ты есть на самом деле, если есть вообще. Другими словами, подарили ли тебе боги какой-либо талант.
– И как это узнать? – взволнованно спросил Акаматцу.
– Для начала, – ухмыльнулся Мидзуэ, – отказаться от морали.
– От морали? Но почему?
– А что это, по-твоему, – мораль? Не более чем поведенческий кодекс, придуманный человеком, чтобы поставить себя выше остальных. Нет никакой морали. Есть только ежесекундный выбор каждого. Начни делать выбор. Свой. Без оглядки на окружающих тебя людей. Такой путь.
– Я хотел бы стать лётчиком, но Кимацу противится этому моему желанию, и, слушая её доводы против, я внутренне понимаю, в чём она права…
– Кто сказал тебе, – вдруг перебил его отец, – что критерий правоты важнее критерия последовательности? Сколько я тебя знаю, ты всегда мечтал летать, а Кимацу – сегодня она с тобой, а завтра глядишь – и уже целуется с другим прыщавым юнцом, только побогаче и статуснее. Чем ты можешь сейчас быть интересен, ну скажи мне, сынок, только честно?! Тем более ты собрался сделать ей предложение. Современным девушкам нужны достойные мужья, крепко стоящие на ногах, хотя бы в ближайшем будущем.
– Да она и сейчас любит меня! – вспыхнул Акаматцу.
– Не стоит путать снисходительность с восхищением, сын, – серьёзно сказал отец.
– А у тебя-то самого в чём талант? В беспробудном пьянстве и тыканье кнопок на твоей машине, что следит за погодой? Ветру и дождю плевать, следят за ними или нет! Они там, где захотят, и тебя не спросят!
– Именно об этом я и говорю тебе, – спокойно продолжил Мидзуэ. – И ты должен находиться там, где решил ты. Хочешь быть лётчиком – стань им. Стань собой, а то в конце жизни подойдёшь к зеркалу и увидишь там моё отражение – человека, так и не понявшего, в чём его талант, послушавшего глупую девчонку, которая в конце концов бросила его именно за его послушание. Не это им нужно от нас, уж поверь. Хочешь спиться, как я? Нет? Не хочешь? Так действуй, и не успеешь оглянуться, как станешь уважаемым человеком и посмотришь потом, как твоя Кимацу сама приползёт к тебе на коленях, прося взять её в жёны. А там ты уже подумай крепко, ведь таких, как она, к тому времени у тебя будет десяток – а как иначе!
Акаматцу только сейчас понял, насколько сильно успел опьянеть отец. Глаза его покраснели от лопнувших сосудов, в уголках губ скопилась белая пена, а руки и голова мелко затряслись в импульсивном порыве его речи.
– А у меня талант был один – слушать твою мать и делать, как она говорит. Не думаю, что тебе понравится такой же финал жизни, как и у меня.
– Так значит, это она виновата во всех твоих бедах? – расхохотался Акаматцу. – Отец, ты сейчас смешон и жалок!
– У каждого человека в жизни три войны: с внешним миром, с такими же, как и он сам, и с самим собой. И пусть я проиграл в двух из них, пусть так, пусть так, сын, только вот скажи мне, способен жалкий человек на такое? – с этими словами он достал из-за пазухи толстую пачку старых, потрёпанных банкнот и положил перед сыном.
– Это что, нам на свадьбу? – загорелись глаза Акаматцу.
– Это тебе на учёбу, дурак! Поступишь в лётное училище, станешь человеком, а на свадьбу, если надо будет к тому времени, сам себе заработаешь.
– Откуда у тебя столько денег? – потухшим голосом спросил он.
– Откладывал несколько лет, – с гордостью сказал отец. – Тут хватит на то, чтобы тебе получить достойную профессию. Воплоти свою мечту в жизнь, сын, – стань лётчиком! Что смотришь? Бери, бери и не благодари старого, никчёмного пропойцу. Потом. Вот когда прилетишь ко мне, в мундире с орденами, вот тогда и скажешь спасибо!
Акаматцу робко протянул руку к лежащим перед ним деньгам и посмотрел на отца.
– Чего смотришь, бери давай! – весело скомандовал тот.
Акаматцу взял деньги и суетливо, будто боясь, что отец передумает, спрятал их в карман брюк. Уже в дверях он обернулся и спросил его, старого, скукожившегося, пьяного человека, сидящего на стуле в прокуренной комнатке и со стеклянным взглядом смотрящего куда-то сквозь вечность:
– В какой войне ты не проиграл? Что это за война?
– А ты не понял? – не смотря на сына, спросил он. – И не дай бог тебе увидеть её глаза на своём веку.
«Хватит и на свадьбу, и на кольцо, – размышлял Акаматцу, лёжа на циновке в своей комнате, уставившись в потолок, – а если без шика, то и на первое время совместной жизни что-то останется. Но отец дал деньги на учёбу, хотя что он сделает, потрать я их так, как сам решу? Да ничего. Выскажет, конечно. Куда без этого. Может, даже накричит». Его размышления прервала мать:
– Сынок! – крикнула она со двора. – Выйди во двор, тут Кимацу к тебе пришла!
Акаматцу вскочил на ноги, вытащил из кармана деньги и, спрятав их в ящик с личными вещами, выбежал на улицу.
Кимацу стояла возле дома в белоснежной кофточке с полукруглым воротником и коричневой юбке чуть ниже колен. Чёрные волосы, собранные в аккуратный пучок, блестели на солнце. За последний год она заметно подросла, формы её округлились, и она больше не походила на ту маленькую озорную девчонку, которую в ней привык видеть Акаматцу. Перед ним стояла молодая девушка, в скромных глазах которой плясали черти необузданной юношеской сексуальности вперемешку с абсолютной непосредственностью, как у львицы, что, завидев вожака прайда, всем своим видом выражает к нему полное безразличие, но флюиды её феромонов, движения и вибрации в воздухе говорят об обратном.
– Ты чего так вырядилась? – спросил Акаматцу, подойдя к ней.
– Да просто прямиком из школы, мы с девочками помогаем учителям с подготовкой к выпускному, – она приложила ко лбу ладошку козырьком, прикрывая глаза от солнца. – Меня послали на рынок за андонами. Поможешь мне с ними?
– Донести с рынка? Конечно, пошли!
– Ты только штаны надень, хорошо? А то распугаешь там всех своим видом.
Акаматцу посмотрел вниз и к своему стыду обнаружил, что выскочил из дома в фундоши, забыв надеть штаны.
– О, чёрт, прости, сейчас! – он почувствовал, как его уши и щёки мгновенно покраснели, и быстро, подняв клуб пыли, побежал обратно домой за единственными штанами, в которых ходил и в школу, и на прогулки с Кимацу, а также ездил в районный центр с поручениями от матери. Кимацу и Реико прыснули в кулачки, отчего забегающий в дом Акаматцу захотел не побыстрее натянуть на себя штаны, а провалиться со стыда и больше не показываться ни Кимацу, ни матери на глаза.
– Ты подумай, Кимацу, – обратилась к ней, смеясь, Реико, – он и на свадьбу заявится, забыв штаны!
– Со штанами, без них – какая разница, главное, чтобы сам пришёл, – сдерживая смех, ответила Кимацу.
– И то верно, – согласилась, отсмеявшись, Реико. – Вы куда сейчас?
– На рынок за фонариками для выпускного, – ответила она и подошла на несколько шагов к Реико. – Можно задать вам один вопрос, только так, чтобы Акаматцу о нём не знал?
– Ну, конечно, моя дорогая, – посерьёзнела та. – Конечно, спрашивай! И я тебе обещаю, что это останется между нами!
– У вашего сына на меня серьёзные планы? – спросила Кимацу, потупив взор.
– Главное, чтобы у него на жизнь были серьёзные планы, а тебя любил и хотел, чтобы ты стала его женой, – ответила Реико и, положив ей руку на плечо, по-матерински погладила. – Не переживай на этот счёт: я понимаю, о чём ты, у него более чем серьёзно. Уж мне ли не знать? И моё благословение, считай, у тебя есть. И сын мой сделает всё строго по канону – без благословения твоего отца не сделает ни шагу.
– А отец Акаматцу?
– Даже не думай об этом, – строго сказала Реико, – вот ещё! Это последний человек на земле, мнение которого вам с сыном должно быть интересно, ты поняла меня?
– Поняла, – тихо ответила Кимацу, не поднимая глаз.
– Посмотри на меня! – приказала Реико, и Кимацу сделала так, как ей сказали. – Вот так-то лучше. И чтобы я никогда не видела в твоих глазах сомнений насчёт моих слов. Договорились?
– Конечно, – кивнула Кимацу.
– И славно. На обратном пути зайдёшь, я дам тебе хоккайдо. Как раз успею приготовить, пока вы управляетесь со школьными поручениями.
– Обсуждаете мои кривые ноги? – спросил подходящий к ним Акаматцу, на ходу затягивая ремень на тощей подростковой талии.
– Вот ещё! Делать нам больше нечего, скажи? – обратилась с улыбкой Реико к Кимацу.
– Конечно! – поддержала её та. – Волосатые очень, а так – ноги как ноги.
– А какими им ещё быть! Я же мужчина как-никак!
– Пойдём уже, наконец, – Кимацу подошла к Акаматцу и заправила торчащий уголок его рубашки в брюки.
– Идите, дети, – Реико смотрела, как они быстро шагают по просёлочной дороге, держась за руки и весело смеясь над чем-то своим, и думала, что молодость, безусловно, чудная пора, когда тебе кажется, будто в этом мире есть что-то изначально хорошее, что-то, способное дарить человеку счастье.
«Пусть хоть у них всё будет хорошо, – попросила она богов, – не так, как у нас, а по-настоящему». Что такое хорошо, Реико сама до конца себе не представляла, тем более когда хорошо по-настоящему. Зато она чётко знала, как выглядит жизнь, которую не желала ни сыну, ни его избраннице. Она догадывалась, о чём в последнее время ведут разговоры её сын с отцом, но шутка в том, что никто бы, кто знал Реико близко, никогда бы и не подумал, что эта маленькая, хрупкая, всегда немного печальная женщина остро чувствовала на каком-то подсознательном уровне своего не очень сложно устроенного ума простую истину – карьера ведёт не к максимальной реализации, а к приспособлению к этому миру, зачастую – к стиранию человека об жизнь, как мел об доску, и чтобы сделать карьеру, как правило, надо победить собственное «я». Она же видела сына счастливым, в окружении любящей жены и детей, построившим замок из любви, а не карьеру. Пусть будет работа скромной, пусть достаток невелик – не в этом счастье, искренне считала она. Людям зачастую свойственно идеализировать то, к чему им не суждено прикоснуться. Настоящий бриллиант или нет, поймёшь только тогда, когда, вооружившись лупой, возьмёшь его в руки. А на расстоянии они все прекрасно сверкают на солнце.
Реико очнулась от забытья, в которое попала, незаметно отдавшись потоку мыслей, и только сейчас заметила, что дети давно скрылись из виду, а солнце вошло в зенит. Реико постояла ещё чуть-чуть одна на дороге и вернулась в дом, где принялась замешивать тесто, спешно, стараясь успеть к их возвращению.
– Тебе не противно? – Кимацу, крепко сжимая руку Акаматцу в своей, чувствовала, как на полуденной жаре их ладони потеют от соприкосновения больше обычного.
– Ты о чём? – не понял Акаматцу.
– Моя потная рука.
– Может, это у меня потная или у нас, и уже неважно, но если тебя это стесняет, – он просунул свои пальцы сквозь её, и прохладный ветерок скользнул между их ладоней. – Так лучше? – спросил он.
– Гораздо, – она на ходу чмокнула его в щёку. – Ты где пропадал с утра?
– Был у отца на работе.
– Как у него дела? – осторожно поинтересовалась Кимацу.
– Нормально, ветер дует – флюгер вертится. Сколько нам надо купить фонариков?
– Двадцать два. По количеству выпускников.
«Не буду лезть с расспросами, – решила она, почувствовав, как Акаматцу резко сменил тему. – Захочет – сам расскажет».
– И как же мы их донесём? – удивился Акаматцу.
– В школе дали две рыболовных сети, положим их туда, разделив фонари на двоих и на спину.
– Угу, – Акаматцу представил себе эту картину, – нести будет неудобно.
– А что делать? Как-нибудь потихоньку и донесём.
Они подходили к рынку, ещё довольно многочисленному для середины дня. Как правило, он практически пустел уже к десяти утра.
– Почему так много людей? – удивилась Кимацу.
– Не знаю, – признался Акаматцу. – Пойдём искать фонари.
Они вошли в пёструю шумную толпу людей, пахнущих потом, рыбой и специями. Вокруг бойко шла торговля всем, чем только можно было себе представить: морепродуктами, овощами и фруктами, рыболовными снастями, рисом и мукой, одеждой и даже старой мебелью. Побродив некоторое время между рядами, протискиваясь сквозь броуновское движение людских потоков, они наконец нашли лавку с праздничными фейерверками, салютами и фонариками. Кимацу вынула меленький, потёртый кошелёк и, когда доставала жухлые, истрёпанные купюры, выронила на землю пару монет. Акаматцу нагнулся, поднял их и подбросил одну вверх. Та, прокрутившись несколько раз в воздухе, аккуратно упала на подставленную им ладонь. Накрыв её сверху второй рукой, он перевернул монету и взглянул на неё через щёлочку между ладонями, будто не хотел, чтобы кто-то ещё увидел, что там выпало – орёл или решка, после чего протянул мелочь Кимацу. Всю эту манипуляцию он проделал у неё за спиной, так что она ничего не заметила. Торговец учтиво помог аккуратно положить фонарики в старые, местами дырявые рыболовные сети и даже сопроводил их до выхода, расчищая собою перед ними толпу, словно ледокол своей носовой частью проход для остальных кораблей, следующих за ним.
– Мы похожи с тобой на двух жуков-навозников, – запыхавшись, заметила Кимацу.
– Ага, только те катят свои шарики перед собой. Скорее, мы очень жадные ёжики.
– Точно, мы ёжики, – согласилась она. – Только не очень выносливые.
– Пройдём половину пути и отдохнём, – предложил Акаматцу. Они шли, чуть сгорбившись, неся не слишком тяжёлую, но объёмную и неудобную ношу, шаркая ногами и поднимая в воздух мелкие частички песка и пыли.
Акаматцу набрал в лёгкие воздуха и запел:
Расцвёл цветок Дейго, вызвал ветер, и нагрянула буря.
Бесконечная грусть – что волны, набегающие на остров.
Мы встретились с тобой в зарослях тростника.
Под тростником попрощались на века.
Симаута! Оседлай ветер и вместе с птицами лети через океан!
Симаута! Оседлай ветер и передай вместе с ним мои слёзы!
Отцвёл Дейго, осталась только мелкая рябь на воде.
Маленькое счастье утаката – цветок среди волн.
Мой друг, с которым пели в зарослях тростника!
Расставание под тростником – на миллионы лет.
Симаута! Оседлай ветер и вместе с птицами лети через океан!
Симаута! Оседлай ветер и передай вместе с ним мою любовь!
Симаута! Вселенная! Боги! Судьба! Пусть вечерний штиль продлится вечно!
Симаута! Оседлай ветер и вместе с птицами лети через океан!
Симаута! Оседлай ветер и передай вместе с ним мою любовь!
– Сегодня отец дал мне деньги, – закончив петь, неожиданно сказал Акаматцу, – много денег.
– На свадьбу? – радостно выпалила Кимацу и прикусила язык.
– На учёбу, – он остановился и серьёзно посмотрел на неё. – На учёбу в лётном училище.
– Ты уже всё решил? – она поставила сеть с фонариками на дорогу.
– Решил, – подтвердил он.
– Когда?
– На рынке. Подбросил монету.
– Доверился случаю?
– Скорее, ветру.
– При чём здесь твой чёртов ветер? – сквозь зубы процедила Кимацу.
– Ну, это же он решил, сколько раз монетке прокрутиться в воздухе.
– Ты плохо учил в школе физику.
– Подтяну в лётном училище, – парировал он.
– Не сомневаюсь!
– Послушай, – примирительно сказал Акаматцу. – Я отучусь, вернусь, и мы поженимся. А хочешь, сыграем свадьбу, и после этого…
– Когда бог решает наказать человека, он лишает его разума, – перебила его Кимацу.
– Ты принимаешь меня любым, – медленно и с расстановкой заговорил он, – нелепым, выбегающим из дома без штанов, тощим и долговязым пареньком из бедной семьи. Ты смеёшься над моими глупыми шутками и можешь часами слушать мой бред про всё, что угодно на свете, но как только я смею заговорить про то, что хочу стать лётчиком, а ты прекрасно знаешь – это моя мечта с детства, ты… ты… Ты можешь хоть на секунду представить, что у меня, в отличие от твоего отца, всё получится?
– До этой минуты я была уверена, что все твои дурацкие самолётики остались в детстве, а стать ты хочешь моим мужем, – холодно произнесла Кимацу.
– Да, я хочу! Очень хочу им стать! Но я не хочу, чтобы ты, как моя мать, всю жизнь считала копейки. Но что поделать, если я кожей чувствую, что обязательно смогу стать настоящим, бесстрашным и удачным лётчиком!
– Ну, раз прямо кожей чувствуешь, то стань гражданским пилотом! – Кимацу развела руками. – Что не так?
– Ты не понимаешь! – вскипел Акаматцу.
– Куда мне, дуре, понять такую творческую личность! Он и поёт, и на сямисэне играет, и целуется как молодой бог, и лётчиком отважным стать хочет, но только вот что я тебе скажу, – она сделала три шага к Акаматцу и остановилась практически вплотную лицом к его лицу. – Долгий и успешный роман с властью, – а ведь ты хочешь быть не просто лётчиком, а военным лётчиком, – очень быстро приводит к творческому бесплодию. Мне такой не нужен, а забеременеть я могу от любого парня, только ноги бы поволосатее!
– Прости! Прости меня! – Акаматцу сам испугался того, что сделал. Он смотрел перекошенным от ужаса взглядом то на свою руку, то на левую щёку Кимацу, на которой на глазах проступала красная пятерня от его пощёчины.
– Ты ударил меня? – спросила Кимацу, не моргая смотря ему в глаза.
– Прости, прости меня, пожалуйста! Я сам не понимаю, как это случилось! – причитал Акаматцу чуть не плача.
– Меня ударил незнакомый мальчик. Зачем ты это сделал, незнакомый мне мальчик? – холодный, отстранённый голос Кимацу, будто нож, разрезал тёплый воздух на кровавые куски, вскрывая скрытые смыслы. – Тебя бросил любимый папочка, а мама не может тебя любить, потому что ты его маленькая, уродливая копия? Мальчик обиделся и решил ударить незнакомую ему тётю? Тебе стало легче, маленький мальчик?
– Что ты говоришь, что ты такое говоришь? – залепетал бледными, высохшими губами Акаматцу.
Если бы он знал простую истину, что влюблённый палач не перестаёт быть палачом.
– А знаешь что, маленький, слабый и злой мальчик? Я дам тебе один совет, – продолжила она. – Стань лётчиком и начни убивать людей. К папе с мамой ближе ты, конечно, не станешь, но вот к небесам – это вполне. И, возможно, боги увидят твою боль и как ты распорядился ею. Может, сжалятся над тобой и позволят дожить до старости, до абсолютно одинокой старости, в окружении лишь призраков убитых тобой людей. И твой последний предсмертный крик – от осознания того, как ты распорядился своей душой, станет им назидательной песней о том, что иногда и они ошибаются, рождая на свет подобных тебе – маленьких, злобных, ничтожных мальчиков.
Главное заблуждение всякого человека, к сожалению, состоит в том, что мы ищем в другом не другого, а то, что в нас жаждет реализации. В Кимацу для Акаматцу было, наверное, всё, кроме этого.
Кимацу сделала шаг назад. Взвалив обе сети с фонариками себе на спину, она не торопясь пошла дальше по дороге, оставив стоять его одного, застывшего в ужасе не от того, что сделал, а от того, что услышал.
Акаматцу простоял бы так до самых сумерек, но его окликнул прохожий старик:
– Ты что, малец, кицунэ в кустах разглядел? Встал посреди дороги, как вкопанный! – с этими словами старик легонько шлёпнул его по заду своей деревянной тростью.
Акаматцу бросился бежать со всех ног, высохшие слёзы на его лице стягивали кожу, а старые, дышащие на ладан сандалии вдруг ни с того ни с сего начали натирать ноги, но он продолжал бежать, пока вдалеке не показалась крыша его дома. Только тогда он, как загнанная лошадь, перешёл на шаг и, практически восстановив сбитое дыхание, вошёл внутрь, где пахло хлебом и спокойствием.
Не став ничего объяснять взволнованной матери, почему он пришёл один и что у него с лицом, не поругались ли они, и если поругались, то насколько крепко, он ушёл к себе в комнату, где, лёжа на циновке, глотая горячие слёзы злобы, словно угрюмый зодчий, возводящий храм в темноте, стал представлять себе свою будущую жизнь в лётном училище без Кимацу, без нравоучений матери и бабушки, без вечно пьяного отца. Как он, совсем один, разгромив вражескую эскадрилью, поднимается на своём истребителе выше облаков, выше звуков, туда, где не летают птицы и, закрывая глаза, слышит тишину, из которой соткан его новый мир. А спустя мгновение падает камнем на самое дно, к самой земле, и в последний момент видит толпы людей там, внизу, где они зачарованно смотрят горящими глазами на его полёт, на его падение, даже не понимая, что это вовсе не падение – это он, на миг опустившись к ним, ласково потрепал их вихрем ветра от крыла своего самолёта по волосам, а дальше вновь взмоет ввысь так высоко, как может подняться только он один. И подлетев к самому солнцу, со звериным покаянием попросит у него прощения за всё. Оно простит его, обняв своим протуберанцем, и он навечно сольётся с этим миром, став его невидимой, но, может быть, самой главной, самой важной его частью.
Можно сколь угодно долго отворачиваться от собственного отражения в зеркале, бежать от самого себя, на ходу пересобираясь в новую личность, но божественный замысел всегда возьмёт своё, выразившись в том, для чего создал эту монаду на свет. Колесо судьбы крутится не просто так, и невозможно остановить его, кинув в него, как палку, желание материализации собственных планов. У него есть свои собственные – и насчёт тебя, и вообще на любой счёт. И уж если тебе суждено быть стражем прошлого, а в этой стране любой воин – страж прошлого, то уж изволь быть им и помни, что дом твой – тюрьма духа и плоти, в которой нет места таким, как Кимацу – жрицам будущего. Но самое прискорбное было не в том, что в борьбе со своими ветряными мельницами он влюбился в ту, в чью сторону по божественному замыслу даже не должен был смотреть, а в том, что самая страшная трагедия человека – это не тогда, когда он заблуждается, а когда сознательно падает во зло, а никак иначе то, что произошло с ним этим летним вечером, было и не назвать. Зло невозможно опровергнуть – оно никогда не готово к спору, да он и не думал больше спорить с самим собой, а победить зло возможно, лишь только уничтожив его. Ну кто в момент крайнего отчаяния или злобы не задумывался о таком в восемнадцать лет? Трусы, испугавшись, прогоняют от себя эту мысль, дураки дают ей воплотится в жизнь, аннулируя этим свою, а стражи прошлого вписывают в контекст. Это-то он и задумал, лёжа в полной темноте и глотая солёные слёзы.
Но упоение мерзостью – штука кратковременная, и Акаматцу не заметил, как уснул. Ему снился белый кролик в сопровождении красивого юноши. Они не спеша шли по дороге, заросшей красным папоротником, в направлении огромного светящегося шара, который представлял собой физическое воплощение хюбриса. Подойдя к нему, юноша дотронулся до его светящейся поверхности и рассыпался на десятки морковок, которые с громким хрустом и довольным подрагиванием ушей принялся поглощать кролик.
– Люди нравственные – люди повреждённого ума, – нравоучительно говорил он с набитым ртом. – У меня с этим всё в порядке хотя бы потому, что я не человек.
– А кто ты? – спрашивал во сне Акаматцу кролика.
– Я кролик, – ответил кролик и повернулся к нему своей мордочкой. – По-моему, это очевидно. Хотя я понимаю природу твоего вопроса. Иногда всё и вправду кажется не тем, за что себя выдаёт. Как персонаж выдаёт себя за героя, например. Вот, ты – герой?
– Я не знаю, вряд ли, – честно признался Акаматцу.
– Как хитро ты всё придумал, – хмыкнул кролик и принялся за очередную морковку.
– О чём ты?
– Ну, со своей смертью. Ты что, и правда думаешь, что обвёл судьбу вокруг пальца? Для богов мёртвых нет, а то место, куда ты так стремишься, – ты точно уверен, что тебе туда надо?
– А куда мне надо?
– Ну, не знаю, – повёл усами кролик. – Съезди домой, навести Кимацу.
Его уши вытянулись на несколько метров в длину и стали раскручиваться, подобно вертолётным лопастям, вибрируя и характерно шумя.
– Что происходит? – спросил Акаматцу у кролика и открыл глаза.
На душе была тоска, но не та, что бывает в казарме в два часа ночи, а тоска по старому, родному дому, в котором он вырос и от которого был сейчас так далеко. Рядом с ним тревожно спали такие же, как и он, молодые лётчики, а над крышей казармы тарахтел в ночи своим винтом вертолёт. Нет ничего удивительного, что ему приснился его дом, мама, Кимацу, и он как будто снова пережил их последнюю встречу. Он вообще часто вспоминал её тут, среди инструкторов и будущих лётчиков. Он засунул руку под подушку, вытащил оттуда маленький холщовый мешочек и осторожно, двумя пальцами вынул на тусклый лунный свет колечко с маленьким камушком, который, сверкнув одной из своих граней, отразился блеском в слезинке, появившейся в уголке его глаза. Та, оставив за собой маленькую мокрую дорожку на щеке, упала на камушек и навсегда впиталась солью в его грань.
Москва. Январь 2001 г.
– Это что? – спросил милиционер, достав дешёвый шкалик с водкой из её потрёпанного, но ладно сшитого рюкзака. – Злоупотребляем?
От блюстителя порядка разило трёхдневным перегаром и желанием лёгких, пусть и небольших, но быстрых денег. Так, во всяком случае, показалось Маше в первое мгновенье. Он прицепился к ней ни с того ни с сего в этот ветреный день буквально за сотню метров до входа в стриптиз-клуб. Зловонно дыша, мент нарушал все правила – законные и понятийные, вальяжно и без спешки роясь своей маленькой и пухлой ручонкой в её рюкзаке. Маша давно подметила, что все похмельные самцы, встречавшиеся на её пока ещё не очень длинном жизненном пути, что в общении, что в постели были нерасторопны и болезненно бесконечны.
– Для технических нужд, гражданин начальник, – откуда вдруг вывалилось это блатное «гражданин начальник», Маша не поняла, оттого её бледные от недосыпа и нехватки солнца в эту морозную зиму щёки порозовели, – как у врачей или там технарей – они приборы протирают, скальпели всякие, ну и мы, труженицы вертикального шеста, дезинфицируем агрегат, так сказать, перед каждым выходом. Ну и чтобы не скользил больше надобного.
– Чтобы не скользил, – повторил он за ней, и его глаза сально заблестели, – стрипуха, значит? – и он продолжил шурудить рукой в недрах рюкзака, не отводя от Маши своего мутно-жёлтого взгляда.
– Артистка эротического жанра, – Маша покосилась на входную дверь клуба Divas, где вот уже как год, не очень умело крутясь у шеста, потрахивалась с клиентами, завлекая тех ладненькой фигурой со стоячими грудями первого размера и раскосыми глазами на абсолютно европеоидном лице. Она была молода, красива, в меру глупа, но начитанна и хитра – а как иначе в этом сложном мире в Москве двухтысячных?
– В этом гадюшнике, значит, работаешь? – милиционер неопределённо мотнул головой в сторону клуба.
– Ваши, кстати, любят захаживать в этот гадюшник, между прочим. Ну, товарищ милиционер, паспорт вы мой посмотрели, запрещёнки у меня нет, – она вынула руки из карманов. – Я могу идти?
– Как нет? – и он ловко вынул своей детской ручонкой маленький пакетик с белым порошком из недр её рюкзака, – а это что, по-твоему?
– Понятия не имею, – Маша уставилась на пакетик в его руке, потом спокойно, не моргая, перевела взгляд с него на улыбающуюся морду лейтенанта, – может, вы мне объясните?
– Вот это, – он потряс им перед её носом, – может легко оказаться твоим, если ты не станешь паинькой и не извинишься за своё плохое поведение перед Павлом Николаевичем, тебе понятно?
«Вот же ж сука, теперь-то, конечно, понятно, – побежали Машины мысли со скоростью спринтера под кокаином, – старый козёл не на шутку обиделся, да так, что готов меня посадить. И в этот раз не на свой кривой хер, а прямиком на бутылку. Однако же сильно оскорбился, мудень лысый. Или просто пугает? Какая теперь разница – хреново в любом случае. Надо что-то делать. Но вот что?» Ответ пришёл неожиданно. К служебному входу клуба подходила Светка – одна из знакомых стриптизёрш.
– Светка, привет! – окликнула ту Маша и замахала ей рукой. Расчёт оказался верен – милиционер, скорее на автомате, нежели из-за интереса к какой-то неизвестной Свете, на секунду обернулся в её сторону, но этого было достаточно. Маша изо всех сил толкнула лейтенанта в грудь, пытаясь поймать вылетающий из его руки паспорт, но безуспешно – тот, кувыркнувшись в воздухе, упал на лицо служителю закона через секунду после того, как он сам с глухим ударом копчика об лёд грохнулся на землю. Милиционер, хрипя и извергая проклятия, схватил его и незамедлительно попытался встать на ноги, но, на её счастье, безуспешно: его ноги разъехались, и он опять оказался на земле. «Похуй, – пронеслось в голове Маши, – надо делать ноги!». И она, стараясь не упасть на тонкой ледяной корочке, сковавшей весь город, понеслась что есть мочи в сторону памятника героям Плевны. «Главное, не оборачиваться и не останавливаться, – неслись мысли у неё в голове, пока сама она бежала по подземному переходу, – паспорт, сука, у него остался. В жопу его, сейчас главное – оторваться от этого урода!». Бегом поднявшись по обледенелым ступенькам подземного перехода, она рванула вверх по Ильинскому скверу, забирая влево, туда, к маленькой пешеходной дорожке, где хоть как-то можно было потеряться среди немногочисленных прохожих в этот субботний московский вечер.
Через пять минут, ворвавшись с мороза в накуренное помещение клуба «Китайский лётчик Джао Да», она, расталкивая разомлевшую от алкоголя и травы московскую публику, напролом ринулась вглубь зала к барной стойке, за которой в должности бармена вот уже пару лет тут работал её старинный школьный друг Виталик.
– Эй, аккуратнее! – воскликнул он, когда она обрушилась на барную стойку, тяжело дыша. – Клиентам рюмки посшибаешь! И кто за тобой гонится такой страшный?
– И тебе привет, – она схватила чей-то стакан с виски, и, не дожидаясь, пока его хозяин – бородатый мужик, похожий на одного из гитаристов группы ZZ Top, не начал возмущаться, быстро опрокинула его содержимое в себя, – очень надеюсь, что теперь уже никто!
Бородатый повернул голову в её сторону и в недоумении поднял одну из своих густых бровей наверх. Получилось больше комично, нежели угрожающе.
– Спокойно! – она протянула руку к хозяину стакана в останавливающем жесте. – Я заплачу вам за два.
– Плати, хули! – согласился бородатый.
Маша вынула из кармана пару мятых купюр и положила на барную стойку. Тот, увидев деньги, моментально потерял к ней всякий интерес.
– Ну, так что же всё-таки произошло? – спросил Виталик, протирая деревянную поверхность стойки скорее автоматически, нежели из надобности. Она где-то слышала, что натирание её до блеска, так же как и стаканов, – это профессиональная деформация у всех барменов.
– Долго рассказывать, – она повернулась к входу, ища взглядом преследователя. – Но если вкратце, тёрки с одним из клиентов нехорошие образовались, и, судя по всему, валить мне надо.
– Что-то серьёзное? – спросил Виталик с тревогой в голосе.
– Походу, да, – покачала Маша головой.
– И как далеко собираешься валить? – поинтересовался друг детства.
– Да, судя по всему, чем дальше, тем лучше. Слушай, а у тебя случайно нет никого из туристической сферы?
– Случайно есть. За границу дёрнуть хочешь? Надолго не получится, по туристической-то путёвке. Всё равно возвращаться когда-то придётся. Глобально это вряд ли решит твою проблему.
– Не нуди, – попросила Маша, – мне сейчас главное подальше отсюда, а там я на месте уже разбираться буду.
– Ну, тогда смотри, – он положил перед собой салфетку с логотипом бара в уголке и, записывая на ней, стал проговаривать информацию вслух: – Турфирма «Затерянный рай» рядом с метро Шаболовская, там спросишь у людей, как пройти. Вроде бы недалеко. Вот это их телефон. На месте скажешь, что от Зинаиды Павловны – это моя мать. Контору держит её подруга детства. Ты прямо сейчас туда?
– Видимо, придётся, – Маша повертела головой по сторонам, выискивая взглядом своего преследователя.
– Тогда я позвоню маман, пока ты добираться будешь. Пока едешь, пошарят у себя по горящим предложениям. Тебя, я так понимаю, в первую очередь они интересуют?
– Всё верно понимаешь, очень интересуют. Слушай, а она сможет мне сделать путёвку по загранпаспорту?
– Думаю, да, а что с внутренним? Потеряла?
– Можно и так сказать, – Маша вспомнила рожу милиционера. – От тебя можно позвонить?
– Валяй, – он достал из-под стойки трубку радиотелефона и протянул ей.
– Систер, хай! – набрав домашний номер, заговорила Маша, перекрикивая музыку. – Нужна твоя помощь. Слушай меня внимательно: возьмёшь из моей тумбочки загранник и все бабки, что там есть, шмотки летние – в мою сумку покидай, какие найдёшь, и пулей дуешь на Шаболовскую. Матери ничего не говори, ты меня поняла? Прямо сейчас, да! Буду ждать тебя в центре зала! Всё усекла? Давай тогда: одна нога здесь, другая там.
– Наличие младшей сестры – это как легализованное рабство, – улыбнулся Виталик.
– Но закончится всё равно бунтом, хотя сдаётся мне – этого я могу и не увидеть.
Маша залпом допила остатки алкоголя, сморщилась и закурила.
– То есть проблемы настолько глобальны, что требуют не только срочного, но и долговременного отъезда? Ты не замочила никого случаем?
– Нет, но очень бы хотелось! – вздохнула Маша, выпуская сизые колечки в потолок.
– Куда рванёшь? – Виталик плеснул ей виски в опустевший стакан.
– Куда Зинаида Павловна пошлёт, главное, чтобы тепло и от московских козлов подальше!
Выцветшая, явно изготовленная ещё в девяностые, но каким-то чудным образом довисевшая до наших дней, вывеска турагентства «Затерянный рай» всем своим видом обещала если не рай, то уж точно конкретную возможность в нём затеряться, как она в двухтысячных здесь, в узких улочках Донского района города Москвы. Войдя внутрь под звук дешёвого китайского колокольчика, звякающего при каждом открывании и закрывании входной двери, с рюкзаком за спиной и наполовину пустой сумкой в руке, которую привезла сестра, практически не опоздав на встречу, Маша почувствовала запах нафталина и пыли, почему-то диссонирующий в её голове с псевдоевропейским ремонтом начала нулевых. За невысокой пластиковой стойкой, выглядывая из-за неё лишь головой с копной редких фиолетовых волос, сидела женщина лет сорока пяти – пятидесяти. Она подняла фиалковые глаза на звук и, увидев перед собой Машу, улыбнулась, взглядом указав на стул, стоявший тут же:
– Присаживайтесь, сумку можете поставить рядом.
Её бархатно-севший голос своей чудной тембральностью как-то сразу успокоил Машу, словно настраивая биение её сердца на более размеренный темп.
– Вы, я так понимаю, Маша? Мне звонили на ваш счёт.
– Маша, – согласилась Маша, ставя сумку себе возле ног. – А как вы догадались, что я это я?
– А разве вы это не вы? – дама загадочно улыбнулась.
– Хорошая сказка для взрослых детей, мне тоже нравится, – сказала Маша.
– Меня предупредили, что придёт девушка, которой надо помочь срочно улететь туда, не знаю куда, но, видимо, забыли сказать, что помимо того, что она красавица, так ещё и не дурочка.
– По-вашему, все красивые – дурочки? – Маша уселась в старое, промятое сотнями человеческих задниц, облезлое кресло из кожзама.
– Безусловно, но ценность их не в этом!
– А в чём?
– О ценностях как таковых и, в частности, о ценности символов – это, милочка, не ко мне. У вас для этого другой человечек будет. Моя задача в другом: в вашей скорейшей передислокации. Вы паспорт принесли?
«Странная мадама, если не сказать ебанутая», – подумала Маша и, покопавшись в сумке, молча протянула той загранник. Забрав его, дама стала вбивать данные из него куда-то в недра компьютера, и Маше ничего не оставалось делать, кроме как молча ждать. Она принялась рассматривать внутренний интерьер турагентства. На неровных покрашенных краской стенах под стеклом висели большие плакаты в рамах с видами различных пляжей и отелей. На одном из них был изображён кусочек берега с белоснежным песком и бирюзовой океанической водой. Огромная пальма, растущая на кромке берега, изгибаясь своим длинным стволом, склонялась к самому прибою, образуя собой что-то наподобие естественного природного гамака, в котором вальяжно разлеглась длинноногая красотка модельной внешности в иссиня-чёрном купальнике и солнцезащитных очках. Одна её рука была закинута за голову, во второй, свисающей вниз, она держала большой бокал с каким-то тропическим разноцветным коктейлем. Надпись на плакате гласила: «Только на расстоянии Родина может вызывать слёзы любви. Мальдивы – ближе, чем кажутся. Никаких слёз всего за 3200 долларов США. Шесть дней и пять ночей в раю». Маша поняла, что ей напоминает пейзаж с пальмой и девушкой – что-то очень похожее она видела в рекламе шоколадки «Баунти».
– Как насчёт Мальдив? – спросила она, указав на изображение пальцем, и перевела взгляд на даму. «Баунти» она пробовала тысячу раз, а вот на белоснежном коралловом песке далёких атоллов ей быть ещё не доводилось. Откуда ей было знать, что белые песчинки под ногами на далёких райских островах – это не коралловая пыль, а окаменевшие испражнения местных рыбок.
– Вам абсолютно туда не нужно, – ответила та, не поднимая взгляда и продолжая клацать пальцами с облупленным на ногтях лаком по клавиатуре.
– Почему вы так решили?
– Курортное местечко – штука конечная, тем более такая, как островное государство. В какой-то момент любой отдыхающий должен вернуться на большую землю. А если останешься там навсегда – очень быстро поймёшь, что единственный путь видоизменения – это стать местным аборигеном. Никакого развития. А оно должно идти. Непрерывно и линейно, но не обязательно прямолинейно, а если цикл повторяется – вы больны. Больны и на острове. Но самое страшное, что очень быстро там вы почувствуете даже не пустоту – в ней как раз нет ничего ужасного, а одиночество галимое. И отшвырнёт вас от мистической ясности прямиком в простое человеческое безумие. Или мы всё же за божественный абсурд?
– Вы знаете, что вы очень странная? – произнесла Маша неожиданно для самой себя. Дама подняла на неё взгляд.
– Догадываюсь. Вот, – она положила на стойку паспорт с маленьким серым конвертом внутри. – Вылетаешь завтра в восемь утра из Шереметьево-2, номер рейса и билет внутри.
– Билет куда?
– Туда, куда не ходят поезда!
– В Южно-Сахалинск?
– Что ты там собралась делать, деточка? – она как-то легко и непринуждённо перешла на «ты». – Срыгивать рыбой и кормить этим чаек? Это оригинально, но быстро надоест. Ямато подойдёт тебе больше. Тем более есть только причина пути, а цели я не вижу. Но это только пока. Ты практически самурай, деточка. У тебя, быть может, и меч есть? На месте новый купишь, если понадобится. Старый придётся оставить здесь – в самолёт не пустят. Только одна просьба – не втыкай его напоследок в берёзу. Ни к чему нам тут плодить ненужные смыслы и предания. А то того гляди ещё и очередь выстроится, как в Мавзолей, а к юбилею и брошюру выпустят «Песни и сказания западных славян». Закопай где-нибудь – глядишь, осинка на том месте и вырастет. Ну, шагай с богом.
Выйдя из турагентства, Маша поставила сумку на мокрый снег и закурила. «Япония так Япония. Почему нет? Те же острова, если подумать, – размышляла она. – Тепло, интересно, а главное – далеко. И потом: у меня никогда не было японца. Впрочем, и китайца никогда не было». Странно, но в её голове более древний Китай и всё, что с ним было связано, ассоциировался с дешёвым новоделом, а более молодая Япония – с чем-то по-настоящему далёким и мистическим. Может быть, всё дело в легкодоступных китайских шмотках, заполнивших старый югославский шкаф, стоящий в её комнате монументальным наследием от покойной бабки? «Надо поймать мотор и дуть в аэропорт, – размышляла она, выпуская изо рта сизый табачный дым, смешивающийся с промёрзлым московским воздухом. – Переночую там как-нибудь. Домой всё равно нельзя».
С этой мыслью она щелчком пальцев отправила окурок по параболе и с криком «Шеф! Стоять!» вскинула руку с оттопыренным большим пальцем вверх проезжающей мимо замызганной чёрной квачей жёлтой «Волге». Та, вильнув колёсами, резко затормозила в метре от неё. Договорившись по цене с водилой, Маша развалилась на заднем сиденье и, глядя на скользящий серый городской пейзаж, постаралась не думать о том, чем может закончиться её авантюра с отъездом и какие могут быть у всего этого последствия. «Отдамся потоку, а там – будь что будет. Я ж, сука, ёж, и пусть река несёт меня. И может быть, где-то я встречу своего медвежонка. А если повезёт – то и белую лошадку. Тётка чудная, ей-богу. И откуда только такие берутся? От Бога я спряталась давно, – подумала, вспомнив стриптиз-клуб, Маша, – осталось спрятаться от этого мира».
Япония. Префектура Ибараки. Город Цутиура. 1928 г.
Трясущегося от холода и скудного рациона, стоящего по пояс в воде Акаматцу окружали ещё семьдесят четыре таких же, как он, подростка, загнанных в море в этот солнечный день непреклонным инструктором. Все они пытались рассмотреть в безоблачном, залитом утренними солнечными лучами небе звёзды. И как только красные, воспалённые от солёной воды и недосыпания глаза замечали на небосклоне хотя бы одну из них, следовало быстро отвести взгляд в сторону и моментально вернуть его назад, чтобы определить, смогут ли они увидеть её опять и в ту же секунду.
– Смотрите внимательнее! – кричал им инструктор в жёлтый мегафон с берега. – Заметить вражеский истребитель с расстояния в несколько тысяч метров ничуть не легче, чем увидеть звезду днём! А пилот, который первым заметит противника и начнёт маневрировать, чтобы выйти на исходную позицию для атаки, получит в бою решающее преимущество. Именно из таких мелочей и складывается лётчик-истребитель!
И инструктор не врал. Просто мелочей было слишком много, и каждый из семидесяти пяти курсантов, отобранных из тысячи пришедших в военную школу города Цутиура, рассмеялся бы любому в лицо, назови он то, чем они здесь занимаются, мелочами.
Как только со звёздами было покончено, они плыли. Пятьдесят метров за тридцать секунд. Кто не укладывался в норматив, получал сильный удар по заднице и снова плыл. Когда заканчивались заплывы, начинались упражнения по задержке дыхания. Пятьдесят метров под водой и девяносто секунд не дышать. Не уложился в норматив – удар по заднице и снова под воду. Затем следовал шест – ненавистный до дрожи во всех частях тела любого курсанта. Десятиметровый металлический дьявол, взобравшись по которому, нужно было провисеть на одной руке на его вершине не менее десяти минут. Не справился – удар по заднице и снова лезь наверх. А сколько раз они прыгали с подкидной доски в бассейн – и сосчитать сложно. Как утверждали те же инструкторы, это развивало в парнях чувство равновесия, которое должно было помочь управлять истребителем при выполнении фигур высшего пилотажа. Как только курсанты осваивали прыжки в воду, им приказывали прыгать с вышки на твёрдую землю. В полёте следовало совершать два или три сальто и приземляться на ноги. Если кто-то ошибался и повреждал себе при падении ногу или руку – отправлялся в лазарет. Но только после сильного удара по заднице. Потом всё повторялось снова.
Вообще акробатика составляла важную часть их жизни в военном училище первые два месяца, и все сумасбродные и сумасшедшие, как им тогда казалось, требования инструкторов требовалось выполнять, иначе отчисление было неизбежным. Их даже заставляли стоять на голове, сначала по пять минут, потом по десять. Акаматцу научился стоять двадцать минут, а в это время его единственный появившийся здесь приятель Сабуро Сакаи прикуривал сигарету и вставлял ему её в рот. Пока инструкторы не видели, друзья развлекали себя как могли.
Через два месяца в параллель изматывающим физическим тренировкам начались теоретические, а затем и практические обучения лётному делу. Дни, наполненные тренировками и обучением, пролетали незаметно. Не заметили они и того, что к середине учебного года их стало вполовину меньше.
– Вот скажи мне, – обратился однажды перед сном Сакаи к Акаматцу, свесив голову вниз, туда, где под ним на самой нижней койке в изнеможении валялся его друг. Их разместили на трёхъярусных кроватях в небольшой плохо проветриваемой и мало освещённой спальне учебной школы. – Почему я здесь – ты знаешь. Я рассказывал тебе: карьера военного – единственный шанс выбиться мне в люди. Ты тоже вроде не из богатой семьи, ведь так?
– Не из богатой, – согласился Акаматцу и посмотрел блестящими в темноте глазами на приятеля, – я бы даже сказал, что из очень бедной. Но военный чин и высокая зарплата – это не то, что меня интересует, веришь?
– Почему не верю – ещё как верю! – Сакаи ловко и бесшумно спрыгнул со своей койки вниз и уселся на край кровати Акаматцу. – А ещё больше поверю, когда ты мне расскажешь правду.
– Правду? – Акаматцу сел, подбив маленькую подушку себе под спину. – Какая правда тебе нужна? То, что ты не переплывёшь Касумигауру в самый погожий и безветренный день? Так это все знают!
– Можно подумать, ты переплывёшь! – хитро улыбнулся Сакаи и хлопнул приятеля по плечу. – Зачем ты здесь, если не хочешь стать военным и тебе не нужны деньги и почёт в обществе?
– Могу попробовать объяснить тебе, – задумчиво сказал Акаматцу, – но боюсь, ты ничего не поймёшь.
– То, что ты несколько лет ходил в школу, а я умею разве что писать, не ставит тебя выше других, умник! Не такой уж я и тупой, поверь! Ты давай, рассказывай, – Сакаи уселся поудобнее. – А что не будет понятно – объяснишь своему тугоумному другу.
Акаматцу не раз замечал, как Сакаи называет его своим другом. «Хочется ему так думать – пускай», – думал он, но для себя в душе давно понял: в этой чертовски сложной жизни не до друзей, в ней каждый друг другу волк, а в училище ещё и конкурент.
– Помнишь, я как-то рассказывал тебе о Кимацу?
– Та девчонка, с которой ты дружил в детстве и у которой отец был лётчиком! – закивал Сакаи. – Ему ещё, кажется, ноги отрезали после неудачного боя.
– Всё так, – подтвердил Акаматцу. – Я был влюблён в неё тогда, да и сейчас, говоря по секрету – а ты, я надеюсь, умеешь хранить секреты, ничего не изменилось.
– По-прежнему её любишь? – прошептал Сакаи.
– Больше, чем кого-либо на свете, – ответил Акаматцу, и если бы в спальне было светло, Сакаи увидел бы, как щёки и уши Акаматцу покраснели. – Ну так вот: я с детства мечтал стать лётчиком, но после того несчастного случая с её отцом Кимацу, видимо, боясь, что меня постигнет такая же участь или ещё чего хуже, взяла с меня честное слово, клятву, если хочешь, что я никогда не буду летать, как её отец.
– И ты не сдержал своё слово? – Сакаи удивлённо посмотрел на товарища.
– Пока ещё держу, – тихо засмеялся Акаматцу. – Чисто технически я пока ещё ученик, и не факт, что стану летать.
– Ну, с твоими-то успехами! – отмахнулся от него Сакаи. – Ты же первый в наборе! А потом: одно твоё решение пойти в лётное училище разве не говорит о намерении разрушить клятвенное обещание?
– Ещё как говорит, иначе что бы я здесь делал?
– Не понимаю! – сказал Сакаи.
– А я и предупреждал, что не поймёшь, – Акаматцу почесал коротко стриженную макушку, точно так, как это делала ему в детстве мать. – Хотя, признаться по чести, я и сам не до конца понимаю, почему поступаю так. Из-за желания доказать Кимацу, что не каждый, кто мечтает летать, обязательно повторит путь её отца? Или же потому, что даже любовь всей жизни не должна наступать на горло главному призванию человека?
– Ты думаешь, полёты – это твоё призвание? – со всей серьёзностью спросил Сакаи.
– Это точно то, что уже перестало быть мечтой.
– Но пока ещё не стало реальностью?
– Но это только вопрос времени с моими-то успехами, не так ли? – Акаматцу подмигнул товарищу.
– Не зазнавайся, великий будущий ас! Но она ведь в курсе, где ты сейчас?
– В курсе, конечно. Прежде чем я уехал сюда, у нас был непростой разговор.
– Не хотела отпускать? Понимаю…
– Да не то чтобы. Сама собралась переезжать с семьёй в Киото. Я за ней поехать не смог, хотя что она, что её мать с отцом и звали – брали на себя все расходы. Понимали, наверное, что у нас всё серьёзно очень. Бабушка моя тоже не против была, а мать никто не спрашивал – к тому времени, после развода с моим отцом, она крепко запила, и разум её помутнел окончательно. Но я не поехал.
Зачем Акаматцу сейчас на ходу придумал эту странную историю про переезд, которого не было? Зачем соврал Сакаи? Акаматцу не успел как следует подумать над этим.
– Почему? Ведь ты же её любил? – Сакаи воскликнул от удивления, чуть не разбудив остальных курсантов, но, быстро опомнившись, картинно зажал ладонью рот.
– Потому и не поехал, что любил, – ответил Акаматцу.
– Опять непонятно! – Сакаи уже не расстраивался, что тугой его ум не до конца понимает смысла речей друга, а действительно хотел докопаться до сути этих волнующих событий.
– Вокруг неё всегда были слабые мужчины. Неудачники. Те, кого ведёт судьба, люди или внешние факторы. Я не мог встать с ними в один ряд. Если бы подчинился, поехал – показал бы свою мягкость и отсутствие воли. А разве может девушка по-настоящему полюбить мужчину, за которого принимает главные жизненные решения? Вот и я тогда подумал, что нет.
– А сейчас как думаешь?
– А сейчас уже и не знаю даже. Пишу ей каждый день с момента нашего расставания, даже здесь, перед отбоем пишу – ни разу не ответила.
– Рассердилась, наверное! – предположил Сакаи грустно.
– Или надолго задумалась. Когда есть над чем подумать – уже неплохо, не находишь?
Акаматцу на секунду представил во всех подробностях их с Кимацу расставание, и на душе мгновенно стало серо. Ему больше не хотелось говорить с Сакаи, тем более продолжать на ходу придумывать небылицы.
– Я нахожу твою речь уж слишком заумной. Не по годам. Так мой дед изрекал свои мысли, – сказал Сакаи.
– Поживёшь с моё без отца – быстро повзрослеешь, – вздохнул Акаматцу.
– Когда училище закончишь, сразу к ней поедешь?
– Почему поеду – полечу! – Акаматцу изобразил ладонью самолёт, заходящий на посадку. – И сделаю предложение. И она его примет.
– А если не получится?
– Что не получится?
– Стать лётчиком?
– Стану человеком, умеющим летать.
Москва. Январь 2001 г.
Внутри здание аэровокзала «Шереметьево-2» походило на огромный муравейник: за кажущимся хаосом этой структуры скрывалась отточенная годами функционирования упорядоченность. Только муравьишки, в отличие от настоящих, были тут взволнованно-суетливы. От каждого второго пахло алкоголем – выпить на дорожку, отметить возвращение, просто согреться, ввалившись с мороза в огромное запотевшее помещение аэропорта, пропахнувшего столовкой, прелыми синтетическими свитерами и несвежим потом вперемешку с дешёвым парфюмом. Колосс на глиняных ногах упал, железный занавес рухнул и обозначил направления, в которых теперь можно было двигаться при наличии денег, но вот что двигаться за бугор в домашнем, не переодевшись из рейтуз с пузырями если и не в элегантную тройку, то хотя бы соответственно месту назначения и климатической зоне, – лёгкий моветон, это отъезжающим на время или навсегда объяснить как-то забыли. Или не посчитали нужным.
Всю ночь Маша провела, скрючившись на узких жёстких сиденьях зала ожидания, подложив себе под голову рюкзак. Переложив в него всё из сумки, принесённой сестрой, она выбросила ту за ненадобностью – меньше поклажи, да и руки свободны. Всё удобнее.
Проснувшись по будильнику своих старых электронных Casio за пару часов до вылета, она кое-как доковыляла до туалета, где долго и задумчиво писала, сидя на зассанном стульчаке платного, но оттого не менее загаженного туалета, полусонно почистила зубы древней зубной щёткой и попыталась расчесать волосы, превратившиеся за ночь в клочки пакли. Справившись с шевелюрой, попутно выдрав достаточное их количество, она выползла в зону регистрации. Не без труда отыскав нужную стойку, встала в очередь. Оформляла вылетающих девушка с усталым, безразличным взглядом и безупречно отточенной улыбкой. Такой, с которой смотрит клоун-убийца за секунду до того, как выпустить кишки пузатому карапузу с измазанным мороженым лицом на утреннике, устроенном в честь его шестилетия.
– Где здесь кофе найти, вы не в курсе? – раздался мужской голос из-за её спины, и Маша каким-то внутренним чутьём поняла, что обращаются именно к ней. Она обернулась. Говорят, любой женщине хватает трёх секунд, чтобы, взглянув на мужчину, она поняла, хочет ли она от него ребёнка или же убить. Тут, видимо, система дала сбой, потому что где-то внизу живота возник симбиоз сразу двух противоречащих друг другу желаний: отдаться этому незнакомцу и бежать от него подальше. Или бежать от него со всех ног, а потом, поняв, что спастись не удастся – отдаться ему со всей страстью, на которую только способна самка фертильного возраста. Перед ней стоял мужик лет сорока – сорока пяти, с пронзительными глазами, в которых читалось тотальное, но при этом лёгкое безразличие к миру и всем его производным. Но это безразличие имело скорее природу некоего понимания глубинных процессов в целом и человеческой сущности в частности, нежели надменное ощущение собственного превосходства над миром как такового. На щеках мужчины красовалась трёхдневная щетина, волосы на голове были хаотично, но при этом стильно взъерошены, и было непонятно, результат ли это работы парикмахера или же естественный хаос. Выглядело отпадно. Так же отпадно, как потёртая рокерская куртка тёмно-коричневого цвета и такого же цвета потёртые, но модные джинсы. Пахло от незнакомца коньяком и дорогим парфюмом. Он сам походил на хороший выдержанный коньяк в старой, со стёртой этикеткой, бутылке. Ценника нет, но сразу понимаешь – вещь дорогая и с историей.
– Простите, что? – переспросила Маша, глядя на мужчину.
– Кофе, напиток такой, по утрам обычно пьют, – ответил он и улыбнулся белоснежной улыбкой.
«Ровные и белые», – подумала она, а вслух почему-то произнесла:
– Что-нибудь не идеальное?
– В мире? – он поднял бровь и внимательно посмотрел на Машу. – Он соткан из неидеального.
– В вас, – Маша удивилась тому, что произнесла это вслух.
– В принципе, то же самое. Так как насчёт кофе?
– Вы приглашаете меня на кофе?
– А вы согласны?
– А почему я должна быть против?
– Вы меня совсем не знаете.
– Я должна чего-то опасаться?
– По-вашему, я вызываю недоверие?
– Тут не будет однозначного ответа.
– Тогда предлагаю получить посадочные, – он кивнул в сторону дамы с улыбкой клоуна-убийцы, – тем более что наша очередь вот-вот подойдёт, и вместе поискать кофе, если, конечно, это вас не обяжет.
– Не обяжут поиски?
– Совместное распитие.
– Что может обязать в совместном распитие кофе? Беседа по душам?
– Беседа подразумевается?
– А как же без неё.
– Исключено, – согласно кивнул он, – никаких бесед.
– Мне подойдёт. Заменим беседу сигаретой. Вы курите?
– Обязательно. Я ещё и пью.
– Это чувствуется.
Через двадцать минут они, зарегистрировавшись на рейс, курили и потягивали дешёвый кофе из пластиковых стаканчиков – лучшее, что смогли отыскать здесь, стоя на улице, под сигналы непрерывно подъезжающих к входу машин.
– В Японию, значит, летите? – спросила Маша, облокотившись на одну из бетонных колонн входной группы, по-дурацки пытаясь придать своей позе чуточку грации с небольшим налётом эротичности. Получалось шлюховато, будто ночная бабочка озябло стоит в ожидании редкого клиента.
– Мы вроде бы договорились без задушевных бесед? – спросил он.
– Да где тут задушевность? Просто мы оба летим в одну и ту же страну. Такое вот мистическое совпадение.
– Конечно, в одну и ту же – мы же стояли в одной очереди. Никакой мистики.
– Не верите в мистику?
– Ни в символы, ни в мистику, ни в совпадения.
«…о ценности символов – это, милочка не ко мне. Для этого у вас другой человечек будет», – тут же всплыли у Маши слова дамы из турагентства.
– И чем вам так символы не угодили? – с осторожностью поинтересовалась она, сменив позу на более непринуждённую.
– Почему из всего мною перечисленного вы заострили внимание именно на символах?
– Перечисляя, вы поставили их на первое место.
– Символизм очень коварная штука, знаешь ли, – он допил кофе и бросил окурок в стаканчик так же непринуждённо, как и перешёл на «ты». – Так получилось, что на территории Бухенвальда рос огромный дуб. Тот самый, под которым любил отдыхать и размышлять Гёте. Может быть, именно под ним у него родились идеи о юном Вертере и именно там возник образ Фауста. Или же Бухенвальд соорудили вокруг этого дуба. Почему нет, кстати. Нацизм – это танки плюс мистика. Вот тут и задумаешься над силой символизма, точнее, о его природе. Как вообще могло такое произойти? Но ведь произошло же? Постой, – он поглядел на Машу то ли с опасением, то ли с интересом. – Ты что, не знаешь, кто такой Гёте?
– И что с того? Я не обязана знать всё, – Маша вдруг почувствовала, как на её глазах мужчина её мечты превращается в занудного папика с его «Вот нынче поколение пошло!».
– И что с того?
– Не рановато для вашего возраста?
– Не рановато что?
– Вы стали занудой.
– Красивая и тупая. Ничего нового под солнцем, – произнёс он.
– Да пошёл ты! – выпалила она.
– Пожалуй, мне и правду пора, – и он скрылся в здании аэропорта.
«Зачем ты её вообще спросил про этот чёртов кофе? – злился на себя Макс. – Не можешь без приключений даже улететь из страны? На секунду показалось, что встретил кого-то своего? С чего бы? Ты же её совершенно не знаешь! Ах да – этот запах! Феромоны, всё такое… Великовозрастный долбоёб!»
Макс протискивался сквозь бурлящую толпу людей, пытаясь прорваться к информационному табло.
«Так, а вот и он, – Макс отыскал глазами нужную строчку в стороне отлётов. – Рейс AE237 Москва – Токио. Регистрация подходит к концу, а значит, можно искать свой выход и проходить пограничный контроль. Заодно затарюсь в дьюти-фри».
В магазине беспошлинной торговли было безлюдно, играла навязчивая рождественская мелодия. Не торопясь Макс побродил между стеллажами и остановил свой выбор на бутылке рома. Расплатившись за неё с безликой продавщицей на кассе, откупорил бутылку прямо там, сделав большой глоток под неодобрительный взгляд девушки. «Ну давай, не сдерживай себя», – подумал он и обернулся к ней.
– Что?
– Простите? – переспросила она.
– Запамятовал, – он облокотился на стойку, – я снова запил, потому что жена умерла или на это была более веская причина?
– Немного сочувствия? – спросила та.
– Ни в коем случае. На самом деле я вообще не понимаю, зачем одному человеку, если он, конечно, не профессиональный аутист, нужен кто-то другой. Тем более сочувствие от постороннего человека. Только – чш-ш, – он поднёс указательный палец к губам, – это секрет.
– Вам лучше покинуть магазин, – безэмоционально произнесла девушка.
– У меня более грандиозный план, и я уже в процессе его осуществления.
– Я очень за вас рада, позвать милицию?
– Зовите сразу спецназ, чего уж там, – Макс сделал ещё один глоток и, выйдя наружу, не спеша поплёлся в туалет.
«Может роковая женщина не знать, кто такой Гёте? – размышлял он, сидя на кафельном полу нужника, прислонившись к холодной стене затылком и прикуривая одну сигарету от другой. Мимо него туда-сюда сновали ноги редких индивидуумов, желающих справить нужду, и, кажется, этим ногам, как и всему миру, не было до него абсолютно никакого дела. – Роковая женщина вообще ничего не должна знать, особенно того, чего хочет, – Макс закрыл глаза, и в его голове, слегка размытый от алкоголя, возник образ девушки из очереди. – А с немытой головой и в рваных колготках? Ну, только если это Пеппи Длинныйчулок. И потом – какая из неё женщина? Так, Лолита с раскосыми глазами. Но хороша, конечно, чего уж там». Спрятанный где-то под потолком скрипучий динамик объявил, что пассажиров его рейса ожидают у выхода номер пять. Макс встал, затушил окурок в раковине, протолкнул его в дырочку слива и, умывшись ледяной водой, засунул початую бутылку в карман куртки. «Тот факт, что все мы люди, – это в аэропорту уже не объединяет. Хрен бы с ней, с этой девчонкой, – полушептал он мокрыми губами, глядя на своё отражение в зеркале. Сосуды в глазах полопались от недосыпа и избытка алкоголя, лицо осунулось, и морщины как будто стали глубже, щетина, несколько дней не видавшая бритвы, оказалась на треть седой. – И вообще, тебя истина интересует или реноме? Тебя вообще что-то интересует? Умереть? Но сначала ещё надо улететь отсюда».
Пограничник смотрел на него скорее с брезгливостью, нежели с любопытством, и после формального досмотра он прошёл через пустой накопитель в рукав, соединяющий здание аэропорта с самолётом. Макс шёл последний. Остальные пассажиры уже находились в салоне и пытались, насколько это было возможно, поуютнее расположиться на своих местах на ближайшие девять часов. Стюардесса забрала его посадочный талон и жестом указала, в какой стороне салона его место. Он уселся в него, намереваясь сразу погрузиться в объятья Морфея, но как только закрыл глаза, услышал над собой знакомый голос:
– Всё ещё не веришь в совпадения?
Маша опустила подлокотник с выдвижной пепельницей и улыбнулась, глядя на озадаченного Макса. Их третьей соседкой, чьё место располагалось у иллюминатора, оказалась пожилая японка. Она учтиво улыбнулась ему и, старательно выговаривая буквы, произнесла: «Добрый день! Очень приятно!» – после чего стала набивать кому-то СМС на своём модном и навороченном сотовом.
– Нет, не может быть, – он застыл в нерешительности.
– Сразу пойдёшь искать того, с кем бы поменяться местами, или всё же останешься?
– Девять часов рядом с тобой как финальный аккорд моей жизни в России? Почему бы и нет.
Маша села рядом с ним и стала искать концы пристежного ремня.
– У меня сразу два вопроса, – сказала она, справившись-таки с ремнём.
– Не многовато?
– Первый: с хрена ли я настолько тебе неприятна? И второй: ты иммигрируешь из страны?
– Ты типичная. А потому – неинтересная.
– Знала бы, кто такой Гёте, была бы хороша для тебя?
– Ну, хороша не хороша, но уже что-то. Знаешь, как в том анекдоте: «Пришли на обезьянку посмотреть, а она ещё и разговаривать умеет».
– Это отвратительно.
– Что я сравнил тебя с обезьяной?
– Вот это твоё «как в том анекдоте». Сразу выдаёт в тебе пожилого дядьку.
– А я пожилой?
– А тебя это парит?
– Когда это мы с тобой перешли на «ты»?
– Ты мне скажи! Когда кофе пили на парковке.
– Действительно, – Макс наконец справился со своим ремнём и затянул его потуже.
– А ты у нас типа умный такой, интеллигенция кухонная?
– Недобитая.
– Самоирония – это отлично, а то, не ровен час, и впадёшь в самообожание.
– Постой-постой, – он внимательно посмотрел на Машу, – кто это сказал?
– В каком смысле – кто? Я сказала. Обезьянка, как ты подметил, ещё и говорить умеет.
– Знаешь, какая базовая ценность у вашего поколения?
Маша отрицательно помотала головой.
– А я тебе скажу! Умение вовремя обидеться! У вас вообще все ценности обуславливаются их актуальностью.
– Как будто у вашего поколения не так!
– Не так.
Самолёт загудел турбинами и медленно покатился по бетону. Загорелось табло с красными буквами.
– На рулёжку пошёл. Вроде без опозданий должны вылететь. Ты бы получше пристегнулась.
– А как?
– Ты не знаешь, как затянуть этот ремень? – он потряс замком своего.
– Я про ценности вашего поколения.
– А что ты про него вообще знаешь, про наше поколение?
– О! Я прекрасно помню его в девяностые!
– Детишки почувствовали себя брошенными? Мы выживали как могли, и прежде всего – с мыслями о вас, как вас прокормить. Тащили сумками из Польши в гнездо в своих клювиках всё, что смогли найти, лишь бы вы не громко орали.
– Затыкали нам глотки?
– А зачем? Что эта глотка способна проорать такое, от чего мир перевернулся бы? Всё, на что вы оказались способны, так это на робкую просьбу выйти по-маленькому, а то не дотерпите – перемену им подавай.
– Ты сейчас про что так завернул?
– Про то самое.
– Просто ужасно, – презрительно отчеканила Маша, и Макс уловил в ней это чувство. Он наклонился к самому её уху и прошептал:
– Когда человеку не за что себя уважать, он, конечно, обязан презирать всех и всё – хотя бы и за чуждую ему эстетическую позицию. Но ты не переживай, с приходом двухтысячных вся ваша жизнь превратится в одну большую перемену. Ждать больше не потребуется. Вот только знаешь, что происходит на переменах с первоклашками? У них отбирают деньги и пиздят в сортирах старшие. И если и учат, то совсем не той жизни, которой бы вам хотелось жить. Никаких уроков – только мат, зассанные толчки, разборки по понятиям и иерархические унижения. Жрите, не обляпайтесь.
– Срач – попытка обрести субъектность при ничегонеделании. Давай по существу: чем наше современное поколение отличается от вашего по сути? Идейно разные? Или концептуально?
– А я сейчас тебе на пальцах объясню, – он вытащил из кармана бутылку рома и протянул Маше, – глотнёшь для лучшего понимания?
– Почему нет? – она взяла бутылку и сделала большой глоток. – Вещай, я готова слушать.
Самолёт плавно оторвался от бетона взлётной полосы и стал резко набирать высоту.
– Главная идея современного человека – тебя, например, в отличие от человека советского, например меня, – это постоянный поиск смысла, который бы наполнил его пустотную жизнь. Про вечную перемену помнишь? Надо же чем-то настоящим заполнять её время. Ты мне скажешь: а у советского человека какой был смысл? Тут всё не очень сложно: либо совпадать с системой, либо бороться против неё, либо, как вариант, уйти в сторону, но тоже имея её в виду. Советская власть так или иначе давала человеку смысл либо антисмысл. Она как могла усердно и с любовью вписывала его в исторический контекст, гораздо более широкий, нежели история России семнадцатого года. Мы все осознавали себя наследниками просвещения, в каком-то смысле – наследниками Джордано Бруно и даже в самом широком смысле – наследниками Прометея. Мы несли миру огонь. Если хочешь – просвещение было главной концепцией советской власти. Что несёте миру вы? Ваше поколение. Новый нарратив? Вряд ли. Ещё умудряетесь судить нас за девяностые. Судить имеет право лишь тот, кто способен оценить. А вы ничего оценить не способны – у вас с оценкой беда. Вы же на уроки не ходили. У вас по всем предметам неуд. Тебе лет-то сколько?











